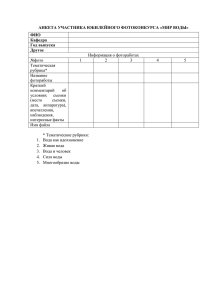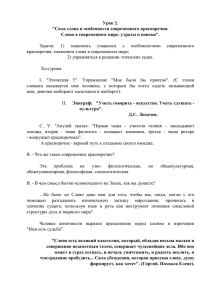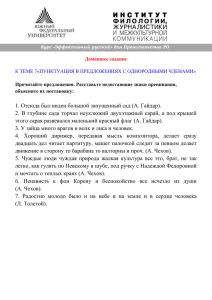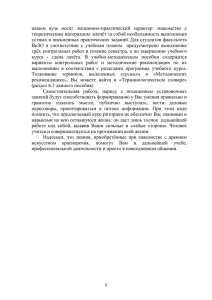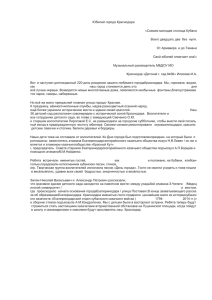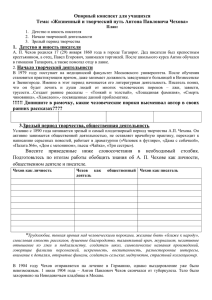УДК 821.161.1 (092 А.П. Чехов) Т.Е. Автухович
advertisement
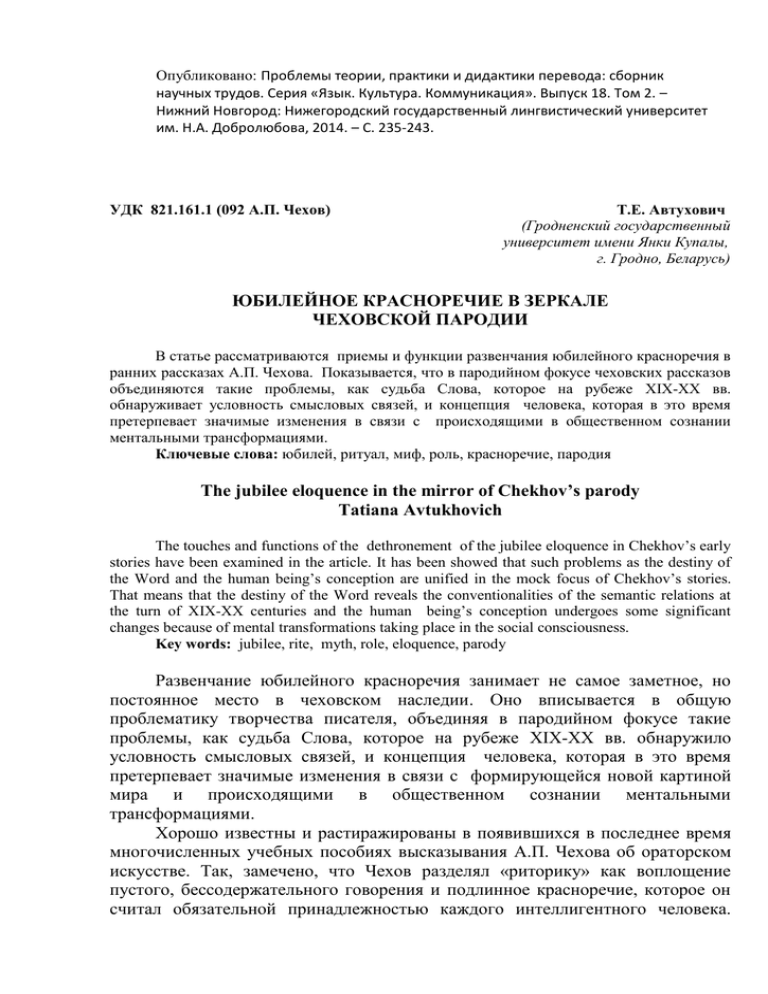
Опубликовано: Проблемы теории, практики и дидактики перевода: сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Выпуск 18. Том 2. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2014. – С. 235-243. УДК 821.161.1 (092 А.П. Чехов) Т.Е. Автухович (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь) ЮБИЛЕЙНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ В ЗЕРКАЛЕ ЧЕХОВСКОЙ ПАРОДИИ В статье рассматриваются приемы и функции развенчания юбилейного красноречия в ранних рассказах А.П. Чехова. Показывается, что в пародийном фокусе чеховских рассказов объединяются такие проблемы, как судьба Слова, которое на рубеже XIX-XX вв. обнаруживает условность смысловых связей, и концепция человека, которая в это время претерпевает значимые изменения в связи с происходящими в общественном сознании ментальными трансформациями. Ключевые слова: юбилей, ритуал, миф, роль, красноречие, пародия The jubilee eloquence in the mirror of Chekhov’s parody Tatiana Avtukhovich The touches and functions of the dethronement of the jubilee eloquence in Chekhov’s early stories have been examined in the article. It has been showed that such problems as the destiny of the Word and the human being’s conception are unified in the mock focus of Chekhov’s stories. That means that the destiny of the Word reveals the conventionalities of the semantic relations at the turn of XIX-XX centuries and the human being’s conception undergoes some significant changes because of mental transformations taking place in the social consciousness. Key words: jubilee, rite, myth, role, eloquence, parody Развенчание юбилейного красноречия занимает не самое заметное, но постоянное место в чеховском наследии. Оно вписывается в общую проблематику творчества писателя, объединяя в пародийном фокусе такие проблемы, как судьба Слова, которое на рубеже XIX-XX вв. обнаружило условность смысловых связей, и концепция человека, которая в это время претерпевает значимые изменения в связи с формирующейся новой картиной мира и происходящими в общественном сознании ментальными трансформациями. Хорошо известны и растиражированы в появившихся в последнее время многочисленных учебных пособиях высказывания А.П. Чехова об ораторском искусстве. Так, замечено, что Чехов разделял «риторику» как воплощение пустого, бессодержательного говорения и подлинное красноречие, которое он считал обязательной принадлежностью каждого интеллигентного человека. Особенно очевидно эта дифференциация проявилась в статье «Хорошая новость», где Чехов, приветствуя открытие курса ораторского мастерства в Московском университете, иронически характеризует косноязычие представителей «говорильных» профессий; утверждает, что ораторское искусство есть «одно и высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку»; напоминает, что «в обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое краснобайство», и, наконец, настаивает: «В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и писать» [1. С. 266-267]. В своих произведениях Чехов ставил проблему слова, рассматривая ее в двух взаимосвязанных аспектах: взаимопонимания и коммуникации между людьми. Эти аспекты проанализированы в работах А.Д. Степанова [2] и польской исследовательницы А. Енджейкевич [3]. В статье я затрону частный вопрос этой общей темы: юбилейное красноречие в пародиях Чехова. Меня будет интересовать, что, как и почему высмеивает писатель, обращаясь к теме юбилея и обслуживающего данное событие вида ораторского высказывания. Историческая справка. У слова «юбилей» есть два значения: во-первых, юбилей – это установленный Моисеем 50-й год после семи седьмиц, когда проданные и заложенные земли возвращались прежним владельцам или их наследникам и рабы получали свободу; во-вторых в римско-католической церкви юбилей – это год, когда паломничество в Рим предоставляет отпущение от грехов, – такое право предоставлялось сначала каждые сто лет, потом пятьдесят, после – каждые двадцать пять лет. Уже в Древнем Египте фараоны, а вслед за ними и римские императоры отмечали круглые даты своего пребывания на престоле. Эта традиция сохранилась и в Новое время, когда стали праздноваться наиболее значимые даты в истории государства, а впоследствии и события локального масштаба – юбилеи фирм, семейных событий и т.д. Такое празднование представляло собой ритуальное действо, одним из элементов которого была ораторская речь. Ее главной особенностью был торжественный характер высказывания, который особенно очевиден в придворном красноречии, поэтическим аналогом которого является жанр оды. На юбилейную речь распространяются основные принципы панегирического искусства, разработанные еще античными теоретиками. Так, Исократ в речах «Елена», «Бусирис» и «Евагор» сформулировал следующие рекомендации: в объекте должно освещать только его положительные качества, которые соответствовали бы благу и добродетели и служили мерой человеческого достоинства (благородство происхождения, справедливость, мужество, благоразумие, мудрость и т.д.); для прославления объекта необходимо преувеличивать его достоинства; жизненный путь героя панегирика следует изображать как процесс становления и укрепления его добродетелей; для доказательства или раскрытия величия предмета следует прибегать к ссылкам на авторитет, к сопоставлению со знаменитостями, контрастным противопоставлениям, к мифологизации родословной героя; для достижения структурной четкости автор должен был опираться на систему бинарных оппозиций «прошлое настоящее», «польза справедливость», «сила справедливость» и т.д.; с точки зрения Логоса задача панегирика как вида показательного красноречия соединить прошлое и будущее: топика призвана акцентировать в прошлых деяниях героя наиболее значимые достижения с тем, чтобы они обеспечили ему бессмертие, а потомкам служили образцом для подражания [4. С. 72-103]. Рекомендации Исократа впоследствии уточнялись, однако основные структурно-семантические компоненты оставались неизменными и дошли до наших дней. Панегирическая основа торжественного красноречия очевидна и проявляется в гиперболизации заслуг юбиляра, в использовании «общих мест» – риторической топики, речевых штампов и пышного стиля. Для нашего дальнейшего изложения важно отметить, что панегирик, в нашем случае – юбилейная речь – озвучивал принятую в обществе этическую норму. Безусловно, в XIX, тем более в ХХ веке композиция юбилейной речи становится более свободной, а стиль менее пышным. Тем не менее, ритуальность как родовое свойство юбилейного красноречия если не осознается, то ощущается слушателем и читателем. В свою очередь, ритуальность сопряжена с идеализирующим, а значит, условным характером хвалебного высказывания. Юбилейная речь – это своего рода словесная корона, которой увенчивается юбиляр в ознаменование его заслуг – явных или подразумеваемых – перед миром. Соответственно возникает ассоциация с чином увенчания/развенчания короля (царя) и необходимость обращения к теории карнавала М.М. Бахтина. Прежде всего, вспомним, что в архаических мифах царь выступает как родоначальник, культурный герой, вносящий вклад в победу космоса над хаосом. В мифах же царю соответствует шутовской царь, раб, функцию которого в позднейшей литературе выполняют «смеховые дублеры, карикатуры и пародии на героев-хозяев – их слуги» [5. С. 361]. Соответственно в бахтинской теории мы актуализируем, прежде всего, ситуацию шутовского развенчания царя, которая является непременным условием всякого карнавала, смехового снижения серьезного, ритуальноофициального и претенциозного. В этом культурном и литературном контексте проясняется смысл того, что и как делает Чехов в своих «юбилейных» текстах, а также как происходило становление чеховской пародийной поэтики от произведения к произведению. Первой в ряду была небольшая юмореска «Мой юбилей» (1880), в которой «прозаический поэт» предлагал отметить юбилей получения двухтысячного отрицательного ответа на посылаемые им в многочисленные редакции произведения. Комический эффект юморески основан на использовании традиционных приемов: поэтических штампов («Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, за которое был прикован к скале Прометей...»), речевых и публицистических газетных клише («я щедрою рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени»), амплификаций, смеховое звучание которых подчеркивается грамматическим параллелизмом и анафорической конструкцией («Писал я прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, задаром и за деньги»), контрастного соположения возвышенного и приземленно-бытового, а также игровой материализации названия журнала («Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве», сотню утопил в «Неве», с десяток пропалил на «Огоньке», пять сотен просадил на «Стрекозе». <…> Юноши и девы! Материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне, по меньшей мере, в гривенник; следовательно, на литературное препровождение времени просадил я 200 руб. А ведь за 200 руб. можно купить лошадь!»), несоответствия цели и результата («И я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона; за то, что делился своим пламенем с... гг., писавшими мне ответы...»), формы и содержания («Юноши и девы! Праздную сегодня свой юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах»), амбиций и результатов («Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же “нет”, или становите меня на незыблемый пьедестал!») [1. I. С. 34]. Юмореска явно восходит к традиции бурлеска, в частности, к традиции пародийных сатирических речей И.А. Крылова, в основе которых лежит несоответствие стиля панегирика его предмету. В рассказе «Альбом» (1884) Чехов включает юбилейный текст в ситуативный контекст и главным средством снижения юбилейного пафоса становится событийный ряд – действия и реакции участников юбилея. Так, в рассказе сначала «озвучивается» юбилейная речь, причем основную часть – в соответствии с должностным статусом произносит косноязычный титулярный советник Кратеров, в то время как автор второго словесного подношения Закусин выступает только в роли суфлера и лишь завершает поздравление словесным «парением», с каждым словом усиливая панегирический тон. В результате десятилетняя деятельность начальника возносится на немыслимую высоту: «И да развевается, – кончил он, – ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания!» [1. II. С. 380]. Значимо в рассказе отсутствие указаний на род деятельности юбиляра Жмыхова и его подчиненных: все высказывания участников носят универсальный, необязательный характер и могут быть отнесены к любому человеку и ситуации. В результате юбилейное славословие обесценивается. Свой вклад в это обесценивание, во-первых, вносит значимая фамилия юбиляра: жмых – это остатки продукта после отжима из него масла; такая фамилия указывает на пустоту, отсутствие содержимого. В этом контексте постепенное самоутверждение юбиляра, который вначале плачет от растерянности, поскольку не ожидал столь высокой оценки своей скромной деятельности, но очень быстро проникается сознанием собственной значимости, воспринимается как ирония над необоснованными претензиями героя занять не соответствующую его истинному внутреннему статусу положение: «Господа! <…> Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за всё время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом... Вот! Я тронут» – напыщенный тон спича снижается ремаркой: «сказал он перед десертом» [1. II. С. 381]. Во-вторых, обесценивание юбилейного ритуала происходит и благодаря комментариям повествователя («ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо»), а также финальной реплике Жмыхова, который, увидев растерзанный детьми дарственный альбом («высшая награда»!) с разрисованными фотографиями его подчиненных, «захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку», после чего сказал: «Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит». Интенция автора включает, таким образом, и развенчание юбилейного ритуала и сопутствующего ему красноречия, и – что самое важное – выявление отрыва слова от значения, способности слова создавать виртуальную реальность независимо от наличия референтного содержания. В рассказе «Юбилей» (1886) Чехов вновь использует ситуацию «Альбома», хотя и переигрывает ее. Фабула рассказа – чествование трагика Тигрова по поводу «его двадцатипятилетнего служения на артистическом поприще». С самого начала подчеркивается несоответствие виновника торжества – Василиска Африкановича Тигрова, который «чувствовал себя не в своей тарелке», той роли, которую он должен выполнить. Как и в предыдущем рассказе, для комического эффекта Чехов использует фамилию юбиляра, точнее, его претенциозный актерский псевдоним. Театральность ситуации подчеркивается и явным пародийным акцентированием ситуации венчания на царство: герой «на правах виновника торжества, сидел на самом главном месте, в кресле с высокой прямой спинкой», которое было заимствовано из театрального реквизита к спектаклю «Гамлет», – это кресло датского короля, Клавдия. Коллеги юбиляра пытаются выдержать церемониал, для чего произносят речи, дарят Тигрову альбом со своими фотографиями; гости и сам юбиляр произносят речи о его заслугах. Однако на самом деле происходит постепенное развенчание «царя». Первая речь, построенная по всем правилам юбилейного красноречия, имеет мало отношения к личности юбиляра, что подчеркивается расхожими штампами юбилейного красноречия, в которых отсутствие содержания маскируется поэтическими «красотами»: «– Уважаемый товарищ! – начал он (первый любовник Виоланский. – Т.А.), закатывая глаза. – Сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства. Да! Ты удивленно, с некоторым страхом оглядываешься на пройденный тобою путь, и я вижу, как чело твое покрывается морщинами. Да, то был страшный путь! Вдали мерцала твоя звезда… Окутанный беспросветною тьмою, ты жадно стремился к ней, а на пути твоем лежали пропасти и овраги, полные шипящих змий, амфибий и гадов» [1. V. С. 452]. Риторическая восходящая градация, с помощью которой говорящий намеревается возвысить значимость актерского искусства и заодно и роль юбиляра за счет принижения остальных наук, становится кульминацией речи «первого любовника»; косвенно в этом фрагменте высмеивается извечный спор между «гуманитариями» и представителями естественных и прикладных наук. Вторая речь, произнесенная «беспаспортным актером, называющим себя Григорием Борщовым», напротив, слишком правдива и вместо преувеличения достоинств чествуемого, что предусмотрено законами жанра, лишает его каких бы то ни было положительных качеств: «– Послушай, Вася… Честное мое слово… накажи меня господь, у тебя есть талант! Всякий тебе скажет, что есть… И ты далеко бы, брат, пошел, если б не эта штука (оратор щелкнул себя по шее) и если б не твой собачий характер… Чёрт тебя знает, везде ты лезешь в драку и в ссору, суешься со своей честностью куда и не нужно… Ты меня, брат, извини, но я по совести… ей-богу! Такой у тебя сволочной характер, что никакой чёрт с тобой не уживется…» [1. V. С. 453]. Акцентированное косноязычие Борщова, с одной стороны, противопоставляется вдохновенному пустословию Виоланского; с другой стороны, его необработанная естественная речь («нулевая риторика») очевидным образом возвращает присутствующих к реальности. Наконец, сам юбиляр, расчувствовавшись, произнес речь, в которой цитаты из всех ролей, которые он когда-нибудь играл, соседствуют с доказательствами его славы, свидетельством чего выступают счета из ресторанов разных городов: «– Милые и дорогие друзья мои! Позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами всё, что накопилось тут, в груди, под сводами моего душевного здания… Пред вами старец, убеленный сединами, стоящий одною ногою в могиле… Я… я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Бодро же, старик! Прочь слезы! Не старейте, нервы! Держите перст возвышенно и прямо! Пред вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены тридцати шести театров, тот самый, который воплощал образы Велизария, Отелло, Франца Моора! Тридцати шести городам известно имя мое… Вот! Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных счетов и потряс ею в воздухе» [1. V. С. 453]. Пафос самоуничижения («актеришка») призван, по мнению трагика, только возвысить его, игравшего великие роли; при этом перечень городов, напротив, свидетельствует о том, что Тигров – в силу своего пагубного пристрастия к спиртному – не задерживался долго ни в одном театре. Театральность юбилейного церемониала подчеркивается соответствием речи, жестов и мимики каждого из выступающих его амплуа: «актер образованный» Виоланский говорит чужими, заимствованными словами, «закатывая глаза»; «простак» Борщов, произнося слова о «собачьем характере» юбиляра, «приложил руку к сердцу»; наконец, трагик Тигров аранжирует свой патетический монолог разработанной именно для его амплуа партитурой жестов («красноречием тела»): вначале «с вдохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках носовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом», затем, «потрясая пачкой счетов в воздухе», он «крикнул, гордо поднимая голову», наконец, приступая к разоблачительным эскападам, он «сердито вращает глазами». Искусственность юбилейного ритуала подчеркивается и другими деталями: портреты коллег в подаренном юбиляру альбоме напоминают карикатуры; амбиции «царя», который, словно цитируя роль из какой-то пьесы, провозглашает свое желание («Господа, шампанского! Сегодня же ... желаю пить шампанское! Угощаю всех!»), сталкиваются с реальностью, поскольку он не имеет ни одной копейки в кармане; наконец, в финале рассказа актеры, пропив все деньги, продают подаренный альбом и на вырученных «три целковых» отправляются завершать праздник шампанским «к Дергачову». Обратим внимание и на акцентируемую в рассказе ситуацию обеда: повествователь постоянно указывает на момент юбилейного торжества, когда произносятся речи, – перед супом, перед жарким. С одной стороны, данный комментарий обусловлен исторически, так как ритуал юбилея в XIX в. предполагал обед: «Праздник без обеда – не праздник!». С другой стороны, мотив искусственности ритуала дополняется мотивом его подкупленности. Итак, цель пародии в «Юбилее» – демонстрация выхолощенности ритуального действа юбилея как такового, а также выявление несоответствия юбиляра его «царскому» месту. Чехов актуализирует и выворачивает наизнанку мифологический подтекст ситуации: если царь это культурный герой, созидатель космоса, то трагик Тигров не только не созидает космос, но разрушает его пьянством, агрессивной моделью поведения и высказывания. Подводя итог, зададимся вопросом. На что направлена чеховская ирония в этих рассказах? Думается, не только на юбилейное красноречие в его плохих образцах. Объектом чеховской иронии, прежде всего, оказывается человеческая склонность претендовать на более высокое место в жизни, что наиболее очевидно проявляется в ситуации юбилея. Косвенно здесь проявляется процесс ментальных трансформаций, которые происходят в 1880-е годы в общественном сознании, когда проявления нормативно-ролевого менталитета, уже сменившегося радикально-индивидуализированным Я-сознанием, воспринимаются как безнадежно театральные и архаичные и потому заслуживают только осмеяния (о ментальных трансформациях см.: [6. С. 20-28]). Нет сомнения, что Чехов своими произведениями отреагировал и на традицию празднования юбилеев, которая приобретает особый размах во второй половине XIX в., доведя до предела свойство всякого ритуала выхолащивать содержание в пользу внешней формы. Можно предполагать также, что в чеховском антиюбилейном тексте подсознательно сделана «прививка» против собственного юбилейного торжества – акт самоиронии обеспечивал свободу, лишая претензий на памятник при жизни. Наконец, в ранних рассказах можно увидеть и метатекст – авторское размышление о судьбе Слова, которое стремительно обесценивается к концу XIX в., и начальную рефлексию над той поэтикой, которая станет чеховским открытием, в центре которой будет язык повседневности, освобожденный от риторических фигур тела и слова. Библиографический список 1. Ч е х о в А. П. Хорошая новость // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — Т. 16: Сочинения. 1881–1902. – М.: Наука, 1987. Далее произведения Чехова цитируются по данному изданию, римская обозначает том, арабская страницу. 2. С т е п а н о в А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. – М.: Языки славянской культуры, 2005. 3. J ę d r z e j k i e w i c z A. Opowiadania Antoniego Czechowa. Studia nad porozumiewaniem się ludzi / Studia Rossica IX. – Warszawa, 2000. 4. М и л л е р Т.А. От поэзии к прозе. Риторическая проза Горгия и Исократа // Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. – М.: Наука, 1991. 5. Б р а г и н с к а я Н.В. Раб, слуга, шут // Мифы народов мира: В 2 т. – Т. 2. К-Я. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 6. Т ю п а В.И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике / В.И. Тюпа. – М.: Языки славянской культуры, 2010. .