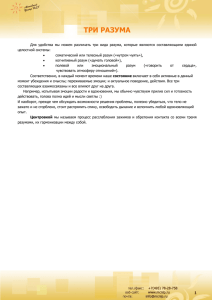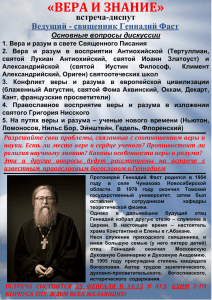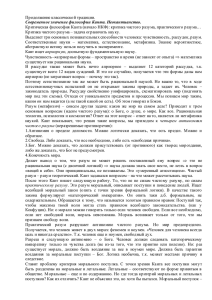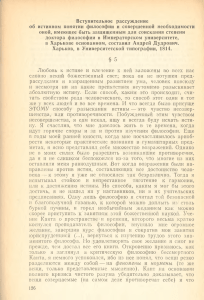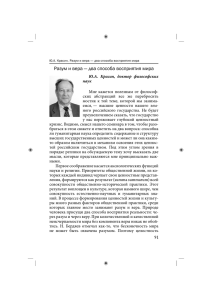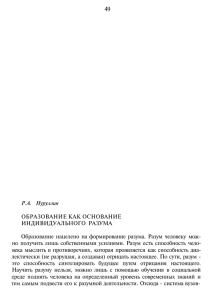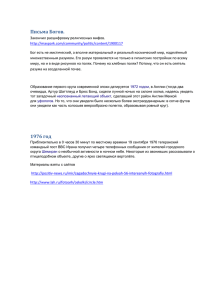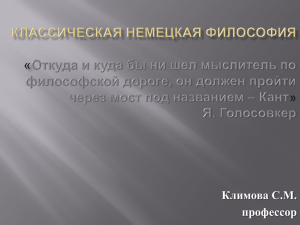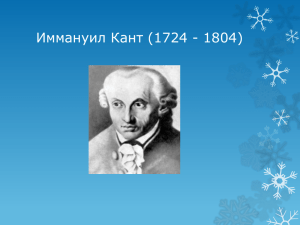К проблеме топономического ядра культуры, или Вновь о
advertisement
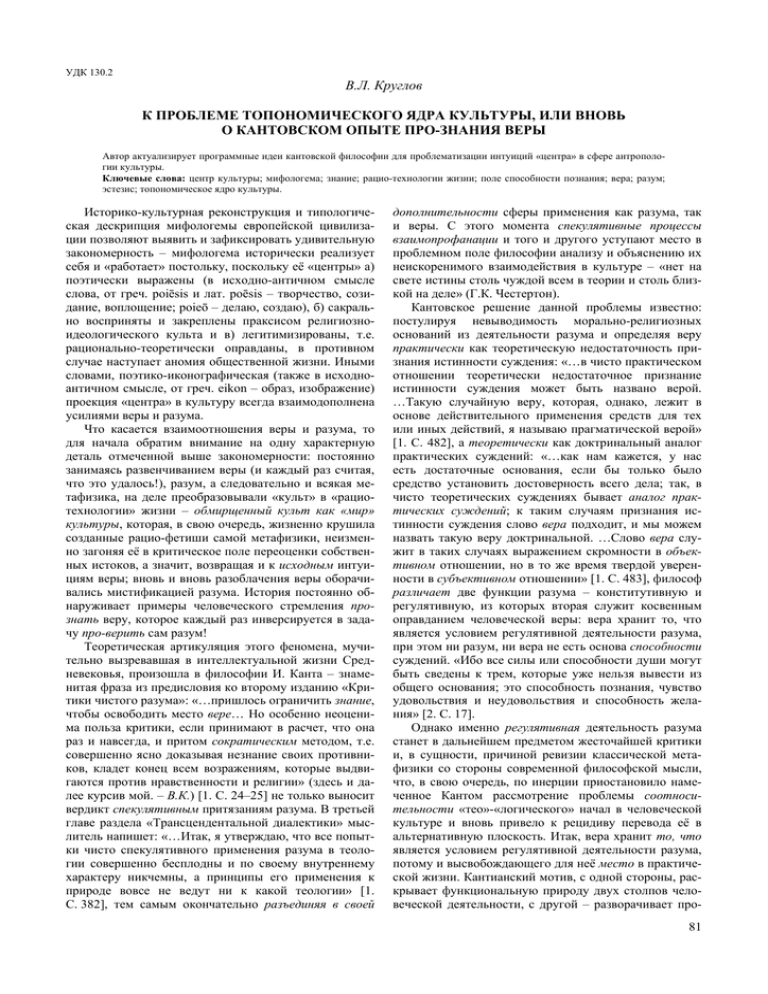
УДК 130.2 В.Л. Круглов К ПРОБЛЕМЕ ТОПОНОМИЧЕСКОГО ЯДРА КУЛЬТУРЫ, ИЛИ ВНОВЬ О КАНТОВСКОМ ОПЫТЕ ПРО-ЗНАНИЯ ВЕРЫ Автор актуализирует программные идеи кантовской философии для проблематизации интуиций «центра» в сфере антропологии культуры. Ключевые слова: центр культуры; мифологема; знание; рацио-технологии жизни; поле способности познания; вера; разум; эстезис; топономическое ядро культуры. Историко-культурная реконструкция и типологическая дескрипция мифологемы европейской цивилизации позволяют выявить и зафиксировать удивительную закономерность – мифологема исторически реализует себя и «работает» постольку, поскольку её «центры» а) поэтически выражены (в исходно-античном смысле слова, от греч. poiēsis и лат. poēsis – творчество, созидание, воплощение; poieō – делаю, создаю), б) сакрально восприняты и закреплены праксисом религиозноидеологического культа и в) легитимизированы, т.е. рационально-теоретически оправданы, в противном случае наступает аномия общественной жизни. Иными словами, поэтико-иконографическая (также в исходноантичном смысле, от греч. eikon – образ, изображение) проекция «центра» в культуру всегда взаимодополнена усилиями веры и разума. Что касается взаимоотношения веры и разума, то для начала обратим внимание на одну характерную деталь отмеченной выше закономерности: постоянно занимаясь развенчиванием веры (и каждый раз считая, что это удалось!), разум, а следовательно и всякая метафизика, на деле преобразовывали «культ» в «рациотехнологии» жизни – обмирщенный культ как «мир» культуры, которая, в свою очередь, жизненно крушила созданные рацио-фетиши самой метафизики, неизменно загоняя её в критическое поле переоценки собственных истоков, а значит, возвращая и к исходным интуициям веры; вновь и вновь разоблачения веры оборачивались мистификацией разума. История постоянно обнаруживает примеры человеческого стремления прознать веру, которое каждый раз инверсируется в задачу про-верить сам разум! Теоретическая артикуляция этого феномена, мучительно вызревавшая в интеллектуальной жизни Средневековья, произошла в философии И. Канта – знаменитая фраза из предисловия ко второму изданию «Критики чистого разума»: «…пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере… Но особенно неоценима польза критики, если принимают в расчет, что она раз и навсегда, и притом сократическим методом, т.е. совершенно ясно доказывая незнание своих противников, кладет конец всем возражениям, которые выдвигаются против нравственности и религии» (здесь и далее курсив мой. – В.К.) [1. С. 24–25] не только выносит вердикт спекулятивным притязаниям разума. В третьей главе раздела «Трансцендентальной диалектики» мыслитель напишет: «…Итак, я утверждаю, что все попытки чисто спекулятивного применения разума в теологии совершенно бесплодны и по своему внутреннему характеру никчемны, а принципы его применения к природе вовсе не ведут ни к какой теологии» [1. С. 382], тем самым окончательно разъединяя в своей дополнительности сферы применения как разума, так и веры. С этого момента спекулятивные процессы взаимопрофанации и того и другого уступают место в проблемном поле философии анализу и объяснению их неискоренимого взаимодействия в культуре – «нет на свете истины столь чуждой всем в теории и столь близкой на деле» (Г.К. Честертон). Кантовское решение данной проблемы известно: постулируя невыводимость морально-религиозных оснований из деятельности разума и определяя веру практически как теоретическую недостаточность признания истинности суждения: «…в чисто практическом отношении теоретически недостаточное признание истинности суждения может быть названо верой. …Такую случайную веру, которая, однако, лежит в основе действительного применения средств для тех или иных действий, я называю прагматической верой» [1. С. 482], а теоретически как доктринальный аналог практических суждений: «…как нам кажется, у нас есть достаточные основания, если бы только было средство установить достоверность всего дела; так, в чисто теоретических суждениях бывает аналог практических суждений; к таким случаям признания истинности суждения слово вера подходит, и мы можем назвать такую веру доктринальной. …Слово вера служит в таких случаях выражением скромности в объективном отношении, но в то же время твердой уверенности в субъективном отношении» [1. С. 483], философ различает две функции разума – конститутивную и регулятивную, из которых вторая служит косвенным оправданием человеческой веры: вера хранит то, что является условием регулятивной деятельности разума, при этом ни разум, ни вера не есть основа способности суждений. «Ибо все силы или способности души могут быть сведены к трем, которые уже нельзя вывести из общего основания; это способность познания, чувство удовольствия и неудовольствия и способность желания» [2. С. 17]. Однако именно регулятивная деятельность разума станет в дальнейшем предметом жесточайшей критики и, в сущности, причиной ревизии классической метафизики со стороны современной философской мысли, что, в свою очередь, по инерции приостановило намеченное Кантом рассмотрение проблемы соотносительности «тео»-«логического» начал в человеческой культуре и вновь привело к рецидиву перевода её в альтернативную плоскость. Итак, вера хранит то, что является условием регулятивной деятельности разума, потому и высвобождающего для неё место в практической жизни. Кантианский мотив, с одной стороны, раскрывает функциональную природу двух столпов человеческой деятельности, с другой – разворачивает про81 блему: «Если есть основание предполагать, что понятия, используемые как эмпирические принципы, родственны чистой априорной познавательной способности, полезно попытаться дать им ввиду этой связи трансцендентальную дефиницию… Но почему в нашу природу заложена склонность к заведомо пустым желаниям (т.е. «способности желания как способности служить посредством своих представлений причиной действительности предметов этих представлений» см.: [2. С. 18]) – вопрос антропологически-телеологический. Создается впечатление, что если бы нам было предназначено применять наши силы не раньше, чем мы убедимся в нашей способности создать определенный объект, эти силы в большинстве случаев оставались бы неиспользованными. Ибо обычно мы узнаем о наших силах лишь тогда, когда испытываем их. Эта иллюзорность пустых желаний есть, таким образом, лишь следствие благотворного устройства нашей природы» [2. С. 386]. Следовательно, ключ к решению проблемы единого поля «способности познания» и «способности желания», медиальным стержнем которого, распаковывающего сферу сверхчувственного [2. С. 14–15], И. Кант делает эстетико-телеологическую способность суждения, лежит на пути аналитики «благотворного устройства нашей природы». В результате, с одной стороны, знаменитый антропологический проект, который мыслитель завещал философии [3. С. 332]1, с другой – изумительное по своей тонкости антропологическое углубление «эстетического» (для той эпохи, если вспомнить, какой резонанс вызвала последняя «Критика» среди художественной элиты европейского мира, даже – взламывание природы эстезиса!), которое замечательно выразил в «Кантианских вариациях» Мераб Мамардашвили: «…мир не есть то, что можно допустить, ввести предположением, измыслить. Мы что-то начинаем говорить о мире, отсчитывая от точки, где мы в мире определились. Это точка “уже мыслю”, где фиксирована действительная связь, а не допустимая или воображаемая. И то, что мы определились в мире, замкнуто у Канта на допущении и ощущении существования в мире особых явлений, предметов, существ, которые содержат в себе интеллигибельную материю и которые являются как бы смесью, то есть чем-то материально данным и одновременно дополнительно не требующим понимания, но самим пониманием. …это явление, или процесс, у Канта я буду называть эстезисом. Эстезис расположен и вверху, и внизу. Обратите внимание, что у Канта в связи с термином “разум” все время идет термин “сверхчувственный субстрат”, “сверхчувственная материя”, а внизу – термин “единичное созерцание”: иначе говоря, некоторые созерцания сами являются индивидами, т.е. и материей, и пониманием. Эстезисный процесс, или явление эстезиса, и есть тот предмет, который Кант продумывал. Это то, что он увидел и разворачивал через представление “я мыслю”, то есть через введение когитального субъекта. Именно это свое видение он развернул в трансцендентальный аппарат анализа, воспроизводящий картину нашего познания и одновременно дающий картину нашего места в мире» [7. С. 184–185]. Кенигсбергский мыслитель, акцентируя не столько приоритеты, сколько единство «благотворного устройства нашей природы», первый в истории философии выделил и обосновал законное место каждого элемента человеческого отношения к миру, а именно – топономическое сопряжение в культурном пространстве разума, веры и эстезиса. Учитывая, что пространство данного отношения суть indivisio (лат. единство, нераздельность) – индивидно-стяженно, антропомерно, то допустимо утверждать, что такое отвлеченноразличенное единство, обнаруженное и программнопостулированное гением коперниканского поворота в философии, являет собой топономическое ядро всякой культуры человека: то, что константно имеет место в истории, будь то синкретическое единство первобытнонаивного мифа либо развернуто-синтетическое единство современной цивилизации. Так или иначе, но вся посткантианская традиция философствования была вынуждена учитывать факт такой диа-логики культуры2, втянув в орбиту полемики и ученых, и художников, и религиозных деятелей. Приведем лишь один пример: слова человека, ценные тем, что, вопервых, это слова не философа, но ученого, и, вовторых, слова человека, вкусившего в свое время «прелесть» воинствующей идеологии: «Мы живем в эпоху научно-технической революции, богатую впечатляющими научными открытиями, постепенно охватывающими все области знания. Зачем нам в таком случае какое-то внерациональное постижение мира, базирующееся на чувствах (к примеру, чувстве красоты), а не на рассуждениях и, следовательно, носящее неопределенный и расплывчатый характер? Дело в том, что оно не заменяет рационального, научного, а дополняет его принципиально новыми элементами. …Иррациональная составляющая непременно должна учитываться при определении цели, к которой следует двигаться. Рациональная же – предлагать наиболее разумные способы решения поставленной задачи» [8. С. 25–38]3. Таким образом, кантовский опыт критического прознания веры привел антропоцентристскую интенцию культуры Нового времени к проблематизации Антропоса как деятельного центра окружающего его мира. Ни Теос, ни Космос, ни разум, ни вера, ни поэзис в своей «автономной чистоте» не обеспечивают единство пространства культуры, которое едино постольку, поскольку «благотворно» единится «природа человека». Как стать и быть «центром» мира? – а не искать таковой «вне-» и «без-» человека, – в этом гуманистический пафос кантовского критицизма, показавшего, что с этого вопроса начинается человеческая культура. ПРИМЕЧАНИЯ 1 В 1793 г., три года спустя после выхода «Критики способности суждения», Кант уточняет свою программу конституирования метафизики: «Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трех задач: 1) что я могу знать? (метафизика); 2) что я должен делать? (мораль); 3) на что я смею надеяться? (религия); наконец, за этим должна была последовать четвертая задача – что такое человек? (антропология, лекции по которой я читаю в течение более чем двадцати лет)» [3. С. 634]. В другом месте Кант рассуждает: «...в сущности, все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему» 82 [4. С. 280; ср.: 5. С. 332]. Сравните: «Первое и последнее слово зрелого Канта – о человеке. Кантовский критицизм в значительной мере порожден интересом к жизни личности. С размышлений над судьбой человека начинался коперниканский поворот. Проблема свободы лежит в основе “Критики чистого разума”…» [6. С. 100]. 2 Неслучайные аллюзии творчества В.С. Библера («От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век») – вспоминаются, к примеру, его мета-образы Логоса и Скрипки Энштейна, «Палаты ума» и т.п. Сравните его размышления о «Я» способности суждения из главы «Семь-Я теоретика (1641 – 19…)»: «…В тексте настоящей книги об этом Собеседнике теоретического интеллекта ничего не сказано, точнее, он не был назван по имени, хотя о его работе, о его логике, о его постоянном вмешательстве в диалог речь шла постоянно. Здесь подразумевается особая интеллектуальная способность (логическая установка), несводимая ни к интуиции, ни к рассудку, ни к интегральной роли разума. Она впервые была исследована Кантом («Критика способности суждения») и состоит в непосредственном обращении всех других «способностей» (установок), в их «стравливании», «противопоставлении» и «согласовании» – в процессе фокусирования на данном, особенном (даже единичном) предмете суждения». Стоит заметить, что в отечественной философской традиции своеобразный резонанс идей Канта можно обнаружить уже в творчестве раннего В. Соловьева. 3 Кстати, феномены интуиций такого гетерономного единства ядра культуры привычны и достаточно часто встречаются не только в опыте философствования (достаточно вспомнить тематизацию «поэтического» в постмодернистской волне современной мысли!), но и в стратегически-языковом праксисе культуры: обратите внимание на такие симулякрические гибриды, как «религиозная философия», «религиозное искусство», «рациональная теология», «научный атеизм» (который, к месту сказать, тот же Б. Раушенбах предлагает дополнить «сердечным атеизмом»!) и т.п. – всякая попытка однозначного толкования данных выражений обречена на смысловую ремиссию. К примеру, «Сикстинская мадонна» Рафаэля или «Божественная комедия» Данте – это религиозное искусство или нет? Вопрос далеко не риторический. ЛИТЕРАТУРА 1. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. 2. Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 5. 3. Kant I. Briefwechsel. Hamburg, 1972. 4. Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 8. 5. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. 6. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рольф, 2001. 7. Мамардашвили М. Кантианские вариации. М.: Аграф, 2000. 8. Раушенбах Б.В. На пути к целостному рационально-образному мировосприятию // О человеческом в человеке / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 4 апреля 2009 г. 83