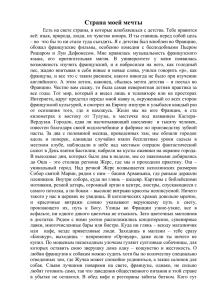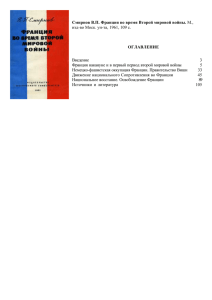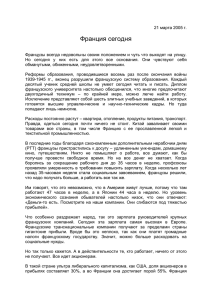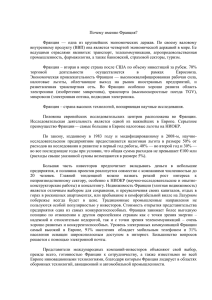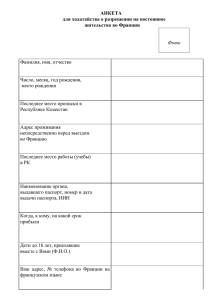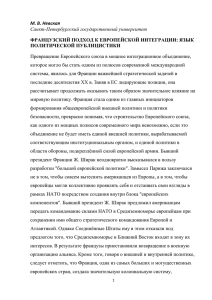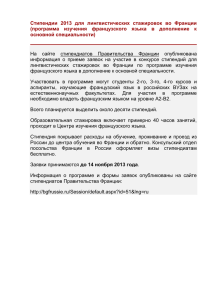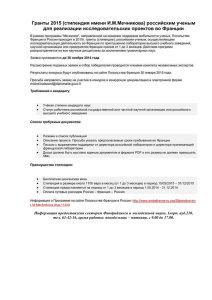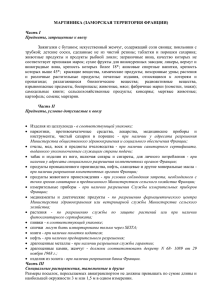ВАЛЕРИ ЖИСКАР Д'ЭСТЕН
Валери
Жискар д'Эстен
ФРАНЦУЗЫ
Размышления о судьбе народа
Научно-издательский центр
«ЛАДОМИР»
Москва
Вступительная статья Ю.И. Рубинского
Перевод с французского Г.А. Абрамова
Оформление А.П. Зарубина
ISBN 5-86218-439-2
© Editions
© Ю.И. Рубинский. Вступительная статья,
2004.
© Г.А. Абрамов. Перевод, 2004.
© НИЦ «Ладомир», 2004.
Комментарий OCR: номер страницы предшествует её
содержанию. Сноски помещены после текста страницы.
Судите творение, не судите мастера.
Аристотель
Титульный лист первого издания книги Эдмунда Бёрка
07
ЖИСКАР Д'ЭСТЕН О ФРАНЦИИ И ФРАНЦУЗАХ
Перу Валери Жискар д'Эстена, бывшего Президента Французской Республики,
принадлежит целый ряд работ, посвященных ее политическим, экономическим и социальным
проблемам: «Французская демократия», «Положение Франции», «Два француза из каждых
трех», «Через пять лет — 2000 год». Российскому читателю Жискар д'Эстен знаком по
вышедшим у нас мемуарам «Власть и жизнь».
Его новая, представляемая ныне книга «Французы. Размышления о судьбе народа»,
является не простым подведением итогов сорока лет пребывания автора у власти. На основании
богатейшего личного опыта видный государственный деятель стремится дать напутствие
младшим поколениям своих сограждан, вступающим в общественную жизнь в начале XXI века.
Высказываемые бывшим президентом мысли во многом определяются особенностями
его жизненного пути, совпавшего по времени с крупнейшими событиями европейского и
мирового масштаба.
Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в семье крупного финансиста, совсем
молодым принял участие в последних боях Второй мировой войны, затем поступил в
прославленную Политехническую школу, а позже в элитарную Национальную школу
администрации (ЭНА), закончив которую, стал, как когда-то и его отец, инспектором финансов.
По давней традиции именно Генеральная инспекция финансов служит кадровым резервом для
замещения высших государственных постов.
Вместе с тем Жискар д'Эстен никогда не терял тесных связей с родной провинцией
Овернь, а своеобразный местный выговор сохранил на всю жизнь. Уроженцы Оверни
пользуются во Франции репутацией людей трудолюбивых, настойчивых и оборотистых —
такими были крестьяне деревень гористого Центрального массива, торговавшие некогда в
Париже древесным углем и дешевым вином. Безошибочно уловив эти качества в столичном
технократе с аристократическими манерами, земляки избрали его в 29 лет депутатом
парламента. Свое доверие они подтверждали неизменно, в каких бы выборах ни участвовал их
кандидат: муниципальных, департаментских, региональных, парламентских, президентских.
Со своей стороны Жискар д'Эстен, подобно другим политикам стремившийся
сохранить максимально тесную связь со своим электоратом, высоко ценил эту верность. Он
всегда сочетал административную и политическую деятельность на национальном уровне с
вниманием к повседневным прозаическим, казалось бы, заботам небольшого городка Шамальер
в провинции Овернь, где в разное время занимал посты мэра, председателя генерального и
регионального советов.
Высокая компетентность в экономических вопросах способствовала быстрому
восхождению молодого политика либеральных убеждений на вершины власти. Создав
небольшую правоцентристскую партию независимых республиканцев,
08
он активно поддержал генерала де Голля и спустя всего три года после избрания в
Национальное собрание занял свой первый правительственный пост госсекретаря, а
впоследствии, уже при президенте Ж. Помпиду, — министра экономики и финансов.
Безвременная кончина Жоржа Помпиду весной 1974 года поставила вопрос о
преемнике. На внеочередных президентских выборах Жискар д'Эстен опередил в первом туре
«исторического» голлиста Ж. Шабан-Дельмаса, во втором — единого кандидата левых сил Ф.
Миттерана и на семь лет возглавил страну. Период его пребывания в Елисейском дворце
(1974—1981 гг.) совпал со значительными событиями в жизни Франции, Европы и мира. Два
«нефтяных шока» (1973 и 1979 гг.), связанные с резким повышением мировых цен на
энергоносители, положили конец послевоенному «славному тридцатилетию» высоких темпов
экономического роста. Период международной разрядки сменился очередной полосой
обострения «холодной войны». В этих нелегких условиях президент показал себя гибким и
осмотрительным руководителем, настроенным на налаживание конструктивного диалога между
правыми и левыми силами внутри страны, между Западом и Востоком — на мировой арене.
Такой диалог, по глубокому убеждению Жискара д'Эстена, мог строиться только на
компромиссной основе — на взаимных уступках сторон, смягчающих опасную и бесплодную
идеологическую конфронтацию.
Среди реформ, проведенных в годы пребывания Жискара д'Эстена в Елисейском
дворце, французам особенно запомнились две: снижение возраста граждан, имеющих право на
участие в выборах (с 21 года до 18 лет), увеличившая количество политически активной
молодежи, и легализация планирования семьи, в том числе разрешение абортов. Во главу угла
внешней политики Франции выдвинулся курс на углубление европейской интеграции. Именно
Жискару д'Эстену вместе с тогдашним канцлером ФРГ Г. Шмидтом принадлежит, в частности,
идея создания единой европейской валюты. Французский президент также выступил
инициатором проведения регулярных встреч глав государств и правительств крупнейших
промышленных стран мира — «Большой семерки», превратившейся впоследствии, с
вступлением в нее России, в «восьмерку».
Однако периоды крутых поворотов истории, когда общество радикализируется, когда
усиливаются центробежные тенденции, неблагоприятны для умеренных, компромиссных фигур.
Реформы Жискара д'Эстена не удовлетворили левых избирателей и в то же время оттолкнули от
него часть правых. На очередных президентских выборах 1981 года правоцентристское
большинство, находившееся у власти почти четверть века, раскололось, а победителем в
поединке с Жискаром д'Эстеном во втором туре голосования стал социалист Ф. Миттеран.
Бывшему главе государства, покинутому многими ближайшими соратниками,
пришлось тогда нелегко. Но он не пал духом, продемонстрировав такие черты настоящего
овернца, как выдержка, мужество и упорство. Вопреки традиции, согласно которой пребывание
на самом высоком государственном посту означает венец и завершение политической карьеры,
Жискар д'Эстен в 54 года снова начал ее с нуля, вторично пройдя одну за другой все ступени
лестницы выборных должностей, кроме последней. В 1988—1996 годах он возглавлял
созданный им десятилетием ранее либерально-центристский блок «Союз за французскую
демократию», был председателем регионального совета Оверни, председателем комиссии по
иностранным делам Национального собрания, депутатом Европарламента. В конце 2001 года
Жискар д'Эстен стал председателем Конвента — нового коллективного органа ЕС, которому
поручалась подготовка проекта европейской Конституции — включающей реформы институтов
и юридических норм Евросоюза. Сорок лет в большой политике — как французской, так и
международной — дали В. Жискару
09
д'Эстену богатую пищу для размышлений, результатами которых он и делится в своей
новой книге.
Бывший президент пытается прежде всего определить роль Франции в сегодняшнем
глобализированном мире. За последние полвека эта страна изменилась, пожалуй, больше, чем за
предыдущее столетие, заняв четвертое место в мире по объему ВВП, третье — по экспорту
услуг, второе после США и первое в Европе — по вывозу сельскохозяйственной продукции.
Французские вооружения, сверхзвуковые самолеты и скоростные поезда, строительная
индустрия и агропромышленный комплекс известны ныне за рубежом ничуть не меньше, чем
традиционные вина, сыры, косметика, высокая мода. Покупательная способность французов
выросла с начала 1960-х годов вчетверо, национальная система социального обеспечения,
особенно здравоохранение, по праву считается одной из лучших. Победа футбольной команды
Франции на Чемпионате мира в 2000 году вызвала небывалый всплеск патриотизма: сотни
тысяч людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие.
Однако все перечисленные достижения не могут избавить французов от тревожного
ощущения того, что страна постепенно утрачивает свое влияние на мировой арене. Времена,
когда она играла ведущую роль в Европе и мире, а ее язык служил средством общения
интеллектуальных и политических элит всех цивилизованных стран, остались в прошлом. После
Франко-прусской войны (1870—1871) Франция уже не может в одиночку, без мощных
союзников, полностью обеспечить даже собственную безопасность. В последнее десятилетие
XX века распад СССР, крушение биполярного мира, воссоединение Германии, притязания
США на глобальную гегемонию лишают французскую дипломатию прежних возможностей
гибкого маневра между Востоком и Западом, Севером и Югом, которыми мастерски
пользовался генерал де Голль. Французы постепенно утрачивают руководящие посты в
международных организациях.
Общественное мнение страны, которое болезненно переживает эти сдвиги, склонно
объяснять их чем угодно — происками враждебных сил, некомпетентностью руководителей,
дефектами государственных институтов... В. Жискар д'Эстен убежден в том, что подобные
объяснения ошибочны, более того — вредны; они лишь дезориентируют и деморализуют нацию
перед вызовами времени.
Подход бывшего президента к этой проблеме принципиально иной. Он призывает
соотечественников исходить при оценке положения Франции не из ущемленных амбиций или
ностальгии по былому величию, а из объективных факторов, игнорировать которые
невозможно. Если в зените своего могущества — с середины XVII до начала XIX века —
Франция опиралась на самый мощный, наряду с российским, демографический потенциал в
Европе, то ныне французов не больше, чем англичан или итальянцев, и заметно меньше, чем
немцев. Лишь один из ста жителей планеты является французом. Демографическая проблема
остро стоит не только перед Францией, но и перед всей Европой, доля которой в
народонаселении Земли составит к середине XXI века не более 7—10%.
Превращение США в условиях окончания «холодной войны» в единственную
сверхдержаву, впечатляющий прогресс стран Азии — Японии, Китая, Индии — с их
колоссальными людскими и экономическими ресурсами заставляют всех европейцев, в том
числе французов, волей-неволей мыслить не столько национальными, сколько
континентальными категориями. Неуклонное расширение состава Евросоюза, число государствчленов которого в ближайшем будущем должно удвоиться, говорит о том, что иного пути для
Франции просто нет.
Коренным образом меняется и само представление о величии нации. Если в прежние
времена оно находилось в прямой зависимости от размеров территории,
10
численности населения и военной силы, то в наше время его определяют прежде всего
уровень социально-экономического развития, политическая стабильность, успехи науки и
культуры. Уроки истории, по мнению Жискара д'Эстена, свидетельствуют о том, что все
попытки страны вернуть себе имперскую мощь времен Людовика XIV или Наполеона I заранее
обречены на провал. В наше время национальной задачей Франции, достойной ее великого
прошлого, становится нелегкая работа по преодолению препятствий, мешающих ей идти вместе
с партнерами по Евросоюзу в авангарде мировой цивилизации.
Главные препятствия на этом пути, по мнению экс-президента, имеют не столько
материальный, сколько субъективно-психологический характер. Речь идет прежде всего об
особенностях национального менталитета, на которые еще двести лет назад указывал
английский философ Эдмунд Бёрк, анализируя причины революции 1789 года. Бёрк отмечал,
что у французов есть склонность к тотальному разрушению всего созданного прежде,
стремление начать всё с «чистой доски». Отсюда непримиримость идеологических конфликтов
между правыми и левыми партиями, раскалывающих Францию и мешающих ей своевременно и
с минимальными издержками решать назревшие проблемы. Между тем гораздо плодотворнее
было бы сохранять историческую преемственность, терпеливо преобразуя общество с помощью
реформ.
Еще одна специфическая черта французского менталитета — представление о своей
стране как о «пупе Земли», «центре мира», порождающее стремление давать другим народам
непрошеные советы и вмешиваться в международные конфликты даже там, где собственные
интересы Франции совершенно не затронуты. В результате — бесполезное перенапряжение сил
и унизительные провалы на политической арене.
Особенности национального характера наложили заметный отпечаток на экономику и
административную систему Франции. Это, во-первых, унаследованная еще от Кольбера
тенденция к чрезмерному вмешательству государства в хозяйственную жизнь, а во-вторых,
крайняя централизация и неповоротливость бюрократической машины, созданной еще
якобинцами и усовершенствованной Наполеоном. Эти черты французского общества еще
больше усилились под влиянием идей марксизма (национализация, директивное планирование).
Сыграв после Второй мировой войны, в период восстановления и модернизации производства
известную положительную роль, эти особенности французской государственности совершенно
несовместимы теперь с требованиями глобализации и европейской интеграции. Положение
усугубляется иждивенческим отношением граждан к государству, их корпоративным эгоизмом,
стремлением выбить для себя всякого рода льготы за чужой счет. Все это приводит к
разбуханию бюджетного дефицита, а в результате рано или поздно возникает необходимость
проводить болезненные меры финансового оздоровления. Выход автор видит в решительном
отказе от административных методов воздействия на хозяйственную жизнь и в переходе к
сугубо экономическим, рыночным методам. Конечно, считает он, это никоим образом не
предполагает пассивного отношения к стихии рынка с ее финансовыми кризисами, обострением
социальных противоречий, уходом средств из реального сектора экономики в спекулятивную
биржевую игру.
Предметом озабоченности Жискара д'Эстена являются и такие специфические черты
социальной психологии его соотечественников, как унаследованное от крестьян и их предков
упрощенное понимание идеи равенства, ревность к успеху других, анархический
индивидуализм в понимании свободы, поощряющий неуважение к закону, предпочтение
абстрактных споров поиску практических решений.
11
Большое внимание уделил автор такой болезненной для сегодняшней Франции
проблеме, как иммиграция. Решительно осуждая расистские предрассудки, он считает, что их во
многом породили левые правительства, в политике которых попустительство притоку
нелегальных эмигрантов из стран «третьего мира» сочеталось с недостатком внимания к
социально-психологической
акклиматизации
иностранцев,
получивших
французское
гражданство и готовых интегрироваться в культурную среду своей новой родины, приняв ее
ценности.
Для наиболее динамичных представителей молодежи французская экономика
становится в последние годы более притягательным полем деятельности, чем политика или
администрация. И это радует автора. Но серьезную тревогу у него вызывает растущий отток
талантливых специалистов за рубеж в поисках более широких возможностей для достижения
успеха в избранной ими сфере деятельности.
Особенно сурово Жискар д'Эстен осуждает недостатки психологии французской
политической элиты, в частности парламентской, целиком поглощенной проблемой своего
переизбрания. На этой почве произрастают безответственная демагогия, мелочность, тщеславие,
беспринципность, карьеризм. СМИ, особенно телевидение, еще больше усугубляют эти пороки.
Эффективность созданной де Голлем Пятой республики подрывается периодами
«сожительства» президента с правительством, члены которого придерживаются
противоположной политической ориентации, чему, по убеждениям автора, необходимо
положить конец. Следовало бы не только сократить срок пребывания у власти главы
государства с семи до пяти лет (что уже сделано), но и проводить президентские выборы до или
одновременно с парламентскими, а главное — сформировать с помощью реформы
законодательства о выборах двухпартийную систему. Здесь успех зависит прежде всего от
правых партий, расколотых на несколько группировок ввиду бесплодного соперничества
голлистов с либералами.
Книга Жискара д'Эстена представляет для российского читателя особый интерес,
поскольку многие поднимаемые в ней вопросы стоят на повестке дня и у нас, причем зачастую с
еще большей остротой. Переход наглей страны к демократии и рыночной экономике оказался
сопряженным с колоссальными социально-экономическими и геополитическими издержками.
Немалая часть россиян, болезненно переживает утрату страной статуса одной из двух мировых
сверхдержав, объясняя это либо заговором внешних врагов, либо предательством
отечественных элит. Отсюда тоска по былому имперскому величию, ревнивая зависть и вражда
к ушедшим далеко вперед постиндустриальным странам Запада (а отчасти и Востока), мечты о
реванше за поражение в «холодной войне».
Подобные настроения не являются сугубо российским явлением. Их переживали
многие другие народы, в частности французы, как после поражения 1940 года, так и после
неудачных колониальных войн в Индокитае и Алжире, завершившихся распадом империи.
Последствия этих психологических травм ощущаются до сих пор. Поэтому многие подходы
автора к решению проблем Франции вполне приложимы, на наш взгляд, к современной России.
После распада СССР Россия остается первой в мире державой по величине территории,
но 67% этого пространства приходится на зону вечной мерзлоты, непригодную для земледелия
и крайне трудную для создания современной инфраструктуры. Освоение огромных природных
богатств Сибири и Севера требует колоссальных средств, изыскать которые в одиночку
невозможно. Тем более что по численности населения наша страна оказалась теперь
отброшенной с третьего на седьмое место в мире — после Китая, Индии, США, Индонезии,
Бразилии и Пакистана. С учетом переживаемого Россией глубокого демографического кризиса
мы рискуем
12
оказаться в середине XXI века где-нибудь в третьей десятке стран — рядом с Турцией
или Ираном. Наконец, объем валового внутреннего продукта России сегодня не превышает ВВП
Нидерландов, уступающих ей по населению в десять раз.
В свете всех этих объективных обстоятельств попытки возродить величие России на
традиционной для нее военно-имперской основе заведомо обречены на провал. Выйти из тупика
системного кризиса можно только на пути, с успехом пройденном после Второй мировой войны
Германией, Италией, Японией, а во многом и Францией. Если Россия изберет эту стезю, ей
придется не только сосредоточиться на внутренних социально-экономических проблемах, но и
включиться в процесс глобальной научно-технической революции — иными словами, широко
открыть двери внешнему миру, в первую очередь Европе, неотъемлемой частью которой она
является со времен Петра Великого.
На этом пути нам предстоит преодолеть те же психологические препятствия, с
которыми столкнулась Франция и которым посвящена книга Жискара д'Эстена: склонность к
политико-идеологическому экстремизму, социальному иждивенчеству, групповому и
индивидуальному эгоизму, националистическим предрассудкам. При таком условии
возможности России, с учетом ее не только природных, но прежде всего интеллектуальных и
духовных ресурсов, поистине безграничны. Важно лишь грамотно и рачительно распорядиться
ими в наступившем XXI веке.
Ю.И. Рубинский,
профессор,
руководитель Центра французских исследований
Института Европы РАН
13
ВСТУПЛЕНИЕ
Как только у меня появилось намерение создать эту книгу, передо мной
начали одна за другой возникать проблемы. К этому времени я уже приступил к
сочинению третьего тома «Власти и жизни»1, обещанного моей постоянной
издательнице. Кроме того, в моем воображении рождался сюжет
романтического рассказа, который мне не терпелось доверить бумаге. Но
представительница издательства, желавшего получить мою книгу, проявила
некоторую ловкость. «Сегодня, — заявила она, — французы чувствуют себя
потерянными. Они хотели бы знать, в какое будущее вступают. Во Франции вы
являетесь единственным активно пишущим крупным политиком. Ваш долг —
их просветить». Крючок был не слишком хорошо спрятан, но я сразу же
клюнул.
На то была своя причина.
Три года назад посол Ирландской Республики во Франции, человек
тонкий и совершенно очаровательный (уточню: тонкость ума и обращения
отличала посла, а ирландским очарованием обладала его супруга), передал мне
приглашение от знаменитого Тринити-колледжа в Дублине выступить с
лекцией по случаю двухсотлетней годовщины кончины Эдмунда Бёрка,
который умер в 1797 году.
Наш посол в Ирландии тоже включился в игру. «Ирландия скоро займет
председательское кресло в Европейском совете, — настойчиво повторял он мне,
— а французские министры слишком редко бывают в этой стране, за
исключением одного, приезжающего каждую осень на неделю, чтобы
поохотиться на вальдшнепов. Между тем в Ирландии любят все французское, а
ее экономика развивается быстрыми темпами. Двухсотлетие со дня смерти
Бёрка будет важным соК описываемому моменту из печати вышли два тома этого автобиографического произведения
— «Встреча» (1988) и «Столкновение» (1991) (см.: Giscard d'Estaing V. Pouvoir et la Vie: En 2
vol. P., 1988-1991. Vol. 1: La Rencontre; Vol. 2: L'Aflrontement). -Здесь и далее, если не оговорено
особо, примеч. пер.
1
14
бытием для Дублина! Французское участие в нем было бы очень
полезным!»
Как бывало во многих, слишком многих, случаях, я дал согласие. Такова
одна из моих слабостей: чтобы не расстраивать приглашающих (терпеть не могу
огорчать людей по пустякам), принимать приглашения, которые делаются на
весьма отдаленное будущее, не раздумывая долго над тем, какие беру на себя
обязательства, и смутно надеясь на то, что нечто непредвиденное освободит
меня от них. Только когда назначенный срок начинает приближаться, я
осознаю, в какую ловушку позволил себя завлечь. Но выбираться оттуда уже
слишком поздно.
Что же представлял из себя этот Эдмунд Бёрк? Я ничего о нем не знал. В
моем уме возникала фигура английского мыслителя эпохи Просвещения,
увлеченного скорее политическими проблемами, чем философией. Получив мое
принципиальное согласие на лекцию, ирландский посол вместе с супругой
поспешили оказать мне помощь, проявив он — обычную для себя тонкость
обращения, она — обаяние, присущее ирландским дамам. Они прислали мне
книгу карикатур, среди которых были изображения самого Бёрка, сделанные в
его время. Эти рисунки вызывали в памяти картинки, которыми часто украшали
коридоры и более отдаленные места в жилищах XIX века. С них глядели
персонажи, одетые в пестрые жилеты и белые панталоны, обтягивающие
толстые животы; из ртов этих одутловатых господ выходили большие пузыри;
все попытки прочесть написанное внутри пузырей подтверждали нашу слабую
способность понимать британский юмор. Сравнивая карикатуры на Бёрка с
карикатурами, посвященными другим лицам, я уловил лишь то, что этот
человек был, видимо, высоким, подвижным и носил рыжие бачки.
В посылке находилась еще одна книга — меньше по формату и строже
по оформлению. Я прочел название: «Размышления о революции во Франции».
И сначала лениво перелистывал ее страницы, а потом стал увлекаться все
больше и больше.
Эдмунд Бёрк написал свой удивительный памфлет в первые месяцы 1790
года , когда Франция жила еще при монархии, когда казалось, что
революционная лихорадка несколько спала, а Учредительное собрание,
охваченное реформаторским пылом, уже приняло Декларацию прав человека и
гражданина. Хотя Эдмунд Бёрк примыкал к «вигам», входил в либеральный
клан2, он предвещал в
1
Уже в конце этого года в Париже вышел в свет его перевод. Он оказал большое влияние на
французскую консервативную мысль, в частности на Жозефа де Местра, опубликовавшего в
1797 г. свои знаменитые «Рассуждения о Франции».
2
Так, Бёрк признавал за восставшими американскими колониями Англии право на самозащиту
и независимость.
1
15
своей книге будущие «несчастья» революции: устранение короля,
установление террора, а затем неудачу реформистской попытки. Но меня
поразила не столько точность пророчества, сколько предпринятый автором
анализ тех причин, которые и тогда, и долгое время потом лишали Францию
малейшего шанса преуспеть в деле разумного переустройства общества и его
структур. Еще двести лет назад Эдмунд Бёрк ответил на тот главный вопрос,
который я сам себе часто задавал, вернее, на который давал свой ответ.
Дабы избежать насмешек со стороны некоторых критиков, сразу же
заверю, что меня отнюдь не обратила в другую веру антиреволюционная
патетика Бёрка. Его полемический пыл еще ярче проявился в позднейших
произведениях, в частности в «Письмах по поводу предложений о мире с
цареубийцами», и все возрастал до самой кончины философа. Несомненно, эту
страстность питали противоречия его собственной души. Сын ирландкикатолички, он ясно видел, что в недрах общества родной страны зреет угроза
революции, тогда как британские правители в своей спокойной
самоуверенности даже не подозревают об этом. Бёрк горячо защищал
установившийся порядок, хотя в глубине души таил надежду на избавление
отечества от английского гнета.
Кроме диагноза, поставленного Франции, в его труде меня привлекли и
другие мотивы. Например, похвала осмотрительности, напоминающая
изречения древнегреческих мудрецов. Он пишет: «Осмотрительность есть
добродетель во всех делах, в политике же это первая из добродетелей. Поверьте
мне, во всех государственных начинаниях умеренность добродетельна». Как же
далек строй его мыслей от идеи об «изменении общества», с такой силой
заворожившей наших современников.
Он определяет свободу как «социальную» добродетель. По Бёрку, это
такой порядок вещей, при котором ни индивид, ни группа индивидов не смогут
найти средств для посягательства на право другого лица быть свободным. И
наш автор выражает глубокое недоверие, звучащее совсем по-конфуциански, по
отношению ко всем рассуждениям, которые не вдохновляют преданность,
привязанность к тому, что по-настоящему близко и дорого.
Читая его книгу, я вновь испытал многое из того, что чувствовал в
глубине души, но не мог четко выразить; Бёрк же сделал это блестяще.
Теперь перейдем к тому, что последовало дальше. На свое счастье, я
познакомился с Филиппом Рейно, автором введения к последнему
французскому изданию «Размышлений». Этот философ помог мне разобраться
в мыслях Бёрка, и вот в ноябре 1997 года я появляюсь в большом зале Тринитиколледжа. Присутствующие, облаченные во фраки, заранее настроены
благожелательно и ждут от меня чего-то вроде десерта — забавных замечаний
на тему о самобытности Бёрка, выдержанных во французском духе. Но
застигнутые врасплох потока16
ми моей эрудиции, о недавнем происхождении которой они никак не
могли догадаться, слушатели (а среди них были те, кто читал книгу Бёрка)
весьма снисходительно отнеслись к моим достижениям, а я горячо
поблагодарил их за внимание.
Эта неожиданная встреча с творчеством Бёрка вызвала у меня
непреодолимое желание предпринять такой же труд через два века. По теме он
бы отличался от сочинения британского автора. Речь у меня шла бы не о
Французской революции (хотя я не перестаю вместе с Франсуа Фюре1
задаваться вопросом о том, не могла ли она пойти по другому руслу), а о
зрелище, которое я наблюдаю с тех пор, как возникла такая возможность, о
зрелище политического упадка Франции. Применим ли при исследовании этой
проблемы аналитический метод Бёрка? Возможно ли в данном случае сочетать
наблюдение с близкого расстояния, позволяющего выявлять отдельные факты, и
взгляд из точки, удаленной настолько, что это оказывается достаточным для
анализа тенденций, которым суждено определять эволюцию нашей страны не
одну сотню лет?
Подобно Сирано де Бержераку, который начал сочинять одну из своих
баллад с названия, сперва у меня возникло заглавие: «Размышления о
политическом упадке Франции». При этом захотелось позаимствовать у
Эдмунда Бёрка орфографию названия его книги — Reflections, в этом написании
мне виделось больше блеска, оно казалось менее замкнутым на самом себе, чем
классическое Reflexions.
Хотя я мысленно и поиграл с вариантами названия, само написание
книги не продвинулось ни на йоту, пока не явилась помощница издателя,
потешившая мое самолюбие замечанием о нехватке на книжном рынке трудов
государственных деятелей.
И вот я снова в ловушке, как в случае с лекцией в Тринити-колледже, но
на этот раз мне нравится быть пойманным, ибо я полон желания понять, если
такое вообще возможно, причины политического упадка Франции и тешу себя
затаенной, почти неприличной — настолько она амбициозна — мыслью, что
установление этих причин поспособствует замедлению и даже — о,
прекраснодушная мечта! — прекращению нашего движения вниз.
1 Франсуа Фюре (1927—1997) — известный французский историк, который завоевал славу
«интеллектуального бунтовщика», разрушавшего представления о святости наследия
Французской революции.
17
Глава 1.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ УПАДОК И МОГУЩЕСТВО
В ходе раздумий о политическом закате нашей страны, которым сегодня
предаются многие из нас, нередко возникает вопрос о могуществе государства,
причем французы проявляют тенденцию смешивать два этих понятия.
Могущество — это что-то такое, что можно измерить. Оно выражается в
обширности территории, в численности населения, в потенциале экономики, в
количестве и качестве средств ведения войны. Особенно отчетливо могущество
удается осознать при сравнении, ибо основное его назначение — быть орудием
завоевания, господства и защиты от него. Общественному мнению обычно
достаточно легко расставить страны в порядке могущества: сверхдержавы,
великие державы, средние державы и все другие.
В течение длительного времени могущество являлось по характеру
исключительно военным. Все великие империи прошлого, от Александра
Македонского до Наполеона, были плодами завоеваний силой оружия. Позднее
возникла концепция экономического могущества, которое может прийти на
смену разгромленной военной силе, как это произошло с Японией. В недавно
возникшем смешении экономического и военного могущества решающая роль
пока все еще остается за последним. Если Соединенные Штаты Америки мир
признает сегодня в качестве единственной супердержавы, то причина тому —
их способность к силовому вмешательству в любой точке планеты и даже к
ведению боевых действий в двух или более местах одновременно, как это
следует из американской военной доктрины. Конечно же, подобное могущество
неизменно опирается на гигантскую экономическую и технологическую
машину.
Когда задаются вопросом о прогрессе или, наоборот, о политическом
упадке, то прежде всего возникает следующее представление: прогресс состоит
в подъеме по лестнице могущества, а политический
18
упадок — в спуске по ней. Таким образом, политический упадок есть не
что иное, как утрата страной прежнего места на лестнице могущества.
Именно так думают многие французы. И поскольку они осознают то, что
Франция все меньше и меньше «тянет» на весах могущества — хотя такая
констатация дается им с трудом в силу исторических воспоминаний, — это
расценивается как политический закат нашей страны.
Однако два эти понятия отличаются друг от друга, даже если между
ними и существует связь. Степень могущества оценивается прежде всего на
основе сравнения одних стран с другими, то есть зависит от внешних факторов.
А наличие политического упадка или подъема какой-либо нации можно
установить, исходя из внутренних факторов, таких как способность населения к
самоорганизации, к инновационной и творческой деятельности. Греция V века
до н. э., века победы при Марафоне, была совсем маленькой по сравнению с
могущественной Персией, но переживала фазу необыкновенного политического
подъема.
Вполне понятны мрачные настроения французов, видящих, что их страна
в результате некоторых объективных обстоятельств потеряла былое
могущество. Каждый из нас ощущает эту потерю. Но нам не следует
заблуждаться относительно ее природы и полагать, что она сама по себе может
объяснить наш политический упадок.
Политический упадок Франции — реальность, но это особенная
реальность, вытекающая не из уменьшения нашего могущества по отношению к
другим странам. У данного упадка имеются свои причины, связанные с
особенностями нашего стиля мышления, принятия решений и развития,
особенностями, которые я попытаюсь определить дальше.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Резкие изменения в порядке размещения стран на мировой лестнице
могущества были вызваны небывалым демографическим взрывом,
разразившимся одновременно с началом промышленной революции и
принявшим особый размах с началом XX века.
Увеличение населения планеты в четыре раза в течение этого века — с
одного миллиарда пятисот миллионов жителей до шести миллиардов —
является беспрецедентным в истории человечества. Этот рост резко изменил
большую часть условий его существования: структуру питания, уровень жизни,
состояние здоровья, городскую среду — все это было настолько далеко от
привычных представлений, что мы в своих рассуждениях не придали им
должного значения. И вот, хотя данное увеличение является самым важным
фактором истории XX века, школьные учебники уделяют ему, описывая
события современности, гораздо меньше внимания, чем изменениям
республиканского строя или развязке какого-нибудь регионального конфликта.
19
Правда, последствия демографического взрыва были частично смягчены
индустриализацией и появлением вооружений нового типа, отчего выиграли
самые развитые страны. Опираясь на эффективное промышленное и военнопромышленное производство, западноевропейские страны, Англия в первую
очередь, за ней Франция, затем многие другие, смогли во второй половине XIX
века наперекор демографической волне расширить свои колонии. Эти
завоевания в итоге охватили значительную часть нашей планеты, в основном
Африку и Азию. В результате этой экспансии сформировалась система
мирового господства, в которой Англия преобладала над всеми остальными
странами, а сравнительно небольшие по населению государства навязали свою
власть весьма многочисленным народам. И сегодня еще я вспоминаю о том, как
был потрясен, когда, совершая в 1973 году перелет из Куала-Лумпура в Париж,
вдруг осознал, что почти все страны, проплывавшие под нами, — Бирма, Индия,
Пакистан, Иран, Арабские Эмираты, Ирак, Палестина, Египет, Кипр — в свое
время в той или иной форме входили в Британскую империю. Однако позже
демографическая волна взяла верх. Ее мощь немало способствовала
послевоенной деколонизации Индии, Индонезии, а также Африки и Магриба.
Именно демография постепенно создает конфигурацию могущества держав
конца XXI века.
В период между 1970 и 2000 годами только в Азии население
увеличилось настолько, что численность его оказалась равной численности
населения всего мира в 1970 году! Для нас и даже для самого последнего
поколения описанный феномен является в высшей степени актуальным. Между
1950 и 2000 годами доля европейцев в населении Земли уменьшилась с 21,6%
до 12%. Как полагают, эта тенденция сохранится, так что в 2050 году жители
Европы составят всего лишь 7% населения планеты1. Таким образом, наша доля
за столетие уменьшится на две трети.
Демографические изменения сказались на мощи Франции, которая
долгое время покоилась на демографическом превосходстве нашей страны над
остальной Европой. В начале XIX века, в период наполеоновских войн,
Франция насчитывала 29 млн жителей, превосходя Германию, имевшую 25 млн
в современных границах, оставляя далеко за собой Великобританию с ее 18миллионным населением. Эта ситуация полностью изменилась к 1939 году, к
моменту начала Второй мировой войны, когда Францию с ее 41 млн жителей
обогнали и Германия, насчитывавшая 78,6 млн жителей, и даже
Великобритания, в которой тогда было 47,5 млн человек.
Такую же картину можно увидеть и в области экономики.
Первоначально
индустриальная
революция
принесла
выгоду всем
западноевропейским государствам, а затем Соединенным Штатам Америки. Их
промышленная продукция, широким потоком хлынувшая на внешние
1 Источник: статистические данные ООН (уточненные в 1998 г.). — Примеч. авт.
20
рынки, составила значительную долю мирового производства. А уровень
дохода на душу населения в этих странах превосходил соответствующий
уровень в остальном мире более чем в десять раз, а Китая и Индии — более чем
в сто раз.
Это положение сохранялось вплоть до 1920-х годов, когда начался
стремительный рост мощи Соединенных Штатов Америки, которые после
Второй мировой войны превратились в экономически господствующую
державу. Затем, в конце 1960-х годов, мы стали свидетелями экономического
оживления Азии, вернее ее экономического пробуждения, ибо раньше там не
происходило ничего подобного. Промышленность старых индустриальных
стран стала чувствовать, что ее буквально кусают за пятки эти новые
конкуренты, в частности, целые сектора трудоемких производств сначала
оказались под угрозой, а в конце концов исчезли.
Эти изменения больно ударили по национальному самолюбию
французов, привыкших гордиться могуществом своей страны. Они пытались
объяснять удары, наносимые Историей, несчастливым стечением обстоятельств
и сохранять надежду на то, что со временем все пойдет по-прежнему.
Победа 1918 года была последней военной победой, которую Франция
одержала самостоятельно. Хотя окончательный исход войны предопределило
прибытие на поля сражений в Лотарингии в начале 1917 года американских
войск, хотя Великобритания вложила в победу почти столько же, сколько наша
страна, все же коалицией руководило французское командование, а на стиль
боевых действий, если можно так выразиться, наложила отпечаток французская
военная культура. Таким образом, Франция предприняла отчаянные усилия,
цена которых, измеренная в человеческих жизнях, оказалась — увы —
ужасающей, чтобы сохранить свое место на лестнице могущества. Можно
отметить, что эта последняя победа несла на себе печать крестьянского
происхождения Франции, ибо только народ, состоящий из крестьян, мог
проявить такую энергию выживания, зарывшись на четыре года в землю, в
грязь, в леденящую слякоть окопов.
Наши политические деятели и историки предпочитают ничего не
говорить об унизительном поражении 1940 года, хотя из него можно извлечь
ряд важных уроков, но самое главное в нем то, что оно обозначило момент,
когда у французов ослабли руки и они ясно осознали, что их страна сползает
вниз по ступеням Истории.
Это ослабление могущества, вызванное преимущественно внешними
событиями, сильно подействовало на политическое подсознание французов.
Сначала они отказались признать это ослабление, а затем, когда очевидные
факты их к тому принудили, попытались объяснить его пороками своих
правителей. «Нас предали!» — твердили солдаты воинских частей,
беспорядочно отступавших по дорогам поражения весной 1940-го.
21
Подлинная цель голлизма, то есть действий генерала де Голля,
находившегося как личность почти в полном одиночестве, заключалась в том,
чтобы вернуть Франции место в ряду крупнейших государств мира, несмотря на
поражение в войне и оккупацию ее территории. Де Голль выполнил эту задачу,
совершив чудо, ибо ему пришлось преодолеть и явное сопротивление
президента Рузвельта, и острую нехватку материальных средств. Редко усилия
какого-либо одного человека способны повернуть ход Истории. И если генералу
де Голлю такое удалось дважды — в первый раз в 1944 году, во второй раз в
1958—1968 годах в рамках внешней политики, — то это потому, что он
поставил перед собой единственную цель, отвечавшую сокровенным чаяниям
французов: вернуть Франции ее прежнее положение в мире, ее достоинство и
независимость. Используя эту цель в качестве рычага, он сумел остановить
(скорее, приостановить в течение определенного периода) политический упадок
Франции. Культ де Голля в наши дни, который особенно удивляет, когда среди
почитателей генерала видишь людей, в свое время боровшихся с ним или
чернивших его усилия, на самом деле выражает ностальгию по почетному месту
Франции в мире, и деятельность этого человека ассоциируется прежде всего с
ним.
Сегодня даже простое упоминание фактов, свидетельствующих об
изменении положения Франции в мире, рассматривается как выпад в ее адрес.
Будучи Президентом Республики, я пришел к выводу, что нам необходимо
приспособиться к новым реалиям в мире, что мы почувствовали бы гораздо
большую уверенность в себе, если бы согласились считаться с фактами,
которые не в состоянии изменить. Я взял на себя смелость указать на одной из
встреч с журналистами в 1997 году, что «в 2000 году население Франции будет
составлять только 1% населения мира» и что тогда «лишь один-единственный
человек из ста будет французским гражданином». Говоря это, я мысленно
представлял нескончаемые вереницы людей, в каждой сотне которых лишь
один человек был бы француженкой или французом.
Эта статистическая очевидность неопровержимая, как неопровержимы
демографические расчеты (для проведения которых мы располагаем одним из
лучших научных центров в мире — Национальным институтом
демографических исследований), вызвала бурю негодования. «Президент
Республики намеренно пытается принизить Францию», — с благородным
пафосом заявил Клод Лаббе, руководитель одной из парламентских групп в
Национальном собрании. Как бы демагогически ни толковались мои слова,
было очевидно, что я причинил боль, коснувшись туго натянутой струны,
вернее незаживающей раны, которая таится в той части души, в том уголке
сознания французов, вообще-то достойном глубокого уважения, которое
отказывается принимать мир таким, каким он стал, не соглашается занять в этом
мире место, объективно нам принадлежащее.
22
В течение всего 1998 года на фронтоне Музея человека на площади
Трокадеро под каменными позолоченными строками Поля Валери можно было
видеть транспарант со словами: «Земля насчитывает шесть миллиардов
жителей». Я задал себе вопрос: сколько людей из тех, кто прочел этот
транспарант, глядя в окно автобуса, сказали себе: «Теперь лишь один из ста
жителей планеты является французом»?
Рост населения в ближайшие полвека будет происходить исключительно
в развивающихся странах, тогда как население развитых стран не увеличится.
Цифры красноречивы: в период между 1998 и 2050 годами число жителей
первой группы стран почти удвоится, увеличившись с 4,7 млрд до 8,2 млрд
человек, а население второй группы стран уменьшится с 1,18 млрд до 1,16 млрд
человек.
Это неизбежно приведет к всплескам политической и социальной
напряженности.
МОГУЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЙ УПАДОК
Многие из нас, горячо желая видеть свою страну среди стран,
вызывающих уважение, пришли к выводу, что потеря высокого места на
лестнице могущества есть тягостное следствие ее политического упадка.
Отнюдь не уверен в точности такого объяснения. Политический подъем
или упадок не связан только с местом среди других держав. Этот подъем или
упадок является реальностью, не зависящей от внешних факторов, таких как
демографические тенденции или появление более или менее благоприятных
экономических возможностей.
Указанный процесс есть результат действия внутренних элементов
национального сообщества, таких как динамизм, способность к созиданию,
уровень цивилизации и культуры, качества образования и особенно
адаптационных способностей.
Вспомним самые блестящие периоды Истории. XV и XVI века были для
Италии временем неповторимого расцвета, ослепляющий блеск которого не
померк и доныне. Между тем Италия находилась тогда в полнейшем
политическом расстройстве. Французы периодически совершали по ее земле
военные прогулки, которые, правда, обычно заканчивались ничем из-за
бездарности полководцев. Папство являло собой удивительную картину
распутства, жажды территориальных захватов и эстетизма, вносимого в
удовлетворение земных страстей! Республики и города-государства боролись
между собой, заключая и разрывая союзы, призывая на помощь чужеземных
наемников. Внутри римских стен, рассчитанных на защиту двухмиллионного
населения, теперь жили только пятьдесят тысяч человек. А между тем в Италии
расцветало тогда столько талантов, сколько с тех пор никогда не соби23
ралось ни в одном другом месте земли. Во Флоренции или Венеции
жили государственные деятели и политики-теоретики такого масштаба, что к их
трудам мы обращаемся и доныне.
Если же брать в качестве примера Францию, то ее высочайшие
достижения явили миру две эпохи: вторая половина XVIII века, когда все
французское считалось образцом вкуса, а писателям-философам века
Просвещения не было равных, и последние десятилетия девятнадцатого
столетия, когда музеи мира заполняются французскими картинами и
скульптурами, а роман и социальная литература достигают невиданного
расцвета.
Но ни одну, ни другую эпоху нельзя назвать блестящей с точки зрения
могущества страны. В первом случае военные поражения следовали одно за
другим, их приходилось признавать, подписывая тяжелые мирные договоры, в
том числе плачевный Парижский договор 1763 года, который положил конец
французским усилиям в Индии и Северной Америке1. Во втором случае
Франция с трудом поднималась на ноги после поражения 1870 года и прусской
оккупации.
Цель этих исторических экскурсов, быть может слишком длинных, —
разрушить представления, согласно которым приобретение страной статуса
великой державы идет рука об руку с ее качественной политической эволюцией.
Невозможно объяснить или оправдать теперешний политический упадок лишь
объективными обстоятельствами, которые и привели к тому, что мы потеряли
одно из первых мест среди великих держав.
Политическая жизнь народа может быть созидательной или
разрушительной, идейно богатой или бедной, являть миру образ силы или ее
отсутствия независимо от места, занимаемого его страной на данный момент.
Именно поэтому объективно существующий сегодня вопрос о
политическом упадке Франции не зависит ни от каких экономических и
демографических потрясений в мире.
МОЖНО ЛИ ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПАДКУ
ОБЩЕСТВА?
Прежде всего будем исходить из того факта, что могущество измеряют, а
упадок чувствуют. Это ощущение постепенно захватывает сознание и
подсознание. Оно приводит к такому настроению, установке, как сказали бы
сегодня, для которых характерны растущее безразличие, скептицизм, а затем и
полное неприятие. В обществе почти перестают возникать коллективные
устремления, а если и возникают, то так и не получают внятных формулировок,
чему мешает та
1 Этот договор, заключенный по результатам Семилетней войны с Англией, лишал Францию
Канады и большей части владений ее Ост-Индской кампании.
24
удовлетворенность или, скорее, неудовлетворенность, которую
испытывают отдельные индивиды и группы.
Разумеется, и сегодня еще организуются демонстрации, с помощью
которых общественное мнение старается заставить прислушаться к своему
голосу. Но это уже не те мощные валы, которые рождало глубокое
национальное унижение или поднимала великая несправедливость по
отношению к народным массам. Они выражают раздражение сравнительно
небольшой части общества, а проблема, послужившая поводом для
выступления, обычно затрагивает интересы узкой группы. Такая группа редко
составляет одну тысячную долю населения страны и никогда — сотую его
долю. Волнения, которые таким образом возникают, не распространяются среди
других членов общества, разве что создают для них разные неудобства.
Упадок, о котором идет речь, общественное мнение воспринимает как
следствие недостаточной компетентности, даже бездарности политических
руководителей. Первую, имеющую защитный характер реакцию граждан
выражает следующая мысль: если сменить руководителей, то дела тут же
наладятся. После нескольких неудачных попыток общественное мнение
восстает в конце концов против самой системы: именно систему следовало бы
изменить! Но наши демократические режимы устроены так, что умеют
защищаться, то есть решения, необходимые для устранения недостатков этих
режимов или злоупотреблений в них, должны приниматься теми, кто
пользуется, сознательно или нет, их благами.
Тут следует вспомнить отчаянные попытки Четвертой Французской
республики самореформироваться: единодушно осужденная общественным
мнением, схваченная за горло событиями в Алжире и потерявшая всякую
надежду вновь взять их под свой контроль, она еще находила силы для того,
чтобы отвергать одно за другим предложения, даже самые робкие, которые
делали ее сторонники для того, чтобы возвратить государству способность
действовать.
Вспоминаю впечатления, полученные мной в мае 1958 года по дороге в
Бурбонский дворец. На Кур-де-ла-Рэн размещалась группа жандармов,
призванная защищать круглосуточно заседавшее Национальное собрание от
возможных нападений подрывных элементов. Я направлялся туда, чтобы
принять участие в заседании Комиссии по законодательству, куда был включен
как новоизбранный парламентарий, хотя вообще-то являлся инспектором
Министерства финансов и обладал не самыми обширными знаниями в области
юриспруденции.
«Чего мы ждем, — воскликнул один из этих стражей Республики,
обращаясь к своему товарищу, закутанному в черное, и показывая пальцем на
колоннаду Бурбонского дворца. — Чего мы ждем, чтобы вышвырнуть их
оттуда?»
25
Тут я почувствовал себя совершенно защищенным и бодро добрался до
зала на втором этаже, где заседала Комиссия по законодательству. При желтом
электрическом свете члены ее обсуждали реформу Конституции,
председательствовал нотариус, избранный от департамента Арьеж, тщедушный
человек, обладавший тонким умом. В зале царил шум, заставлявший вспомнить
о великих часах Французской революции, но все выносившиеся на голосование
поправки, даже самые незначительные, неизменно отвергались; депутаткоммунист Роже Гароди блестяще излагал доводы своей партии против
очередного изменения. Затем парламентарии переходили к обсуждению
следующего. В час ночи я покинул это собрание, подействовавшее на меня
угнетающе, и прошел под густо цветущими каштанами на набережных правого
берега Сены, мимо отряда стражей Республики, которые все еще ворчали в тени
своих автобусов.
Два дня спустя президент Коти1 призвал генерала де Голля. Он появился
в парламенте, одетый в серый двубортный костюм, сел в первом ряду
амфитеатра — его называют министерской скамьей — и произнес свою
знаменитую фразу: «Дамы и господа депутаты, я сознаю удовольствие и честь
находиться среди вас», и стал ждать того дня, когда Национальное собрание
доверит ему задачу пересмотра Конституции Четвертой республики и перехода
к Пятой республике!
Чтобы понять, насколько трудно нашим учреждениям преобразовать
самих себя, достаточно взглянуть на битвы, которые с отчаянным упорством
ведут те, кто видит угрозу своим интересам и в разумной реформе
регионального избирательного закона, и во введении ограничений при
совмещении выборных должностей, и в установлении пятилетнего срока
пребывания президента на посту — во всем, чего давно ждет большинство
членов общества и что полностью соответствует требованиям современности.
Однако зло не сводится к изъянам в функционировании механизма
государственных институтов. Политический упадок выражает то скверное
состояние общества, патологическое состояние, при котором большая часть
органов поражена недугом.
Вот почему при виде обостряющегося политического упадка больше
нельзя лишь менять местами карты в пасьянсе власти да пытаться переложить
ответственность на других, на руководителей или на государственные
институты. Этот упадок отражает глобальную тенденцию развития общества, но
складывается из отдельных частиц. Каждый из нас несет в себе самом такую
частицу.
Если попытаться дать определение политического упадка, то, на мой
взгляд, он выражается в следующем: созидательный дух сообще1 Рене Коти являлся Президентом Французской Республики в 1954—1959 гг.
26
ства перестает воплощаться в усилия по обеспечению лучших условий
его существования в будущем, оно полностью сосредоточивается на задачах
защиты и простого сохранения привилегий и структур, заимствованных у
прошлого. Степень политического упадка зависит от приспособляемости
общества к внутренним и внешним изменениям, от того образа действий,
который позволяет — или не позволяет — извлекать выгоду из этих изменений.
ВОСПРИЯТИЕ УПАДКА
Если мощь государства можно измерить в цифрах, то политический
упадок, к сожалению, точно оценить нельзя. Здесь приходится ограничиваться
указанием на симптомы.
Назову некоторые из них.
Французские инициативы оказали значительное воздействие на
международную жизнь в послевоенные годы, вплоть до 1970-х годов. Именно
тогда зародились многие современные институты: Декларация прав человека,
принятая ООН; Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), превратившееся
в Общий рынок; Конференция семи государств в Рамбуйе, ставшая «Большой
семеркой»; Диалог Север — Юг, который ООН институционализировала;
Европейский совет глав государств и правительств; Европейское валютное
соглашение,
позволившее
создать
экю,
которое
впоследствии
трансформировалось в евро. Все эти инициативы принадлежат Франции, даже
если она действовала по согласованию с партнерами и воплощала проекты в
жизнь вместе с ними.
Если посмотреть на хронологию выдвижения этих французских
предложений, то становится заметно, что они начинают появляться все реже и
реже. А с начала 1990-х годов вообще невозможно назвать какую-либо
политическую или дипломатическою инициативу нашей страны, которая
сохранилась бы в памяти мировой общественности.
Другой признак, на который можно указать, — высшие международные
посты, доверенные французам. Они занимали должности Генерального
директора ЮНЕСКО, директора-распорядителя Международного валютного
фонда, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим вопросам;
если говорить о европейском уровне, то Жан Монне стал первым председателем
высшего руководящего органа ЕОУС, французы неоднократно становились
председателями Европейской комиссии (ЕК) и Европейского парламента; в
рамках ЕК им доверялись такие ответственные посты, как должность члена
Комиссии по экономическим и финансовым вопросам (на этом посту работал
Раймон Барр, а затем Ив-Тибо де Силги), генерального директора по сельскому
хозяйству (последнюю должность французы занимали без перерывов с 1958 по
1999 год).
27
Вернемся к дню сегодняшнему. До недавнего времени французы
сохраняли лишь два поста из перечисленных выше — директора
Международного валютного фонда (МВФ) и председателя Европарламента,
избираемого на два с половиной года, причем последней должности удалось
добиться лишь благодаря настойчивости и решительности госпожи Николь
Фонтен1. А вот пост в МВФ стал нашей очередной потерей.
Самую большую озабоченность вызывает тот факт, что Франция, в
отличие от Великобритании и Испании, не имеет, похоже, долгосрочной
стратегии для решения этой проблемы и все чаще оказывается не в состоянии
добиться избрания своих кандидатов. Об этом свидетельствует казус с
назначением председателя Европейского центрального банка, которым,
естественно, должен был стать француз в силу той большой роли, которую наша
страна сыграла в свое время в создании евро. В последнее время, однако, все
труднее себе представить, что именно те должности, при исполнении которых
наша культурная традиция способна обеспечить максимально высокую
квалифицированность, будут доверены французским кандидатам, что они
займут посты, учрежденные благодаря французским инициативам, такие как
должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и
политики безопасности.
Это постепенное отступление происходит в обстановке безразличия, по
крайней мере внешнего, со стороны политических деятелей нашей страны.
Между тем оно является одним из симптомов политического упадка Франции.
Можно ли представить себе нашу жизнь иной? Можно ли определить, в
каких областях коллективные действия могли бы вдохнуть в нашу общую жизнь
динамизм, стремление к созиданию и способность к адаптации?
Именно эти вопросы станут предметом рассмотрения в настоящих
«Размышлениях», и я прошу читателей благосклонно следовать за мной, ибо
перемены к лучшему невозможны без участия каждого из нас!
Но здесь необходимо помнить об одной опасности! Когда о
политическом упадке речь заводит человек, занимавший в прошлом важные
посты, он склонен полагать, что дела в стране шли хорошо, когда он стоял у
кормила власти, и пошли плохо, когда его отстранили! Есть, кстати, опасность и
биологического свойства: вступив во вторую половину жизни, человек начинает
думать, что стал свидетелем «конца
1 Николь Фонтен (род. в 1942 г.) впервые избрана в Европарламент в 1984 г., дважды занимала
пост заместителя председателя, затем стала председателем. Известна среди прочего своими
выступлениями в защиту французских частных католических школ.
28
света», что мир вокруг рушится, а сам он брошен на произвол судьбы;
это происходит потому, что мы ощущаем, как слабеют наши творческие силы,
как у окружающих растут сомнения в необходимости того, что мы делаем, как
зачастую дело нашей жизни терпит полный крах.
Попытки полностью устранить это разрушительное воздействие времени
на человеческую сущность тщетны, но следует хотя бы ослабить его, несколько
отстранившись от личного восприятия происходящего.
Проблема эта не нова. Охваченный унынием Петрарка замечал в письме,
датированном 1371 годом:
«Когда я взираю на молодое поколение, то вижу: оно настолько
развращено душой и телом, что у меня не остается ни малейшей крупицы
надежды. Начало нашего века удовлетворения не вызывало, но он представал
таким, что можно было испытывать по отношению к нему снисходительность.
Дойдя до середины своего пути, этот век, как мы увидели, устремился во
всяческого рода несправедливости и преступления. Мы погрузились в пучину
зла и бедствий. Я желал бы появиться на свет в иные времена, или умереть
тридцать лет назад, или провести жизнь среди индийцев или китайцев»1.
То был 1371 год. А через несколько десятилетий открылась великая
мастерская Возрождения!
Вынося свои суждения, будем проявлять скромность, то есть
осмотрительность. В поле нашего зрения попадает лишь небольшой отрезок
витка спирали Истории. Человеческий ум устроен так, что стремится спрямлять
траекторию наблюдаемых событий: если лето солнечное, то потому что
наступает глобальное потепление, если наблюдается рост экономики, то он
будет продолжаться и в будущем. Между тем большая часть природных
явлений имеет цикличный характер, и нам самим как одной из разновидностей
жизни на нашей планете не уйти от этого правила. Поэтому не стоит называть
«политическим закатом» простое отклонение маятника нашей общественной
жизни, особенно если такое отклонение будет недолгим по времени. Но нельзя
отказываться и от того, чтобы выявить тенденции нашего развития, даже если
тенденции проявляют себя через события, неблагоприятные для нас.
Излагая свои соображения, я старался проявить всю беспристрастность,
на какую только способен, так, чтобы ни мои предпочтения, ни, особенно, мои
разочарования не оказывали на них влияния.
Изучение политического упадка Франции должно вести с тем же
старанием, с той же тщательностью и, по возможности, с той же
беспристрастностью, с какими исследуется любое другое историческое явление.
Поэтому начну с фундаментальных для нас, французов, отношений —
отношений с временем.
1 В 1371 г. Франческо Петрарке исполнялось 67 лет, он умер в 1374 г.
29
Глава 2
В КОНФЛИКТАХ С ВРЕМЕНЕМ
Французская революция есть событие
столь необычайное, что именно с него следует
начать весь ряд рассуждений о делах нашего
времени. Во Франции не происходит ничего
важного, что не было бы прямым следствием
этого основополагающего явления.
Эрнест Ренан1
Чтобы
покончить
с
марксистсколенинской революцией в России, нужна была
другая революция, которая во имя другой
идеологии превратила бы, в свою очередь,
прошлое в tabula rasa2.
Франсуа Миттеран3
Главный аргумент Эдмунда Бёрка, предвидевшего неудачу реформы во
Франции, состоял в следующем: французы намереваются превратить прошлое в
tabula rasa, для них, пишет он, реформа означает прежде всего полное
разрушение прежнего порядка, и лишь после его окончательного уничтожения
можно начинать строительство нового мира.
Такой подход резко отличается от британского. Для нас, англичан,
продолжает Бёрк, цель реформы заключается в улучшении того, что
существует, и в сохранении всего того приемлемого, что было в прежнем
порядке. Мы мыслим не в понятиях резкого разрыва с прошлым, но в понятиях
преемственности. Английская «Славная революция» 1688 года — она почти не
упоминается во французских учебниках по истории — не ставила под сомнение
ни монархический строй, ни свойственный ему принцип передачи власти по
наследству, напротив, законность того и другого была торжественно
подтверждена, а революция занялась вопросами ограничения королевской
власти и придания новых полномочий парламенту.
Французские претензии на то, чтобы «выскоблить» все прежнее и
создать совершенно новые политические и социальные учреждения на
рациональной основе, без всякой связи с прошлым, противоречат, как полагал
британский философ, естественному ходу вещей. Обрыв исторических корней,
уничтожение всех достижений социальной организации способны породить
лишь шаткие структуры, обреченные либо на вечное забегание вперед, либо на
быстрое исчезновение при появлении какой-нибудь новой трудноразрешимой
проблемы.
1 Renan E. Monarchie constitutionelle en France // Revue des Deux Mondes. 1869. 1 Novembre.
2 Чистая доска (лат.).
3 Mitterand F. De l'Allemagne, de la France. P.: Editions Odile Jacob, 1996.
30
Но странно видеть, что это состояние умов сохраняется и в наши дни,
что Франция — единственная крупная страна, в которой можно надеяться на
победу, выдвинув на выборах лозунг «изменить общество», как это было в 1981
году. Каждый знает, что сегодня мы живем в мире, где экономические и
социальные структуры на четыре пятых обусловлены объективными факторами
и где единственная достойная задача состоит в том, чтобы научиться управлять
этой последней пятой частью так, чтобы получать максимально высокие
экономические результаты и совершенствовать социальную справедливость.
Возможно, что, выдвигая в 1981 году лозунг tabula rasa, политические
деятели лукавили, что они сознавали его нереалистичность, но рассчитывали
извлечь из него пользу на выборах. Фактом остается то, что лозунг этот вызвал
мощный отклик у избирателей и что многие политические аналитики считали
его вполне приемлемым. Отсюда резкие колебания в нашей общественной
жизни: неумеренная национализация, начатая в 1981 году, сменяется в конце
1990-х приватизацией всего того, что только вчера было национализировано,
причем этот процесс затронул даже то, что до 1980 года составляло
государственный сектор экономики, — телекоммуникации, компанию Air
France или аэрокосмическую промышленность. То же самое происходит и с
обреченным в свое время на успех призывом установить пенсионный возраст с
шестидесяти лет (к черту демографию!): восемнадцать лет спустя решают
запустить сложную процедуру, которая позволила бы вернуться к
рассмотрению последствий принятого решения.
РАЗРУШАТЬ, А ПОТОМ РЕФОРМИРОВАТЬ
Я постоянно задаюсь вопросом, что это за удивительная склонность к
tabula rasa, которая так свойственна и Франции, и французскому характеру. Она
ни на что не похожа в том смысле, что противоречит духу большинства великих
течений политической мысли. Так, конфуцианство находит образцы для нашего
государственного устройства в прошлом и предлагает нам обращаться к нему в
своих поисках; для современности в этом плане характерны также
«трансформаторские» шаги большинства наших европейских партнеров.
Невозможно представить себе какого-либо германского, британского,
испанского и даже итальянского руководителя, который собрался бы проводить
свою предвыборную кампанию под лозунгом tabula rasa. Тех же, кто сделал
робкие шаги в этом направлении, подобно левым лейбористам 1980-х годов в
Великобритании, убрали с политической сцены очень скоро.
Две
великие
революции
вдохновлялись
этим
принципом:
1
большевистская революция 1917 года и китайская культурная революция Мао
1 Показательно, что французский автор слов «Интернационала», поэт-рабочий Эжен Потье,
включил в первый куплет этого гимна знаменитую формулу: «Превратим прошлое в чистую
доску...» («Du passé faisons table rase...»). — Примеч. авт.
31
Цзэдуна. Действительно, первая из них ставила своей целью искоренить
все промежуточные социальные структуры русского общества, вторая —
вытравить из сознания китайцев привычный образ мыслей, сформированный
традиционной культурой. Объектами этих революций были общества,
находившиеся на гораздо более ранней стадии развития, чем французское, обе
они, в соответствии со схемой Бёрка, привели к жестоким потрясениям, а
отнюдь не к новому мировому порядку, который намеревались установить.
Характерной особенностью Франции является то, что попытки
реформирования путем разрушения структур прошлого предпринимались в ее
истории неоднократно: наша страна пережила такую попытку в период с 1792
по 1795 год, затем снова в 1848 году и, наконец, трагической зимой 1871 года.
Хотя конкретное содержание рассмотренной концепции изменилось, мы
обнаруживаем ее следы в том взрыве энтузиазма, который вызвал приход к
власти Народного фронта в 1936 году и который был воспринят как
предвестник «нового мира». Следы этой концепции в анекдотической форме
обнаружились, когда Франсуа Миттеран вскоре после избрания его
президентом1 пожелал поделиться со мной некоторыми своими намерениями.
Произошло это во время его первого приезда в Клермон-Ферран б июля 1984
года. Он выразил пожелание увидеть меня и предложил провести нашу встречу
в моем пригородном доме в Шанона. Но я решил, что более уместно будет
принять его в служебном кабинете, занимаемом мною когда-то в качестве мэра
Шамальера и который нынешний мэр предоставил в мое распоряжение.
Комната была завалена пачками моей последней книги — «Два француза из
каждых трех», ее экземпляры мне предстояло подписывать. Наружная дверь
захлопнулась перед ринувшимися в нее журналистами, и вот мы оказались
вдвоем, сидя в креслах, обитых красным бархатом, за круглым столом, на
который Клод Вольф2 велел поставить две чашечки кофе и вазу с анемонами.
Говорить начал Франсуа Миттеран, после обмена обычными банальностями он
на миг замолчал, как бы собираясь изречь смелую истину. И вдруг заявил: «Моя
цель — покончить с французской буржуазией!»
Дух захватило от столь неожиданных планов. Очевидно, на моем лице
выразилось изумление, потому что он продолжил: «Да, необходимо с ней
покончить. Я пришел к этому заключению, изучая нашу историю. Именно
буржуазия препятствует любым реформам. Пока она остается на прежнем
месте, двигаться вперед невозможно!»
Подход, в основе которого — желание сначала разрушить, а потом
реформировать, или разрушить именно для того, чтобы иметь возмож1 Франсуа Миттеран являлся Президентом Французской Республики в период с 1981 по 1995
год.
2 Клод Вольф был заместителем мэра Шамальера, когда пост мэра занимал В. Жискар д' Эстен.
32
ность реформировать, обусловлен, вероятно, некоторыми чертами
нашего характера, к этому я еще вернусь. Однако же ничто в нашем двойном,
галло-романском и франкском, наследии не предвещало такого подхода. Его
нельзя обнаружить, например, в политических произведениях — текстах
знаменитых «легистов», законников, — вплоть до XVIII века. И потому я
спрашиваю себя: не порождена ли данная установка в какой-то мере нашей
недавней историей, неправильными отношениями Франции с прошлым
временем или, вернее, с временем ее прошлого?
***
Странно, что наша страна, где страсть праздновать юбилеи чуть ли не
маниакальна, не отмечает ни одного события, произошедшего до 1789 года, за
исключением религиозных праздников. Думаю, не ошибусь, если замечу, что за
четырнадцать лет двух президентских сроков Франсуа Миттерана ни разу не
было отмечено ни одной годовщины какого-либо события национального
значения, имеющего более чем двухсотлетнюю давность.
Таким образом, Франция с ее самой старой в Европе структурой власти
живет замкнувшись в два века своей истории. Нам удалось добиться даже того,
что такое убеждение стала разделять зарубежная пресса. Так, на обложку
номера американского журнала National Geographic Magazine за июль 1989 года
были вынесены слова: «Франция празднует свое двухсотлетие!» Прощайте,
Людовик XIV, Генрих IV, Франциск I, Ришелье, Жанна д'Арк, Дю Геклен!1
В конце концов можно было бы успокоиться на мысли, что все стоящее
из того, что окружает нас сегодня, образовалось в течение двух последних
веков.
Однако, занимая то одну, то другую должность, я обнаружил, что многие
учреждения, привычки, навыки и даже документы, среди которых мы все еще
живем, относятся к Старому порядку. Такой вывод никого бы не удивил в
Великобритании, Баварии или Каталонии, но нас он повергает в изумление.
Став министром финансов, я попытался изменить бесчеловечные законы
о наложении ареста на имущество, в соответствии с которыми в случае
банкротства торговца или ремесленника у него отнимают все личные вещи, всю
принадлежащую ему и его семье обстановку, за исключением кровати, чтобы
выставить на распродажу; оказалось, что мы применяем положения ордонанса
дореволюционного
1 Бернар Дю Геклен (Дюгеклен; ок. 1320—1380) — знаменитый полководец, вошел во
французскую народную традицию как образец благородного и великодушного воина.
33
времени, которые с тех пор не изменились, в том числе и по
терминологии.
Точно так же меня всегда удивляло то благоговейное внимание, которым
окружают префектов. Полагаю, что не обижу их, если назову это внимание
чрезмерным. Ни одна местная церемония не обходится без присутствия того,
кого называют «господином префектом». По клубам пыли на дороге пытаются
предугадать момент его прибытия, а когда он выходит из машины, воцаряется
молчание. Каждый встает навытяжку и делает полшага вперед, чтобы в качестве
особой чести пожать ему руку. На лицах присутствующих появляется та
разновидность подобострастной улыбки, увидеть которую можно только на
официальных церемониях: рот узкой щелью растягивается до ушей.
Такое поведение народа, вообще-то насмешливого и непочтительного,
мне казалось странным, но, возможно, я нашел этому объяснение в книге
историка Мишеля Антуана, посвященной устройству власти в XVIII веке в
нашей стране. Королевством управляли тогда интенданты, нередко
проявлявшие недюжинные способности (таким был в особенности интендант
Оверни, память о котором сохраняется в этой провинции до сих пор) и
обладавшие широкими полномочиями. Поскольку суверен редко путешествовал
по стране, разве что перемещаясь из одной своей резиденции в другую —
исключение составляли приезды в армию, воевавшую то на Севере, то на
Востоке, — людям редко предоставлялся случай его лицезреть. Поэтому при
виде интенданта, личного представителя суверена в провинции, они
испытывали точно такое же волнение, как при виде самого короля, и
переносили на этого представителя свои чувства по отношению к государю,
выказывая необычную робость.
Часто во время наших местных манифестаций я задаю себе вопрос:
известно ли их участникам, проявляющим энтузиазм и преданность властям,
каково происхождение их поведения.
Долгое время меня удивляло также и то значение, которое придается
решениям Государственного совета. То, что этот орган — последняя инстанция
для разрешения споров между частными лицами и государством, мне
представлялось естественным. Но как понимать тот факт, что в случаях, когда
правительство принимало постановления нормативного характера (décrets-lois),
как это часто происходило в последние годы Четвертой республики, эти акты
могли обретать силу «только после заключения Государственного совета»?
Такие заключения имеют различные формы, в зависимости от случая.
Каковы же истоки легитимности этого органа, которую никто не ставит под
сомнение? Я обратился к Конституции 1958 года, но не нашел в ней никакого
упоминания о Государственном совете. Ничего не говорится о его месте в
государственном устройстве, в отличие от двух палат парламента,
Экономического и социального совета, Конституци34
онного совета. О роли рассматриваемого учреждения упоминают лишь
две статьи Конституции, в них уточняется, что Совет министров может
принимать проекты законов только «после заключения Государственного
совета»1. Члены его не избираются, а отбираются по конкурсу. Они носят
звания, значение которых для граждан непонятно: аудитор, докладчик. Когда же
эти лица достигают верхних ступеней иерархии, они получают внушительное
звание государственного советника.
Перечитывая труды, посвященные дореволюционному политическому
устройству Франции, я обнаружил, что весь механизм Государственного совета
с его ритуалом и званиями перешел к нам непосредственно из последних
десятилетий XVII и XVIII веков. Перед нами почти полностью уцелевший
остаток системы советов в том виде, в каком она действовала при Старом
порядке, опутывая монарха сетью юридических и административных
ограничений. С тех времен сохранилось и звание докладчика2.
Этот самый Государственный совет пережил Революцию, мы вновь
видим его в числе четырех наполеоновских учреждений, предусмотренных
Конституцией 1799 года. На Государственный совет возлагалась задача
«представлять закон законодательному корпусу и защищать его там от имени
правительства». Поскольку Бонапарт все более и более ограничивал роль
законодательного корпуса, делая из него безгласного наблюдателя,
Государственный совет стал единственным учреждением, имевшим право
принимать решения. Первый консул, превратившийся в императора, тщательно
отбирал всех его членов, он любил приходить в Совет, чтобы лично участвовать
в прениях; прибытие Бонапарта возвещалось барабанной дробью.
Государственный совет собирался в каком-нибудь императорском
дворце, то в Тюильри, то в Сен-Клу. Императорское кресло водружалось на
возвышение у одной из стен. Наполеон в своих выступлениях мог далеко
отступить от повестки дня заседания, и поэтому они становились все длиннее,
случалось, что Совет работал с девяти часов утра до пяти вечера, с перерывом
на 15 минут. Император удобно устраивался в своем кресле, иногда
подкладывая под себя левую ногу, и часто при закрытии заседания выглядел
таким же бодрым, как при его открытии.
Плохо приходилось тому, кто приезжал уже после начала заседания!
Дверь зала закрывалась на засов, и никому, будь то князь или простой
подданный, не позволялось туда войти без особого разрешения Наполеона.
Забавно, что генерал де Голль установил такой же порядок
1 В данной ст. 38 Конституции речь идет об ордонансах — актах правительства, принимаемых
им в порядке делегированного законодательства.
2 Государственный (королевский) совет в дореволюционную эпоху являлся одновременно и
высшей судебной инстанцией, и верховным административным судом, и советом правительства.
Он представлял собой систему «специализированных» советов. Этот институт был упразднен в
1791 г.
35
в Совете министров, заседания которого начинались с военной
точностью. Вспоминаю, с каким неодобрением он посмотрел на Эдгара Пизани,
министра сельского хозяйства, явившегося с опозданием и пытавшегося
объяснить его приступом гриппа. Де Голль молча выслушал извинения
министра, кивком головы пригласив занять свое место.
Расскажу между прочим о поведении Наполеона на этих заседаниях: оно
было удивительным. Как вспоминает очевидец, когда Наполеон
председательствовал на них, дела почти не двигались, «ибо порой он впадал в
крайнюю мечтательность, и тогда обсуждение шло вхолостую, либо же
пускался в политические рассуждения, далекие от рассматриваемого вопроса.
Эти рассуждения были весьма интересными, так как передавали или его
состояние души, или же разъясняли его политику и проекты»1.
И в этом аспекте поучительно сравнить поведение Наполеона и де Голля.
Последний приглашал некоторых своих министров, в том числе министра
финансов, на еженедельные беседы; в ходе такой беседы он сначала проявлял
интерес к вопросу, по которому только что выслушал доклад, но затем, через
какие-нибудь полчаса, пускался в рассуждения на совершенно другие темы.
Создавалось впечатление, что ему нравилось проверять убедительность своих
доводов и точность анализа на маленькой аудитории, используемой как модель
общественного мнения.
Если вернуться к Государственному совету, то в XIX веке он стал
краеугольным камнем централизованного государства, а с 15 сентября 1870 года
был упразднен республиканским правительством. В феврале 1875 года
Национальное собрание, в котором монархисты составляли большинство,
восстановило это учреждение, доверив президенту Республики право назначать
его членов.
И в другой области целый пласт наших институций и привычек также
сложился в дореволюционные времена. Речь идет о правосудии. Многие люди
искренне верят, что наше правосудие в современной его форме есть целиком
творение Наполеона, организовавшего работу по составлению Гражданского
кодекса с помощью комитета Порталиса2, что принципы этого правосудия
восходят таким образом к 1800-м годам.
1 Приводится цитата из книги «Мнения Наполеона о различных политических и
административных вопросах, собранных членом его Государственного совета», опубликованной
бароном Пелет де ла Лозэром (Opinion de Napoléon, sur divers sujets de politique et
d'administranon, recueillis par un membre de son Conseil d'Etat/Ed. Pelet (de la Lozère). P., 1833). —
Примеч. авт.
2 Французский юрист Жан Порталис (1742—1807) был одним из редакторов свода гражданских
законов, изданного в 1804 г. и получившего позднее название «Кодекс Наполеона».
36
На самом же деле Наполеона в значительной степени вдохновила
реформаторская деятельность канцлера д'Агессо, обеспечившего в период
между 1727 и 1750 годами переход французской судебной системы от ее
феодальной формы, которую отличали множественность судебных учреждений
и практика продажи судейских должностей, к организации более рациональной
и менее обременительной для участников судебного процесса. И не было бы
преувеличенным утверждение, что замечательный труд Наполеона во многих
отношениях являлся лишь продолжением дела, начатого д'Агессо1.
И еще один пример из той же самой области: Кассационный суд, высший
орган французского правосудия, вплоть до 1947 года применял процессуальный
регламент, разработанный д'Агессо.
Это присутствие прошлого мы снова обнаруживаем в том политическом
словаре, к которому прибегают наши современники, говоря о государстве,
Республике, демократии.
Использование слова «государство»2 парадоксальным образом есть
пережиток Старого порядка. Понятие «государственный расчет»3 вошло в
оборот при Ришелье, и всем знакома фраза, брошенная юным Людовиком XIV,
который провозгласил: «Государство это я!»4. Таким образом, когда наши
молодые претенденты на посты в государственной администрации заявляют,
что их привлекает «служение государству»5, они пользуются семантикой
дореволюционных времен, которую у них позаимствовала империя.
То же самое можно сказать о слове «республиканец»; оно вплоть до
наших дней сохранило толкование, идущее от противного: этим словом
обозначают тех, кто выступает против предполагаемых врагов Республики.
Таким образом, мы видим, что лексика, отражающая нашу ментальность,
остается пассеистской, связанной с историческими конфликтами, оставшимися
в прошлом. В отличие от того, как дело обстояло во времена Революции, эта
лексика чужда новым веяньям и не увлекает в будущее.
1 Д'Агессо скончался в 1750 г. в восьмидесятилетнем возрасте, он оставил завещание, в котором
велел положить свое тело в могилу для бедняков. Это распоряжение вызвало такой скандал, что
Людовик XV просил семью канцлера похоронить его прах на кладбище в Отее под Парижем и
приказал поставить на могиле Агессо пирамиду из порфира. — Примеч. авт.
2 État.
3 Raison d'État (от лат. ratio status).
4 «L'État, c'est moi!»
5 Le service de l'État. Французское État происходит от латинского термина status — положение,
состояние. Для обозначения государства как отличной от общества структуры термин Etat стали
использовать с XV в. благодаря трудам Н. Макиавелли.
37
Успех студенческого движения в мае 1968 года частично объясняется
именно тем, что оно обновило язык, сделав немало блестящих изобретений:
властвовало воображение.
Вот почему я попытался описывать свои политические устремления в
обновленных понятиях: «продвинутый» либерализм, «ослабление остроты»
(décrispation).
***
Приводя все эти примеры, я добиваюсь лишь одного: чтобы читатель
согласился с тем, что та действительность, в которой живут французы, не
соответствует чаяниям сторонников политики tabula rasa. Искоренить прежние
структуры ради их замены новыми, имеющими единственный источник —
критический рационализм, в полной мере во Франции не удалось; во всяком
случае, именно этим объясняется то чувство постоянной неудовлетворенности,
которое испытывала на протяжении XIX века та часть населения, которая все
это время ожидала установления радикально перестроенного общества.
Без сомнения, именно здесь находится причина тех испорченных,
конфликтных отношений, которые сложились у французов со своей историей
или, говоря проще, со своим прошлым.
И здесь же, как мне кажется, находится источник многочисленных
политических потрясений, пережитых Францией в XIX веке (две империи, две
монархии и две республики) и не прекратившихся вплоть до наших дней, когда
формы республики изменялись еще два раза. Эти потрясения — результат все
продолжающихся столкновений двух лагерей, вернее двух типов восприятия
среди французов: с одной стороны, это те, кто следует идеям рационализма,
унаследованного от века Просвещения, этих людей выводит из себя
констатация того факта, что состояние tabula rasa все еще не достигнуто, и они
снова и снова пытаются, если можно так выразиться, делать новые заходы;
другой лагерь объединяет людей, верящих в то, что существующие
политические и социальные структуры формируются временем, что происходит
непрерывное обновление всего живого, и эти люди пытаются приспособлять
имеющиеся в наличии институты к требованиям современности.
Наконец, я полагаю, что упорство, проявляемое в этом столкновении,
косвенным образом объясняет ту снисходительность, с которой французское
общественное мнение относится к ситуации сосуществования президента
Республики, выдвинутого одним лагерем, и правительства, избранного
представителями противоположного направления. Это отношение выглядит тем
более парадоксальным, что подобное сосуществование практиковалось три раза
в течение четырнадцати последних лет и явно противоречит духу наших
учреждений, к кото38
рым французы, по их заверениям, вообще-то привязаны, а также
требованиям политической эффективности, о которых наши соотечественники
не перестают говорить. Быть может, французское общественное мнение видит в
этом сосуществовании тонкий инструмент для того, чтобы начать сращивание
двух частей Франции.
***
Сторонники и сочувствующие «выскабливанию доски» яростно
противостоят тем, кто желает совершенствовать существующий порядок, их
антагонизм продолжает и сегодня придавать особо острый характер разделению
на левых и правых во Франции. Между двумя этими течениями пролегла
историческая пропасть, и это важно понять, хотя сегодня указанное
размежевание сохраняется лишь в нашем политическом подсознании.
Кроме Франции, такого нет нигде, ни в Европе, ни в Америке. В других
странах различие между правыми и левыми обусловлено идеологическими
предпочтениями, различными подходами к экономическим и социальным
проблемам, а иногда — традиционными позициями вполне определенных групп
населения, однако указанное различие никоим образом не ставит под вопрос
существование политического «режима». Подобной ситуации нет ни в
Великобритании, где дискуссии на эту тему носят слегка анекдотический
характер (исключение составила, может быть, та буря страстей, которую
вызвала гибель принцессы Дианы), ни в Германии, где никогда предметом
споров не становились институциональные формы, хотя ее Конституция
принята в недавние времена и обильно насыщена концепциями, внедренными
оккупационными державами.
По-другому обстоит дело во Франции, где разрыв между правыми и
левыми в культурном плане сохраняет привкус столкновения между
сторонниками Республики и ее более или менее скрытыми противниками.
Подобное восприятие придает спорам практически непримиримый характер,
как если бы их участники принадлежали к двум несовместимым друг с другом
сообществам. Определения «правые» и «левые» воспринимаются не как
варианты одной и той же позиции, но, напротив, содержат в себе мощный
потенциал отторжения и разрыва.
Это положение представляется тем более странным потому, что от
Французской революции, явившейся для нашей страны мучительной формой
перехода от феодальной к демократической эре, нас отделяют более чем два
века, а последняя попытка установить конституционную монархию, попытка, в
общем, довольно завуалированная, имела место в 1870-е годы, то есть сто
тридцать лет тому назад.
Современный политический язык сохраняет следы описанного выше
отторжения. Когда Жак Ширак говорит о применении «республиканского
закона» или взывает к «республиканским принципам»,
39
тогда как достаточно было бы использовать формулировку «применить
закон» и обратиться к «демократическим принципам», то он сознательно или
бессознательно подтверждает свою левизну, возрождая спор, сегодня уже
беспредметный, спор о форме режима.
Семантика, то есть учение о значениях слов, является увлекательным
занятием. Если бы мы согласились помолчать и прислушаться к еле слышному
эху произносимых слов — посланию, полученному из давних времен, то
поняли: признавая что-то хорошее в качестве «республиканского», мы этим не
столько одобряем республиканскую форму государственного устройства,
сколько причисляем себя к тем, кто сражается с врагами Республики.
Порой, когда неподкупный Лионель Жоспен, вызывающий у всех
глубокое уважение сдержанностью, которую проявляет на посту премьерминистра, частично утрачивает ее под влиянием усталости, в его речах
начинают причудливо проступать культурные слои прошлого. Он обрушивается
на правых, на избранников как-никак половины Франции, так, словно на них попрежнему лежит клеймо антидрейфусарства и попустительства рабству. От
этого краткого экскурса в историю захватывает дух! Оратор пытается опереться
на свидетельство Леона Гамбетты, хотя тот умер от револьверной раны,
полученной во время спора с Леони Леон1, за двенадцать с лишним лет до
начала дела Дрейфуса. И обходит молчанием тот факт, что либералы в Палате
депутатов решили в годы Июльской монархии2 создать комиссию, которая
высказалась за отмену рабства на Антильских островах, и оно было упразднено
несколько лет спустя, при Второй республике3.
Слушая обличения Лионеля Жоспена, я пытался представить себе, как он
видит депутатов нашей половины амфитеатра. В тумане усталости и
раздражения мы, несомненно, казались ему эдакими карикатурными
персонажами в духе Домье, вялыми, дряблыми, дрожащими за свои кресла,
готовыми, по возможности незаметно, примириться с завуалированным
рабством в антильских департаментах и подозревать в шпионаже любого
кадрового офицера, если в его жилах течет хотя бы капля еврейской крови!
Эти выбросы на поверхность непримиримых противоречий прошлого
свидетельствуют о том, что политическая жизнь Франции все еще поражена
«недугом», который описал Бёрк, что стычки между упрямцами из арьергардов
Истории все еще продолжаются.
1 Леон Гамбетта (1838-1882) случайно выстрелил себе в руку, рана вызвала воспаление,
оказавшееся фатальным. Дело Дрейфуса возникло в 1894 г.
2 Июльская монархия просуществовала с 1830 по 1848 г.
3 То есть в 1848-1852 гг.
40
Можно было бы улыбнуться, размышляя о практическом значении этих
споров. Они имели смысл тогда, когда шли поиски форм перехода от
феодализма к эре демократического устройства общества, а также тогда, когда
оно только что вступало в индустриальный период. Но сегодня каждый
осознает, что в наших отличающихся сложностью постиндустриальных
обществах,
оснащенных
инструментами
социальной
защиты
и
перераспределения доходов, искушение «выскоблить доску» возникает совсем
не от соприкосновения с действительностью. Тем, кто в 1981 году предъявил
такую претензию, пришлось вскоре с жалким видом повернуть назад.
Если я подчеркиваю упорный характер этого спора, то потому, что он
препятствует прогрессу Франции, а его негативные последствия способствуют
политическому упадку нашей страны. Это происходит двояким способом.
Прежде всего этот спор лишает Францию значительной части богатств ее
неделимого исторического прошлого. Французы были бы в гораздо большем
ладу сами с собой, чувствовали бы гораздо большую уверенность в себе,
вступая в контакты с внешним миром, если бы ощущали у себя за спиной
общую для них всех древнюю и яркую историю, уникальную по богатству
событий, лиц и памятников.
Кроме того, бесконечное продолжение этого спора приводит к
сохранению раскола в обществе, причем раскола настоящего, глубокого, а не
трещины на поверхности, и приносящего Франции большой ущерб. Этот раскол
носит непримиримый характер, который сводит на нет все возможности
совместного труда, является источником взаимной враждебности, а то и
агрессии членов общества по отношению друг к другу. Кому из нас не
доводилось хоть раз в жизни испытать чувство, что тебя отторгают, так как
сочли сторонником противоположного политического лагеря.
Этот разрыв раздражает умы тем сильнее потому, что имеет, так сказать,
теоретический характер, ибо перестал соответствовать реальной жизни.
Французы уже давно обобществили две трети национальных богатств:
системы
просвещения,
профессиональной
подготовки,
пенсионного
обеспечения (срок ухода на пенсию определяется психологическим путем). Так
что линию конфронтации между сторонниками tabula rasa и приверженцами
наращивания социальных достижений отыскать практически невозможно.
Сегодня Бёрку не было бы необходимости браться за перо, чтобы
доказать необходимость учета политических и социальных реальностей для
успешной эволюции нашего общества. Сторонники «завоеванных прав»
покинули лагерь адептов tabula rasa. Ход событий, похоже, приближает момент
исчезновения самой субстанции спора, который
41
усугубил политический упадок Франции своей дьявольской
разъединяющей силой. Для достижения этой цели нужны усилия, во-первых,
образовательной системы, чтобы помочь молодежи обрести историческую
память, которая способна вновь объединить людей и избавить их от
ожесточения, а во-вторых, информационного сообщества, от которого добиться
помощи будет гораздо труднее, ибо его членам придется отказаться от
привычных тем и риторики, избавляющих от тяжелой работы — задаваться
вопросами о нашем будущем.
Пыл, отличающий политические споры во Франции, объясняется, быть
может, некой чертой национального характера — обыкновением придавать
таким спорам почти религиозный характер, религиозный в том смысле, что от
политики французы ждут того, что люди, как правило, ищут в религии:
всеобъемлющую концепцию мира и четкое определение своего места в нем.
Эта общность в подходе к политике и религии, существующая во
Франции, приводит к тому, что в поведении людей курьезным образом
проявляются сходные черты — догматичность, фанатичность, нетерпимость,
стремление к отлучению инакомыслящих. Не думаю, чтобы в других странах, за
исключением периодов открытой борьбы за власть, политические споры
сопровождались бы таким накалом страстей и обострением нетерпимости, какие
мы видим вокруг себя.
Где корни такого поведения? Вспоминаю разговор на эту тему с послом,
одним из самых блестящих наших дипломатов. Мы сидели в аэропорту Пекина,
ожидая моего рейса на Париж.
«Потребность в глобальном видении мира, — говорил дипломат, —
закрепилась в наших умах еще со времен Сугерия1 и святого Бернарда2. Она
послужила основой для создания франкского государства, которое начинало
возводиться силами молодых клириков, выходцев из галло-романской Франции,
и великих аббатств. Этот труд не прекращался в течение всех восьми веков
монархии, и благодаря ему в наших душах поселилось понимание добра и зла,
вернее умение различать хорошее и дурное, понимание того, что политический
и социальный порядок создан по воле Провидения, сознание того, что земная
жизнь заканчивается уходом в мир иной.
Этот догматизм получил новую окраску вследствие Революции. Заменяя
старый порядок новым, необходимо было обновить концепцию человека и
придать ей всеобъемлющий характер. Именно этим задачам были посвящены
творческие усилия философов Просвещения и Жан-Жака Руссо.
1 Сугерий (ок. 1081—1151) — видный религиозный и государственный деятель, был аббатом
Сен-Дени, королевским советником и регентом.
2 Святой Бернард Клервосский (1090—1153) — известный католический теолог, являлся
настоятелем монастыря в Клерво.
42
Весь остальной мир признателен нам за эти усилия, ведь мы попытались
придать нашему посланию свободы общечеловеческое звучание. "Франция
заключила пакт со свободой мира", — заявлял генерал де Голль.
Впрочем, склонность к догматизму, — продолжал мой собеседник, —
даже в современную эпоху толкает нас к некоторым сомнительным
инициативам. Например, именно Франция в последние годы попыталась
теоретически обосновать право на вмешательство в различного рода
конфликты».
Слушая моего собеседника, я говорил себе, что он сумел затронуть такие
наболевшие вопросы, которых я до сих пор не касался. Действительно,
концепция человека является привычным предметом наших споров; и она
приобретает политический смысл даже если внешне это не проявляется. Именно
данное обстоятельство придает — иногда! — интерес нашим политическим
спорам, одновременно превращая их в острые схватки, в ожесточенные
столкновения по фундаментальной проблеме. И на взаимные уступки здесь не
идут! На улицах наших городков и деревень давние соседи отказываются
здороваться друг с другом, если их убеждения не совпадают. При встрече с
чертом шапки не снимают, но ее не снимают и завидев святого отца.
Для отношений этих двух групп характерен структурный антагонизм, в
силу того что каждая из них по-своему определяет место человека в мире.
Французы, представляющие католическую культуру, соблюдающие или
не соблюдающие церковные обряды, усматривают связь между Градом Божиим
и градом земным. Всякое действие, грозящее разрушить эту гармонию,
оценивается как бесовское.
Сначала для протестантов, а затем для умов, обратившихся к философии
Просвещения, вслед за сомнением в вопросе об источниках политической и
религиозной власти обязательно должно следовать преобразование условий
человеческого существования. К слову необходимо некоторым образом
добавить дело!
В этом смысле наша образовательная система, плод применения второй
концепции, в основном по своим рефлексам остается либеральной: ей
необходимо защищать «слабых» против «сильных» и оберегать свободу от
власти.
Таким образом, ожесточенность французских политических споров
объясняется тем, что в них сталкиваются две глобальные концепции человека,
две «религии» человека.
Сталкиваются или сталкивались?
Рассуждения посла были весьма справедливы, они объясняли многое в
нашем поведении, но сохраняют ли они полностью свою актуальность и теперь?
43
Но к нам уже приближался китайский дипломат из протокольного
отдела, в ярко-голубом костюме. Он шел вдоль ряда кресел, обитых красным
плюшем, чтобы объявить о скорой посадке на самолет.
В моей голове кружил вихрь мыслей, поднятый нашим разговором.
Я хотел было сосредоточиться, разобраться в них, но сделать это в шуме
голосов и мелькании лиц, вызванных приближавшимся отлетом, было
невозможно. Как могло случиться, что я, человек, получивший весьма типичные
образование и воспитание, не ощущаю эти концептуальные столкновения
частью моего видения окружающего мира? Мне скорее кажется, что эти четкие,
слишком четкие позиции свойственны верованиям и ритуалам, характерным для
длительного переходного периода, начавшегося вместе с религиозными
войнами и завершающегося крахом коммунистической идеологии — длинной
насыпи времен, начинающейся задолго до Французской революции и давно
оставившей ее позади. Но, может быть, моему суждению далеко до истины
потому, что оно сделано на основе ложно истолкованных мной фактов? Я не
желаю принимать участие в тех фанатичных попытках объяснить все и вся
упрощенным образом, которые надолго окрасили французские политические
споры. Научная подготовка, полученная мной в процессе образования, очень
быстро показала мне пределы моих знаний. Как мне кажется, в наше время пора
уже переходить к концепциям более умеренным, выдержанным в
конфуцианском духе (не беседа ли в пекинском аэропорту подтолкнула меня к
этим мыслям?), тем, которые подсказывает мудрость жизни, ее
умиротворяющее равновесие на нашей планете, пора перестать загонять себя в
тупик поисками догматичного определения нашего места в мире.
Видя мою задумчивость, посол добавил еще один аргумент:
«Читали ли вы опубликованную тридцать лет назад в Гарварде под
редакцией Стенли Хоффмана работу под названием "В поисках Франции"? 1 Она
составлена из статей, написанных историками и социологами. Одна из статей —
ее написала, кажется, Джефф Р. Питтс — заканчивалась следующим выводом:
"Модель французского общества — это шумная возня. Французы собираются и
объединяются друг с другом только против власти! Такую возню они
поднимают в исключительных
Цит. по: A la recherche de la France. P.: Editions du Seuil, 1963. В замечательной главе этого
труда, подготовленной Лоренс Вайли, анализируется сопротивление французского общества
переменам. Автор какое-то время по очереди жила в двух деревнях: для первой из них — Шанзо
в Вандее — характерна католическая культура, для второй — Руссийон в Воклюзе — светская и
1
«республиканская» традиция. «Поскольку я хорошо знаю обе эти деревни, — пишет
исследовательница, — мне известно, как много у них общего. Я вижу всю смехотворность их
взаимного отталкивания, обусловленного наличием в каждой деревне своего ряда символов и
поведением ее представителей в Париже. Нет ничего, чтобы реально сталкивало бы жителей
Шанзо и жителей Руссийона, их продолжают разделять лишь унаследованные ими символы».
Именно этот тезис я и защищаю в своей книге. — Примеч. авт.
44
случаях, все это время за видимостью беспорядка идет скрытое
обновление "религиозного" чувства, всего строя эмоций, необходимых для того,
чтобы по-новому сформулировать коллективные ценности и социальный
пакт"».
Я чувствую, что разговор переходит на события майских дней 1968 года,
которыми генерал де Голль был совершенно выбит из колеи, ибо без него
обошлись и как бы забыли его в президентском дворце. Но самолет не станет
ждать ни минуты! И я увожу с собой мой последний довод — веру в то, что в
основе образа действий французов, иногда неведомо для нас самих, лежит
разум, давно ставший частью нашей души, перешедший к нам от древних
греков, которые и запустили этот маятник, вечно колеблющийся между
страстью и рассудком; это наследие продолжает упрямо существовать,
заливаемое сверху все новыми раскаленными потоками лавы политических
споров. Вспоминаю попытку Гастона Берже1 изобрести новый лозунг для
Франции: «Культура, качество, свобода!» Я бы дополнил этот лозунг словом
«прогресс», чтобы выразить желание всех французов видеть наше общество
устремленным вперед.
И вот мой самолет оторвался от земли. Он летит над равниной, чья
свежая, чистая зелень освещена косыми лучами солнца и на которую благодаря
этому ложатся полупрозрачные тени; на севере эту равнину обрамляют желтокрасные горные цепи, они будут сменять друг друга до самой Монголии.
Итак, в самолете, по салону которого гуляют легкие сквознячки, я
возвращаюсь в страну, чьей моделью является возня, и, одновременно, это та
страна, где самыми глубокими побуждениями движет разум, где продолжается
неутомимый поиск гармонии, совместимой с таким культурным, политическим
и социальным разнообразием, какое только можно себе представить.
СБЛИЗИТЬ ДВЕ ФРАНЦИИ
Во время своего президентства я особенно ясно осознал тот вред,
который причиняет Франции этот все продолжающийся раскол. Но, говоря
откровенно, я мало, слишком мало, размышлял о его исторических корнях и
довольно смутно понимал его природу.
Однако и того, что я знал, оказалось вполне достаточно, чтобы у меня
возникло желание начать наступление на это зло, на этот политический
антагонизм, постоянно восстанавливающий одних французов против других.
Чтобы обозначить направленность этого наступления,
1 Гастон Берже (1896—1960) — автор философских трудов, предприниматель, руководил в
1955—1960 гг. системой высшего образования во Франции. С ним связаны первые попытки
реформировать университеты.
45
я предложил бы употребить слова «ослабление остроты» (décrispation),
означающие, что поведение людей изменилось.
В качестве министра финансов мне часто доводилось принимать участие
в международных встречах и для этого летать в Вашингтон. Я был поражен
неприятной особенностью поведения политиков-французов, их почти полной
неспособностью устанавливать непринужденные и доверительные отношения
между деятелями правого и левого толка, хотя такие отношения внутри других
делегаций западных стран налажены. Пытаясь исправить положение, я стал
приглашать руководителей противоположного лагеря в Елисейский дворец,
оставленный ими по своей или против своей воли восемнадцать лет назад. Они
откликнулись на мои приглашения, но осторожно и нерешительно. Я начал с
того, что в апреле 1978 года попросил их высказаться относительно тех уроков,
которые всем нам необходимо извлечь из последних парламентских выборов; а
в мае попросил этих деятелей сообщить свое мнение относительно тех
инициатив, с которыми Франция могла бы выступить на Конференции ООН по
разоружению. Я решил участвовать в этой конференции, порвав с прежней
традицией, мешавшей делу поиска путей прогресса в области разоружения и не
соответствовавшей неизменному вкладу Франции в политику мира.
Жорж Марше отклонил приглашение, полагая, что речь идет о
«бесполезной болтовне». Франсуа Миттеран согласился приехать в Елисейский
дворец, в котором он не появлялся ни разу во времена моих предшественников.
Я принял его в Адъютантском зале, расположенном на первом этаже, белозолотистые панели салона блестели под весенними лучами солнца. Миттеран
просил, чтобы его сопровождал помощник, специалист по международным
вопросам Лионель Жоспен, так как опасался, что нашу беседу тет-а-тет могли
неверно истолковать. В то время Лионель Жоспен выглядел совсем молодым и
походил на старательного студента. Его глаза с расширенными зрачками
удивленно глядели сквозь очки в металлической оправе, словно он чувствовал
себя потерянным в этой довольно непривычной обстановке. Из копны
всклокоченных соломенных волос торчали отдельные упрямые завитушки.
Рисковать и сравнивать эту прическу с чем-нибудь я, пожалуй, не буду!
Мне в этой беседе помогал мой дипломатический советник Габриель
Робен, человек тонкого и острого ума; материалы для Конференции ООН, на
которую он должен был меня сопровождать, мы готовили вместе. Дискуссия
прошла очень сдержанно, на нее наложило отпечаток явное нежелание
Миттерана углубляться в предмет, не слишком ему знакомый и последствия
своих высказываний по которому он не мог точно просчитать. Но в конце
концов лед тронулся.
Позднее, за три недели до своей кончины, Франсуа Миттеран расскажет
мне, что в свое время у него была лишь одна личная встреча
46
с генералом де Голлем и ни одной — с Жоржем Помпиду, хотя все они,
один за другим, являлись президентами Республики. Этот пример показывает,
насколько напряженной, разлаженной была система отношений во французских
политических кругах.
Изменения пошли быстрее в мае 1980 года, когда состоялся первый
визит во Францию Папы Иоанна Павла П. Я пригласил в Елисейский дворец
всех крупнейших руководителей парламентского большинства и оппозиции.
Они прибыли в полном составе, и каждый стремился попасть в первый ряд.
Жоржа Марше сопровождала супруга. Франсуа Миттеран и Жак Ширак вновь
оказались рядом. Конечно, особый привкус происходившему придавала
близость президентских выборов, которые должны были состояться менее чем
через год, и необходимость привлечения на свою сторону католического
электората.
Папа сказал что-то личное каждому участнику этой большой
республиканской мессы. Жара была удушающей. Через окна праздничного зала,
которые пришлось растворить, чтобы было не так душно, слышался шум
огромной толпы, заполнившей Елисейские поля от площади Звезды до площади
Согласия.
Этот сдвиг к лучшему затронул лишь форму, скажете вы. Разумеется, но
он был признаком того, что тон политического противостояния меняется и что
впервые открылась возможность сделать его не таким напряженным и в
подходящий момент наладить мирное чередование у руля правления деятелей
левого и правого толка; представлялось, что оно придет на смену пресловутому
«хаосу», на который до сих пор привычно ссылались политические
руководители.
***
Я подумывал также о проведении символических акций с целью сделать
историю Франции ближе нашим современникам. Какой-то остаток
осмотрительности или проблеск здравого смысла, не знаю что именно,
помешали мне это осуществить, ибо задуманные инициативы обрушили бы на
мою голову бурю возмущения и сарказмов со стороны средств массовой
информации.
Вот в чем заключалась идея, которую я обдумывал как-то вечером,
ложась спать в своей комнате Елисейского дворца: не предложить ли графу
Парижскому, наследнику Орлеанского дома, встретить меня у золотистоголубой двери Версальского дворца, чтобы вместе пройти по этому
знаменитому памятнику Великого века, забыв, что граф высказывался в пользу
моего конкурента на выборах, Франсуа Миттерана. А через какой-то
промежуток времени можно было бы попросить принца Наполеона, преемника
Бонапарта, сопровождать меня при посещении Мальмезона, резиденции
Первого консула, что принц, насколько я знаю, сделал бы весьма охотно. А
затем посетить Ноле в
47
Бургундии, где прекрасно сохранился дом, в котором родился Лазар
Карно, «большой» Карно, организатор побед революционных армий. Это
историческое паломничество можно было бы завершить в Лотарингии на реке
Мёз посещением того, построенного Раймоном Пуанкаре прочного дома, в
котором он любил уединяться.
Я избежал бури критических выступлений и потока насмешливых
песенок, отказавшись от своего проекта, но невозможность подобного шага во
Франции заставила меня вновь вспомнить о трещине, расколовшей нашу
страну.
АБСОЛЮТИЗМ ВЛАСТИ
Мне пришло в голову, что ради смягчения конфликта сторонников tabula
rasa с защитниками постепенной эволюции Франции необходимо установить
между ними равновесие, чтобы исключить злоупотребление властью со
стороны одних и ощущение отверженности, внутренней ссылки — у других.
Отсюда две мои инициативы, имевшие целью умерить крайности
властвования.
Первая инициатива была изложена в послании парламенту, которое в
соответствии с принятым порядком зачитал председатель Национального
собрания Эдгар Фор 30 мая 1974 года. Такое стечение обстоятельств
взволновало меня, ибо именно при Эдгаре Форе я получил первые уроки
государственной деятельности. Это было в те дни, когда он пригласил меня,
тогда молодого инспектора Министерства финансов, на работу к себе в кабинет
государственного секретаря по бюджету. Таким образом, учителю пришлось
зачитывать сочинение своего ученика!
В своем послании я предложил Национальному собранию проводить
еженедельное обсуждение актуальных вопросов, в ходе которого большинство
и оппозиция располагали бы равным временем для выступлений и где
обязательно должны были присутствовать премьер-министр и члены
правительства. Сразу же после начала парламентской сессии Национальное
собрание изменило свой регламент, включив в него предложенные мной
заседания, ставшие теперь традиционными и привычными для телезрителей.
Затем, чтобы исключить злоупотребление властью со стороны
большинства, старающегося навязать свою волю оппозиции в законодательной
области, я предложил следующее: шестидесяти депутатам или шестидесяти
сенаторам, которые, очевидно, в большинстве своем будут представлять
оппозицию, дается право обращаться в Конституционный совет с запросами
относительно любого документа, противоречащего, по их мнению,
Конституции. Этим правом очень часто пользовались потом как правые, так и
левые при сменявшихся составах парламентского большинства. Оно помогло
несколько циви48
лизовать политические дебаты, закрепив те границы, которые нельзя
нарушать, и давая возможность меньшинству не замыкаться в молчаливом
возмущении при виде крайностей, жертвой которых оно себя считает.
Но эти меры являлись лишь вехами на пути. Для дальнейшего успешного
продвижения недостаточно было уменьшить накал антагонизма или
восстановить равновесие между сегодняшними противниками. Следовало
глубже изучить те обстоятельства, по вине которых страна, населенная
разумными, терпимыми и жизнерадостными людьми, оказалась втянутой в этот
отчаянный спор между теми, кто хотел бы изменить все, и теми, кто не сумел
провести задуманных реформ.
49
Глава 3
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, ИЛИ ФРАНЦИЯ - ЦЕНТР
МИРА?
Я совершенно ничего не знал о стране,
называемой
Францией
(иногда
мне
доводилось слышать имя Наполеона из уст
моего отца, вот и все).
Дэ Сижи, китайский писатель
Является ли Франция с политической точки зрения центром мира?
Большинство французов в это верит. Многие из наших политических
руководителей потакают этой иллюзии. Подобные действия приводят
французов к ложным, далеким от объективных, представлениям об их
отношениях с остальным миром, порождающим, с одной стороны,
высокомерие, в котором нас часто упрекают, а с другой — разочарование, когда
обнаруживается, что действительность совершенно не соответствует нашим
ожиданиям.
Еще одна страна в течение долгого времени рассматривала себя как
центр мира — Древний Китай. Точный перевод иероглифа, которым в
китайской письменности она обозначается, — «срединное место». Иероглиф
рисуют в два приема: сначала чертится трапеция, обозначающая мир, затем
проводят вертикальную линию, разрезающую эту трапецию на две части и
выражающую центральное положение Китая:
Думаю, представление китайцев о своей стране как о центре мира
объясняется тремя обстоятельствами: многочисленностью ее населения,
избавлявшей от страха перед другими народами; тем, что границы Китая
проходили исключительно по морям, пустыням и непроходимым горам,
поэтому временами можно было забывать о существовании соседей, которых
почитали за варваров; наконец, превосходством китайской цивилизации,
питавшим убеждение жителей этой страны в том, что им нечего заимствовать у
остального мира.
Хотя и Франция и Китай воспринимали свое место в мире как
центральное, заходить слишком далеко в поисках аналогий между этими
оценками не стоит в силу очевидного различия ситуаций в данных странах.
Однако в положении Франции XVIII и XIX веков можно обнаружить некоторые
аспекты, сходные с китайскими.
Прежде всего речь идет о демографическом превосходстве Франции над
остальной Европой, сохранявшемся вплоть до середины XIX века.
50
Заметим далее, что три стороны шестиугольника французской
территории составляют моря или океаны, а полторы стороны — высокие горы.
На соседние страны Франция выходит прямо лишь одной своей стороной —
северо-восточной. Это положение не то чтобы делало французов полностью
равнодушными к своим соседям, но развивало у них чувство неразрывности со
своей землей благодаря длительному пребыванию «в своих границах», точнее,
«у себя дома». Общеизвестно, что границы Франции практически не менялись
за последние три с половиной века; исключение составили периоды отторжения
Эльзаса и Лотарингии (1870—1918 гг.), а также присоединения Корсики (1764
г.), Савойи и графства Ниццы при Второй империи, когда была узаконена
близость, существовавшая с давних пор.
Однако это чувство «центральности», которое и теперь ощущают
французы и которое настойчиво заставляет их вспоминать о тех временах, когда
они вызывали интерес и восхищение остального мира, больше всего питает
третье из упомянутых выше обстоятельств. Я имею в виду продолжавшуюся
почти три столетия — семнадцатое, восемнадцатое и девятнадцатое — эпоху
блестящего расцвета и подлинного господства французской цивилизации и
культуры.
Французский язык был самым употребительным в политике и
дипломатии.
Когда я говорю об остальном мире, то, разумеется, понимаю под ним ту
часть планеты, которая принимала активное участие в международной жизни.
Эта часть охватывала тогда и пространства от Тихого океана до Урала, а также
Латинскую Америку.
Французское превосходство утвердилось в большинстве стран,
образующих цивилизованный мир. Мебельное и декоративное искусства почти
полностью были французскими, это и по сей день подтверждают каталоги
аукционов. Руководители одного из международных художественных салонов
рассказывали мне, что в недавние годы 85 процентов реализуемых ими на этих
аукционах предметов — произведений декоративно-прикладного искусства,
мебели — имели французское происхождение. Архитектуре наших дворцов
подражали с большим или меньшим успехом во всех столицах мира —
Мадриде, Потсдаме, Вене. Изысканная кулинария уже тогда была делом
типично французским. Но превосходство нашей страны благодаря
распространению ее языка с особой силой проявилось в интеллектуальном
пространстве.
Сфера употребления латыни в то время постепенно сужалась,
ограничиваясь областью религии и некоторыми отраслями науки, на
английском говорили только сами британцы и чиновники их империи, а также
несколько миллионов американских поселенцев; немецкие же, русские и
латиноамериканские элиты изъяснялись и писали исключительно на
французском. Пришлось дождаться Пушкина, чтобы с 1820-х годов русские
писатели, создавая свои произведения, стали переходить
51
от французского языка к родному, русскому. В написанных позднее
романах Льва Толстого герои часто разговаривают по-французски, не допуская
при этом ни одной словарной или грамматической ошибки. В XVTII веке
переписку со своими посольствами большинство дипломатических ведомств,
включая российское Министерство иностранных дел, вело на французском
языке.
Но самая важная и любопытная черта в этом преобладании французского
языка заключалась в том, что данный язык не только использовался как некое
эсперанто, утвердившееся в международных отношениях из практических
соображений. Он нес особую форму культуры, некую изысканную учтивость,
совокупность принципов и их словесных выражений, являвшихся одновременно
и типично французскими, и общечеловеческими. Вследствие чего великих
французских писателей и философов рассматривали как деятелей мирового
масштаба, обращавшихся ко всему современному им человечеству. Так было во
все времена, от Вольтера до Виктора Гюго. Эти деятели не были
единственными в своем роде, ибо Гёте или немецкие философы достигали
такого же уровня популярности, но «французской школе», если можно так
сказать, принадлежало неоспоримое первенство.
Благодаря такому, действительно существовавшему, положению вещей в
наши суждения и в наше поведение постепенно проникала идея, в соответствии
с которой Франция составляет некое центральное ядро исторических и
политических процессов на планете. Отсюда искушение считать, что наша
страна в самом деле является центром мира.
При тщательном рассмотрении, как мы видим, такое убеждение, скажем
даже, такая претензия не кажется необоснованной. Но что считать началом и
что концом этого периода? Очевидно, точные даты тут определить невозможно.
Зарей этой эпохи можно считать семнадцатое столетие, которое мы называем
Великим веком; он фактически начался около 1630 года, когда кардинал
Ришелье выдвинул принцип «национального интереса». Этот факт установил
Генри Киссинджер в своем замечательном труде «Дипломатия». Что же
касается заката рассматриваемой эпохи, то он наступал постепенно, стал
заметным после поражений Наполеона и Венского конгресса и продолжался
вплоть до перемирия 1918 года, когда лучи мировой славы Франции на какое-то
время засияли снова.
Движение было поэтапным, его определяли факторы, большая часть
которых нами не осознается. Французам трудно примириться с создавшимся
положением, и, вместо того чтобы рассматривать его как объективную
данность, отражающую состояние страны и имеющую последствия, которые
следует анализировать, они предпочитают закрывать глаза, в результате чего
создается тягостная атмосфера неопределенности.
Французам нравится думать, что их язык по-прежнему является
мировым языком. Но когда они летают на самолетах наших авиаком52
паний внутри страны — из Парижа в Марсель или в Клермон-Ферран —
или, к примеру, когда совершают поездки на высокоскоростных поездах, то
собственными ушами слышат объявления об отправлении или прибытии,
которые делаются поочередно на французском и на английском языках; однако
подобных объявлений на французском языке не услышишь не только во время
путешествий по миру, но даже по Европе. До сих пор помню то неприятное
ощущение, какое я испытал, впервые столкнувшись с подобной формой
распространения информации, предназначенной для пассажиров. Но возразить
было нечего, ибо такой порядок является оправданным.
Английский стал языком международной торговли. Поворот совершился
во время Второй мировой войны. Тенденцию усилило развитие новых
коммуникационных и информационных технологий, в которых принято
использовать английский язык. Когда у председателя Национального собрания
появилась удачная мысль предоставить в распоряжение депутатов
информационный монитор, чтобы приобщить их к Интернету, то оказалось, что
большая часть обозначений, появляющихся на экране компьютера, была на
английском языке. Наши ученые знают, что если они хотят информировать
зарубежных коллег о результатах своих исследований, то им следует писать
свои статьи по-английски; исключение составляют всего несколько редких
дисциплин.
В 1945 году было еще сравнительно нетрудно добиться признания
французского языка в качестве одного из трех рабочих языков ООН. Сегодня
такое было бы невозможно.
Если вы зайдете в книжные магазины Нью-Йорка, мировой столицы
культуры, или Берлина, где книгоиздательство долгое время являлось делом
французским благодаря гугенотам, то напрасно будете искать на их полках
книгу на французском языке и с величайшим трудом обнаружите переводы с
этого языка. Исключение из этого правила — путеводители, книги по
кулинарии и переиздания некоторых произведений наших великих классиков,
от Бальзака и Александра Дюма до Виктора Гюго. Последними по времени
французскими писателями, получившими всемирную известность, являются,
бесспорно, Альбер Камю и Андре Мальро, и этой известности они в равной
мере обязаны как своим личным, так и литературным качествам.
Здесь мы, быть может, касаемся основы описываемого процесса.
Огромный интерес, который в течение трех с половиной веков вызывало
творчество французских писателей и философов, был обусловлен тем, что они
поднимали вопросы, находившиеся в центре внимания своего времени.
Каждому казалось, что эти мыслители обращались именно к нему.
В их произведениях, созданных как в век Просвещения, так и в начале
XIX века, по-новому ставилась проблема, с которой должно
53
было столкнуться большинство государств мира: каким образом от
феодального или авторитарного режима перейти к демократическому образу
правления?
Своеобразие истории Франции XVIII—XIX веков, принесшее удачу ее
мыслителям, заключалось в том, что за столетие наша страна дважды прошла
полный исторический цикл: первый — 1789—1815 годы — включал
абсолютную монархию Людовика XVI, конституционную монархию 1790 года,
якобинскую диктатуру, парламентскую Директорию и бонапартистскую
Империю; второй, почти повторивший первый, занял период между 1824 и 1876
годами, когда друг друга сменяли реставрированная монархия Карла X,
конституционная монархия Луи-Филиппа, республиканская революция 1848
года, Вторая империя Наполеона III; затем, в 1879 году, установился — на этот
раз окончательно — республиканский строй, возникла Третья республика.
Таким образом, французские политические мыслители смогли дать масштабную
и полную картину всех возможных изменений государственного строя,
прокомментировать их и подвергнуть анализу. Всем этим и объясняется то, что
имена Монтескье, Вольтера, Дидро и Токвиля, а позже Огюста Конта, Ренана и
Тэна приобрели всемирную известность, а их наблюдения —
общечеловеческую значимость.
Французские авторы одними из первых подняли тему социальных
потрясений, подробно проанализировали все последствия начинавшейся
индустриализации как для всего общества в целом, так и для отдельных слоев
населения. Они создали проекты альтернативных общественных систем —
назовем здесь Сен-Симона или Прудона, пытались пробудить социальное
сознание руководителей, резко и взволнованно рисуя нечеловеческие условия
жизни трудящихся первой индустриальной эры. Отсюда одновременно
интеллектуальное и эмоциональное воздействие, французское и международное
по масштабу значение Виктора Гюго и Эмиля Золя, сравнимое с влиянием Льва
Толстого и Максима Горького.
Французская мысль трудилась над разрешением важнейших вопросов
своего времени: проблемами политического перехода от деспотизма к
демократии и трансформации общества под воздействием наступающей
индустриализации. Писатели, о которых идет речь, в большинстве своем
обладали способностью одновременно заниматься и чисто литературным
творчеством, и размышлять о коренных проблемах своей эпохи; этим
объяснялся двойной восторг, вызываемый ими, некое двойное сияние,
исходившее от них; источниками его являлись и их чисто литературная
одаренность, и защищаемые ими великие идеалы.
Сегодня же французская мысль с трудом находит дорогу за пределы
страны. За исключением некоторых философов-теоретиков, взгляды
французских авторов не оказывают значительного влияния на современные
идейные поиски. Полагаю, объясняется это тем, что те две
54
проблемы, к которым было приковано их внимание в последние два века,
— переход к демократии и социальное преобразование индустриализованных
стран — рассматриваются сегодня как более или менее решенные, как
отошедшие в прошлое. В то же время появились новые проблемы, на которые
переместился общий интерес. Французское литературное и философское
творчество вновь приобретет влияние тогда, когда мощной рукой отбросит
темы, вызывавшие споры в начале XX века (правда, обстановка первых
послевоенных лет эти темы оживила), когда его интерес привлечет к себе еще
неведомое будущее. Недаром все великие французские интеллектуалы, от
Вольтера до Андре Мальро, были теоретиками грядущего или, если хотите,
мечтателями, устремленными в завтрашний день. В современном мире это
место остается вакантным. Мы должны это место занять, даже если придется
делить его еще с кем-то.
Сократившееся употребление французского языка и потеря французской
мыслью ее влияния на современные дискуссии — вот два феномена, которые
действуют в одном направлении, далее если их причины различны. Они должны
были бы побудить нас к большей трезвости при оценке нашей роли в
сегодняшнем мире. Изменилось содержание этой роли, но отнюдь не ее
значение.
УПОРНЫЙ ОТКАЗ АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Первая реакция политических руководителей на описанную выше утрату
Францией первого места — отрицание данного факта, причем одни это делают
из соображений нехитрой демагогии, желая польстить тщеславию французов,
другие же искренне считают, что таким образом они, быть может, помогут
создать условия для возрождения былого превосходства. Следует отдельно
поговорить о роли генерала де Голля. Этот великий человек, свидетель военной
катастрофы 1940 года и последовавшей за ней оккупации — самой жестокой и
продолжительной со времен великих нашествий германских и азиатских племен
(ибо даже Столетняя война не затронула центрального и юго-восточного
регионов Франции), — поставил перед собой задачу возвратить Франции
положение, которое она занимала среди стран, одержавших победу в Первой
мировой войне. Его обращение к теме французского величия являлось точно
выбранной педагогикой, целью которой было возвращение Франции ее места,
потерянного в результате поражения.
Его спор с Соединенными Штатами и Великобританией имел ту же цель
— вернуть Франции то влияние, какое она имела перед войной, когда была с
ними на равных. Генерал де Голль не пытался поддерживать иллюзию, он делал
все, чтобы восстановить прежнее положение.
55
Политические руководители, в искаженном виде представляющие
положение Франции в мире нашему общественному мнению, прибегают к двум
приемам: один из них вызывает смех, а другой — является обманом.
Первый — комичный — прием состоит в том, чтобы тешить французов
иллюзиями: существует де какой-то «французский пример», которому другие
страны завидуют и стремятся подражать. Мне жаль расстраивать тех моих
соотечественников, которые позволили увлечь себя этой выдумкой, — или тех,
кто ей аплодировал со скамей Национального собрания! — но мой долг сказать
им, что в течение последних лет, когда я вновь обрел свободу — отнюдь не по
своей воле — и смог объездить мир, мне нигде не довелось услышать чтонибудь об этом знаменитом «французском примере» или встретить
подражателя, страстно желающего этому примеру следовать. С просьбой
подтвердить это свидетельство я обращаюсь ко всем соотечественникам,
молодым и не очень, которые живут и трудятся за пределами нашей страны.
Особо уточним один пункт: пресловутый «французский пример», о котором
говорили наши прежние премьер-министры, относится к сфере политики. И
именно она вызывает скептицизм или, скорее, всеобщее безразличие. Напротив,
за рубежом по-прежнему широко распространено мнение, в соответствии с
которым французский стиль жизни является одним из самых лучших в мире и
стоит того, чтобы открыть его для себя. Это французское искусство жить («bienvivre») не ограничивается материальной стороной, но включает в себя такие
качества цивилизованного человека, как терпимость и чувство меры,
проявляемые при пользовании индивидуальными свободами. Это искусство
жить — козырь для нашей страны, и к данной теме я еще вернусь.
Нечестный прием состоит в том, что людей хотят заставить поверить в
существование «французской исключительности». И если я называю этот прием
нечестным, хотя его широко используют, то потому, что умы французов
увлекают на неверный путь; нас убеждают в том, что мы располагаем некой
силой, способной избавить от необходимости подчиняться законам экономики и
общества, законам, с которыми другие народы вынуждены считаться. Нас
уверяют, что благодаря таинственному воздействию психологической и
социальной алхимии почти научные законы, регулирующие большую часть
сторон экономической деятельности — конкурентоспособность, стоимость
труда, ценообразование, — во Франции якобы не действуют, по крайней мере, в
условиях, аналогичных существующим в других странах. Отсюда французская
исключительность.
Совершенно бесплодны поиски рационального объяснения этой
исключительности. Они вызывают у меня в памяти следующее наблюдение
английского исследователя, которое привел один из наших физиков, профессор
Политехнической школы, в момент такой редкой для наших учебных заведений
передышки:
56
«Все попытки поставить под сомнение законы природы обычно
приводят лишь к их подтверждению. И если кто-то, сомневающийся в законе
Ньютона, слишком сильно перегнется через подоконник и выпадет из окна, то
его падение произойдет в полном соответствии с законом всеобщего
тяготения».
Попытки внушить нашим соотечественникам представление о
«французской исключительности» опасны тем, что все больше удаляют их от
верного восприятия действительности. Этот отказ адекватно воспринимать
действительность, то есть отсутствие вкуса к методичной инвентаризации
данных и их внимательному изучению, которые должны предшествовать
любому позиционированию и формулированию выводов, образует второй
поток, питающий, как я полагаю, политический упадок Франции.
***
Представление о Франции как о центре мира, поддерживаемое
руководителями страны, негативно сказывается на нашей внешней политике и
дипломатии.
В данной весьма специфической области то, как мы сами воспринимаем
собственную позицию или свои инициативы по отношению к другим, следует
сравнивать с оценками, которые дают нашему поведению эти другие. Их
суждения оказываются очень разными. К сожалению, большинство наших
соотечественников может читать только газеты, выходящие у нас в стране, и
смотреть передачи лишь национальных телестанций. Знакомиться с
зарубежными откликами на события труднее, доступ к иностранной
информации не столь легок, хотя благодаря новым способам коммуникации
ситуация меняется.
Как мне кажется, внешнюю политику Франции часто вдохновляет
навязчивое желание играть некую роль. Когда в какой-либо точке мира
происходит событие, мы непременно задаем себе вопрос: а какую роль в нем
должна сыграть Франция? Например, несколько лет назад мы предприняли
значительные дипломатические усилия, чтобы Францию включили в число
участников «Конференции стран Юго-Восточной Азии», хотя нас туда не
приглашали, а география к такому присутствию отнюдь не располагала.
Став председателем парламентской Комиссии по иностранным делам,
после победы на выборах правых и центра в 1993 году я попытался открыть
дискуссию по этому вопросу. Мой демарш состоял в том, чтобы обеспечить
подготовку Комиссией доклада относительно условий военного вмешательства
Франции за рубежом, в котором с максимальной точностью было бы
определено понятие «национальный интерес Франции».
В самом деле, все чаще мы становились свидетелями военных акций,
которые предпринимались то по совместной договоренности, то
57
самостоятельно, часто — под влиянием эмоций, вызванных
телевизионными репортажами, причем четкой грани между обстоятельствами,
оправдывающими военную реакцию с нашей стороны, и обстоятельствами, при
которых было бы лучше ограничиваться операцией, осуществляемой
международным сообществом, проведено не было.
Написание доклада было поручено бывшему министру иностранных дел
Жану-Бернару Раймону. Этот мудрый уравновешенный человек с
обширнейшим дипломатическим опытом готовил при президенте Помпиду
материалы по внешней политике. Он возглавил рабочую группу, образованную
из парламентариев, входивших в различные объединения большинства и
оппозиции.
По моему приглашению докладчик встретился со мной, чтобы
поделиться своими выводами. Я ожидал, что в них будет содержаться градация
угроз для национальных интересов Франции: опасность непосредственно
нависает над национальной территорией; под угрозой оказываются
безопасность гражданских лиц или наши экономические интересы; нарушен
заключенный нами договор о союзе. Далее могли бы следовать международные
события, которые в силу их отдаленности и природы не создают опасности для
национальных интересов Франции и не оправдывают военного вмешательства с
нашей стороны.
Но мой собеседник давал совершенно иную оценку: любая ситуация в
мире, независимо от места ее возникновения, при некоторых обстоятельствах
могла бы поставить вопрос об угрозе национальным интересам нашей страны.
Хотя я проявил настойчивость, мне не удалось изменить его позицию.
Он не соглашался определить обстоятельства и регионы, при которых и в
которых не могла возникать угроза для национальных интересов Франции. Этот
мягкосердечный и честно мыслящий человек с неколебимым упорством
отстаивал свое убеждение в том, что всегда и повсюду возможно возникновение
ситуаций, при которых национальные интересы Франции оправдывали бы
применение наших Вооруженных сил.
Я отказался от дальнейших попыток его переубедить, и доклад остался
без движения, но этот опыт укрепил мою уверенность в том, что лучшие умы
нашей страны до сих пор не в состоянии очертить круг тех ее жизненных
интересов, которые могут быть затронуты в результате возникновения
различных политических, этнических, социальных или религиозных ситуаций.
ЛОГИКА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Еще один пример такого искаженного восприятия международных
реалий дают подходы наших политических кругов к проблемам,
унаследованным от колониальной эры. В этом плане типичным представляется
случай с островом Майотта.
58
В свое время в качестве Президента Республики я высказал пожелание
покончить с ситуациями, при которых политическое присутствие Франции
никоим образом не отвечало ни исторической, ни культурной действительности.
Такова была ситуация с Французской территорией Афаров и Исса. Население
этой страны, называвшейся прежде «Французским берегом Сомали», на 96%
составляют мусульмане-сунниты, она была приобретена в 1880-х годах исходя
из стратегических соображений той эпохи. После острой политической борьбы
данная территория смогла стать в 1977 году Республикой Джибути, за
независимость которой высказались 98,7% населения. Таким образом Франция
оказалась в стороне от раздоров, которые с того времени потрясают
Африканский рог.
Сходная ситуация складывалась и с Коморским архипелагом,
расположенным в Мозамбикском проливе, между Мадагаскаром и Африкой.
Этот архипелаг состоит из четырех островов, которые были исламизированы;
начиная с ХП века там возникли отдельные эмираты. После приобретения
острова Майотта в 1841 году Франция оккупировала, а затем аннексировала
остальные три острова одновременно с бурной колонизацией Мадагаскара. На
какое-то время Коморы были присоединены к Мадагаскару, затем, в 1947 году,
они получили автономию, а в 1958 году этот статус был подтвержден.
В 1972 году местная ассамблея потребовала независимости. Поскольку у
Франции не было никаких причин для отказа, в декабре 1974 года был
организован референдум по этому вопросу. За нее высказались 95% коморцев,
но на острове Майотта, третьем по численности населения, число «нет»
превысило число «да». В 1975 году Ассамблея Комор провозгласила
независимость четырех островов, однако Майотта отказалась признать это
решение. Французский парламент подтвердил независимость Комор и
предоставил Майотте свободу в выборе своего статуса: на новом референдуме
жители Майотты в массе своей подтвердили желание остаться в составе
Французской Республики. Следует сказать, что президент нового коморского
государства был смещен революционным комитетом, прибегнувшим к
чрезвычайным мерам. ООН приняла Коморы в число своих членов, подчеркнув
необходимость уважать единство архипелага, состоящего из четырех островов,
включая Майотту. Затем, в 1976 году, Генеральная ассамблея осудила
референдумы, проведенные на Майотте, и потребовала от Франции немедленно
оставить остров.
Начиная с 1980-х годов на ежегодных сессиях Генеральной ассамблеи
значительным большинством голосов принимаются резолюции, призывающие
французское правительство «ускорить переговоры с целью сделать
действительным возвращение Майотты в коморское сообщество».
В течение всего этого времени Франция шипит словно кошка и
угрожающе выгибает спину. Мы следуем за теми политическими кругами,
которые утверждают, что нельзя «бросать население, желающее оставаться
французским».
59
Наше искаженное восприятие действительности, складывающейся в
мире, здесь видно как на ладони. Население, о котором идет речь, совсем не
выражает желания «оставаться французским». Истина заключается в том, что
оно не хочет очутиться под гнетом, царящим в остальной части архипелага. И
жителей Майотты можно понять! Этот остров являлся когда-то центральным в
архипелаге, однако после получения независимости его постоянно сотрясают
толчки политических столкновений. Некий национальный революционный
комитет захватывает власть, сжигает архивы, снижает возраст избирателей до
14 лет. Двух первых президентов свергают, а потом убивают. Понятно, что
жители Майотты предпочитают безопасность, обеспеченную французским
присутствием.
Если бы Франция заняла позицию, пусть даже временную, состоящую в
том, чтобы предоставить Майотте выбор между немедленным возвращением в
Коморское сообщество или сохранением прежнего положения, когда ее роль
сводилась бы к защите острова от посягательств извне, — такую позицию
можно было бы отстаивать. Вместо этого Франция загоняет себя в угол своей
нереалистичной логикой. Майотте отводится место в Национальном собрании,
затем в Сенате, так что пятьдесят тысяч жителей этого острова представлены в
нашем парламенте лучше, чем любая другая равная ему по численности часть
французского населения! А некоторые доводят этот абсурд до того, что
предлагают предоставить острову статус департамента, хотя ни
территориальный принцип, ни культура острова, ни продолжительность
французского присутствия на нем не дают оснований для такого шага. Он
вызвал бы резкое и постоянное осуждение нашей страны Генеральной
ассамблеей ООН, при этом ни национальные интересы Франции, ни ее
международный престиж ничего бы от этого шага не выиграли.
Мы привели лишь один небольшой по своему значению пример, но он
ярко рисует то, каким образом часть политических кругов, прибегая к
извращенной логике, держит в качестве заложника общественное мнение
страны, не давая ему извлекать уроки из перемен, происходящих в мире.
***
Это навязчивое стремление «играть роль» вызывает у нас словесную
гиперактивность и одержимость «инициативами».
В мире не происходит события, на которое наши руководители — я сам
не раз оказывался в их числе! — не считали бы себя вправе не «откликнуться»
(причем эти отклики благоговейно фиксируют камеры и микрофоны СМИ) или
не дать рекомендаций, хотя им вряд ли кто-нибудь последует.
На французские «инициативы» давно пора составить каталог. Он мог бы
заполнить собой верх или низ большого библиотечного шкафа.
60
Выдвижение инициатив стало привычным делом уже во времена
Четвертой республики. На каждой сессии Генеральной ассамблеи ООН, при
любом правительстве мы становились свидетелями представления очередного
«французского плана». Некоторые из них отличались необыкновенной
щедростью, в частности, в том, что касалось помощи развивающимся странам;
но самое забавное начиналось потом, когда французская делегация всеми
силами старалась отсрочить осуществление этого плана или сузить его рамки,
ибо из-за финансовых затруднений, переживаемых нашей страной, она была не
в состоянии принять участие в его реализации, хотя на предыдущей сессии
данное предложение выдвигалось в качестве французской инициативы!
Мне тоже не удалось избежать этого искушения, ибо я считал и считаю,
что среди других стран международного сообщества Франция наделена особой
способностью вырабатывать и предлагать инициативы, имеющие всеобщую
значимость и отвечающие нуждам сегодняшнего дня. Но я заставил себя
следовать жесткому правилу: никогда не выступать с предложениями, если нет
реальных шансов провести их в жизнь. Иначе такие инициативы, грохочущие
подобно пустым железным бочкам под ударами палок, оборачиваются против
нас самих, создавая впечатление, что мы воспринимаем международную
ситуацию не реалистично, что мы претендуем на роль, которую не в силах
сыграть.
При подготовке конференции в Рамбуйе, состоявшейся в ноябре 1975
года, конференции, которая должна была создать «Большую семерку» (группу
из семи наиболее промышленно развитых стран мира) — она до сих пор
проводит свои ежегодные «саммиты», — я предварительно удостоверился в
том, что проект поддержали благодаря Гельмуту Шмидту и Генри Киссинджеру
Германия и Соединенные Штаты. С этого момента стало ясно, что возможность
неудачи сведена к минимуму.
Точно так же инициатива диалога между Севером и Югом, имевшего
целью смягчить шок, вызванный повышением цен на нефть, стала предметом
тщательной
дипломатической
подготовки,
проведенной
министром
иностранных дел Жаном Сованьяргом и нашим постоянным представителем
при ООН Луи де Гиренго. Только через четырнадцать месяцев я выступил с
предложением собрать вместе три группы государств: стран — экспортеров
нефти, промышленных и развивающихся стран — импортеров нефти;
Конференция Север — Юг открылась 16 декабря 1975 года в отеле «Мажестик»
на улице Клебер в Париже. И сегодня я помню то, как проходила эта встреча.
Объединенные усилия нашей дипломатии и руководителей Саудовской Аравии,
которых увлек за собой принц Фахд, ставший впоследствии королем этой
страны, привели к назначению двух сопредседателей: одного из них выдвинули
промышленные страны — члены Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), другого — развивающиеся страны — члены «Группы-77».
61
На конференции были представлены девятнадцать развивающихся стран,
в том числе семь стран — производителей нефти, членов ОПЕК (Организации
стран — экспортеров нефти); и девять промышленных стран, в том числе
Соединенные Штаты, Япония и Канада, во встрече участвовало также
Европейское сообщество, которое впервые решило образовать общую
делегацию государств-членов.
Из числа видных гостей отсутствовали лишь страны советского блока.
«Холодная война» обязывала! Во время моего визита в Алжир в апреле того же
года президент Бумедьен обещал мне преодолеть нерешительность своего
министра иностранных дел Абдельазиза Бутефлики и заверил, что Алжир
примет участие в этом обмене мнениями. На конференции было решено создать
четыре комиссии. Совместное председательство в Комиссии по энергетике было
доверено Соединенным Штатам и Саудовской Аравии, в Комиссии по развитию
— Алжиру и Европейскому сообществу. Выбор этот оказался в высшей степени
символичным. Диалог Север — Юг начался удачно. Он продолжался вплоть до
конца 1970-х годов.
Я особо остановился на этом примере, быть может, потому, что он
вызывает ностальгию у меня самого, но также и потому, что хотел четко
обозначить условия, при которых французские инициативы ждет успех.
Франция более не в состоянии их навязывать, но она может их предлагать. Ей
следует доказывать свою способность объединять достаточное число партнеров,
свое желание привлекать их к задуманному делу. Наконец, как я полагаю,
Франция должна проявлять осторожность, чтобы избежать двух опасностей:
риска того, что ее собственное положение, политическое или финансовое,
войдет в противоречие с предлагаемым решением, и возможности провала
предложения из-за недостаточной подготовки.
Названные опасности можно проиллюстрировать двумя примерами.
Первый — предложение об оказании широкой помощи слаборазвитым странам,
сделанное в Канкуне (Мексика) в 1982 году Франсуа Миттераном; предложение
это было серьезным, но в последовавшие за ним два года франк был дважды
девальвирован. Второй пример — предложение созвать международную
конференцию для мирного урегулирования на Ближнем Востоке, выдвинутое в
1997 году в Каире совместно Президентом Франции и Президентом Египта
Мубараком; Соединенные Штаты и Израиль встретили эту инициативу лишь
ироническим безразличием.
МЕСТО ФРАНЦИИ В МИРЕ
Расстановка сил в современном мире не должна все же ввергать нас в
меланхолию. Хотя сложившаяся конфигурация кладет конец иллюзиям,
которые мы слишком долго лелеяли, полагая, что
62
Франция занимает в этом мире центральное место, для деятельности
такой страны, какой она стала сегодня, открываются новые и интересные
перспективы.
В самом деле, какую картину мира мы видим? Имеется единственная
супердержава, господствующая во всех областях — военной, финансовой,
технологической и даже (как ни странно употреблять здесь это слово)
культурной, по крайней мере, тогда, когда имеется в виду массовая культура.
Это стало ясно после распада советской империи, другой военной
сверхдержавы. Несомненно, подобная ситуация существовала и до этого
распада, но она была некоторым образом спрятана за обманывавшей глаза
декорацией советской военной мощи. Когда же эта декорация рухнула с
грохотом, ошеломившим мир, перед зрителями предстала новая картина: над
обломками бывшей сверхдержавы возвышается теперь единственный в своем
роде колосс — Соединенные Штаты Америки.
Такое положение, видимо, сохранится в обозримом будущем, ибо за
фигурой единственной сверхдержавы можно разглядеть две страны с огромным
населением, численность которого в каждой из них приближается к полутора
миллиардам, — Китай и Индию; у них имеются блестящие достижения, но и та
и другая страна находятся все еще на промежуточной стадии своего развития.
Ответственность за судьбы человечества эти страны смогут взять на себя лишь
через несколько десятилетий — через пятьдесят лет, сказали бы китайцы, — и
то при условии, что они не столкнутся с социальным брожением у себя внутри,
способным замедлить приближение названного срока.
Рядом с этими двумя сообществами будущего, или, скорее, несколько
опережая их, располагается группа, в которую входят наиболее промышленно
развитые страны со средним по численности населением — от 120 до 60
миллионов жителей. Перечислим их по порядку: Япония, Германия и Франция.
Наша страна занимает третье место в этой группе, ибо ее население наполовину
меньше японского, а экономический потенциал на одну треть меньше
германского.
С небольшим отставанием за ними следует группа таких промышленных
стран, как Великобритания, Италия и Испания, а затем — группа крупных
поднимающихся (новых индустриальных) стран, в числе которых Бразилия и
Мексика.
Этот перечень сразу же требует некоторых пояснений. Ключевая задача
для Франции — по-прежнему оставаться в «группе трех», что требует от нас
решительных усилий по выравниванию экономических потенциалов.
Взглянем на вещи трезво: мировое общественное мнение зачисляет нас
отнюдь не в эту группу. Если просмотреть газеты обеих Америк или ЮгоВосточной Азии, то на их страницах можно обнаружить обменные курсы иены
или немецкой марки, но никогда — французского франка.
63
По общему согласию нашей стране обычно отводят приличное место,
включая ее в группу стран, которые на самом деле идут за нами.
Вспоминаю тот момент, когда я предложил генералу де Голлю поставить
перед нацией задачу опередить Великобританию по экономическому
потенциалу, в то время явно более мощному, чем наш. Де Голль посмотрел на
меня глазами, зрачки которых были сближены больше обыкновенного из-за
косоглазия, не заметного на фотографиях: «Интересная мысль, во всяком
случае, попытайтесь!»
Ныне, судя по данным европейской статистики последних лет, объем
валового внутреннего продукта Франции заметно превышает объем
британского ВВП. В 1999 и 2000 годах чисто финансовые обстоятельства,
возникшие из-за понижения на 15% курса евро и повышения курса фунта
стерлингов, на первый взгляд изменили рассматриваемое соотношение. Но
тенденция движения в основе своей сохранилась.
Приоритетной задачей экономической политики Франции на
предстоящие годы должно было бы стать сокращение разрыва между ее
экономикой и экономиками Японии и Германии. Но такой задачи сегодня
Франция перед собой не ставит, несмотря на то, что темпы нашего развития
приближают нас к ее решению. Наши коллективные усилия скорее направлены
на то, чтобы сохранить на возможно больший срок те преимущества, которые
получены секторами французской экономики, защищенными от иностранной
конкуренции. Почему поставлена именно эта задача, можно понять, если
рассуждать с точки зрения заинтересованных лиц, но она лишена смысла, то
есть не имеет перспектив в плане реализации общественного интереса.
Сократить разрыв между экономической мощью Франции и двух стран,
опережающих ее, в наших силах. Демографические факторы нашим
конкурентам не благоприятствуют. Тяжелый груз проблем в этой области давит
на Японию. По официальным прогнозам японского правительства, в
ближайшем будущем ожидается значительное уменьшение населения страны:
его численность, составляющая сегодня 126 миллионов жителей, упадет до 100
миллионов в 2050-м и до 67 миллионов в 2100 году! Ожидается также, что в
предстоящие пятьдесят лет экономически активное население Японии будет
уменьшаться ежегодно на 650 тыс. человек. Эти же факторы окажут
отрицательное воздействие на Германию, где рождаемость находится на уровне,
явно недостаточном для того, чтобы можно было бы обеспечить простое
воспроизводство населения, и где уже сегодня наблюдается такое его старение,
с каким остальная Европа столкнется через двадцать лет.
Что касается Франции, то она обладает резервами роста, которые сегодня
легко можно было бы использовать.
Полагаю, что мы могли бы стать свидетелями по-настоящему бурного
роста, если бы пошли на проведение ряда мер, начиная с умень64
шения коллективных издержек, падающих как на низкие зарплаты, так и
на инвестируемые сбережения, — уменьшения, которое можно было бы
профинансировать за счет экономии бюджетных средств. В том, что это
осуществимо, можно убедиться, если вспомнить о чрезмерных затратах на
содержание административных служб, которые размножились и перепутались
на местном уровне. В этом случае мы без труда достигли бы испанских темпов
роста.
Возможность ускорить рост экономики частично обусловлена
средствами, накопленными за пять лет, с 1992 по 1997 год, когда Франция
невозмутимо продолжала проводить дефляционную политику, несмотря на
предупреждения, которые я делал и публично, и в частных разговорах и
которые не смогли поколебать высшее руководство страны, — политику
завышенного курса нашей валюты, к счастью, скорректированного после
введения евро. Страна также может извлечь выгоду из ускоренного развития не
существовавших ранее сфер услуг и технологий, где наблюдается появление
нового поколения предпринимателей, отличающихся динамизмом и особо
творческим духом.
***
Рассмотренная выше расстановка сил на международной арене
показывает, что дружеские отношения между Францией и Германией — в том
виде, в каком они существовали начиная с 1974 года, — не были чем-то сугубо
химерическим, не проистекали только из личных симпатий руководителей
обеих стран. Целью данных отношений было создание в западном мире второго
центра экономического развития, центра, который хоть и гораздо меньше
американского — это бесспорно, — но превосходит все остальные. Все
сказанное определило назначение данных отношений - совместно
воздействовать на решения международного сообщества и предпринимать
собственные инициативы. Они прошли проверку, когда создавалась «Большая
семерка». Еще ранее они проявились в валютной сфере, в процессах, которые в
1970-е годы положили конец Бреттон-Вудской системе1.
Девальвация доллара, согласованные плавающие курсы валют, а затем
решения, которые в конце концов привели к созданию Европейской валютной
системы и к принятию евро, — всем этим мы в значительной степени обязаны
совместному франко-германскому вкладу.
Франция все еще находится в плену дипломатической традиции, в
соответствии с которой ей следует действовать сразу во всех направлениях
(vocation tous azimuts), традиции, питающей отвращение к необхоБреттон-Вудская система, созданная в 1944 году, базировалась на политике фиксированных
курсов валют, конвертируемости валют и развитии многостороннего механизма
международных платежей.
1
65
димости делать выбор среди объектов дипломатии и усматривающей в
этом отречение от нашей миссии.
На практике такой подход приводит к распылению ограниченных, как
правило, ресурсов, финансовых или политических, а также к невнятности
действий. Желание присутствовать повсюду, вмешиваться абсолютно во все
оборачивается уменьшением влияния на реальный ход вещей. Правило «сила
действия равна силе противодействия» применимо в дипломатии точно так же,
как и в физике. Внешняя политика, если ее ведут политические деятели, а не
чиновники, как раз и состоит в том, чтобы делать выбор: выбирать союзников в
случае военной угрозы, выбирать партнеров, близких по цели, когда страна
закладывает основы своего будущего влияния. Вот почему Франция не смогла в
последнее десятилетие сделать дипломатический выбор, который, однако,
совершенно очевиден: установить прочные связи с Польшей сразу же после
падения Берлинской стены, наладить тесное политическое и экономическое
сотрудничество с Испанией, начиная с того момента, когда ее правительство
высказалось за вхождение в зону евро.
Мне кажется, что в предстоящее десятилетие наше внимание следовало
бы сосредоточить на следующих трех вопросах: на отношениях с
Соединенными Штатами, на участии в Европейском союзе и на непредвзятом
подходе к происходящим в мире изменениям, которые неизбежно затронут одну
за другой Азию и Африку. Наш анализ и наши действия должны опираться на
точную оценку собственного положения и имеющихся у нас возможностей,
производимую без самолюбования, но с той долей уверенности в себе, какую
дает сознание принадлежности к нации, убежденной в своей идентичности,
пустившей глубокие корни в свою землю и обладающей неповторимым по
богатству историческим и культурным наследием.
НЕЗАВИСИМОСТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
Соединенные Штаты Америки есть и надолго останутся — до выхода на
мировую арену Китая — единственной сверхдержавой на планете. Думаю, было
бы более точно называть эту страну мегадержавой, констатируя таким образом
ее реальные размеры, ибо термин «сверхдержава» вызывает представление о
давящем превосходстве, то есть о господстве.
США — дружественная нам мегадержава. Не боясь обвинений в том, что
пережевываю одно и то же, напомню, что Франция способствовала тому, что
Америка обретала независимость. В 1976 году мне довелось посетить эту
страну, чтобы представлять Францию на торжествах по случаю двухсотлетия
независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, США дважды приходили
к нам на помощь: в 1917 году,
66
когда прибытие американских войск в Лотарингию лишило немцев
последнего шанса на победу, а также двадцать семь лет спустя, в 1944 году,
когда высадка в Нормандии, стоившая американцам многих жизней, положила
начало освобождению нашей страны. Драматичность и героизм того
наступления передает прекрасный фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового
Райана».
Мы схожи в своих демократических убеждениях и не раз доказывали это
друг другу. Нас объединяют равная приверженность к основным свободам и
равное уважение к правам человека.
Все это должно было бы сделать наши отношения безоблачными. К
сожалению, между нами существует неравенство в силе, и это преимущество
Соединенные Штаты используют по-своему.
Удивительная особенность нынешней ситуации состоит в том, что
Соединенные Штаты располагают мегамощью, но правил ее употребления,
которые можно было бы кодифицировать, не имеют.
В прошлом Соединенные Штаты неоднократно формулировали
принципы своей внешней политики. Известна доктрина Монро, автор которой
— президент Джеймс Монро — указал в 1823 году, что «Соединенные Штаты
воспротивятся, при необходимости с помощью силы, всякому внешнему
вмешательству в дела Америк». Затем, в конце Первой мировой войны, была
провозглашена доктрина Вильсона, ставившая в качестве цели обеспечение
коллективной безопасности в мире1. Идеи Вильсона Генри Киссинджер
резюмировал следующим образом: «Вильсонизм считает, что Америка одарена
необыкновенным характером, проявляющимся в сочетании нравственного
совершенства и беспримерной силы. Соединенные Штаты настолько верят в
свою мощь и в моральную высоту своих целей, что могут предположить
возможность сражаться за свои ценности в мировом масштабе».
В феврале 1946 года, видя советскую угрозу, теоретик Джорж Кеннан
предложил в документе, известном как «Длинная телеграмма»2, то, что вскоре
стало знаменитой доктриной сдерживания [containment)3.
Окончание «холодной войны» застало американскую дипломатию
врасплох. Президент Джорж Буш-старший заговорил о «новом международном
порядке». Но эта концепция никогда не была сформулирована, и отношения
США с Организацией Объединенных Наций прошли через противоречивые
фазы. Недавно государственный секретарь
Президент Вудро Вильсон добился, в частности, включения пункта о создании Лиги Наций в
Версальский договор, которым завершилась Первая мировая война. — Примеч. авт.
2
«Длинная телеграмма» — депеша, посланная Дж. Кеннаном из Москвы, где он находился в
качестве американского посла в СССР.
3
В депеше развивалась идея, в соответствии с которой Соединенным Штатам следовало
оказывать на СССР сильное давление всеми возможными средствами всякий раз, когда эта
страна попытается расширить свое влияние.
1
67
Мадлен Олбрайт ввела в обращение новое понятие — сослалась на
«национальный интерес Соединенных Штатов».
Когда американским ответственным лицам замечают, что внешняя
политика их страны не сформулирована, они не выражают ни удивления, ни
смущения. И даже самые изобретательные из них не предлагают ответа на
вопрос о том, как такое возможно.
Министр иностранных дел одной из европейских стран так разъяснил
мне суть проблемы: «Ну конечно же, у Соединенных Штатов есть
дипломатическая доктрина: это ощущение своей мощи. Они не испытывают
потребности в выдвижении какой-либо другой доктрины».
Это циничное замечание я подправлю следующим образом: если и в
самом деле обладание мощью кажется Соединенным Штатам достаточным
основанием для своей внешней политики, то они, кроме того, проникнуты
вильсоновской концепцией, согласно которой в международных отношениях
действуют силы добра и зла, а Соединенные Штаты обладают особой
способностью их различать. В соответствии с такой трактовкой сегодня силы
добра — это те, кто выступает за проведение демократических выборов, за
уважение прав человека, за свободный доступ товаров на международные
рынки. Американская мощь без раздумий ставит себя на службу добру и
противится действиям злых сил, пытающихся помешать достижению названных
целей.
Как может поступать Франция в описанной выше ситуации?
Французские руководители, в отличие от многих других, задаются
вопросом, какой линии в отношениях с США следует придерживаться, и эту
заслугу за ними следует признать. Порой в их рассуждениях слышны отзвуки
ушедших времен: вслед за де Голлем они повторяют призывы к независимости,
которую тот противопоставлял опеке, навязываемой президентом Рузвельтом;
из их уст звучат высказывания, выражающие основанную на предрассудке
враждебность к американскому капитализму как явлению примитивному и
антисоциальному. Эти размышления в итоге подводят к позиции (четко она не
сформулирована), в соответствии с которой следует сдерживать американское
могущество, обращаясь к международным учреждениям. ООН представляется
подходящим инструментом, способным умерить крайности американской
мощи. Такую же роль могла бы сыграть Всемирная торговая организация, хотя
имеются сомнения относительно степени ее самостоятельности. Действуя
подобным образом, Франция намеревается получать поддержку своих
европейских партнеров, часто проявляющих нерешительность.
Не убежден в правильности такой линии поведения. В основе ее лежит
оппозиционность, даже если ее пытаются облечь в формы, принятые в
международных отношениях, даже если при встречах между руководителями
наших двух стран прибегают к нелепому, заимствованному из газет выражению
«стремнина пройдена».
68
Может быть, эта оппозиционность и тешит какие-то наши чувства, но
она сопряжена с рядом неудобств. Прежде всего такая позиция подвержена
быстрому износу, ибо ее постоянно приходится подтверждать. Далее, она
закрепляет негативное представление о нашей стране, которое уже возникло у
международного общественного мнения и которое ныне разделяет, как я мог
убедиться, и общественное мнение Америки. Американцев интересуют мотивы
нашего поведения, но они не могут их понять. Наконец, оппозиционность
осложняет отношения с нашими европейскими партнерами, они часто
проявляют нерешительность, следуя за нами, и, во всяком случае, стремятся
избегать чрезмерной конфронтации. Мне кажется, что стоило бы рассмотреть
другой путь, путь поддержания нашей независимости и одновременного учета
точки зрения нашего партнера. Начать здесь следовало бы с установления того,
как соотносятся между собой наша независимость, опирающаяся на
французскую идентичность, на сбалансированное функционирование нашего
общества и нашей экономики (ее следует всячески укреплять!), с одной
стороны, и недвусмысленный выбор нашей внешней политики в пользу
демократических ценностей — с другой. На мегадержаву нам следует смотреть,
отбросив предрассудки, не проявляя враждебности, ибо наши политические
принципы одинаковы, но, разумеется, мы должны сохранить полную
самостоятельность при определении линии нашего поведения. Мы не станем
практиковать политику подражательства, а в каждом конкретном случае будем
рассматривать содержание и пределы наших действий в духе партнерства. И
радоваться, если они будут совпадать с теми, что проводит наш американский
партнер. Если же эти действия разойдутся с нашими, будем искать возможности
для разумного компромисса. В случае невозможности такого компромисса мы
останемся на своей позиции и будем действовать совместно с другими
странами, разделяющими нашу точку зрения, не пытаясь организовать при этом
враждебную «лигу».
Такая политика предполагает определенное дистанцирование, которое
делает самостоятельность Франции более очевидной, но в то же время в ней
отсутствует агрессивность, искажающая ее смысл.
Не желая слишком углубляться в дипломатические дискуссии, которые
выходят за рамки этих размышлений в духе Бёрка, ограничусь, в качестве
примера,
следующим
соображением.
Мне
представляются
слабо
обоснованными попытки вновь, причем исподтишка, ввести наши Вооруженные
силы в состав военных структур Атлантического альянса; на мой взгляд, эти
попытки никак не ложатся в основное русло французской внешней политики 1.
Такой подход без пользы урезает нашу самостоятельность и создает почву для
мелочных дискуссий от-
В 1966 г. Франция вышла из военной организации НАТО, в 1995 г. заявила о возобновлении
своего членства в военных органах блока.
1
69
носительно компенсаций, которые мы — безуспешно — пытаемся
получить. И совсем неубедительно звучит объяснение, согласно которому
данная реинтеграция является якобы предварительным условием согласия
наших партнеров на продвижение плана по созданию общей европейской
обороны; дело в том, что «сенсационное» изменение позиции Великобритании в
этом вопросе, изменение, кстати, положительное, никак, на мой взгляд, не
связано с французской позицией относительно НАТО.
Хотелось бы пожелать, чтобы линию поведения Франции по отношению
к Америке международное общественное мнение смогло бы со временем
определить для себя как «независимость в партнерстве».
ФРАНЦИЯ В ЕВРОПЕ
Второй важный для Франции вопрос — ее позиционирование по
отношению к Европейскому союзу. Нам никогда не удастся в полном объеме
воздать должное воображению и прозорливости тех, кто на еще дымящихся
пепелищах, оставленных войной, призвал народы примирить Францию и
Германию и построить Союз Европы.
В 1978 году я участвовал в праздновании тридцатилетия инициативы
Робера Шумана, которое проходило в Часовом зале Министерства иностранных
дел на Кэ д'Орсэ. Внимание участников церемонии привлек вдруг раздавшийся
легкий свист, переполошивший охрану, принявшую его за шипение запала
взрывного устройства, но, как оказалось, его издавал премьер-министр одной из
европейских стран, усыпленный длинными речами!
Проект Союза Европы 1950—1980 годов отличали блеск и логика.
Заметный отпечаток на него наложила Франция, руководители которой не
только вносили одно предложение за другим, но и упорно доводили их до
завершения. Планировалось объединить всех, кто являлся близким по духу в
Европе, то есть практически все народы, входившие некогда в империю Карла
Великого и в Священную Римскую империю, а позже добровольно или против
своей воли оказавшиеся в наполеоновской Империи. Железный занавес
советской оккупации обозначил на востоке пределы пространства Союза.
Разумеется, все эти народы испытали на себе приливы и отливы Истории, но
они сохраняли отпечаток общности цивилизации и культуры. Проект ставил
целью объединить все формы их участия в международной жизни, выработав
при этом новый вид их организации, позволяющий государствам сохранить
свою историческую самобытность.
Франции легко дышалось в этом проекте, и именно она в значительной
мере его вдохновляла. Германии, тогда еще разделенной, этот замысел давал
возможность очиститься от позорных пятен своего недавнего прошлого,
присоединившись к международному сообществу. Цель
70
этого Союза была современной, выглядела убедительно и вызывала
энтузиазм даже у значительной части молодежи.
И все это чуть было не удалось! Мудрость твердила, что следует
завершить дело до будущего воссоединения Германии. Но продвижение было
приостановлено в 1980-е годы упорнейшим сопротивлением Маргарет Тэтчер,
выступившей, в частности, против того содержания, которое предполагалось
придать Союзу в политической области. Канцлер Коль и президент Миттеран
предпочли не навязывать своего решения вопроса, не захотели пренебречь
сопротивлением Англии. И к моменту воссоединения Германии строительство
Европейского союза еще не было завершено.
Ситуация, в рамках которой Франции и ее партнерам приходится
действовать сегодня, не похожа на прежнюю. И бесполезны попытки это
скрыть, твердя старые молитвы.
Обстановка требует стратегических инициатив, то есть выработки
долговременных планов. Поскольку предстоит расширение Союза, то будет
происходить уже не объединение того, что сходно, но объединение того, что и в
ближайшем будущем останется достаточно разнородным. Возможная степень
интеграции понизится в силу простого математического правила: 1 x Е =
Константа, где 1 означает степень интеграции, Е — число участвующих в ней
государств. Итак, 1 (степень интеграции) x Е (число присоединений) =
Константа}. При отсутствии надлежащих решений возникает риск того, что
Союз станет превращаться в Конференцию европейских государств,
регулирующую обширный рынок, осуществляющую межправительственное
сотрудничество, но имеющую слабый властный механизм. Есть второй вариант,
но он еще хуже первого: дорогостоящая и непролазная чаща из проблем,
относящихся то к совместной, то к национальной компетенции, путаница,
которая может привести к неприятию Союза со стороны общественного мнения,
когда его безразличие начнет сменяться враждебностью.
Автор настоящих «Размышлений» не ставил перед собой задачу
проанализировать перспективы Европейского союза и грозящие ему опасности,
он лишь попытался выяснить, можно ли извлечь из опыта развития какие-то
уроки, полезные для осмысления политического упадка Франции.
***
Прежде всего, и это факт, ослабла способность Франции к выработке
новых идей.
Первые проекты — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС),
Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) — были осуществлены
целиком по французской инициативе. На начальных стадиях выяснялись
намерения наших будущих партнеров, но поисковую груп71
пу составляли преимущественно французы, в нее входили Жан Монне,
Робер Шуман, Бернар Клапье и некоторые другие.
Когда число участников проекта достигло шести, к его реализации
подключились деятели, имена которых известны каждому: германский канцлер
Аденауэр, председатель Совета министров Италии Де Гаспери, бельгийский
министр Поль-Анри Спаак. Действия стали более коллективными, но основные
импульсы, положительные или отрицательные, шли от Франции.
Именно Франция, увы, стала инициатором отклонения проекта создания
Европейского оборонительного сообщества, это произошло 30 августа 1954
года при правительстве Пьера Мендес-Франса. Однако есть все основания
полагать, что для той эпохи данный проект оказался преждевременным.
Именно французские участники переговоров сыграли решающую роль в
подготовке Римского договора, текст которого выдержал испытание временем и
актуален до сих пор1. И именно генерал де Голль выдвинул идею договора
между Францией и Германией; этот акт, подписанный в Елисейском дворце в
1962 году, заслуживает того, чтобы его перечитывали, так как именно он
заложил институциональные основы франко-германской близости. И опять-таки
именно генерал де Голль, наперекор мнению наших партнеров по ЕЭС,
выступил против вступления Великобритании в это сообщество.
Короче говоря, Франция все время находилась в центре европейских
дискуссий и ее отношение, положительное или отрицательное, к обсуждаемым
вопросам питало эти дискуссии.
Данная ситуация сохранилась и в 1970-е годы, когда Франция активно
включилась в продвижение двух проектов, важных для будущего. Речь идет о
Европейском совете, который был учрежден в декабре 1974 года и стал
центральным органом принятия решений в Евросоюзе, а также об идее
формирования Европейской валютной системы, включая создание экю, — эту
идею совместно выдвинули и отстаивали Франция и Германия в 1978 и 1979
годах.
В последовавший за тем период исходящие от Франции импульсы
несколько ослабли. Были упущены две возможности или, точнее, этими
возможностями пренебрегли, не проявив инициативы.
Речь идет о том, что в 1983—1984 годах узловой в дискуссиях стала
проблема институционального содержания, которое следовало бы вложить в
Европейский союз. Государства — члены ЕС задавали себе вопрос: нет ли
возможности прийти к заключению договора, учреждающего политический
союз, некой конституции (если это слово не будет слишком пугать) новой
Европы? Действительно, после избрания в 1979 году
В соответствии с Римским договором в 1957 г. было основано Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС).
1
72
путем всеобщих выборов Европейского парламента такой документ
являлся тем камнем, которого зданию недоставало для окончательного
завершения. Европарламент внес свой вклад в решение вопроса, приняв проект
договора, очень профессионально и тщательно разработанный итальянским
докладчиком институционной комиссии — Альтеро Спинелли. Текст отличали
осторожность и умеренность, предусматривалась, разумеется, и возможность
внесения в него поправок. Он мог послужить рабочим документом в
переговорах между правительствами. Но в 1984 году вынесению на обсуждение
этой институциональной проблемы воспротивилась госпожа Тэтчер, и
Европейский совет в конце концов ей уступил. Он удовлетворился принятием
документа, имеющего куда меньшее значение, — Единого европейского акта
(ЕЕА); этот документ, бесспорно, был полезен, ибо в нем ставилась задача
создания единого экономического пространства в период до 1992 года, но
принятие ЕЕА означало отказ от великой цели — организации Европы
политически. Франции пришлось смириться с этой неудачей. Однако в составе
ЕЭС, которое насчитывало тогда десять членов, сохранялось большинство,
способное обеспечить прогресс сообщества, - шесть государств-основателей
плюс Ирландия. Конечно, это большинство отличалось хрупкостью и могло
рассыпаться под британским давлением. Но пространство для маневра, для
инициативы, думаю, все же сохранялось, ведь ставка была исторической. Все
это доказывается тем фактом, что решение вопроса с тех пор никак не
продвинулось, хотя состоялись две конференции на уровне правительств.
Историки наверняка скажут, что так была упущена возможность реализовать
идею политического союза.
Еще более сложным было другое историческое событие. Оно привело в
движение значительные политические и психологические силы, которые в
любой момент могли резко столкнуться. Речь идет о воссоединении двух
Германий. Следует воздержаться от любых упрощенных суждений по вопросу о
том, какую позицию следовало бы занять перед лицом события, которое никто
не предвидел и которое несло в себе огромный эмоциональный заряд. Отметим
лишь полное отсутствие каких-либо получивших громкую известность
инициатив, направленных на включение процесса этого воссоединения в более
широкий проект создания Европейского союза. Следовало изучить возможность
обеспечить параллельное развитие, если не ускорение, этих двух процессов. В
распоряжении их участников оставались считанные месяцы. Только Франция в
политическом плане была способна выступить с каким-либо предложением,
поскольку Великобритания госпожи Тэтчер вышла из игры, отвергнув сам
принцип воссоединения. Трудности были огромными, их проанализировал в
своей книге Юбер Ведрин1.
1
См.: Védrine H. Les mondes de François Mitterand. P.: Fayard 1996.
73
Нашу способность к выдвижению инициатив ослабило первоначально
отрицательное отношение Франсуа Миттерана к реунификации Германии. Тем
не менее остается фактом то, что перед Европой возникло необыкновенное
разнообразие возможностей, по своему богатству равное тому, которое
позволило создать в сентябре 1950 года ЕОУС, а также то, что теперь не
нашлось французского руководителя, способного это разнообразие
использовать, так как каждый втайне надеялся, что все издержки по
воссоединению Германия возьмет на себя.
Стратегическая активность Франции в деле строительства Евросоюза
продолжала падать в 1990-е годы, несмотря на все решительные шаги в этом
направлении председателя Европейской комиссии Жака Делора.
Переговоры по Маастрихтскому договору, которым предшествовало
отклонение двух гораздо более амбициозных проектов, представленных
Люксембургом и Нидерландами, завершились подписанием документа,
сведенного к единственному измерению — валютному (введение евро), хотя и
украшенного экономическим гарниром, но полностью выхолощенного в
политическом отношении.
Следующий договор — Амстердамский — был задуман как документ,
заполняющий указанный пробел. Но и на этот раз не удалось выйти на
политические предложения, дело ограничилось лишь несколькими новыми
шагами в данной области, полезными, но ограниченными по своему значению,
— относительно прав Европейского парламента и подхода к политике общей
обороны. Все эти переговоры были нелегкими, но их организаторы решили
попытать счастье в последний раз. Было решено провести неформальное
заседание Европейского совета, оно состоялось 23 мая 1997 года в
нидерландском городе Нордвейке. Его повестка дня включала только вопросы
подготовки политической части заседания Совета, которое должно было пройти
через месяц в Амстердаме. Дискуссионными по-прежнему оставались три
пункта: состав Европейской комиссии, уравнивание прав при голосованиях в
Европейском совете, перечень вопросов, решения по которым отныне следовало
принимать квалифицированным большинством, чтобы избежать их
замораживания в результате применения вето. Один из европейских министров,
приглашенных на эту встречу, рассказал мне, что ее участники, предчувствуя
серьезные неприятности в случае провала дискуссии, проявляли если не волю к
успешному завершению дела, то понимание неизбежности такого завершения.
Предполагали, что придется высказаться по компромиссному предложению и
что внесет его Франция. Этого ожидали все. Но, по словам министра,
французские делегаты в ходе встречи будто в рот воды набрали.
Парадоксально то, что исходящие от Франции импульсы ослабли как раз
тогда, когда появился евро. Проект создания евро — не новин74
ка, он родился в 1978 году, получил второе дыхание в 1987 — 1988
годах. Маастрихтский договор, предусматривающий введение в действие этой
денежной единицы, начали готовить еще в 1991 году1. Хотя Франция активно
содействовала завершению проекта, ее до самой последней минуты не покидали
сомнения в том, является ли он своевременным. Летом 1996 года по газетам
гуляло выражение «перекидывать друг другу горячие картофелины», с
помощью которого французские руководители в стиле, далеком от
вольтеровского изящества, описывали ситуацию, состоящую в том, что
ответственные лица и Франции и Германии пытались занять позицию, которая
позволила бы им в случае неудачи проекта Валютного союза (а возможность его
создания в глубине души они признавали) возложить ответственность на
другую страну.
Как бы там ни было, евро занял свое место, и Франция внесла
необходимые изменения в свою экономическую политику. Нам следует себя с
этим поздравить. Но очевидно и то, что в ходе своего осуществления этот
проект, во многом обязанный своим рождением нашей инициативе, постепенно
утрачивал черты, свидетельствовавшие о его французском происхождении,
подобно артишоку, с которого обрывают кожуру.
Нет смысла обсуждать вопрос о генезисе проекта, здесь все ясно. Его
никогда не удалось бы успешно завершить, если бы он не был задуман и
выдвинут совместно Францией и Германией. Решающую роль сыграла
политическая поддержка канцлера Гельмута Шмидта, а затем канцлера Коля.
Но
первоначальная
концепция
Европейской
валютной
системы,
2
корректирующая зачаточные попытки запустить «валютную змею» , заменяя их
глобальным механизмом, который обеспечивает введение экю, предусматривает
создание Европейского валютного фонда, предвещает образование в будущем
Европейского центрального банка, — эта концепция родилась в Париже и была
окончательно сформулирована во время рабочего обеда, состоявшегося 23 июня
1978 года в Елисейском дворце; участниками обеда были, кроме канцлера
Шмидта и меня самого, управляющий Французским центральным банком
Бернар Клапье и помощник канцлера Хорст Шульман.
Как мне казалось, для нас было важно как можно прочнее зафиксировать
французский вклад в эту существенную часть европейского строительства — не
из соображений национального тщеславия, но с целью обеспечить равновесие
между авторитетом франко-латинской культуры и преобладанием Германии в
валютной сфере.
Договор о создании Европейского союза был подписан в Маастрихте 7 февраля 1992 г.,
вступил в силу 1 ноября 1993 г.
2
«Валютная змея» — регулируемый коридор колебаний обменных курсов валют, созданный
странами Западной Европы в 1972 г.
1
75
Именно поэтому я действовал или, скорее, маневрировал таким образом,
чтобы название новой европейской валютной единицы было частицей франколатинского культурного наследия, в результате эта валюта получила
наименование «экю». Хитрость, если можно так сказать, состояла в том, чтобы
использовать английское название европейской валюты — European Currency
Unit: из первых букв этих трех слов, составляющих термин, складывалось слово
«экю». Данное наименование будущей европейской денежной единицы
получило формальное одобрение со стороны глав государств и правительств
ЕС, торжественно включено в Маастрихтский договор, статья 123 (параграф 4)
которого гласит: «С начальной даты третьего этапа Совет... устанавливает
конверсионные курсы [валют государств-членов], посредством которых
окончательно фиксируются их валюты и курс, по которому ЭКЮ заменяет их и
становится полноправной валютой». И далее: Совет «принимает другие меры,
необходимые для введения ЭКЮ в качестве единственной валюты в
заинтересованном государстве-члене». Таков текст Маастрихтского договора в
редакции, подписанной Францией. Именно этот текст был представлен
французскому народу, который одобрил его путем референдума! И теперь ни у
кого нет права его изменять!
По той же причине я считал существенно важным провести француза на
пост первого председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поскольку
было совершенно невозможно, чтобы это место занял немец, ибо следовало
избежать слишком очевидного уподобления новой денежной единицы
германской марке, должность совершенно естественным образом переходила ко
второй стране-основателю. К тому же Франция располагает группой
высококвалифицированных специалистов по валютным вопросам, работавших
на ответственных должностях и получивших международную известность: трое
бывших директоров нашего Государственного казначейства становились
генеральными директорами Международного валютного фонда. Легко было
выбрать из них или из бывших министров финансов лицо, прекрасно
подготовленное для работы по организации нового банковского учреждения —
ЕЦБ, проявляющее заботу о том, чтобы в этом учреждении обеспечивалось
равновесие валютных культур стран-участников.
Этот вопрос мне казался достаточно важным, и потому я назвал его
среди других вопросов, представляющих национальный интерес, в беседе с
президентом Миттераном, когда тот проводил обычные консультации перед
сессией Европейского совета в Эдинбурге.
Канцлер Коль заявил о своем намерении добиться размещения штабквартиры ЕЦБ во Франкфурте, чтобы успокоить общественное мнение своей
страны, показав ему на конкретном примере преемственность валютной
политики правительства. Я высказал следующую мысль: с таким решением,
весьма выгодным для престижа немцев, мы могли бы согласиться, но лишь при
условии, что Германия даст фор76
мальное обязательство в том, что в качестве первого председателя
Европейского центрального банка будет назначен француз.
Мои аргументы подействовали на Франсуа Миттерана. «Вы правы, —
сказал он, — именно эту позицию я и буду отстаивать».
В итоге выбор Франкфурта был утвержден, но Франция так и не
получила четкого согласия Германии на назначение француза.
В 1996 году появилось газетное сообщение о том, что будущего
председателя ЕЦБ самовольно провозгласили управляющие центральными
национальными банками вопреки положениям статьи 109А Договора о
Европейском союзе, в соответствии с которой председатель Европейского
центрального банка назначается «правительствами государств-членов с общего
согласия, достигнутого на уровне глав государств или правительств». Я сразу
же обратил внимание на эту новость тогдашнего Президента Республики Жака
Ширака. Как мне показалось, он прислушался к моим доводам, но не больше,
чем в свое время Франсуа Миттеран, по крайней мере, я не почувствовал у него
желания слишком обострять этот вопрос. И Европейский совет одобрил выбор
нидерландского кандидата, который ранее сделали в своем кругу управляющие
центральными
банками,
кандидата,
хорошо
подготовленного
в
профессиональном плане, но не обладающего, как это выяснилось позднее, тем
политическим авторитетом, который необходим для того, чтобы по-настоящему
крепко взять в руки новое дело и окончательно утвердить евро на
международной арене. Так Франция не добилась поста первого председателя
ЕЦБ, а это учреждение не нашло своего Алана Гринспена1.
В то же самое время бывший министр финансов Германии, Тео Вайгель,
вел кампанию с целью заменить название экю на другое, более привычное для
немецких ушей, хотя и менее благозвучное, то есть переименовать его в евро. В
этом вопросе мы опирались на самое веское юридическое основание, поскольку
название будущей денежной единицы фигурировало в Маастрихтском договоре.
Вообще в новом решении не было ни малейшей необходимости. Достаточно
было стоять на своем, как немцы в случае с выбором Франкфурта. Однако 16
декабря 1995 года в Мадриде Европейский совет принял, скрепив своим
авторитетом, путаный и сомнительный с точки зрения законности документ, в
котором говорилось, что с начальной даты третьего этапа в качестве названия
европейской денежной единицы принимается евро.
При обновлении в конце 1994 года состава Европейской комиссии
французское правительство, которое возглавлял тогда Эдуар Балладюр,
добилось того, чтобы портфель члена ЕК, ответственного за валютные и
экономические вопросы, был доверен французу, бывшему дипломату
Алан Гринспен (род. в 1926 г.) — американский политик и финансист, четыре раза занимал
пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы, имеющей функции
Центрального банка США.
1
77
Иву-Тибо де Сиги. За эти вопросы отвечал ранее Раймон Барр,
являвшийся заместителем председателя Комиссии; указанный портфель
приобретал еще большую значимость потому, что в тот период шла подготовка
к введению евро, намечавшемуся на 1 января 1999 года. Обладателю портфеля
предстояло обеспечить применение знаменитых критериев конвергенции и
предугадать состав участников будущей зоны евро в момент, когда ряд странкандидатов, таких как Италия и Испания, еще были очень далеки от выполнения
условий вступления в зону, установленных договором! Эта работа была
проведена более чем удовлетворительно, ибо в процессе введения евро не
произошло ни малейшего сбоя ни в техническом плане, хотя он весьма сложен,
ни в политическом.
Однако пока дело не закончено. Общественное мнение все еще не
свыклось с европейской валютой, ее введение в обращение в форме кредитных
билетов и металлических монет только ожидается. Лишь с 1 января 2002 года в
том, что касается евро, мы перейдем от порядка, при котором «все возможно», к
порядку, при котором «все станет обязательным». Разумеется, Франция была бы
заинтересована в том, чтобы контролировать процесс введения в действие евро
вплоть до его успешного завершения. Для этого ей достаточно было сохранить
портфель, о котором шла речь выше. Именно таким являлось убеждение вновь
назначенного председателя Комиссии, Романо Проди, он высказывал его в
беседе со мной. Но ко всеобщему удивлению Франция не предложила продлить
срок полномочий господина де Сиги, и пост члена ЕК по экономическим и
валютным вопросам был предоставлен испанскому кандидату.
Таким образом, когда в 2002 году подойдет к завершению проект
создания Европейского валютного союза, проект, к идее и разработке которого
Франция самым непосредственным образом была причастна, мы увидим, что
штаб-квартира ЕЦБ находится не на ее территории, что пост председателя этого
банка не в ее руках (по крайней мере, если не удастся в конечном счете прийти
к половинчатому соглашению о разделении на две части срока полномочий
первого председателя ЕЦБ), как и портфель члена ЕК, отвечающего за
валютные вопросы. Кроме того, в этот промежуток времени европейская
денежная единица потеряет свое название «экю», эту частицу блестящего
наследия, оставленного династией Валуа и эпохой Возрождения, ради
неблагозвучного «евро».
***
На фоне событий, в последнее время развертывающихся в Европе,
особенно заметно, как потускнела способность Франции к созданию новых
концепций и к инициативным действиям, словно страна парализована, в
результате чего роль застрельщика перехватывают другие. Наглядным
подтверждением такого вывода может служить реакция на выступление
министра иностранных дел Германии Йошки Фи78
шера. Этот деятель прошел долгий путь, начав его как революционер
левоэкстремистского толка и оказавшись в итоге членом умеренного крыла
«левого центра». Весной 2000 года он сделал в знаменитом Университете имени
Гумбольдта в Берлине поразительный по манере изложения доклад, в котором
дал свое видение будущего Европейского союза. В этом докладе, не имевшем
ничего общего с теми текстами, которые выходят из-под пера анонимных
помощников, автор рассказывал о том, как ему, новичку в политике, пришлось
набираться опыта непосредственно в процессе практической государственной
деятельности, извлекая уроки из собственных ошибок.
И. Фишер пришел к выводу, что процесс неизбежного расширения
Европейского союза в результате принятия в его состав около полутора десятка
новых членов, во-первых, дело более трудное, чем ожидалось, и, во-вторых, в
рамках расширившегося таким образом Союза дальнейшее углубление
интеграции будет в течение длительного периода невозможным. Поэтому
появляется необходимость образования в составе этой большой Европы группы
государств, которые двигались бы дальше, постепенно создавая для себя
учреждения федеративного типа. Докладчик предложил схему этих институтов:
двухпалатный парламент, в одной его палате представлены народы, другая
защищает права государств; исполнительный орган во главе с постоянным
президентом; высший конституционный суд. Только тесное сотрудничество
между Францией и Германией, заключал И. Фишер, дает шансы на
осуществление подобного проекта.
Если внимательно рассмотреть этот текст, то видишь, что это
современная версия знаменитого письма Робера Шумана, написанного в мае
1950 года!1
Доклад снимал лицемерное табу, запрещавшее выражать мысли на языке
федерализма, столь дорогого для Монтескье, запрет, который вынуждал
большую часть европейских руководителей, в том числе и французских,
прибегать к весьма сложным словесным ухищрениям, в то время как мы
практически уже применяем начала федерализма в трех основных областях —
конкуренции, международной торговле, валюте.
Дело в том, что новое германское правительство первое время
подозревали в том, что оно хочет стать на сторону Великобритании и ее
скандинавских партнеров, которые чинили проволочки на пути европейской
интеграции, но вместо этого произошло его возвращение в привычную колею
франко-германского сотрудничества.
Предложения И. Фишера, получившие публичное одобрение канцлера
Шредера, требовали решительного и откровенного ответа со стоВ этом письме Р. Шуман, являвшийся тогда министром иностранных дел Франции, обращался
ко всем европейским странам (в том числе и к СССР) с предложением о создании ЕОУС.
1
79
роны Франции. Следовало ухватиться за возможность, появления
которой ждали с 1984 года, возможность вернуться к проекту сплоченного
Европейского союза, проводимому в жизнь совместно Францией и Германией;
во всяком случае, вопрос заслуживал того, чтобы сделать его предметом общих
глубоких размышлений. Какой прок в ритуале ежегодных двусторонних
франко-германских встреч, тонущих в банальностях, если не использовать эти
встречи для обсуждения проекта подобного уровня или даже — подобного
исторического значения?
Однако Франция предпочла не отвечать, а отделаться невнятным бор
мотанием (Лафонтен сравнил бы его с диалогом карпа и кролика, который они
ведут своими тихими тонкими голосками). Смысл этого бормотания сводился к
тому, что она, Франция, готова довольствоваться постом председателя ЕС,
занимаемым в соответствии с принципом ротации после Португалии и перед
Швецией. Конечно, обязанности председателя важны, поскольку речь идет о
завершении строительства европейских институтов, продолжающегося уже
десять лет, но они никоим образом не препятствуют проведению начатой И.
Фишером дискуссии относительно долговременных перспектив развития
Европейского союза.
Как следовало бы поступить Франции? Поймать брошенный мяч,
предложив созвать конференцию государств, основателей Евросоюза,
Конференцию пятидесятилетия, чтобы подвести итоги полувековой
совместной работы и определить, с учетом немецких идей, содержание ее
ближайшего этапа. Такую процедуру невозможно было бы подвергнуть
критике, ибо шесть государств-основателей составляют группу именно тех, кто
в 1950 году ответил согласием на предложение Робера Шумана, а он ведь
обращался ко всем. И трудно было бы доказать, что эта группа является
картелем «больших» государств, желающих навязать свою волю «малым», ибо в
«шестерку» вместе с крупнейшей европейской державой — Германией —
входит одна из самых малых стран — Люксембург.
Что могло быть легитимнее этой встречи, на которой участники вновь
могли бы мысленно пройти свой головокружительный путь, начатый среди
послевоенных развалин и ненависти и приведший к крушению советской
империи. А потом можно было бы заняться поисками направления, в котором
следует продолжить движение в предстоящие десятилетия. Если бы на
конференции удалось разработать какой-нибудь новый проект и облечь его в
форму договора, этот документ могли бы подписать те государства, участники
встречи, которые этого пожелают.
Франция таким образом вновь взяла бы инициативу в свои руки, а
предложение создать внутри обширного европейского экономического
пространства Европу, управляемую на началах федерализма, позволило бы
общественному мнению ясно представить себе, в каком направлении мы хотели
бы продвигаться. Надо ли подчеркивать, что я
80
высказал свое личное мнение. Как мне кажется, оно из одного ряда с
теми импульсами, что постоянно получало от Франции дело организации
Европы, начиная с учреждения ЕОУС в 1950-е годы и вплоть до создания
общей валюты в конце века.
Понятно, что общественное мнение, которое не входит в детали
валютных проблем, смутно ощущает, как череда всех этих движений вспять и
отступлений ведет к политическому упадку Франции.
***
Такая ситуация, к сожалению, существует не только в валютной сфере.
Если вы возьмете справочник с данными о ведущих европейских деятелях,
перелистаете его ежегодные выпуски, то увидите, как Франция теряет важные
посты, которые еще недавно принадлежали ей. Если в свое время французы
выполняли обязанности председателя Европейской комиссии (дважды, причем с
блеском), председателя Суда Европейских сообществ и генерального директора
Европейского инвестиционного банка, то ныне их нет ни на одной из
перечисленных должностей. Верно, что объединенная Европа расширилась и
что теперь ответственные посты нужно распределять между большим числом
государств. Но можно лишь восхищаться предусмотрительностью и умелыми
действиями Испании, которая, как мы видим, добилась поста Генерального
секретаря НАТО, затем в новом составе ЕК портфеля ее члена, ответственного
за валютные вопросы и, наконец, должности Верховного представителя ЕС по
вопросам внешней политики и политики безопасности. Такие же чувства
вызывает решительность Великобритании — она сменила Испанию на посту
Генерального секретаря НАТО, а также добилась в новом составе ЕК портфеля
члена, ответственного за внешние сношения.
Самое удивительное заключается в том, что о существовании
французских кандидатов на ту или иную из названных ответственных
должностей ныне и не вспоминают. Небесам, однако, известно, завоевала ли
Франция давнюю и надежную репутацию в том, что касается качества ее
высших административных и дипломатических кадров! Создается впечатление,
что наша страна наглоталась какой-то такой хитроумной смеси, что потеряла
способность планировать и предпринимать шаги, обеспечивающие ее
присутствие и влияние на деятельность международных организаций, членом
которых она является. Очевидно, что именно ситуация сосуществования,
заставляющая отдавать приоритет поискам внутреннего равновесия, заставляет
скользить Францию в этом направлении.
Рассматривая сложившееся положение, мы не раскрываем причин
«упадка», а лишь констатируем одно из его проявлений. Это положение
вызывает грустные чувства у всех тех, кто мог видеть в прошлом блестящие
достижения французской культуры, какую бы тенденцию, правую или левую,
не представляли ее деятели.
81
Думаю, что то, к чему мы пришли, напрямую не связано с упорством,
проявляемым
противниками
в
споре
о
tabula
rasa.
Дело
в
неудовлетворительном функционировании наших политических институтов,
которое является косвенным следствием названного спора.
***
Что же касается нашей готовности непредвзято отнестись к изменениям,
происходящим в мире, то это третье из основных направлений наших действий
на международной арене, и в таком подходе не должно проявляться навязчивого
стремления «играть важную роль». Конечно, в любом случае наша позиция
мало повлияет на эти изменения. Такая готовность должна скорее выражать
нашу способность стать частью эволюционных процессов, которые все громче
заявляют о себе, «жить в согласии» с миром нашего времени, не пытаясь им
управлять.
В этом мире у нас будут свои интересы, которые потребуют защиты, —
это само собой разумеется. Кроме того, нам придется выступать рядом с
другими действующими лицами, то есть с другими народами. Они будут
наблюдать за нами и пытаться выяснить наше отношение к происходящему.
Сможет ли Франция предстать перед ними в облике страны терпимой и
осторожной, но в то же время энергичной и открытой тому, что выбирают
другие.
Определенные изменения в мире будут происходить внутри других
стран и мало повлияют на нашу национальную жизнь. С особым интересом я
думаю о тех формах, которые приобретет сотрудничество между государствами
Южной Америки. Ведь речь идет о странах, которые никогда — в отличие от
стран Европы — не выплескивали свои внутренние конфликты во внешний мир.
Мы с интересом и пониманием будем следить за их поисками форм своей
организации еще и потому, что наши культуры близки.
Китай, Африка и Россия — вот три крупных сообщества (не следует
также забывать Японию и Индию), которые в предстоящие пятьдесят лет будут
влиять на международную жизнь и станут объектом внимания политических,
торговых и финансовых кругов.
КИТАЙ ПРОБУДИЛСЯ
Самые большие перемены привнесет в нашу жизнь обновленный Китай.
Мы станем свидетелями его мощного экономического и технологического
подъема, благодаря которому объем производства данной страны будет
увеличиваться каждое десятилетие примерно в два раза. Чтобы в этом
убедиться, достаточно посмотреть, как весь Китай готовится к своему
вхождению во Всемирную торговую органи82
зацию. Это вхождение нам может показаться делом будничным, но
большинство китайцев — за исключением крестьянской массы, проявляющей
глухое беспокойство в связи с возможным изменением цены на рис, —
рассматривает его в качестве некоего теста, «экзамена», сдача которого
открывает широкие перспективы, хотя и сопряжена с большими опасностями1.
Китайская экономика не может позволить себе роскошь провала, каким
явилось бы достаточно сильное падение темпов роста, ибо тогда проблема
увеличения безработицы быстро стала бы взрывоопасной. Кроме того, этой
стране вскоре придется столкнуться с трудной задачей особого рода, такой,
какая не вставала перед другими странами и для решения которой нет
чудодейственных средств: сохранить ускоренные темпы экономического
развития, которое не сопровождается введением институтов, обеспечивающих
представительными
и
партиципаторными
методами
политическое
преобразование страны. Для решения этой задачи Китай нуждается не столько в
менторах, сколько в партнерах, готовых к обмену опытом. Это важно тем более
потому, что Китай не застрахован от взрывов народного гнева, одного из тех,
что регулярно — каждые три века — сотрясали его. Такие взрывы в былые
времена порождал голод, вызванный неурожаями и наводнениями, а во времена
нынешние — неравное распределение плодов развития. Франция могла бы стать
одним из самых близких партнеров Китая, чутким к проблемам, с которыми он
сталкивается, обладающим осторожностью, порожденной памятью о ее
собственных экспериментах. Постепенно становится достоянием прошлого
историческая тяжба, вызванная той тяжелой данью, которую на протяжении
всего XIX века Запад накладывал на Китай и от которой страдал народ, его
достоинство и его культура. Ныне для нас открывается возможность
сопровождать этот самый многочисленный народ, эту самую древнюю
цивилизацию Земли на пути в будущее.
МОЖНО ЛЮБИТЬ АФРИКУ!
В ближайшие полвека та часть Африки, что лежит к югу от Сахары,
продолжит свое долгое и трудное вхождение в современную цивилизацию. Этот
переход часто оказывается тяжким для народов, вырванных из традиционного
образа жизни, вовлеченных в урбанизацию, слабо способствующую росту
доходов и увеличению числа рабочих мест; эти народы тяжко страдают от
болезни, вызванной одним из самых смертоносных вирусов, иногда им
приходится сталкиваться с возрождением первобытной жестокости. Подобная
мутация не может не
Китай стал членом ВТО в конце 2001 г. Подготовка к вступлению страны в эту организацию
заняла полтора десятилетия.
1
83
быть медленной, ибо следует учитывать образовательный уровень
населения и постепенность процесса смены поколений. Нам трудно быть
последовательными по отношению к Африке, нам мешают наши привычки и
наши воспоминания — плохие и хорошие — о колониальной эре, наше
бессознательное желание видеть, что Африка заимствует нашу модель
общества, отказавшись от всех своих особенностей, наша импульсивность,
толкающая нас на военные экспедиции с гуманитарной целью, которые наши
правительства предпринимают порой в не самый подходящий момент и
сворачивают, не добившись цели.
У Франции в течение длительного времени была разумная политика по
отношению к франкоязычной Африке. Эта политика, которая начала
осуществляться при Четвертой республике, была подхвачена генералом де
Голлем, продолжена его последователями и включала в себя предоставление
независимости Коморам и Джибути. В результате проведенная Францией в
Африке деколонизация оказалась самой удачной из всех: она оставалась мирной
от начала до конца и не оставила после себя ни сожалений, ни обид.
Предпринимавшиеся начиная с 1980-х годов попытки заменить эту
политику другой, состоящей в том, чтобы найти глобальный подход ко всему
Африканскому континенту, включая португалоговорящие государства, множа
инициативы — и авантюры, — эти попытки принесли разочарование, в
частности в восточном регионе континента. Произошла частичная
дестабилизация
франкоговорящих
государств,
причем
темпы
их
демократического развития не ускорились. Ослабла эффективность нашей
помощи, оказываемой на двусторонней основе, ибо ее пришлось распределять
среди слишком большого числа получателей.
Франция не больше остальной Европы может позволить себе
равнодушие по отношению к тому, что происходит в Африке, тем более что
людские потоки, которые длительное время шли с востока на запад, начинаясь в
горах Центральной Азии и русских степях, ныне постепенно меняют
направление и теперь идут с юга на север. Их питают всё увеличивающаяся
разница в экономических условиях жизни и облегчают возможности
транспорта. В предстоящие десятилетия политика Франции, проводимая на
двусторонней основе, может иметь смысл только в том случае, если будет
обращена к одним лишь франкоязычным государствам. Именно там эта
политика опирается на культурную близость, на сходство юридических
принципов, проистекающее из единой основы — нашего права, на общую
модель образования, в частности высшего, которая способствует обменам.
Масштаб нашего сотрудничества с этими странами таков, что позволяет
проводить в них весьма значительные мероприятия в сфере просвещения,
передачи новых технологий, создания рабочих мест и защиты от СПИДа.
Если говорить об остальных частях Африканского континента, то у
Франции нет никаких причин для того, чтобы стараться выделиться
84
ни среди партнеров по Европейскому союзу, ни в Организации
Объединенных Наций. Нам следует выступать за принятие эффективных и
поддающихся проверке мер по поддержанию действий самих африканцев (а о
том, что такие действия предпринимаются, свидетельствует некоторое
ускорение темпов роста африканской экономики), а также призывать к
международной солидарности в борьбе против голода и эпидемий, которые
нередко обрушиваются на народы Африки. И Франции в этом случае больше бы
подошла роль катализатора, чем роль лидера.
Давайте избавимся в рассуждениях об Африке от чувства превосходства
и вялого сочувствия к ней! И наберемся смелости для того, чтобы
дистанцироваться от заключений экспертов, предрекающих Африке катастрофу
лишь потому, что она в ближайшие десятилетия будет не в состоянии (кто же в
этом сомневается?) воспроизвести американскую модель общества. Мы можем
любить Африку! Это континент-прародитель, при созерцании его огромных
просторов захватывает дух, они позволяют нам увидеть нашу планету такой,
какой она была до появления человека. Прошлое Африки гораздо древнее
нашего. Она имеет право на то, чтобы ей дали время развиваться по-своему и
при этом получать законную долю международной поддержки, которой она до
сих пор была лишена. Эту помощь следует организовать таким образом, чтобы
ее плоды направлялись непосредственно населению, а не перехватывались
алчными
руководителями,
не
пропадали
из-за
неповоротливости
промежуточных звеньев. Соответствующую структуру высокого уровня,
создаваемую в рамках Международного валютного фонда и во Всемирном
банке, следовало бы наделить в этих целях такими неоспоримыми
полномочиями, какие имели цензоры Древнего Рима и императорского Китая.
РОССИЯ И БОЛЬШАЯ ЕВРОПА
В свое время, имея в виду Россию, генерал де Голль предложил
следующее определение Европы: она простирается «от Атлантики до Урала».
Сегодняшние европейские руководители, ратующие в своих страстных речах за
расширение Европы, кажется, забыли Россию. Им не терпится стать
свидетелями присоединения к Европейскому союзу Болгарии, Румынии, а
завтра и Македонии. Как будто есть готовность принять в его члены Украину.
Но о России не говорится ни слова! В данном случае России мешают два
неблагоприятных обстоятельства — слишком обширная территория и слишком
многочисленное население; ее вхождение в европейские учреждения нарушило
бы в них хрупкое равновесие. Значительная часть территории России
раскинулась в Азии, страна имеет общую границу с Китаем. Какой облик
принял бы Европейский союз, получив общую границу с Китаем? Отсюда
решение, продиктованное благоразумием: забудем Россию.
85
Россия, однако, не позволит надолго себя забыть! Да и ее
непосредственных соседей будет заботить уготованная ей судьба. Уже член ЕК,
занимающийся вопросами расширения Евросоюза, восклицал: «Для нас было
бы неприемлемым превращение Польши в восточную границу Европейского
союза!» Что же мы видим за пределами этой страны? Белоруссию, прочно
связанную с Россией, а дальше необъятные русские просторы.
Франции необходимо в своих размышлениях уделить России должное
место. Каковы бы ни были недостатки этой страны, ей удалось совершить,
практически без насилия, переход от коммунистической диктатуры к строю,
основанному на демократии. Россия сохраняет свою интеллектуальную элиту, в
которую входят дипломаты, инженеры, научные работники. Ее энергетические
и сырьевые ресурсы — крупнейшие в мире.
Позиция России на геополитической карте еще не определилась.
Западная ее часть имеет отчетливо европейский характер. Но новые русские
националисты, чувства которых обострила потеря страной статуса военной
супердержавы, не готовы отказаться от контроля над ее обширными азиатскими
владениями.
Во время первого официального визита Бориса Ельцина во Францию он
принял меня в Большом Трианоне Версаля, где его разместили согласно
протоколу. Он был признателен за то, что в свое время я отмежевался от
европейских и французских властей, которые нанесли ему оскорбление,
отказавшись принять в Страсбурге, а затем в Елисейском дворце. Я организовал
тогда в его честь обед в одном из страсбургских ресторанов. В Трианоне Ельцин
задал мне неожиданный вопрос: «Я хотел бы, чтобы Россия стала членом
Европейского союза, но мы не знаем, как за это взяться! Не могли бы вы дать
нам совет? Я пошлю к вам одного из моих сотрудников (речь шла об Анатолии
Чубайсе), чтобы вы подсказали ему, как следует действовать».
Сегодня расширение Евросоюза приняло иной оборот. В него порой
принимают государства гораздо менее европейские в культурном и
политическом плане, чем Европейская Россия. Чтобы избежать осложнений,
Россию вновь осторожно изолировали.
Если Францию заботит будущее Европы, ей следует подумать о том,
какое место должна занимать Россия в Европейском сообществе. Очевидно, что
решения на этот счет будут приниматься институтами большой и, если
последняя станет реальностью, федеративной Европы1. Даже если
В этой связи позволю себе высказать предложение относительно будущих внешних сношений
федеративной Европы. Государства, члены этой группы, могли бы договориться, что все
решения, касающиеся признания новых государств и разрыва дипломатических отношений,
будут находиться в сфере федеративного управления, то есть будут приниматься большинством
голосов без права вето и станут обязательными для всех. Совершенно очевидно, что любые
другие решения могли бы привести к ситуациям, которыми невозможно управлять. — Примеч.
авт.
1
86
со временем России суждено избавиться от любой формы тягостной
американской опеки, она все равно будет чувствовать на себе давление США. В
области экономики решающее влияние останется за Германией. Но у Франции
есть преимущество, которое дает ей возможность воздействовать на решения
европейцев относительно статуса России, — она гораздо независимее в своих
действиях, чем ее партнеры. К тому же неплохо складывается диалог между
руководителями обеих стран, несмотря на отдельные провалы, существуют
прочные исторические и культурные связи между Россией и Францией, между
Москвой, Санкт-Петербургом и Парижем.
Развивать мои мысли дальше здесь не стоит, ведь на это может уйти
слишком много времени. Но если принять гипотезу, согласно которой наши
сегодняшние руководители собираются взять курс на Большую Европу из трех
десятков членов, то в ближайшее время им бы следовало внести предложение,
чтобы в этой организации обязательно предусматривалось «участие Российской
Федерации».
Более точную формулировку пока дать невозможно, ибо совершенно
неизвестно, каким будет окончательный вид многих элементов, из которых
слагается ситуация. Зато можно более или менее четко обозначить территорию
и благодаря этому увидеть картину будущего: Большую Европу, включающую
на Западе Европейский федеративный союз в Центре и на Севере —
государства-члены Евросоюза, не сделавшие выбор в пользу федерации; а на
Востоке — Российскую Федерацию. И сам Североамериканский континент
довольно близок к организации по подобной схеме: Соединенные Штаты,
Канада и Мексика.
***
Эти заметки позволяют возвратиться к нашей исходной идее: для
Франции главное заключается в том, чтобы, отказавшись от навязчивого
стремления «играть важную роль», наивного и высокомерного, добиться
репутации уравновешенного партнера, способного, в соответствии со своим
собственным опытом и характером, помогать искать и находить некоторые
ответы на вопросы, которые будущее ставит перед странами нашей планеты.
87
Глава 4
МОНАРХИЧЕСКИЙ КОЛЬБЕРИЗМ И ЯКОБИНСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ
Франция
есть
прекраснейшее
королевств, предстающих взору солнца.
А. де Монкретьен
из
«Франция — это сельская страна с протекционистской традицией» —
таково принятое в мире суждение о нашей родине. И зарубежные мудрецы
добавляют: «Поскольку у Франции есть эти две особенности, ей трудно
приспособиться к основным требованиям современного мира — глобализации и
рыночной открытости. Сопротивление неизбежным изменениям обрекает ее на
экономический, а следовательно, и на политический упадок».
И вот перед нами, если верить значительной части международных
экспертов, вторая причина, на сей раз не по Бёрку, политического упадка
Франции: ее старомодная привязанность к протекционизму.
Здесь мне хотелось бы сменить тон и просто порассуждать. Ибо теперь
следует обсудить то, как за рубежом оценивают наш образ жизни. Оправдан ли
он? Действительно ли приводит к названным выше последствиям? Должны ли
мы и можем ли мы изменить свое поведение?
***
«Франция — это европейская сельская страна с протекционистской
традицией».
Когда блестящая экономическая пресса той части мира, что говорит поанглийски, изображает нас подобным образом, она, думаю, права. Но это не
столько упрек, сколько описание. И актуально оно скорее для прошлого.
Да, Франция — сельская страна, она стала такой со времен утверждения
римской цивилизации на Юге и раскорчевки лесов в Центре и на Севере в
начале второго тысячелетия. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по
проселочным дорогам. Франция состоит из деревень, в центре каждой
находится церковь, а кормилицей здесь — щедрой или
88
скупой — является земля. Собственность на землю у нас распределена
гораздо равномернее, чем в других странах, в частности в Великобритании и
Германии, где до сих пор сохранились крупные землевладения. Искусство
возделывать землю передается из поколения в поколение внутри каждой семьи.
Пятьдесят лет назад во французском сельском хозяйстве началась
технологическая революция, позволившая удвоить его производительность.
Сразу же после введения всеобщего избирательного права сельское
население благодаря своему численному превосходству приобрело
значительное политическое влияние. Это влияние было использовано для того,
чтобы сначала гарантировать, а затем увеличить доходы земледельцев путем
установления монополии производителей на рынках и давления на власти с
целью ежегодного повышения цен. Сельскохозяйственные производители сами
решали, какую часть урожая общество должно было покупать у них по
фиксированной цене. Это привело к учреждению Государственного управления
по производству и продаже зерна и к индексации цен на молоко в соответствии
с законом, принятым в 1956 году. Сама политическая власть стремилась к тому,
чтобы освободить сельское хозяйство от ограничений, накладываемых общим
законодательством. Например, этой власти удалось добиться установления
особого режима социальной защиты для земледельцев, отличавшегося от
общего, а также упразднить необходимость получения разрешений на
строительство объектов сельскохозяйственного назначения; такой порядок
просуществовал вплоть до 1999 года. Политическая и социальная власть
сельского населения сохранялась почти в нетронутом виде до конца Четвертой
республики. Именно это население потребовало в 1957 году выработать общую
аграрную политику стран — участниц Римского договора, выставив это
требование в качестве условия ратификации указанного договора, желая
уравновесить имевшиеся в нем тенденции к либерализации торговли между
странами. Сегодня трудно себе представить то решающее влияние, какое до
1958 года мог оказывать на Национальное собрание председатель Комиссии по
сельскому хозяйству.
Сельская Франция, культуру и образ жизни которой тщательно описал
историк Фернан Бродель, не имела торговых традиций. То, что производилось,
предназначалось для местного потребления, а иногда — для того, чтобы просто
выжить. Вплоть до конца XVIII века Франция периодически старадала от
голода, который поражал то одну, то другую местность! Только позже
производство начало стремиться к тому, чтобы удовлетворять спрос в
национальном масштабе. Франция должна была обеспечивать свою
продовольственную самодостаточность. Из страны вывозились лишь
«излишки» — сам термин показателен.
Очевидно, что при таком подходе торговые обмены и тем более рынки
занимали незначительное место во французской экономике. В
89
отличие от крестьян традиционно торговых стран — британцев,
фламандцев, ганзейских немцев — французский крестьянин работал,
подчиняясь неторопливому ритму смены времен года, стойко встречая
постоянные капризы природы, трудился, чтобы удовлетворить вполне
определенный набор потребностей своей семьи и ее близкого окружения.
Эта традиция оказалась настолько глубокой, что основным плакатом
своей избирательной кампании 1981 года Франсуа Миттеран выбрал
собственное изображение на фоне сельского пейзажа: деревни, окруженной
полями, с приходской церковью посередине. Хотя коалиция, которую он
возглавлял, всячески подчеркивала, что вдохновляется идеями марксизма, и
сосредоточилась в основном на проблемах индустриальных городских
сообществ.
Один из моих друзей, земледелец, депутат местного собрания в Оверни,
резюмировал ситуацию следующим образом: «Крестьянин — это не профессия,
это принадлежность к сословию».
ФРАНЦИЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ КАК ДОМЕН
Корни французского протекционизма настолько же глубоки. Он не
является плодом сознательного выбора общества, стремящегося решать
современные проблемы внешней торговли. Этот протекционизм проистекает
скорее из старинной концепции управления Францией, которая рассматривалась
как некий домен, концепции, усиленной идеей административного централизма,
унаследованной от Революции и Империи.
Кольберизм, которым Франция, если верить ее критикам, до сих пор
проникнута, отнюдь не представлял собой какую-то доктрину. Хотя Кольбер
был любителем писанины и составил значительное число инструкций и записок,
без устали трудясь по шестнадцать часов ежедневно, среди них отсутствует
какой-либо основной текст с изложением цели его действий. Но прийти к их
пониманию можно без особого труда.
Кольбер был прежде всего слугой короля, хотя начинал со службы
кардиналу Мазарини, и действовал как интендант домена: его роль заключалась
в том, чтобы обеспечивать процветание королевства, развивая в нем
производство материальных ценностей. Про него нельзя было сказать, что он
управлял какой-то сложной системой, включающей в себя и предприятия, и
административные службы, и банки, и суды. Кольбер заведовал
унифицированным сообществом, состоявшим из всех владений и всех
подданных королевства. И чувствовал себя ответственным за процветание этого
сообщества.
В превосходной книге, которую посвятил Кольберу историк Жинью, —
она называется «Месьё Кольбер»1 (говорили: «Месьё, то есть государь,
1
См.: Gignoux C.J. Monsieur Colbert. P.: Grasset, 1941.
90
Кольбер»; так обращались и к Пине, и к Барру, подобным образом
титуловали только лишь управляющих денежными делами, но никогда —
министров иностранных дел или министров обороны!) — следующим образом
объясняется позиция интенданта: следует любой ценой не допускать вывоза
ресурсов, то есть золота, за пределы домена, и для этого необходимо самим
производить все, в чем этот домен нуждается, максимально ограничивая
закупки за рубежом.
«Кольберизм» — это наступательная, а не оборонительная позиция, он
не похож на робкий протекционизм, которому хочет его уподобить
приблизительная историческая интерпретация. Кольбер поощряет налаживание
производства новых товаров на территории королевства. Ему и в голову не
приходит мысль о том, что устаревшим видам деятельности, которым угрожает
иностранная конкуренция, следует помогать выжить, а ведь именно в этом и
заключается протекционизм.
Периодически Жан-Батист Кольбер составляет перечни достигнутых
результатов. «Опись» 1669 года — одна из самых удивительных: это
беспорядочное перечисление всего того, что было создано или производство
чего поощрялось на французской территории. Список включает большое
количество новых мануфактур, ткацких мастерских, плавилен, горных
разработок. Когда же упоминаются иностранные товары, такие как английские
чулки, голландские ткани, пенька из Риги или Пруссии, металлические изделия
шведского или бискайского происхождения, то отнюдь не для того, чтобы
предостеречь от опасности, которую они представляют для существующих во
Франции видов деятельности, а для того, чтобы объявить о предстоящем
налаживании выпуска подобных товаров в нашей стране. И Кольбер завершает
свое длинное перечисление записью, звучащей триумфально, освещающей
подобно вспышке молнии мотивы его деятельности, носящей отнюдь не
оборонительный, но ярко выраженный наступательный характер: «Величие и
щедрость!»
Если Франция и занимает протекционистскую позицию, то с
кольберизмом эта позиция не имеет ничего общего!
Бесспорно, с давних времен ее питает сельский характер страны. Всю
жизнь крестьянин занимается одним и тем же ремеслом на одной и той же
земле. Сельские жители — люди полностью оседлые, постоянно они
перемещаются на расстоянии, не превышающем нескольких десятков
километров, исключение составляет время военной службы, в этом их отличие
от американцев, которые с легкостью переезжают с одного конца страны в
другой.
В силу своего крестьянского происхождения французские рабочие
издавна тоже привыкли заниматься одним и тем же ремеслом, в том месте, где
постоянно проживали. Конкуренцию, надвигающуюся извне, они воспринимали
прежде всего как угрозу того, что возникнет необходимость сменить профессию
или место, где можно ею заниматься.
91
Протест против подобного положения вещей был тем более велик, что
государство приучило своих граждан к постоянному вмешательству в
экономическую жизнь, и они не понимали его бездействия, когда дело касалось
таких жизненно важных вопросов, как обеспечение занятости в соответствии с
профессией и сохранение рабочего места в пределах своей округи.
То, что сегодня называют французским протекционизмом, проистекает
не из нового прочтения экономических трудов Кольбера, приправленного долей
фантазии, а из привычки прибегать к помощи государства для борьбы с любыми
переменами, которые граждане воспринимают как посягательство на свои
завоеванные права.
***
Некоторые наблюдатели описывают Францию как страну, укрывшуюся
за своим традиционным протекционизмом словно за стеной и потому не
способную участвовать в глобализации. Именно в таком духе были выдержаны
наблюдения некоего немецкого политика самого высокого ранга, которыми он
поделился с одним из своих посетителей: «Франция не имеет промышленности.
Да и в ходе наших встреч ее руководители говорят мне только о сельском
хозяйстве! Она жива лишь потому, что необъяснимым образом привлекает к
себе остальной мир. В действительности же Франция — это лишь Париж!»
Заграничным наблюдателям было бы полезно внимательнее
ознакомиться с достижениями французской экономики. Если бы их суждения
были верны, то Франция должна была бы замыкать группу промышленно
развитых стран. Но она занимает в этой группе четвертое место после
Соединенных Штатов, Японии и Германии, от которой довольно заметно
отстает. Однако опережает Италию и Великобританию, равные ей по
населению. Согласно данным Европейской статистической службы, в 1999 году
объем французского валового внутреннего продукта на 10% превышал объем
британского ВВП и на 19% — объем итальянского ВВП.
Среди участников собрания, которое организовал в июне 1999 года в
штате Колорадо AEI1, была распространена диаграмма, показывавшая уровни
производительности труда в промышленности основных индустриальных стран.
Сравнение изумило присутствовавших, да и меня самого! Франция открывала
таблицу, опережала все другие страны, в том числе и Соединенные Штаты,
занявшие второе место.
Французская рабочая сила по своему качеству, — а оно складывается из
профессионализма и желания трудиться, — несомненно, является на
сегодняшний день лучшей в Европе, превосходя немецкую. Лишь треть
AEI (American Enterprise Institute) — Американский институт предпринимательства,
занимается изучением процессов, происходящих в бизнесе. — Примеч. авт.
1
92
французских рабочих имеет образовательный уровень ниже получаемого
по окончании обязательного обучения в школе, тогда как в США таких рабочих
половина, а в Великобритании — 55%. Молодые дипломированные
французские специалисты легко находят работу в ведущих американских
исследовательских лабораториях.
Усилия, предпринятые Францией в 1970-е годы по улучшению
оснащения атомной энергетики, намного превзошли по своим результатам
усилия других европейских стран, позволили снабжать нашу экономику
электроэнергией по конкурентоспособным ценам и продавать электричество
соседям. Ракетная программа «Ариан» (Франция была ее инициатором, ныне
она стала общеевропейской) является единственной в мире программой,
способной выдержать сравнение с аналогичной американской в области
создания ракетоносителей.
Не будем продолжать дальше это перечисление в «галльском» духе. Мы
отнюдь не собираемся подобным образом доказывать наше превосходство,
просто хотели бы призвать к большей умеренности тех, кто пытается оценивать
наши достижения, исходя из каких-либо догм.
Очевидно, нам следовало бы улучшить положение в областях роста и
занятости. Думаю, что достигнуть этого не так уж сложно. Трудности связаны
здесь не с проявлением в немного карикатурном виде некоторых особенностей
нашей экономической истории, а с тем господствующим положением,
обходящимся очень дорого, которое продолжает занимать государство в
хозяйственной жизни Франции.
НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЕСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА
История эта началась очень давно. Именно в данной области, а не в
области протекционизма проложил дорогу Кольбер, именно он посеял первые
семена сорной культуры, которая процветает и сегодня, — культуры
вмешательства государства в хозяйственную деятельность.
Обстоятельства с тех пор коренным образом изменились. Если в XVII
веке государство прямо вмешивалось в экономическую жизнь, то прежде всего
потому, что во Франции той эпохи уже существовало централизованное
государство — такого не было нигде, кроме Испании, — а также потому, что
руководила этим государством сильная, сосредоточенная в одних руках власть,
которая и в своих собственных глазах являлась собственником, отвечающим за
всю страну. Кольбер же был интендантом домена и отчитывался перед своим
господином за результаты управления. Он вмешивался в хозяйственную
деятельность, как и во все другие виды деятельности в королевстве.
Этот способ действий был изменен во второй половине XVIII века, когда
суверен стал менее усидчивым и его интерес к работе по повсе93
дневному управлению доменом ослаб; ведение дел перешло тогда к
провинциальным интендантам-реформаторам, таким как Тюрго и Трюден,
которых поддерживали философы-физиократы, находившиеся под влиянием
Кенэ и проповедовавшие идею о том, что истинные богатства являются плодами
материального производства и создаются трудом на земле. На несколько лет
появилась, как это время от времени случается во Франции, возможность ее
либерального развития. Были приняты эдикты, которые несколько смягчали
ограничения в торговле и намечали меры по реформированию старой, душащей
экономику, налоговой системы. Если бы попытки создать либеральную
конституционную монархию получили развитие, то открылась бы возможность
отказа от «управляемой экономики», за которую так крепко держались
сторонники абсолютизма. Но события приняли другой оборот. И благодаря
якобинскому централизму, усилению которого способствовало установление
Наполеоном мощной административной системы, утвердился еще один вариант
управляемой экономики, основанный на преобладающей роли государства.
Концепция государственного дирижирования наложила отпечаток на жизнь
Франции, экономика, организованная в соответствии с ней, познала на
протяжении ста пятидесяти лет взлеты и падения, свидетелями ее последнего
триумфа мы стали недавно, в первые послевоенные годы.
Традиция почти непрерывного вмешательства государства в экономику
(исключение составили времена Второй империи и годы республиканского
правления в переломный момент XX века — периоды самых высоких темпов
развития французской экономики) отличает нас от всех крупных
промышленных стран. Ее породило слияние политической власти, стремящейся
к максимальной централизации, и мощного административного аппарата. Его
ответвления можно найти в любом уголке страны, его иерархическая
организация забирает себе лучшие кадры с помощью конкурсных наборов в
высшие школы. Эта политико-административная структура естественным
образом склонялась к тому, чтобы взять в свои руки все формы деятельности в
стране, причем указанную склонность укрепляло сознание собственного
бескорыстия и компетентности. Существовало убеждение, что названная
структура обладает одновременно и способностью определять, в чем
заключается общественное благо, — представителям частных интересов это не
под силу, — и средствами, заставляющими уважать ее директивы.
Итак, последний триумф описанной концепции мы увидели после
окончания Второй мировой войны. В целях управления экономикой, которую
загнала в тупик нехватка ресурсов, режим Виши установил некую систему
промышленного корпоративизма. «Организационные комитеты» в каждом
секторе экономики наделялись полномочиями по распределению сырья и
регулированию цен. Эта система оказалась довольно действенной, сохранилась
она, что любопытно, и после осво94
вождения страны от оккупации. И те объединения, которые мы сегодня
называем «промышленными федерациями», появились и структурно
сформировались в ту несчастную эпоху нашей истории. Инструментарий
управляемой экономики в наличии имелся. Республиканскому государству
достаточно было лишь им завладеть.
В эпоху Освобождения преобладала идея — мы назвали бы ее сегодня
идеей, порожденной единомыслием, — в соответствии с которой государству
следует непосредственно руководить экономикой. Это убеждение отражало
фактическую ситуацию: в результате массовых изъятий, произведенных
оккупантами, и разрушений, вызванных бомбардировками, французскую
экономику постиг крах. Нужно было ее восстанавливать. Решение этой задачи
настоятельно требовало методичного и рационального подхода. Жан Монне и
его сторонники, которые были свидетелями перевода американской экономики
на военные рельсы, ратовали за обращение к планированию.
Но истинные причины выбора управляемой экономики лежали гораздо
глубже. Новое поколение политических руководителей страны (большую его
часть составили участники Сопротивления, а те, кто сражался в войсках
«Свободной Франции», — меньшую) было воспитано в марксистском духе.
Однако высшие административные кадры не решались открыто сделать
названный выбор, так как он мог привлечь к их позиции слишком большое
внимание в условиях, кода появились первые трения в отношениях с Советским
Союзом, а начавшаяся реализация Плана Маршалла требовала обращения к
более либеральным концепциям. Поэтому устраивавшее всех решение
заключалось в том, чтобы действовать в духе марксизма, делая выбор в пользу
огосударствления всей экономики, но не говорить об этом.
Те, кто подобно мне получал экономическое образование в конце 1940-х
годов в стенах Национальной школы администрации, готовящей кадры для
управления страной, помнят, какое значительное место в учебных программах
отводилось планированию, организованному по советской модели, считавшейся
тогда образцовой, технологиям управляемой экономики, таким как
административный
ценовой
контроль,
двустороннее
управление
внешнеторговыми квотами. Помню я и русское слово «пятилетка», сладко
звучавшее в устах наших профессоров! О том же, что у рынка существуют
индикаторы, предоставляющие информацию о его состоянии, они не
упоминали. Тип экономической организации, на который ссылались, из
которого следовало исходить в наших студенческих работах, был типом
организации, основанной на крупных государственных предприятиях, и
оставался таковым вплоть до конца 1970-х годов.
Либеральная мысль тогда не участвовала в политических дебатах. Я
говорю даже не о доктрине рыночной экономики, которая никак не была
представлена в парламенте, но о необходимости просто прини95
мать в расчет проблемы частных предприятий; их защищала лишь
небольшая группа парламентариев, к которым относились как к маргиналам,
пережившим свое время.
Царствовала теория планирования, а Генеральный комиссариат по
планированию, будучи объектом своеобразного поклонения, собрал лучшие
умы того времени.
Дух управляемой экономики опьянил и Министерство финансов, ведь
благодаря ей оно, министерство, получало возможность расширить свою власть.
Национализация крупных банков и страховых компаний, усиленная опека
специализированных кредитных учреждений, таких как Crédit national и Crédit
fonder, позволили ему превратить Государственное казначейство в
обязательный пропускной пункт для крупных операций по финансированию.
«Никогда не забывайте, — наставительно заявил мне директор
Казначейства во время моего визита к нему после назначения в секретариат
министра финансов Эдгара Фора, — никогда не забывайте, что только
Казначейство способно превращать государственные обязательства в
гидроэлектростанции!»
Эту атмосферу единодушия на короткое время нарушил доселе
неизвестный человек — Антуан Пине, который в 1952 году стал председателем
Совета министров.
В его действиях не было ничего революционного, он лишь постоянно
напоминал о существовании некоторых законов экономики и политической
психологии, например, о необходимости соблюдать равновесие в
государственных финансах и добиваться доверия вкладчиков. Благодаря
непривычному тону его выступления сначала вызывали интерес, а затем
получили массовую поддержку общественного мнения. Смелость председателя
Совета (как и Раймон Пуанкаре, он оставил за собой портфель министра
финансов) доходила до святотатства: он сместил со своего поста директора
Государственного
казначейства
Франсуа
Блок-Лене.
Политикоадминистративные круги с нетерпением ожидали, когда завершится правление
Пине, который мешал им мыслить привычными стереотипами, снова ставя под
вопрос эффективность государственного дирижирования экономикой. И вот в
декабре 1953 года была разыграна парламентская комбинация, во время которой
обсуждение незначительного документа было использовано для того, чтобы
самым постыдным образом1 положить конец тому, что назвали «эксперимент
Пине» и о котором французы помнят и сегодня, пятьдесят лет спустя.
Депутату от большинства, Арману Муазану, его группа поручила объявить с трибуны о
голосовании по вотуму недоверия правительству Пине; этот депутат благодаря своему
выступлению получил прозвище Кухонный Нож. — Примеч. авт.
1
96
В последние годы Четвертой республики назрела необходимость мер по
смягчению государственного характера экономики; в частности, Эдгар Фор
вопреки единодушному заключению экспертов (их Фор собрал у себя дома,
чтобы обеспечить обсуждению секретность) решил сделать франк
конвертируемой валютой. До того момента существовал порядок, по которому
лица, желавшие приобрести конвертируемую валюту для покупки импортных
товаров или оплаты поездки за границу, должны были каждый раз получать
разрешение от администрации. Эдгар Фор сумел в конце концов убедить себя
самого в том, что конвертируемость французской валюты не создаст никакой
опасности для нашей экономики, и практика это подтвердила.
С приходом к власти в 1958 году генерала де Голля политический
пейзаж заметно обновился. Председатель Пине вновь получил портфель
министра финансов. Но практика государственного управления экономикой
преобладала по-прежнему.
Это было связано прежде всего с самим де Голлем. Думаю, что не нанесу
ущерба его памяти, если скажу, что он не был внимателен к проблемам
экономики, полагая, что ее роль состоит в том, чтобы предоставлять ресурсы,
нужные политике. Государство по-прежнему оставалось главным управителем.
От концепций, носивших скрыто марксистский характер, отказались, но
убеждение, что интересы нации должны преобладать над частными интересами
и даже над законами экономики, сохранилось. Требование всемерно уважать
план по-прежнему оставалось актуальным, и генерал де Голль, поощряемый
Жаком Рюэфом1, был увлечен идеей возвращения к золотому стандарту.
Вспоминается знаменитое замечание де Голля: «Политика Франции в
"корзине"2 не делается».
Замечательным распространителем этих тенденций стал деятель,
которого де Голль удачно выбрал в качестве своего премьер-министра, —
Мишель Дебре! В нем было что-то от Кольбера. Он неутомимо трудился,
забрасывал записочками с указаниями своих помощников и министров, они
находили их, приходя утром, на своих рабочих столах. Марксистские идеи
Мишеля Дебре отнюдь не вдохновляли. Для него стимулом являлся скорее
«государственный расчет», столь ценимый кардиналом Ришелье.
Дебре окружали сотрудники, которые, как и он сам, получили
административно-правовое образование. Никто из них не имел представления о
том, как на самом деле работает предприятие. Свою роль эти люди видели в
том, чтобы с помощью законов и декретов регулироЖак Рюэф (1896—1978) — известный французский экономист, поборник восстановления роли
золота в международных расчетах.
2
«Корзина» — на профессиональном сленге биржевой зал, площадка, отведенная для
совершения сделок.
1
97
вать экономическую жизнь, контролировать все ее стороны. Если
государство что-либо решило, реальной экономике надлежит лишь выполнять
это решение. Вспоминаю, как на одной из встреч в своей резиденции, отеле
Матиньон, Мишель Дебре ломал себе пальцы в порыве гнева и отчаяния,
клеймя предпринимателей, которые не построили завод в зоне, которую
государство предназначило для этого в первую очередь.
«Предприятия издеваются над решениями государства, — заявил он
участникам собрания, которые единодушно кивали головами, выражая свое
согласие с оратором. — Это недопустимо! Они крадут наше время, приходя к
нам с просьбами о помощи. Им следует понять, что если они не будут
инвестировать в Сен-Назере, то необходимость в визитах к нам с ходатайствами
отпадет. Ответом станет нет, нет и нет!»
Я считал, что в такой обстановке либеральный подход имеет мало
шансов на успех. Министр промышленности Жан-Марсель Жаннене руководил
своим министерством как центральным ведомством, распоряжения которого
полностью определяли задачи государственных предприятий по выпуску
продукции и оплате труда, причем нередко в явном противоречии с очевидными
требованиями макроэкономики. Этот министр постоянно вступал в конфликты с
Антуаном Пине, хотя эти два то и дело выходивших из себя человека вполне
были способны мирно беседовать друг с другом.
Поэтому, когда генерал де Голль доверил мне в 1962 году руководство
Министерством экономики и финансов, я поставил перед собой единственную
задачу, показавшуюся мне вполне разумной, — следовать правилу, которое
Кольбер называл «правилом порядка» (la maxime de I' ordre). В измученной
инфляцией стране, где цены и зарплата, несмотря на ценовое регулирование и
директивы, росли в два раза быстрее, чем производительность труда, первой
битвой, с которой следовало начать, была битва против бюджетного дефицита.
Я полагал, что генерал де Голль одобрит задачу восстановления равновесия.
Поскольку мое отношение к любому повышению налогов было отрицательным,
следовало сокращать расходы. Дискуссия оказалась изнурительной, ибо Жорж
Помпиду1, экономическая культура которого сложилась в частном банке, не
разделял моего отвращения к бюджетному дефициту и не без труда принимал
мои предложения. Он считал, что благодаря некоторой дефицитности бюджета
образуется дополнительная денежная масса, которая сама по себе ускорит
развитие экономики. Если бы к Жоржу Помпиду подходили по меркам, которые
были приняты в годы, предшествовавшие Французской революции, то его
назвали бы не либеральным экономистом, а банкиром-дирижистом.
1
В 1962—1968 гг. Жорж Помпиду был премьер-министром Франции.
98
На мой взгляд, Франция страдала не от недостаточного объема денежной
массы, а, напротив, от пагубного бюджетного дефицита, ибо в ситуации
развития инфляции, в которой мы находились, роль государственных финансов
заключалась не в том, чтобы питать инфляцию, но в том, чтобы содействовать
восстановлению равновесия. Эта задача была решена в 1965 году при ощутимой
поддержке со стороны генерала де Голля, когда Франция впервые за
послевоенное время разработала и выполнила бездефицитный бюджет.
Все это время великого экономического спора между рынком и
государством последнее сохраняло за собой решающую роль. Сложившееся
положение устраивало всех: правительство чувствовало, что непосредственно
влияет на дела в стране; администрация пользовалась своим всемогуществом;
патронируемые бизнесмены привыкли добиваться от единственного партнера
— правительства — необходимых для себя решений; а профсоюзам данная
ситуация давала возможность устраивать ежегодные выступления для решения
проблемы уровня зарплаты, укрепляя заодно и свою власть. Поскольку инерция
послевоенных «тридцати славных лет» все еще обеспечивала рост экономики,
проблема безработицы не вставала. Единственной отрицательной стороной
ситуации была инфляция. В конце цикла требовались именно деньги, чтобы
платить по счетам.
Таково было положение вещей, которое я попытался изменить, введя в
1974 году понятие «продвинутого либерализма».
МОИ ТРИ ЦЕЛИ
Мне было ясно, что пружина экономического роста «тридцати славных
лет» окончательно сломана великим нефтяным потрясением 1973 года (которое
сегодня было бы равнозначно взлету цены на бензин до 40 франков или до б
евро за литр!). Если мы хотели избежать дальнейшего обесценивания франка, то
сбои в международной финансовой системе, происходившие в 1970-е годы,
должны были сделать нас более бдительными по отношению к изменениям
валютных курсов. Но централизованное государственное управление
экономикой, крайне жесткое и неповоротливое, не позволяло проводить в срок
те тысячи операций, которые были необходимы для того, чтобы приспособиться
к меняющимся условиям. Через пятнадцать лет после заключения Римского
договора открытые экономические границы стали реальностью, а таможенные
пошлины окончательно исчезли из пространства внутри Европейского союза.
Время потребовало более гибких механизмов управления экономикой, которые
дали бы предприятиям возможность подготовиться к конкуренции и
использовать ее преимущества. Если я напомнил (излишне подробно, скажете
вы) историю спора о той роли в управлении экономикой, которую должны
играть государ99
ство и рынок, то потому, что хотел подчеркнуть следующее: речь идет о
вопросе, имеющем долгую историю, возникавшем в нашем прошлом не раз; при
рассмотрении его нельзя ограничиваться упрощенными представлениями,
пренебрегая психологическими, политическими и даже эмоциональными
аспектами.
Итак, я попытался во второй половине 1970-х годов переориентировать
хозяйство нашей страны в сторону рыночной экономики. Я намеренно называл
ее «социальной рыночной экономикой», по примеру наших немецких соседей,
ибо понимал, что французы, чьи убеждения по данному вопросу я полностью
разделял, потребуют от нас учесть все социальные последствия, к которым
приведет принятие рыночных правил.
Мне виделись три цели.
Самой важной из них было упразднение режима административного
ценового регулирования. Сегодня с трудом можно себе представить, что на все
устанавливались твердые цены, которые публиковались в официальном
бюллетене цен. В нем указывалось, сколько следует платить за чашку кофе и за
тонну железа (в соответствии с его сортом), за смену подметок и стрижку волос
(по-разному, разумеется, за мужскую, женскую и детскую и особо за
дополнительные услуги, такие как мытье волос шампунем или их окраска).
Я смог убедиться, что этот жесткий корсет (кстати, и на корсеты конечно
же устанавливались твердые цены) не смог предотвратить взрыв цен,
последовавший за повышением цены на нефть, в то время как Германия,
проводившая политику свободных цен, добилась гораздо больших, чем наши,
результатов.
Демонтаж механизма ценового регулирования проводил министр
экономики Рене Монори, пришедший из частного сектора, руководил им
Раймон Барр. Я добивался от Рене Монори того, чтобы в ходе реализации этой
политики исчезло ведомство, занимавшееся ценовым регулированием, а его
сотрудники были переведены в другие государственные финансовые
подразделения, ибо это решение необходимо было сделать необратимым,
исключить любую возможность поворота назад, даже если бы подобный
поворот задумало какое-нибудь новое правительство.
К 1980 году эта работа была почти закончена. Сохранялись еще
несколько объектов ценовой фиксации в сфере услуг и туристическом секторе
(в их числе была и пресловутая чашка кофе в бистро), которые государственный
секретарь по туризму отстаивал даже в Совете министров, ибо переговоры с
профессиональными объединениями затягивались. Как можно видеть, привычка
ко вмешательству государства оказалась настолько прочной, что понадобились
продолжительные дискуссии с заинтересованными лицами, чтобы покончить с
цено100
выми регулированием и контролем, от которых самим этим лицам
приходилось страдать! Я был полон решимости довести наше дело до конца и
успеть окончательно расчистить почву до президентских выборов в 1981 году.
Символично, что именно на последнем перед выборами заседании
Совета министров были одобрены решения, впрочем незначительные, которые
закрывали вопрос. Таким образом, было, наконец, завершено первое из
преобразований, необходимых для того, чтобы либерализовать французскую
экономику.
Предпринятые действия шли вразрез с тем, к чему французы привыкли.
Их не одобряли ни общественное мнение, ни администрация, ни политические
крути, причем по разным причинам в каждом конкретном случае. Разумеется,
враждебно отнеслись к политике либерализации цен левые депутаты. Жорж
Марше просто не находил достаточного количества сарказмов для ее
разоблачения и впадал в такой пафос, что становился смешон. Но и входившие
в большинство депутаты от РПР1, созданного в 1976 году Жаком Шираком,
ставили под сомнение проводимый курс и выражали свое несогласие с ним,
неоднократно отказываясь голосовать за принятие бюджета. Не отражая в
данном вопросе позиций своих избирателей, но в то же время не решаясь по
политическим соображениям присоединиться к новому образу действий, эти
депутаты предпочитали не подвергать себя риску, укрываясь за традиционным
этатизмом. Даже в предпринимательской среде мнения расходились.
Вспоминаю упреки руководителя одной из крупных фирм по производству
пневматических изделий, который славился своим последовательным
либерализмом: «Вы слишком быстро пошли по пути освобождения цен. Вы
облегчили задачу моим конкурентам, не оставив мне времени для налаживания
коммерческой политики!»
Быть может! Найти убедительные причины, чтобы действовать не так
быстро, идти не так далеко, можно всегда. Успеть сделать дело пока не поздно
— вот что главное.
Достижение второй цели было сопряжено с гораздо большими
сложностями: речь шла о том, чтобы разгосударствить финансирование
экономики, лишая Государственное казначейство его роли обязательного
пропускного пункта и стимулируя предприимчивость и здоровую конкуренцию
в банковском секторе, чересчур замкнувшемся в сфере специализированного
финансирования. Руководителями кредитных учреждений, будь то банк Credit
Lyonnais или банк BNP, были назначены решительные и компетентные люди.
Рене Монори, которому помогал Мишель Пеберо, проявил новаторство при
организации рыночРПР — Объединение в поддержку республики — партия-преемник созданного в 1958 г.
сторонниками де Голля Союза в защиту новой республики.
1
101
ного финансирования предприятий, наладив сеть инвестиционных
кампаний Sicav, которая действует и сегодня.
Нам было еще довольно далеко до цели, ибо сознание людей,
работавших в банковских учреждениях, оставалось слабо подготовленным к
смене курса. Рентабельность крупных банков и страховых компаний,
входивших в государственный сектор, все еще была окружена тайной. Объем
средств — минимальный и устанавливаемый произвольно! — который эти
учреждения должны были передавать государству как свою прибыль, ежегодно
определялся в острой дискуссии с руководством Государственного
казначейства.
Я пришел к выводу, что лучший способ рассеять мрак, в который до сих
пор был погружен данный мир, — это, наладив котировку акций указанных
предприятий, заставить их публиковать отчеты о своей деятельности. Но еще
нужно было добиться выпуска самих акций. Единственным способом
достижения этого, поскольку в Национальном собрании отсутствовало
большинство, необходимое для голосования за приватизацию (как, впрочем, и
за отмену монополии государства на телевидение), было бы выделение либо
акций, либо средств для их покупки наемным банковским работникам. Именно
так появились первые котировки наших крупных кредитных и страховых
учреждений.
Последней полосой препятствий, которую предстояло преодолеть,
являлся переход от концепции планируемой экономики к концепции экономики
рыночной. Необходимость данного перехода представлялась мне очевидной,
хотя и требующей осторожности, но, как ни парадоксально, это оказалось
сложнее всего. По данному вопросу не было единодушия и внутри
правительства. Даже Раймон Барр сохранял привязанность к Генеральному
комиссариату по планированию. С одной стороны, он активно участвовал в
подготовке 8-го плана (на 1981— 1985 годы), с другой — старался смягчить
крайности, в которые впадали его коллеги, и отказался зафиксировать в тексте
цифры ежегодных темпов роста производства. В парламенте дух неприятия
перемен был таков, что Барр решил проявить осторожность и не представлять
этот документ. В политических кругах сочли бы кощунством, если бы при
очередном определении состава правительства был упразднен пост министра по
планированию, хотя внятно объяснить, в чем заключалась специфика его
работы, было все труднее и труднее, и я не видел более пользы в его
существовании.
Эта привязанность к ритуалам планирования, уникальная для
промышленно развитой страны, за исключением государств — участников
Восточного блока, сохранявшаяся и после самых очевидных неудач, таких как
провал финансирования металлургической промышленности, помогла мне
оценить те усилия, которые все еще были необходимы для того, чтобы
повернуть сознание общества к рыночной экономике.
102
Как мне казалось, победа при фронтальном наступлении на
планирование была невозможна при той позиции, которую занимала часть
депутатов, входивших в парламентское большинство, впрочем, необходимость в
таком наступлении все уменьшалась по мере того, как время делало свое дело.
Избрание Франсуа Миттерана Президентом Республики в 1981 году и
последовавшие за тем парламентские выборы прервали наметившееся
движение, и французская экономика с радостью повернула вспять, в
направлении полного огосударствления.
В проекте закона о национализации, принятом в октябре 1981 года,
указывалось, что «государственная власть нуждается в государственном секторе
для эффективного вмешательства в экономику и правильной ориентации
развития страны». Фактически национализированы были пять крупных
промышленных фирм (в том числе Sain-Go-bain, Rhone-Poulenc и Pechiney),
тридцать шесть банков и две финансовые компании (Suez и Paribas).
Национальное собрание добавило к этому списку всю черную металлургию. По
завершении процесса под непосредственным государственным управлением
оказались предприятия, выпускавшие 30% промышленной продукции и
имевшие 24% рабочих мест в индустрии, причем традиционный
государственный сектор здесь не учитывается. Что касается финансов,
государство отныне опекало 90% вкладов и 85% выделенных кредитов.
Волна национализации и других мер в экономике, проведенных в
соответствии с предвыборными обещаниями, включенными в Совместную
программу1, а также выдвинутыми коммунистической партией условиями
поддержки Франсуа Миттерана, озадачила французов. Проведенный 1 октября
1981 года компанией Sofres опрос показал: только 50% французов
положительно относятся к национализациям и только 44% из них —
меньшинство — полагают, что национализация поможет справиться с кризисом.
Ситуация, при которой государство играет роль более важную, чем
рынок, длилась двенадцать лет. Хаос концепций и доктрин увеличивался по
мере развития глобализации и роста международной конкуренции. Этот хаос
достиг своего апогея во время второго президентского срока Франсуа
Миттерана, когда в ходу оказалась формула «ни — ни»: ни новой
национализации, ни приватизации, это символическое выражение застоя! И
Франция оказалась в положении человека, застигнутого паводком при переходе
через ручей, он стоит, широко расставив ноги, на двух камнях и не решается ни
шагнуть вперед, ни повернуть назад, а вокруг него бурлят водовороты.
Совместная программа была принята в 1972 г. социалистической и коммунистической
партиями. В этом документе излагался перечень мер, которые эти две партии намеревались
провести в жизнь в случае их прихода к власти.
1
103
НОСТАЛЬГИЯ ПО УСЛУГАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Спор о роли государства и рынка во Французской Республике далеко не
закончен.
Левые политические круги, находящиеся ныне у власти, скрепя сердце
признают, что рыночные индикаторы могут иметь большее значение для
экономики, чем указания, разработанные наверху и спускаемые оттуда в
готовом виде. Им это причиняет страдание, но они смиряются. Например, не
прозвучало никакой серьезной критики в адрес фирмы Total-Fina, объявившей о
своих планах купить акции Elf-Aquitaine (то есть компания, управляемая по
законам рынка, собиралась приобрести предприятие, созданное государством).
Министр экономики заявил тогда, что ничего не станет предпринимать, чтобы
помешать сделке.
Люди смиряются с ролью рынка, однако все еще испытывают
ностальгию по государственному вмешательству.
Эту ностальгию отражают и высказывания политических руководителей.
Голоса двух самых высоких лиц в государстве начинают звучать в унисон,
когда приходится убеждать наших скептичных европейских партнеров в важной
роли государственного сектора. При этом, однако, не предпринимается никаких
усилий для определения его природы, сферы распространения и стоимости
услуг. Впрочем, оба государственных деятеля являются выпускниками
Национальной школы администрации — так же как и большинство их
сотрудников.
В этом плане показателен пример с транспортом. Хотя автомобильный
транспорт, личный и общественный, занимает первое место по пассажирским и
грузовым перевозкам в стране, намного превосходя по этому показателю все
другие виды транспорта, хотя он обслуживает самые отдаленные регионы
Франции, этот вид транспорта не входит в государственный сектор. Воздушные
перевозки недавно осуществляли и государственные предприятия, и частные
компании. Но после удачной приватизации Air France воздушный транспорт, в
немалой степени способствующий поддержанию престижа нашей страны,
оказался вне сектора государственной экономики. За исключением городского
транспорта, в ведении государства осталась SNCF, Национальная компания
железных дорог. По идее, государственный сектор должен предоставлять всем
гражданам страны одинаковые и одинаково доступные услуги. Однако SNCF
все больше и больше увлекается пассажирскими перевозками по
высокоскоростным и пригородным магистралям. Мы далеко ушли от времен
президента Сади Карно (1837—1894), который мечтал построить в каждом
кантональном центре железнодорожный вокзал. Но тогда можно было выбирать
лишь между поездом и каретой. Затем появился автомобиль. И если наши
руководители считают,
104
что понятие «услуги государственного сектора» применимы к
деятельности SNCF, то это, видимо, объясняется статусом компании, а не
природой оказываемых ею услуг.
Это противоречие между тем, что наши руководители признают
неизбежным, и их личными симпатиями ярко проявляется в тех документах,
которые они подписывают за рубежом, надеясь на то, что в самой стране эти
документы не станут рассматривать чересчур пристально. Так, Европейский
совет на своем заседании 23 марта 2000 года в Лиссабоне, посвященном
проблемам занятости, единодушно, включая Францию, потребовал от
Европейской комиссии, от своего аппарата и от государств-членов «ускорить
либерализацию в таких отраслях, как газ, электричество, почтовые службы и
транспорт».
Хотелось бы увидеть реакцию депутатов, входящих в нынешнее
большинство, если бы правительство заговорило такими словами с трибуны
Национального собрания!
Что же касается сокращения рабочего времени до 35 часов в неделю,
предложенного три года назад в качестве «общеевропейской» меры борьбы
против безработицы нашим партнерам по ЕС, то очень показательны в этом
отношении итоги лиссабонского заседания по проблемам занятости: полное
молчание по данному пункту.
***
Мне кажется, что с этим спором пора покончить. Французам следует
наконец понять, какое место предстоит занять, соответственно, государству и
рынкам в процессе модернизации нашей экономики.
Отсутствие ответа на этот вечный вопрос опасно не только потому, что
заставляет нас сомневаться в том, что мы избрали верный путь для
строительства экономики будущего, но еще и потому, что порождает скорее
фатализм, чем потребность в энергичных действиях. Особенно показателен
пример последних слияний крупных компаний.
Вот уже несколько лет на наших глазах идут беспрецедентные по своему
размаху операции: фирма Аха приобретает фирму UAP, Rhone-Poulenc
сливается с немецкой компанией Hoechst, идет война между тремя
французскими банками; Total планирует взять под свой контроль Elf-Aquitaine,
появляется проект объединения Pechiney с канадским Alcan и со швейцарским
Alu, который Европейская комиссия сначала подвергла сомнению, а в конце
концов отклонила. Как французы, акционеры или просто наблюдатели, должны
реагировать на эти сделки? Чем они могут и могут ли вообще способствовать
модернизации французской экономики?
Возникает несколько простых вопросов. Возьмем случай с Pechiney.
Это предприятие существует давно, оно производит алюминий из
бокситов, названных по имени местности Бо-де-Прованс, в которой эти
105
руды стали добывать впервые. В 1960-е годы Pechiney сливается с
французской группой Ugine-Kuhlman, чтобы создать предприятие европейского
масшатаба. Оно построило гигантский завод в Гвинее и еще один — близ
Дюнкерка. Национализировав Pechiney в 1981 году, социалисты, стоявшие у
власти, хотели показать, что эта компания является частью национального
богатства Франции. И вот мы узнаем в 1999 году, что эта компания после своего
возвращения в частный сектор планирует объединение с канадской и
швейцарской фирмами с целью создать промышленную группу,
специализирующуюся в области производства изделий из алюминия, причем
правление новой компании будет находиться в Монреале, а генеральная
дирекция — в Нью-Йорке. Чему же в данном случае следует верить
французскому наблюдателю?
В своих объяснениях президент компании, чья компетентность и энергия
не подлежат сомнению, исходит из анализа положения дел на рынке. Цены на
алюминий опустились на самый низкий уровень за последние пять лет.
Прибыль Canadien Alcan во втором квартале 1998 года уменьшилась на 42%.
Только
объединившись,
три
вышеназванных
предприятия
смогут
конкурировать с американским гигантом Alcoa.
Так что же должно было нас убедить в необходимости таких мер: закон о
национализации; затем выпущенный в момент приватизации фирмы Pechiney
проспект, описывавший ее как предприятие мирового масштаба, прибыли
которого будут регулярно увеличиваться; или же данные анализа, проведенного
нынешним президентом компании? И что думать о предприятии, являвшемся
национальным еще пять лет назад, а теперь намеревающемся перенести свое
правление в Канаду, а дирекцию — в Нью-Йорк?
Растерянность французского наблюдателя вполне понятна. Точно так же
его изумляет и то, что слияние трех предприятий, находящихся в трех
различных странах, по всей видимости, оказывается делом не таким трудным,
как прекращение яростной борьбы, развернувшейся между тремя французскими
банками, деятельность которых осуществляется в основном на одной
территории, размеры не приближаются к мировым банкам, а руководители
окончили одни и те же высшие школы, принадлежат к одному и тому же
поколению и часто заседают бок о бок в одних и тех же правлениях.
Такой способ перехода к рыночной экономике вызывает у французской
публики чувства недоумения и подавленности. Как случилось, что власть,
руководствующаяся идеей о преобладающей роли государства, так мало может
воздействовать на события? И не загубит ли в конце концов хозяйство Франции
прославленная рыночная экономика?
Эта смесь недоверия и бессилия является второй причиной, по которой у
французского общественного мнения — наряду со смутным сознанием того, что
дело tabula rasa не доведено до конца, — возника106
ет ощущение того, что на Францию обрушилась злая судьба, или, говоря
иначе, чувство, что она переживает политический упадок. Избавить нас от этого
чувства может только ясный выбор, который изменит нашу судьбу и положит
конец этому затянувшемуся спору о роли государства и рынка. Чтобы этот
выбор имел смысл, он должен быть общим для двух основных сообществ,
призванных управлять Францией, — просвещенных правых (их поиск идет) и
умеренных левых (их существования желают). Именно им нести тяжелый груз
ответственности за обновление страны, не слишком обращая внимание на брань
и риторику маргинальных сил.
Рыночная экономика стала всеобщей в нашу эпоху. Она действует во
всех странах, которые можно сравнивать. Она определяет ныне международные
экономические отношения. Отрицать это бесполезно, пытаться от этого уйти
неразумно.
Стремление отложить окончательный выбор, которое проявляют
нынешние руководители Франции, ведет к уменьшению шансов наших
предприятий на успешную борьбу со своими конкурентами, оставляя их в
результате без защиты. Если и следует очень внимательно относиться к
реакциям наемных работников, с давних времен привыкших к стабильности и
гарантированной занятости, то попытки откладывать сроки выполнения
обязательств, при неспособности переломить негативные тенденции в
экономике ослабляют возможности наших предприятий, приводят к ситуациям,
при которых они упускают случаи для выгодных приобретений или альянсов.
Короче говоря, назрело время для того, чтобы не только два француза из
каждых трех, а гораздо больше сделали выбор в пользу рыночной экономики и
строили на ее основе планы своей предпринимательской деятельности.
***
Рынок
следует
рассматривать
как
механизм, а не как орудие справедливости.
Даниэл Берг
Этот выбор, конечно, не отменяет требований разума.
Для американцев или британцев нормальное функционирование рынка
является, кажется, самоцелью и приемлемым способом решения всей
совокупности экономических и социальных проблем. Для французов и всех тех,
кто вместе с ними наследует греко-латинскую культуру, вопрос о роли разума
всегда остается актуальным.
Нам следует воспринять ту идею (а тем, кто этого не может, —
смириться с ней), согласно которой роль разума состоит не в том, чтобы
вмешиваться в игру рыночных сил. И аппарат государственного вмешательства
мы должны навечно сдать в архив.
107
Но законным является вопрос о том, что мы желаем видеть в качестве
результата этой игры. Рынок приходит к решениям, которые выражаются
уровнем цен, конкурентоспособностью, выбором мест для развертывания
производства; их последствия испытывает каждый из нас.
Как действовать таким образом, чтобы эти решения были благоприятны
для нашей страны, если прямое воздействие на их механизм исключено.
Возможный путь здесь — влиять на среду, оказывающую воздействие на
решения, на все то, что может быть выражено в понятиях счета и сравнения.
Действительно, решения в рыночной экономике принимаются методом
сопоставлений: сопоставляют предложение и спрос, эффективность труда
механизированного и немеханизированного, издержки производства в одном и
другом случае и т. д. В каждом из этих сравнений имеются составляющие, на
которые можно оказать воздействие.
Начнем с определения наших задач: мы хотим, чтобы Франция стала
подходящим во всех отношениях местом для создания производств, которые
будут обеспечивать занятость населения; чтобы страна была привлекательной
для размещения управленческих и исследовательских центров французских и
иностранных фирм; чтобы значительная часть финансовых потребностей наших
предприятий покрывалась бы инвестированными сбережениями французов.
Именно такой подход пытались применить несколько лет назад наши
немецкие партнеры, не сумев придать ему, к сожалению, четкую
направленность.
Я сформулирую этот подход следующим образом: развить и сделать
конкурентоспособным «французское экономическое пространство». У этого
пространства есть значительные преимущества, использование которых требует
специальных действий.
Начать следует с мер, находящихся в компетенции как государства, так и
регионов. Речь идет о создании инфраструктуры, которая свяжет французское
экономическое пространство с остальным миром. Для того чтобы обеспечить
легкий доступ не только к одному лишь Парижскому региону, но ко всей
территории страны, необходима развитая коммуникационная и транспортная
инфраструктура. К этому необходимо добавить внятную политику охраны
окружающей среды и переработки промышленных отходов.
По сравнению со своими центрально-европейскими соседями Франция
имеет то преимущество, что она расположена на краю западной части Европы.
Поэтому наше воздушное пространство не настолько переполнено, чтобы это
послужило помехой для связи с другими странами, которую к тому же
облегчает прекрасное оснащение парижских, а теперь и некоторых
региональных аэропортов.
108
Козыри Франции, если учитывать эту сторону ее географического
положения, неоспоримы.
Выбирая места для возведения производственных мощностей,
размещения правлений и научно-исследовательских центров фирм, участники
рынка проводят анализ трудовых и хозяйственных издержек, величины налогов
и расходов, вызванных административными формальностями.
Рассмотрим последовательно каждую из перечисленных составляющих.
Когда речь заходит о зарплате, то, как считает большинство французов,
битва заранее проиграна. У нас нет никаких шансов выдержать соревнование с
предельно низкой зарплатой в странах Юго-Восточной Азии, Китае и
некоторых государствах Карибского бассейна. Произведенная там продукция
уверенно вытесняет нашу. Достаточно взглянуть на отделы одежды, обуви или
игрушек в универмагах. Разумеется, никто и не помышляет о том, чтобы
приблизить нашу зарплату к зарплате в этих странах: размер оплаты труда тесно
связан с уровнем жизни. И кто же согласился бы равняться на уровень жизни
тех мужчин, женщин и, к несчастью, детей, которые трудятся в мастерских
мировых задворков?
Однако это рассуждение применимо лишь к товарам, издержки
производства которых складываются главным образом из расходов на рабочую
силу и при изготовлении которых невозможно применить новые технологии.
Таких товаров много, но стоимость их составляет совсем незначительную часть
от стоимости того, что обращается на мировом рынке.
Думая о ценах, французы привычно берут в расчет пару «качество —
цена». Но когда мы занимаемся сравнениями размеров оплаты труда, то точно
так же должны рассматривать пару «стоимость — профессионализм». Если
стоимость рабочей силы определять, не беря в расчет квалификацию,
необходимую для выполнения данной работы, оценки окажутся
неправильными.
Между тем в плане этого соотношения «стоимость — профессионализм»
французский рабочий занимает достаточно неплохое место. По объему
продукции, приходящейся на одного работника, занятого в промышленности,
Франция занимает, как я уже говорил, одно из первых мест в мире. Поскольку
невозможно сокращать трудовые издержки (исключение составляют издержки,
налагаемые на зарплату низкооплачиваемых категорий работников, она
отягощена экономически абсурдными, а в социальном плане — чудовищными
нагрузками, к которым Франция привыкла, — и именно это объясняет, лучше,
чем все бесконечные воскресные проповеди политиков того и другого пола,
почему упорно сохраняется недопустимо неполная занятость), упор должен
быть сделан на профессионализме в паре «стоимость — профессионализм».
109
Дело это захватывающе интересное, ибо состоит в том, чтобы повысить
уровень знаний и умений значительной части населения. Данная задача
является по сути «цивилизаторской» в том смысле, что результатом ее
выполнения будет прогресс всего общества. Этот прогресс приведет, в свою
очередь, к уменьшению опасности возникновения агрессивных настроений,
способных нанести немалый ущерб цивилизации.
Говоря конкретнее, Франции следует стремиться к победам на
чемпионате мира по профессиональной подготовке, будь то начальное обучение
профессии или постоянное повышение квалификации в течение всей жизни, ибо
профессионализм не должен быть достоянием только боксеров-тяжеловесов или
игроков первой лиги нашего общества.
Если в предстоящие десятилетия нашей стране удастся доказать свою
способность постоянно повышать профессионализм своих работников, то она
станет привлекательным местом и для размещения производств различных
видов, и для вложения иностранных капиталов, а уровень деловой активности в
ней возрастет настолько, что обеспечит почти полную занятость.
Здесь открывается поле увлекательной деятельности для регионов,
которым правительство, реализуя удачную идею, передало в 1994 году
значительную часть своих полномочий в этой области. А у государства
появилась возможность быстрее идти по пути таких преобразований, которые
все больше приближают профессиональные лицеи и предприятия к
потребностям жизни, делают их все более открытыми и восприимчивыми к
инновациям.
Для распространения системы всеобщего образования среди французов в
1880-е годы понадобились усилия такого деятеля, как Жюль Ферри. Сможем ли
мы найти сегодня нового Жюля Ферри, чтобы повысить уровень
профессиональных знаний французов?
***
Другие
составляющие
проекта,
связанного
с
французским
экономическим пространством, не являются, к сожалению, благоприятными,
идет ли речь о налоговых и социальных нагрузках, об административных
формальностях или о позиции, которую заняло правительство в вопросе о месте
труда в нашем обществе.
Поставим себя на место руководителя фирмы в условиях этой
пресловутой рыночной экономики. Нередко его предприятия разбросаны по
разным странам, объем сделок, осуществляемых им за рубежом, все чаще и
чаще превышает объем сделок, заключаемых внутри страны, поскольку емкость
французского рынка не может бесконечно увеличиваться. Предпринимателю
необходимо «получить прибыль». От этого зависит его репутация, а может
быть, и карьера. Он несет бремя расходов, налоговых и социальных. Эти
расходы очень различны в разных
110
странах. Даже в пределах Европейского союза их размер в некоторых
случаях вдвое больше, чем в других, рекорд в этой области принадлежит
Франции, в конце таблицы находятся Нидерланды и Ирландия. При решении
вопросов о создании новых производств, о любых приобретениях, о
размещении правления фирмы уровень расходов является важным, а часто
решающим аргументом.
Чтобы освоение французского экономического пространства проходило
успешно, нам следует улучшить те условия ведения бизнеса, которые
сравнивают при выборе места для того, чтобы его развернуть. Конечно, нет
необходимости в том, чтобы эти условия буквально по всем параметрам
являлись самыми лучшими, но следует срочно добиться того, чтобы они во всем
не были самыми худшими! В качестве ближайшей цели нам следовало бы
постараться приблизиться к уровню, среднему для стран Евросоюза.
Дабы не злоупотреблять терпением читателя, как любят выражаться
иные авторы (чьи скучные сочинения, несмотря на этот стилистический прием,
падают из рук), не стану здесь навязывать сравнительные данные по размеру
налогов на предпринимательскую деятельность в различных европейских
странах. Но предлагаю ежегодно публиковать в качестве приложения к закону о
финансах таблицу сравнительных размеров обложения экономической
деятельности, существующих на сегодняшний день в странах — членах зоны
евро. Мы имели бы, таким образом, в этой области полное представление,
полезное для освоения французского экономического пространства.
С этой же целью было бы полезно устраивать раз в два года, к примеру,
сессии, посвященные французскому экономическому пространству, на которых
правительство и социальные партнеры, предприятия и синдикаты, с
максимальной точностью определяли бы конкурентоспособность французской
экономики и рассматривали бы меры, необходимые для ее улучшения. Такие
собрания могли бы с успехом заменить загадочные труды Генерального
комиссариата по планированию, которому следовало бы исчезнуть вместе с XX
веком...
По-прежнему важным остается вопрос об административных
формальностях. Размышления на эту тему вызывают самое большое уныние,
ибо его решение связано с функционированием многочисленных
административных структур, национальных и местных, разросшихся и
перепутавшихся друг с другом. При раскопках кратера на итальянском острове
Вулькано были обнаружены десятки пластов застывшей лавы, которая вытекала
во время извержений и образовывала эти наслоения. Французская
администрация напоминает их. В наше время нет ни одного, даже самого
технического, вопроса, за который бы полностью отвечало одно ведомство и по
которому достаточно было бы одного ответа.
111
Я вернусь к этой теме, когда буду говорить о реформе. Но мы не можем
надеяться на освоение французского экономического пространства, если не
предпримем серьезных усилий по упрощению и облегчению административных
формальностей.
***
Последний пункт: сбережения французов должны занимать важное
место в обеспечении инвестиций, осуществляемых в пределах Франции.
Разумеется, этими сбережениями нельзя ограничиваться в наше время
интенсивного международного движения капиталов и абсолютной
прозрачности границ.
Однако сегодня дела здесь обстоят совсем иначе.
Доля французских вкладчиков в активах наших крупных предприятий
все уменьшается. По данным специализированных изданий, иностранные
финансовые учреждения обладают 49% капитала Аха и 51% капитала ElfAquitaine. В руках инвесторов из Северной Америки и Англии находятся активы
сорока ведущих акционерных компаний, на долю этих инвесторов приходится
до 35% их капитала. Показательно, что в июле 1999 года президент Elf-Aquitaine
отправился в Нью-Йорк, чтобы заручиться поддержкой американских
пенсионных фондов в своей борьбе с Total-Fina. Разумеется, не следует
забывать и то, что, в свою очередь, французским вкладчикам, частным лицам
или финансовым учреждениям, принадлежат значительные доли капитала
предприятий, акции которых котируются на внешних рынках.
Можно представить, как в прошлые времена разбушевалась бы
политическая оппозиция, обнаружив такую ситуацию! Любопытно и то, что
данная ситуация имеет место в тот момент, когда две ветви власти, совместно
правящие во Франции, исповедуют различные системы взглядов: одна —
антикапиталистическую, другая — традиционно отстаивающую национальную
независимость.
В этом вопросе, как и во многих других, следует признать факты и
задуматься над тем, как можно было бы изменить сложившуюся ситуацию. Ее
парадоксальность заключается в том, что французы обращают в сбережения
значительную часть своих доходов (у американцев эта доля всегда была
намного меньше и снизилась еще больше в 1999 и в 2000 годах). Но свои
сбережения французы размещают таким образом, что средства, вложенные ими
в акции национальных предприятий, составляют слишком незначительный
процент. Этот феномен заслоняют успехи крупных операций по приватизации,
таких, например, как приватизация компании France-Telécom, а также по
наделению акциями работников приватизированных предприятий. Однако
число лиц, владеющих акциями — непосредственно или в форме акций системы
Sicav, — все еще слишком невелико. Это результат длительного
112
существования налоговой культуры, в соответствии с которой на
владельцев капиталов возложили тяжелое налоговое бремя как на членов
привилегированного класса. Впрочем, обладателей акций долгое время тоже
наказывали при помощи больших налогов, вместо того чтобы поощрять.
Не буду вспоминать о все продолжающемся споре относительно
пенсионных фондов, настолько не о том ведется дискуссия, — горячо
обсуждаются доводы за и против распределительного принципа, в то время как
нормальное функционирование всей системы пенсионного обеспечения зависит
от изменяющегося соотношения между теми, кто делает взносы, и
пенсионерами, а это соотношение определяется как раз демографической
ситуацией в стране, — однако решение придется принимать как можно скорее,
так как охваченные тревогой будущие пенсионеры оказывают все большее
давление на законодателей. Упомяну только о том, что при обложении налогами
доходов, прибыли и капитала у нас не предусмотрен какой-либо особый режим
для тех сбережений, которые вкладываются в то же самое предприятие на сроки
средние и длительные. Между тем такие сбережения нетрудно
идентифицировать. Предполагается, что они не приносят никакой прибыли. Не
вдаваясь в детали, скажу, что было бы и легче и справедливей вместо того,
чтобы предоставлять «преимущества» тем, кто делает сбережения, снять с них
тяжелое налоговое бремя, если мы хотим добиться того, чтобы французы все
больше и больше своих сбережений вкладывали в финансирование
инструментов развития французского экономического пространства.
ПОХВАЛА ПРАЗДНОСТИ
Перечисляя неблагоприятные обстоятельства для развития французского
экономического пространства, нельзя обойти молчанием странную в
идеологическом плане позицию правительства — и общества в целом — по
отношению к трудовым усилиям. Данную позицию иллюстрирует принятие
закона о 35-часовой рабочей неделе, но что более всего тревожит в принятом
решении (если исключить его негативное воздействие на трудовые издержки, а,
следовательно, через какой-то срок и на уровень оплаты наемного труда), это
выраженная в ней философская оценка роли труда в функционировании нашего
общества.
Эту оценку можно выразить следующим образом: чем меньше члены
общества трудятся, тем оно счастливее. Эта концепция противоречит
очевидным изменениям в обществе, таким, например, как всеобщее стремление
женщин заниматься трудовой деятельностью. И не только ради зарплаты, ибо ее
могло бы заменить пособие, но именно для того, чтобы принимать личное,
профессиональное участие в жизни страны.
113
Вышеописанная концепция характерна для Франции и некоторых наших
соседей, переживающих демографическую депрессию. Но не имеет никакой
популярности в Соединенных Штатах, где средняя продолжительность рабочей
недели в промышленности по-прежнему превышает 40 часов и где недавняя
попытка ограничить продолжительность сверхурочной работы вызвала
активное сопротивление.
Хорошо видно, откуда первоначально пришла идея законодательного
ограничения рабочего времени: ее породила невыносимая тяжесть фабричного
труда, которая отличала его в течение длительного времени, такой труд
подрывал здоровье рабочих, укорачивал их жизнь. Речь шла о серьезном, более
того, исключительно важном социальном требовании.
Если изнурительный труд сегодня еще не исчез, то он сохраняется в тех
отраслях, где чрезмерных усилий требует сам характер труда, а значит, есть
законные основания для вмешательства, с тем чтобы решить эту проблему —
либо путем заключения соглашений, либо, при их отсутствии, с помощью
законодательства.
Но в целом продолжительность рабочего времени должна по-прежнему
быть предметом переговоров, во время которых необходимо учитывать три
параметра: количество рабочих часов в неделю и в год, степень гибкости
рабочего графика, размер заработной платы.
В позиции правительства самое большое беспокойство вызывает то, что
унижению подвергается труд как таковой. О нем говорится как о каком-то
несчастье, в лучшем случае — как о тягостной обязанности, которую, по
возможности, следует облегчить. Такое впечатление, что знаменитую «Похвалу
Глупости» Эразма Роттердамского собираются заменить какой-то «Похвалой
Праздности», обеспечив ей максимальный тираж!
Предпринятые действия могут привести ко многим неприятностям — и к
нескольким парадоксам.
Что бы об этих действиях ни говорили, они не отвечают насущной
социальной потребности. И центры изучения общественного мнения, задав
вопрос: «Желаете ли вы работать меньше, сохранив прежнюю зарплату?» —
напрасно упиваются полученным на него утвердительным ответом, потому что
истина состоит в том, что можно было бы сэкономить средства и не проводить
этого исследования, ибо вопрос в самом себе содержит ответ! Подлинная
проблема (ее правительство никогда не обсуждало открыто, несомненно,
потому, что боялось получить ответ) состоит в том, чтобы четко выяснить: что
же предпочитают наемные работники — меньше трудиться или больше
зарабатывать?
С точки зрения макроэкономики цель «меньше трудиться» противоречит
поиску путей ускорения роста. Увеличение ВВП неизбежно предполагает в
качестве необходимой составляющей дополнительные затраты труда: это может
быть и создание новых рабочих мест, и повышение производительности труда,
но также и увеличение продол114
жительности рабочего времени. Как выразился бы Расин, чем больше
рост, тем дальше отступает праздность!
Молодая и динамичная часть населения ничего не имеет против
трудовых усилий. Ибо эти люди ищут возможности сделать карьеру или
заработать побольше денег. И когда подворачивается благоприятный случай,
они готовы им воспользоваться, даже если придется трудиться неустанно, а
иногда и уезжать за границу.
Чтобы немного оживить наше повествование, можно напомнить о тех
дамах и господах, которые предлагают другим пойти на сокращение рабочего
времени, а сами отнюдь не брезгуют совмещением нескольких должностей,
сторонники же ухода на пенсию в шестьдесят лет, достигнув этого возраста,
собираются претендовать на самый высокий пост в Республике!
И отнюдь не способствуют прогрессу нашего общества те, кто порочит
ценность труда и превозносит праздность. В любом обществе, от самого
простого до самого сложного, от самого непросвещенного до самого
рафинированного, — везде в личных трудовых усилиях воплощается дух
созидания. Достаточно вспомнить ученых, не покидавших ни днем ни ночью
своих лабораторий, писателей, проводивших бесконечные часы над своими
рукописями, Микеланджело, который тратил целые месяцы на то, чтобы
извлечь из опасных каменоломен Каррары мрамор для своих статуй; вспомним
и менее величественные картины — тракторные фары, горящие по ночам на
французских полях, когда перед крестьянином встает необходимость завершить
в срок сев или жатву.
Если общество, и особенно его руководители, в условиях современных
глобальных сдвигов, все ужесточающейся конкуренции и демографического
упадка занято в первую очередь поиском путей для освобождения от трудовых
усилий, вместо того чтобы поощрять активность и стремление к созиданию, то,
сознательно или бессознательно, оно выбирает декадентскую этику.
ПРЕДЕЛЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рыночная экономика является механизмом, который следует установить
на нашей стройке будущего в предназначенном для него месте, с тем чтобы он
оберегал нашу энергию и не давал ее растрачивать в напрасных спорах.
Этого вполне достаточно. Рыночной экономике ничего не нужно
приказывать. Механизмы не нужно обожествлять, надо лишь признавать их
полезность.
Принятие механизмов рыночной системы немного походит на введение
метрической системы. Отныне известна точка отсчета, что позволяет измерять
экономические достижения. Но Земля не застынет от восторга перед успехами
рыночной экономики.
115
Если рынок и является единственным показателем экономического
состояния общества, которым можно пользоваться, он не становится от этого
безупречным. Вызываемые им процессы адаптации часто отличаются
резкостью, а оценки — приблизительностью. За финансовым здоровьем такой
крупной промышленной группы, как Alkatel, аналитики следят очень
пристально. Так вот, ее реальная стоимость не могла сократиться настолько и за
такой короткий срок, как об этом будто бы свидетельствует падение цен на ее
акции с 1410 франков 15 июля до 554 франков 18 сентября 1998 года,
начавшееся с того, что упомянутые аналитики принялись сообщать
противоречивые сведения о состоянии технологических активов данной
компании. Произведенная рынком оценка была неверна как до падения, так и
после него.
Не может рынок оказать прямого воздействия на те или иные
масштабные процессы приспособления к реальности, такие, например, как
демографические, влияние которых на мировую экономику в ближайшем
будущем станет решающим.
И тем более нельзя утверждать, что функционирование рынка помогает
сокращать разрыв между доходами богатых и бедных стран и хоть как-то
решать проблемы развития Африки в XXI веке. Картина на самом деле
совершенно иная, как стало ясно из доклада ООН в 2000 году.
Наконец, рынок не способен управлять ситуациями личного обогащения.
В том случае, когда богатство является результатом выдающихся достижений в
какой-либо области, особых возражений ни у кого не возникает, но если
обогащение достигнуто путем применения манипулятивной финансовой
инженерии, не создающей никакой добавленной стоимости, это вызывает у
наблюдателей горькое недоумение.
Решение, которое предстоит принять французам в пользу рынка, должно
быть хорошо обдумано. Ведь речь идет о выборе самого лучшего механизма для
адаптации и принятия решений в экономике. Но в нашем обществе останутся и
обширные пространства, и широкие сферы деятельности, которые регуляции
рынка не поддаются. И стоит ли говорить о том, что, прекратив этот
бесплодный спор, бесплодно поглощающий наше время, мы все свои силы
сможем отдать проектированию будущего.
***
Что станет с нашей национальной самобытностью в мире экономики без
границ? Согласимся ли мы с тем, что эта идентичность вольется в общий поток
и в конце концов будет поглощена культурной магмой, формируемой
международными массмедиа? Или даже в усло116
виях широкой глобализации экономики можно будет сохранить
французскую самобытность и французский образ жизни?
Очевидно, что нам следует выбрать второй вариант ответа. И вряд ли
необходимо доказывать его правильность. Природа Франции, особенности
образования, сокровища культурного наследия, наш национальный характер со
всеми его достоинствами и недостатками, наша своеобразная манера устраивать
жизнь — все это веские аргументы в пользу сохранения и развития французской
самобытности.
Прекратить изнурительный спор вокруг догмы tabula rasa, сделать
выбор в пользу рыночной экономики, но лишь в тех пределах, где она
применима, сделать все, чтобы сохранить в будущем характернейшие черты
нашей национальной самобытности, — именно таким образом мы сможем
остановить политический упадок Франции и, вероятно, изменить направление
ее движения.
117
Глава 5
НЕВОЗМОЖНАЯ РЕФОРМА
Отказ от финансовой реформы — это
здорово нас подбадривает!
Слова
преподавателя,
участника
демонстрации против реформы образования
(20 марта 2000 г.)
Если послушать речи и почитать программы кандидатов, претендующих
на выборные должности всех уровней, то можно подумать, что Франция
является сверхреформированной страной; что в этой стране нет ни одного
камня, который не был бы перевернут, ни одного закона, который не был бы
переписан от первого до последнего слова, ни одного учреждения, чья
деятельность и приносимая польза не были бы проверены не один раз самым
тщательным образом.
Увы, скучная действительность выглядит совсем иначе. Кипы законов и
актов, посвященных их применению, валяются в шкафах префектур.
Административная структура остается такой же, как при Наполеоне.
Супрефекты управляют округами, утратившими свою политическую
реальность. Центральный банк продолжает по всей стране следить за
распределением валюты, ныне замененной евро. Депутаты с легкостью
совмещают мандаты. А налоговая система, вечная налоговая система, на
реформировании которой споткнулись и монархия и республика, по-прежнему
представляет собой пугающее нагромождение самых древних и самых
современных налогов, причем сюда с недавних времен добавились самые
сложные для расчета. Это и старинные местные налоги («четыре старых»)1, и
подоходный налог, введенный Жозефом Кайо2 в начале XX века, и налог на
добавленную стоимость, заменивший налог на розничные продажи, налог на
компании, налог на зарплаты, патентный сбор, превратившийся в налог на
профессиональную деятельность, а также каскад недавних инноваций, таких как
налог солидарности на имуще«Четыре старых» — четыре вида прямых налогов (земельный и др.), введенных во время
Французской революции. Хотя эти налоги были упразднены в первые десятилетия XX в., они до
сих пор используются на практике в качестве базы для начисления местных налогов.
2
Жозеф Кайо (1863—1944) неоднократно занимал пост министра финансов, в 1911 г. являлся
председателем Совета министров Франции.
1
118
Кроме
ство, всеобщие социальные взносы с дифференцированным потолком.
того, существуют налог на наследство, налог на прибыль,
регистрационные сборы и различные косвенные налоги. У каждого из
перечисленных налогов имеются своя собственная законодательная база, свои
условия предоставления скидок и освобождения от уплаты.
При виде этой груды удивляешься тому, что обещание реформ все еще
прибыльно. Однако нет никаких шансов на избрание у кандидата, который не
имел бы своей программы реформ (очень осторожной и не слишком
конкретной: «Не эти и не в мое время!» — как выразился бы Эдгар Фор),
дополненной обещанием «говорить французам правду».
Как объяснить подобный парадокс: с одной стороны, французы
единодушно требуют реформ, а с другой — делают все, чтобы их проведение
было невозможным?
Разгадка заключается прежде всего в психологии французов. Их
поведению по-прежнему свойственна черта, подмеченная Эдмундом Бёрком:
стремление к tabula rasa, романтичная и туманная мечта о реформе, которая все
изменит, создаст нечто вроде клуба каникулярного отдыха в Утопии. В то же
самое время французы достаточно четко представляют себе, что в любом случае
должны дать им реформы: изменения, которые улучшат жизнь каждого из них
персонально. Любую программу реформ они рассматривают со своей личной
точки зрения, а отнюдь не как коллективный проект. Это объясняет
популярность идеи реформирования и в то же время сопротивление делу ее
реализации, ибо немногие реформы выгодны каждому конкретно. По большей
части, особенно в финансовой и социальной сферах, они представляют собой
«игры с нулевым результатом», когда приобретения одних равны потерям
других. Между тем недовольство тех, кто теряет при реформе, сильнее и
упорнее одобрения тех, кто выигрывает благодаря ей.
Некоторые реформы сулят выгоды в будущем за счет жертв в
настоящем. Для французов это не одно и то же. Им трудно поверить, что они
получат обещанное, ибо их одурачивали множество раз. А между тем
французам свойственна ярко выраженная способность трезво оценивать те
жертвы, на которые их уговаривают пойти в ближайшем будущем.
Другую ситуацию мы видим в тех случаях, когда реформы касаются
общественных проблем — личных прав, функционирования правосудия,
организации образовательной системы и т. д. Здесь оказывается сопротивление
не столько потому, что люди чувствуют опасность для своих интересов, а
сколько потому, что существует некое, общее для всех, отвращение к
изменениям. Французы отказываются признавать себя консерваторами, хотя
среди европейских народов именно они оказывают самое сильное
сопротивление переменам. Несмотря на относительную слабость своего
политического режима, итальянцы уже
119
давно решили проблему совмещения мандатов на национальном и
местном уровнях. Страны Центральной и Северной Европы, имеющие давние
традиции муниципальных свобод, решили проблему территориальноадминистративной реорганизации. Похоже, только во Франции любое
конкретное предложение о реформировании вызывает отрицательную реакцию.
Проиллюстрирую эти суждения тремя примерами, на которых можно
увидеть то, что тормозит проведение необходимых реформ. Речь пойдет о
реформе сети территориальных коллективов, о реформе налогов, о борьбе с
безработицей.
***
Францию отличает необыкновенное нагромождение территориальных
коллективов. Они насчитывают шесть уровней: общины (коммуны),
объединения общин, департаменты, регионы, государство, а вдали, на
горизонте, возникает Европейский союз, присутствие которого все отчетливее
ощущается при финансировании местных проектов. И как если бы этих уровней
было недостаточно, правительство недавно добавило к ним еще один — край (le
Pays), некий промежуточный этаж между объединениями общин и
департаментами.
Эти процессы структурного усложнения оставляют общественное
мнение равнодушным. Оно выражает свое отношение к ним абсентеизмом,
который постоянно растет и стал ныне массовым в кантональных выборах;
исключение составляют выборы в сельской местности.
Однако это падение интереса не влечет за собой конкретных
последствий, и описанная система сохраняется; она дорого обходится местным
коллективам, замедляет осуществление проектов и ослабляет ответственность
власти. Становится практически невозможно ответить на простой вопрос: кто
чем занимается?
Ныне нет более местных инвестиционных проектов, которые
осуществлялись бы без участия трех субъектов финансирования — общины,
департамента и региона. Число инвесторов может даже увеличиться до четырех
или даже до пяти, если добавить государство и европейские фонды. Репутация
депутатов низового уровня — и шансы на переизбрание — зависят от их
способности находить источники дополнительного финансирования. Однако
увеличение количества таких источников ведет одновременно к умножению
административных формальностей. На каждом уровне претендуют на то, чтобы
ознакомиться со всей документацией, высказывают соображения и критические
замечания, предлагают изменения. Все это приводит к дополнительным
расходам, которые в конечном счете увеличивают общие затраты.
Гастон Деффер, министр внутренних дел Франсуа Миттерана, провел
через парламент в 1983 году смелую реформу, целью которой была
120
децентрализация. Говорю — смелую, ибо сам я безуспешно пытался
реализовать подобную реформу в 1980 году, но тогдашнему министру
внутренних дел Кристиану Бонне не удалось в то время преодолеть
сопротивление Сената.
Эта реформа позволила уточнить и расширить поле деятельности
региональных советов. На департаментском уровне реформа превратила
председателя генерального совета в главу исполнительной власти, он заменил
собой префекта. Чтобы подчеркнуть это изменение, было решено отвести для
генеральных советов особые здания, отличные от тех, что занимают
префектуры.
В соответствии с документом, принятым позднее, на регионы
возлагалась ответственность за строительство и содержание лицеев,
устанавливался порядок формирования региональных советов путем всеобщих
выборов; первые такие выборы должны были состояться в 1986 году.
Эта реформа, повторяю, смелая реформа, ставшая возможной благодаря
решимости Гастона Деффера, создала новый уровень нашего административнотерриториального устройства: регион. По своим размерам эти образования (в
метрополии их всего двадцать два) меньше среднего европейского региона, в
частности меньше германских земель (Lander), хотя и близки к ним по
величине. Уже видно, что региональные рамки хорошо приспособлены для
решения проблем, которые встанут перед Францией в недалеком будущем:
экономического развития, общего среднего и профессионального образования,
помощи научным и технологическим исследованиям, защиты окружающей
среды, охраны культурного наследия и, конечно, проблем обустройства
региональной территории.
Реформа была встречена с удовлетворением (за исключением нескольких
зданий, возведенных специально для размещения региональных советов, — их
признали чересчур помпезными), ее результаты общественное мнение сочло
вполне приемлемыми. Во время последних демонстраций учащихся лицеев,
протестовавших против положения в образовании, регионы, в общем, под огонь
критики не попали.
Короче говоря, это хорошая реформа, которую необходимо продолжить
в двух направлениях: во-первых, по-новому определить полномочия
департаментов с целью предотвращения дорогостоящего дублирования
функций между ними и регионами, а во-вторых, продолжить передачу
ответственности от государства регионам в тех вопросах, которые эффективнее
решаются на низовом уровне.
Однако все произошло наоборот. Улитка реформ поползла снова, но в
противоположном направлении.
Поскольку на регионы была возложена ответственность за
экономическое развитие предприятий, следовало, очевидно, передать в их
ведение и соответствующие департаментские комитеты, а также запретить
департаментам непосредственное вмешательство в хозяйственные дела. И
121
тогда предприятиям пришлось бы обращаться к администрации только
двух уровней: общин и их объединений — по вопросам земельной
собственности, и регионов — за всеми видами помощи. Но вместо этого мы
увидели возникновение конкуренции между департаментами и регионами,
когда каждый из них ставит достигнутые успехи себе в заслугу, а предприятия
не знают, какому святому молиться, в какую дверь стучаться! Для
урегулирования проблемы достаточно было бы одной статьи в законе о
финансах, но ни одно правительство, несмотря на многочисленные просьбы, не
обратилось в парламент с соответствующим предложением!
За тринадцать лет в этом деле передачи полномочий была реализована
только одна, но важная инициатива: на регионы с января 1995 года была
возложена ответственность за профессиональную начальную подготовку и
переподготовку молодых людей в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти
лет включительно. Эту прекрасную меру правительство Балладюра приняло по
просьбе председателей региональных советов. И это все! Другие, не менее
обоснованные предложения остались лишь на бумаге. По какой причине
ответственность за профессиональную подготовку лиц старше двадцати пяти
лет по-прежнему лежит на правительстве? Итальянцы путем референдума
упразднили пост министра по делам туризма, а Франция его сохраняет! Между
тем в соответствии с принятым в 1994 году законом задача организовать работу
региональных комитетов по туризму была возложена на регионы. Какой прок в
том, что на низовом уровне сохраняются параллельные административные
структуры? Похожая ситуация сложилась и с субсидиями, которые
Министерство окружающей среды ежегодно выдает национальным паркам
регионов. То, что им выделяют средства, — это прекрасно, но почему бы не
решить данный вопрос раз и навсегда? Разве разумно сохранять два уровня
полномочий в образовательной сфере — департаменты отвечают за коллежи, а
регионы — за лицеи? Между тем правительство, да и то уступая давлению,
предлагает на сегодня осуществить такую передачу полномочий только лишь
Корсике, тогда как этого уже давно требуют все председатели региональных
советов независимо от своих политических взглядов.
Это перечисление можно было бы продолжить, но я остановлюсь. То,
что после своего вхождения в Европейский союз у Франции стало слишком
много административно-территориальных уровней, несомненный факт. Здесь
необходим тщательный отбор того, что следует сохранить. Выступая в Дижоне,
я высказался в пользу регионального уровня и потому, что регион соразмерен
однотипным административным единицам других стран Евросоюза, и потому,
что он лучше всего приспособлен для решения проблем завтрашнего дня. Два
Президента Республики, пришедшие на этот пост после меня, высказались,
напротив, за сохранение департаментов, такую же привязанность к ним проявил
122
и Сенат, состав которого формируется по департаментским
избирательным округам.
Тем не менее Франции следовало бы возобновить попытки осовременить
свое территориально-административное устройство. Путем смелой реформы
Учредительное собрание в 1790 году образовало департаменты. Когда
обсуждался вопрос об их размерах, в качестве единицы измерения предлагалось
взять время, необходимое для того, чтобы на лошади добраться до центра
департамента! Однако все же верх одержала более современная точка зрения,
согласно которой было решено в основном сохранить границы старинных
провинций, которые сегодня проступают в естественных очертаниях нынешних
регионов. Сто лет спустя, в 1880-е годы, коммунальная организация
сформировалась окончательно.
Двадцать первому веку предстоит создать прочную основу для
региональной структуры. В этой деятельности, обращенной к современности,
можно опираться на старинный фундамент региональных территорий. Таким
образом будет положен конец историческому столкновению между
жирондистскими
федералистами
и
якобинскими
централизаторами.
Республиканская традиция, которую выражают всеобщие выборы, настолько
прочно укоренилась в стране, что более гибкая региональная организация в
будущем не сможет ни оспорить ее, ни составить для нее угрозу. Кроме того,
этой организации следует воздерживаться от любой претензии на обладание
политической идентичностью по отношению к парламенту и от стремления
брать на себя соответствующие функции, которые она к тому же будет не в
состоянии выполнять. Мысль о том, что какой-либо региональный совет,
состоящий из одной палаты, объединяющий в своем лице функции
исполнительной власти и совещательного органа, может иметь правовую
культуру и политический опыт, необходимые для выработки законов, притом
что нет возможности регулярного присутствия на его заседаниях
представителей правительства, — такая мысль абсурдна, противна здравому
смыслу! Истинная задача этих советов — найти такую модель организации
нашего общества, управления обществом, если прибегать к современной
терминологии, которая была бы приспособлена к реальностям нашей эпохи,
обладала бы способностью функционировать ради блага всех регионов нашей
страны, включая Корсику, ради прогресса всех французов.
Не следует ни воспринимать эту эволюцию чересчур драматически, ни
прибегать к обветшалой словесной мишуре для защиты существующих
структур.
Департаменты не могут быть упразднены одним росчерком пера. В
течение некоторого времени они еще сохранятся как административные
единицы и продолжат выполнять те из своих функций, для успешного
осуществления которых важна территориальная близость, в частности в
социальной сфере. Но представлять собой самостоятельный
123
этаж
нашей
политической
системы,
обладающий
общими
полномочиями, они уже не будут. Франция превратится в дом с тремя этажами:
общины и их объединения, регионы и государство. Следовало бы изменить
порядок выборов в «департаментские советы» так, чтобы они играли скорее
роль структуры управления, а не органа территориального представительства.
В итоге значение каждого из этих уровней полномочий будет определено
тем интересом, который проявят граждане к их деятельности.
Медлительность в практическом осуществлении этой реформы
обусловлена характерной для французов «привязанностью к тому, что уже
существует», усиленной их недоверием к любому изменению, если та выгода,
которую они могли бы из этого изменения извлечь, не видна сразу. Указанная
медлительность объясняется также особой структурой нашей власти. В самом
деле, Франция является парламентской демократией (это означает, что
решения принимают в своем кругу выборные лица, а не граждане),
управляемой местными выборными лицами.
Франция от основания до самого верха организована как пирамида
властных структур, опирающихся одна на другую, в которой судьба каждого
такого уровня — общинного, департаментского, регионального и
национального — зависит от той поддержки, которую ему оказывает уровень,
расположенный ниже. Для избрания в качестве генерального советника следует
обеспечить себе поддержку со стороны мэров кантона; для избрания на
сенаторский пост необходимо заручиться поддержкой мэров и генеральных
советников; кандидаты в депутаты знают, что победу на выборах им обеспечит
поддержка со стороны мэров в избирательных округах. В таких условиях и речи
быть не может о том, чтобы рисковать, навлекая на себя недовольство
ответственных лиц нижестоящего уровня!
Траектория движения политика во Франции подчиняется двум простым
законам: он выставляет свою кандидатуру на какой-то пост, что одновременно
готовит его будущее выдвижение на место ступенькой выше; когда же эта
ступенька достигнута, он сохраняет свою предыдущую должность для того,
чтобы предупредить появление «интригана», который в ущерб ему повторит
только что успешно пройденный путь. Отсюда навязчивое стремление
совмещать мандаты.
Все сказанное применимо лишь к тем, кто стремится сделать «карьеру» в
политике, оно, разумеется, не относится к тем лицам, которые находят
удовлетворение, занимаясь делами своей общины. Первые свою задачу видят в
том, чтобы как можно скорее оставить позади ступени пирамиды местной
власти и достичь высшего блаженства — получить министерский портфель
вместе с сопутствующими ему привилегиями, в том числе и в форме средства
передвижения. Этих людей никогда не удовлетворяет занимаемая ими
должность, они готовы сломать себе шею, только чтобы подняться на
следующий этаж. Отсю124
да практикуемые ими выдвижения своей кандидатуры на всех выборах, а
ныне и на выборах в европейские учреждения. При этом демонстрируется
страстная увлеченность деятельностью, к которой обязывает желанный мандат;
избиратели же, разумеется, в такую увлеченность мало верят.
То, что при подъеме по лестнице власти во Франции необходимо
добиваться одного за другим местных мандатов, чревато многими
отрицательными последствиями.
Прежде всего в глазах политического сообщества такой мандат
определенным образом обесценивается, ибо на него смотрят лишь как на какойто промежуточный пункт; между тем реальные функции, осуществляемые в
соответствии с ним, полезны и весьма важны для местного коллектива: мэр
крупного города способен внести больший вклад в благосостояние своих
сограждан, чем государственный секретарь, ожидающий министерского поста,
так как последний чаще всего делает лишь то, что ему подсказывают
подчиненные.
Другое последствие — необычайные трудности при реформировании
местных коммун. Действительно, в существующую систему заложен механизм
самоблокировки. Не стоит ждать от выборного лица, что оно будет голосовать
за реформу, так как это восстановит против него почти весь электорат. На такое
голосование можно надеяться в крайнем случае в Национальном собрании, где
депутатов сдерживает политическая дисциплина и где их переизбрание меньше
зависит от местных выборных лиц, по крайней мере, когда это касается
городской Франции. Напротив, в Сенате подобные трудности почти
непреодолимы, в связи с тем что запрещение совмещать парламентские
мандаты с мандатами в исполнительных органах власти, например, с такими,
как посты председателей департаментских советов (их называют генеральными)
и мэров крупных городов, лишило бы сенаторов властной базы,
обеспечивающей их избрание. Вот почему для проведения этой необходимой
реформы нужно получить ответы на целый ряд концептуальных вопросов:
каковы те функции, которые кандидат на должность реально желает выполнять?
На что он лично претендует — на то, чтобы стать председателем регионального
совета? Или мэром крупного города? Или же, наконец, депутатом или
сенатором? Все перечисленные должности следовало бы считать равными
между собой и с точки зрения приносимой ими пользы, и с точки зрения
уважения, которое они вызывают, а не занимающими разные по высоте ступени
лестницы. Следовательно, у лиц, которые исполняют эти обязанности, должны
быть приблизительно равные условия жизни, особенно денежные оклады.
Для того чтобы избежать увеличения государственных расходов и
обеспечить покрытие этой новой формы затрат, выдвину следующее, почти
кощунственное, предложение: возвратиться к вопросу о неуместном увеличении
числа сенаторов (после принятия Конституции 1958 го125
да) и депутатов (с начала 1980-х годов); в результате Франция, население
которой насчитывает 60 млн человек, имеет парламентский корпус, намного
превышающий по численности аналогичный корпус Соединенных Штатов с их
260 млн жителей. Действительно, во Франции имеются 898 парламентариев
(577 депутатов и 321 сенатор), а в США — 535 (435 членов Палаты
представителей и 100 сенаторов)! Что касается Думы Российской Федерации, то
она состоит из 420 депутатов!1
Урок, который следовало бы извлечь из этих «Размышлений», состоит в
следующем: для успешной модернизации наших местных структур необходим
мощный политический импульс. Эта модернизация требует одновременно и
решительности и осмотрительности, ибо обновляемые структуры тесно связаны
с нашими политическими традициями и даже с некоторыми сторонами нашей
национальной идентичности. При всем этом данные структуры крайне
нуждаются в очищении и модернизации, чтобы и в указанной сфере у Франции
появилась привычка заглядывать в будущее.
Реформу следует тщательно и всесторонне обсудить в парламенте, а
правительству следует обратить на эти дебаты самое пристальное внимание.
Они подскажут, какие именно хрупкие конструкции надо уберечь, какие
равновесия — сохранить. Но в итоге правительству неизбежно придется четко
определить свою позицию по отношению к проекту.
Возможно, что именно проблема Корсики подтолкнет к дискуссии,
которую следовало бы начать уже давно и которая заглохла после 1983 года изза противодействия якобинского лобби, поддержанного лоббистами
центрального административного аппарата. Сменявшие друг друга
правительства, включая нынешнее, предпочли уйти от обсуждения этого
вопроса, который между тем играет важную роль в модернизации нашей
низовой демократии.
Требования о передаче полномочий, выдвинутые большинством
выборных лиц Корсики в марте 2000 года, соответствовали предложениям, с
которыми периодически выступала ассоциация региональных выборных лиц
континентальной Франции. Эти предложения неоднократно передавались
действующим правительствам, которые их игнорировали. Но в тот день, когда
парламенту все-таки придется поставить данный вопрос на обсуждение, ему
уже нельзя будет ограничиться лишь Корсикой. Следуя принципу равенства в
девизе нашей Республики, стоящему непосредственно за принципом свободы,
дискуссия неизбежно охватит проблемы устройства всех территорий,
образующих французский ансамбль. То, что будет предоставлено одним,
невозможно
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, ч. 3) Государственная Дума насчитывает 450
депутатов.
1
126
будет не дать другим. То, что будет оставлено одним, нельзя в то же
время отнять у других.
Непросто будет определить оптимальный для французских условий
уровень децентрализации. Такая децентрализация должна будет на местах
максимально поощрять ответственность и охранять идентичность региональной
культуры, не расшатывая при этом национального единства и таких его
достижений, как приверженность к одной и той же республиканской законности
и сознание национальной солидарности.
Как мне представляется, дискуссия на эту тему должна лечь в основу
избирательной кампании 2002 года, в особенности кампании по выборам
президента.
Думаю, что было бы полезно выяснить мнение общественности по
вопросам, связанным с основами демократии. Дело это непростое, ибо нельзя
создавать ситуацию, при которой любой выбор делается неприемлемым, идет
ли речь о сохранении прежнего порядка, безусловно осужденного
общественностью, или о ее согласии на проведение крайних — и
безответственных — мер, предлагаемых меньшинством, в составе которого
вновь объединяются экстремисты и оппортунисты. Проект закона о реформе,
после его продолжительного рассмотрения в парламенте и всестороннего
анализа в средствах массовой информации (особенно в печатных), следовало бы
на заключительном этапе вынести на народное обсуждение, оставаясь,
разумеется, в конституционном поле, за пределы которого не склонна выходить
общественность.
Без сомнения, нас удивит та поддержка, которую общественное мнение
окажет разумной модернизации местных учреждений, не требующей
институциональных потрясений. Результаты опросов общественного мнения
постоянно свидетельствуют о широком одобрении мер, вводящих ограничения
при совмещении мандатов и о явном предпочтении региона как пространства, в
рамках которого будет обустраиваться национальная территория и проводиться
децентрализация по-французски.
ПРЕДДВЕРИЕ АДА
Французы жаждут «великой» налоговой реформы. В каждой
предвыборной кампании им эту реформу обещают.
Их начинаешь понимать, когда берешь в руки общий налоговый кодекс,
который тяжелее любого фундаментального лингвистического словаря, и когда
в этом кодексе обнаруживаешь многочисленные наслоения, оставленные долгой
историей наших налогов.
Спор о налоговой реформе возник очень давно, еще тогда, когда
началась наша политическая жизнь. Видя всю запутанность и несправедливость
фискальной системы Старого порядка, Тюрго (1774—1776 гг.), а затем Калонн
(1786—1787 гг.) попытались ее реформировать. И сильно обожглись на этой
политике.
127
Буржуазная Франция XIX века привыкла к довольно стабильному
режиму налогов, отвечавшему ее интересам. Но резкое увеличение
государственных расходов, которым сопровождалось вхождение в
индустриальную эпоху, породило необходимость в новых источниках ресурсов.
К этому добавился груз крупных военных расходов в периоды перед двумя
последними войнами, а после них — расходы на восстановление страны.
Для удовлетворения перечисленных нужд один налог нагромождался на
другой. А поскольку ставки их становились чрезмерными, законодатель, то есть
парламент, начал умножать число актов, позволяющих приспосабливать налоги
к индивидуальному положению каждого налогоплательщика, вместо того чтобы
приложить усилия по упрощению системы; эта задача оказалась для парламента
непосильной. Поэтому возникла сложная сеть, включающая в себя потолки
налогообложения, доли, не облагаемые налогами, дифференцированные
налоговые ставки, многочисленные освобождения от уплаты налога и скидки.
Рост обязательных отчислений привел к тому, что по их уровню наша
страна является мировым рекордсменом в группе крупных промышленных
стран! Объем всех налоговых и социальных выплат составил в 1998 году, как и
в предыдущем году, 44,9% валового внутреннего продукта. А в 1999 году был
достигнут абсолютный рекорд: доля указанных выплат в объеме ВВП
поднялась до 45,6%.1
Стоит ли говорить, что мы отнюдь не следуем золотому правилу
налогообложения, которое сформулировал Жозеф Кайо в начале XX века:
«Хороший налог — это налог с широкой базой обложения и умеренной
ставкой».
Давление со стороны бюджета и поправки, внесенные парламентом,
привели к тому что Франция получила систему налогов с узкой облагаемой
базой, то есть с ограниченным числом лиц, которые их платят, и со ставками,
чаще всего непомерными.
Сложившаяся ситуация предопределяет стратегию реформирования
нашего налогообложения: следует облегчить налоговое бремя, стремясь при
этом понижать ставки налогов, а не сужать облагаемую базу.
Для достижения указанных целей необходимо определить ступени
налоговой шкалы, которые можно было бы рассматривать в качестве
приемлемых.
Возьмем в качестве примера налог на добавленную стоимость (НДС), с
которым я хорошо знаком, поскольку когда-то был среди тех, кто вводил его в
практику. Ставка НДС составляла в 1997 году странную цифру в 20,6%, которая
затем понизилась до 19,6%. Как показал опыт, его приемлемая ставка (то есть
такая сумма налога, которая не
1
См.: Programme pluriannuel des Finances publiques. 2000, Fevrier.
128
порождает злоупотреблений и не толкает к поискам параллельных
систем производства и распределения) это примерно 16—18%. Франции вполне
по силам в предстоящие пять лет снизить ставку НДС до этих процентов.
Что касается подоходного налога, то в большинстве европейских стран и
в Соединенных Штатах его величина не превышает ныне максимальную ставку
в 50% на единицу обложения. В Соединенных Штатах, первой по
экономической мощи державе мира, указанная ставка составляет 39,6%, но
иногда на нее накладывается дополнительный процент, взимаемый штатом.
Ставка подоходного налога в Великобритании — 40%. В Германии эта ставка
до сегодняшнего дня составляла 53%, социал-демократическое правительство в
своем плане налоговой реформы предложило ее снизить до 45%. В результате
парламентских дебатов под давлением законодателей был установлен 42процентный уровень. Со стороны Франции было бы весьма разумно
постараться уменьшить в течение трех лет максимальную ставку подоходного
налога до уровня, близкого к немецкому, а также обеспечить вычитаемость из
облагаемой им базы Всеобщего социального взноса (ВСВ). Очевидно, что
шкала ставок налогообложения в целом должна была бы изменяться
параллельно, то есть эти ставки уменьшились бы примерно на 15% в расчете на
каждую из долей дохода.
Но что произойдет при такой реформе с расширением налогооблагаемой
базы? Это расширение уже происходит благодаря установлению различных
форм ВСВ! Ведь слово «социальный» на самом деле здесь скрывает факт
восстановления пропорционального налога, который взимается со всей
совокупности доходов. Отсюда задача возвращения к единому взносу и
сокращение его ставки приблизительно до первоначального уровня.
Что же касается налога на имущество, переходящее в порядке
наследования по прямой линии, от родителей к детям, то здесь следовало бы
поставить такую же задачу: довести ставку этого налога до 20%, что
соответствует ставке, которая в течение длительного времени применялась во
Франции и избавляла от махинаций с укрывательством имущества,
предназначенного для передачи по наследству.
В результате французская налоговая система станет не такой
притеснительной, более простой и некоторым образом доступной притоку
свежего воздуха. Французы почувствуют себя так, словно сменили доспехи на
простую одежду, которая не сковывает движений и не мешает работать.
Никто не ждет, что Франция превратится в налоговый рай, но и не в ее
интересах сохранять репутацию некоего преддверия ада или хотя бы
чистилища! Франция — страна умеренная, благоразумная, и, покончив с
безумными выходками и внезапными переменами настроения, она и в
отношении налогов должна занять прочное среднее место в ряду го129
сударств со стабильными и умеренными налоговыми системами, она,
собственно говоря, долгое время и была такой страной. Так возник бы еще один
убедительный довод в пользу французского экономического пространства.
НОВЫЕ ГУГЕНОТЫ
Историческую память о Людовике XIV омрачает принятое им в 1685
году абсурдное решение об отмене Нантского эдикта, который был издан в 1598
году его дедом, Генрихом IV. Конечно, Людовику XTV дали плохой совет,
оказали на него дурное влияние, но он был королем! И решил, что пришло
время упразднить этот проникнутый духом терпимости акт, позволивший
протестантам мирно жить в течение восьмидесяти семи лет. С его точки зрения
Нантский эдикт наносил вред, нарушал порядок в делах веры во всем
королевстве. Он был уверен, что отмена эдикта не приведет к негативным
последствиям, так как полагал, что протестанты во Франции давно исчезли.
Однако отмена Нантского эдикта вызвала массовый отъезд гугенотов,
более ста тысяч их переселилось в Нидерланды, Лондон, протестантские
княжества Германии и особенно много — в Берлин. Значительная часть
французской интеллектуальной и профессиональной элиты — ибо
протестантизм был больше распространен среди зажиточных горожан, чем
крестьян, — навсегда покинула Францию. В перечне итогов правления
Людовика XIV это оскудение должно проходить по разряду потерь.
Чрезмерная напряженность нашей налоговой системы приводит к тому,
что можно счесть второй отменой Нантского эдикта, — в том смысле, что
побуждает определенное число французских талантов искать счастья в других
странах. Против широких молодежных обменов, против того, что некоторые
молодые люди начинают строить свое профессиональное будущее с работы за
рубежом, — против всего этого нечего возразить, наоборот, данные процессы
отвечают духу нашего времени.
Но есть повод тревожиться и принимать меры, когда исследования
некоторых специалистов и периодических изданий выявляют постоянный отток
кадров в направлении Лондона, Нью-Йорка и Калифорнии (проблема, по
отношению к которой наши власти продолжают проявлять крайнюю
сдержанность)1, когда руководителей предприятий все больше беспокоят
трудности подбора подходящих кандидатов на ответственные должности, ибо
те, кто мог бы эти вакансии занять, предпочитают принимать предложения из-за
рубежа.
Исключение составляет прекрасный доклад «Экспатриация молодых французов»,
опубликованный в июне 2000 г. сенатской комиссией по экономическим вопросам. — Примеч.
авт.
1
130
Без преувеличения можно утверждать, что в определенной степени
способность Франции в будущем успешно развивать свою экономику и удачно
применять для этого новые технологии, зависит от того, сумеет ли наша страна
в достаточной мере облегчить налоговое бремя, чтобы убедить талантливых
молодых людей — гугенотов или не гугенотов! — в том, что они могут делать
карьеру и реализовывать свои шансы на успех на родине, что условия для этого
здесь не хуже, чем в других странах.
Мне кажется, что описанную здесь реформу нашей налоговой системы
не так уж трудно понять и провести в жизнь, но только при наличии двух
условий: достаточного количества времени и способности сдерживать рост
государственных расходов. Соединить эти условия можно в первые годы
пребывания президента на своем посту.
Как же случилось, что в течение последних двадцати лет мы так мало
продвинулись в решении этой проблемы и даже пятились назад?
На этот вопрос можно ответить, если попытаться осмыслить его по-
новому.
1. Министр перед лицом своей администрации
Прежде всего надо сказать, что в нынешних политических кругах уже не
встретишь специалистов в области государственных финансов. Прошли
времена, когда в парламенте заседали такие деятели, как Жозеф Кайо, Раймон
Пуанкаре или Феликс Гайар. Изучить налоговую систему по-настоящему
невозможно без длительных наблюдений и применения ее на практике во время
работы на местах. Не впадая в грех безоглядного патриотизма в отношении
своей корпорации, все же признаем, что самую лучшую подготовку в этой
области давала, бесспорно, работа в Генеральной инспекции финансов. При
обучении в Национальной школе администрации налоговой системе уделяется
не так много времени, а университеты выпускают специалистов то слишком
широкого, то слишком узкого профиля. При отсутствии подлинного
политического авторитета у публичной власти рычаги управления часто
оказываются в руках финансовой администрации. Между тем в цели последней
никогда не входит упрощение налоговой системы, что сокращает ее,
администрации, возможности в области оценок, она скорее стремится к
усовершенствованию данной системы. Этот вывод можно было бы проверить на
примере НДС, область применения которого расширилась до бесконечности,
охватила такие виды финансовых операций, в которых невозможно обнаружить
ни малейшего следа добавленной стоимости, например, субвенции,
перечисляемые некоммерческим организациям, или продажу старинных
произведений искусства. Французской налоговой системой долгое время
управляли три различных ведомства: прямых налогов, косвенных налогов,
регистрации и марок. Хотя сорок лет назад эти ведомства были соединены в
одно це131
лое, им по-прежнему трудно обеспечивать всеобъемлющий подход к
налоговой системе. Такой подход может быть навязан только сверху,
министром. Но для этого еще необходимо, чтобы министр обладал
техническими знаниями и достаточным количеством времени.
2. Должен ли подоходный налог. играть социальную роль?
Следующая трудность связана с тем, что во французском обществе не
прекращается давний спор о «социальной» роли налогообложения, в
особенности подоходного налога. Для приверженцев классической школы,
школы создателей этого налога, его роль заключается в том, чтобы на как
можно более справедливых условиях предоставлять современному государству
средства от сбора налогов, необходимые для осуществления его функций. Для
других участников спора, в частности для левых, подоходный налог должен
быть инструментом «перераспределения» доходов, исправляющим неравенство,
которое наблюдается в распределении доходов. Поэтому недостаточно того,
чтобы тяжесть этого налога распределялась справедливо. Необходимо, кроме
того, придать ему способность корректировать, нормативно определять уровень
дохода, превратить налог в форму «публичного установления» дохода. Таких
коренных концептуальных разногласий нет в других странах, там принимают во
внимание один лишь принцип справедливого распределения налоговой
нагрузки. Что касается наших разногласий, то они только затрудняют
выработку совместного подхода к проблеме.
3. Наши налоги в сравнении с налогами соседних стран
Наш национальный спор о налоговой системе — это прежде всего спор о
распределении налогового бремени внутри страны, между французами. Мы
почти не принимаем в расчет международные факторы. Мы (в том числе и
парламент) едва ли придаем должное значение сравнениям нашего налогового
режима с режимами других стран, даже в тех случаях, когда речь идет о
странах, входящих в зону евро и не отделенных от нас экономическими и
валютными границами. Только лишь специализированные издания публикуют
результаты подобных исследований, и эти результаты удручают тех, кто их
читает. Между тем если наши налоги слишком тяжелы, то частные лица и
особенно предприятия в наше время имеют возможность обосноваться в другой
европейской стране, причем совершенно законно.
В самом деле, наше общественное мнение не подозревает, что ныне
существуют вполне «законные» схемы ухода от налогов, основанные на том,
что объекты налогообложения обладают подвижностью. Когда-то эти объекты
были заперты внутри страны, лишены возможности оторваться от ее земли, как
птицы, пойманные ландскими охотниками при помощи смолы. На эти объекты
можно было взваливать любое нало132
говое бремя, никакого способа избавиться от него не существовало. По
крайней мере, способа законного.
Теперь же большая часть как собственно хозяйственных решений, так и
почти всех финансовых операций не «привязаны» к какому-либо
определенному пункту, их можно принимать и осуществлять в любой точке
зоны евро, а для еще большего облегчения сделок они осуществляются в одной
и той же свободно конвертируемой валюте. Участники таких новых видов
операций, как определение мест для размещения правлений фирм, как выбор
территорий для долгосрочного вложения средств, как поиск стран, в которых
будут осуществляться проекты слияния компаний, всегда будут стремиться к
тому, чтобы обеспечить себе самые благоприятные условия. Отсюда постоянная
и вполне законная утечка налогов.
4. Парламент не действует в пользу упрощения системы
Не облегчает задачу налогового реформирования и практика
парламентских дебатов. Конституция удерживает парламентариев в рамках 40-й
статьи, которая запрещает им предлагать какие-либо налоговые льготы, если
они не обеспечены соответствующими финансовыми поступлениями 1.
Наученные горьким опытом парламентарии знают, что предлагать такое
обеспечение, то есть повышение какого-нибудь налога, — дело опасное и что
рекомендации по установлению налоговых льгот, как правило, пользы не
приносят. Там, где дело касается налогов, обиды гораздо долговечнее
признательности. И потому парламентарии давно уже отказались от внесения
предложений по налоговым льготам.
Единственная возможность, которая у них остается, — вносить поправки
в разделы, касающиеся налогов, которые содержатся в законопроектах о
финансах. Можно лишь удивляться тому потоку подобных статей, которые
ежегодно изливает правительство, словно наше налоговое законодательство
нуждается в мелких поправках постоянно. Быстрое размножение таких статей
захлестывает парламентариев, они пытаются приспособить их к особенностям
финансового положения отдельных лиц или категорий налогоплательщиков,
положения, к которому удалось привлечь их внимание. Но это порождает новые
трудности. Применять вновь созданные поправки сложно, а иногда и вообще
невозможно. Однако каждый может объявить, что поправка, предложенная им,
очень удачна, а в налоговом законодательстве образуется еще один окольный
путь.
Парламент выполняет свою роль, когда выступает в качестве
«медиатора» между законодателем в налоговой сфере и налогоплателыциУказанная статья гласит: «Законодательные предположения и поправки, предлагаемые
членами парламента, не могут быть приняты в том случае, если следствием их принятия было
бы либо сокращение государственных средств, либо создание или увеличение расходов
государства».
1
133
ком, но этому институту следовало бы заботиться о том, чтобы
обеспечивать справедливость для максимального количества лиц, а не
ограничиваться учетом нетипичных случаев.
Парламентариев с руководителями налоговых ведомств объединяет одна
и та же приверженность к усложнению вещей. Между частичным
освобождением от налога, скидкой на какой-либо вид деятельности для какойто категории граждан и понижением общей налоговой ставки они всегда
выбирают первое, будь то НДС или подоходный налог. Подобные действия
совсем не отвечают настоятельным требованиям облегчить налоговое бремя,
отождествляемое в сознании налогоплательщиков с двумя символическими
величинами — ставками крупных налогов и размерами налогового взноса,
который уплачивают все граждане страны.
ВАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
Настоящим, главным препятствием на пути налоговой реформы является
непрерывное увеличение государственных расходов, которое имело место в
1980-е и 1990-е годы. Налоговая реформа, чтобы заслужить название таковой,
должна исходить из достигнутого уровня налогообложения, ее можно
проводить только в одном направлении — снижения налогов. Но само это
снижение ограничено рамками простой зависимости, о которой французы
помнят недостаточно хорошо: излишние государственные расходы означают
излишние налоговые нагрузки. Бюджетный дефицит заводит в тупик лишь на
короткое время, очень скоро он приобретает форму государственного долга. В
стране, где для государственных финансов характерен постоянный и крупный
дефицит, политическому деятелю, когда он торжественно заявляет в прессе, что
надо снизить налоги, следует сразу же добавить, чтобы не оставлять свою
мысль незавершенной: «...и соответственно сократить государственные
расходы».
В течение двух десятилетий, в 1980-е и 1990-е годы, эти расходы не
уменьшились и даже не стабилизировались — их рост не прекратился. Объем
указанных расходов составил 46,1% ВВП в бюджете 1980 года. Затем этот
объем увеличился на 8% и достиг в 1998 году 54,3% ВВП, то есть он составлял
840 млрд франков, или 130 млн евро, в расчете на год!
Одним из последствий этого увеличения было то, что французы
постепенно привыкли к чрезмерному, на порядок, дефициту государственного
бюджета. Последним бюджетом, реализованным в период моего президентства,
был бюджет 1980 года. Он дал дефицит в размере 23,8 млрд франков, или 0,85%
ВВП, то есть наполовину с лишним меньше контрольной цифры, установленной
в соответствии с Маастрихтским договором!
134
Целый ряд факторов обусловил это непрекращающееся увеличение
расходов и безразличие политических кругов к размеру дефицита,
продолжавшееся вплоть до того момента, когда они почувствовали укус
маастрихтских критериев.
Первая причина увеличения расходов носила ситуативный характер, оно
явилось результатом роста безработицы. Поэтому данное увеличение можно
объяснить и даже оправдать. Хотя система помощи тем, кто потерял работу,
оказалась дорогостоящей, она смягчила материальные и психологические
проблемы, с которыми столкнулись люди, и позволила стране пройти период
безработицы без тех крупных социальных потрясений, которые предсказывали
любители мрачных прогнозов.
Сегодня этот фактор увеличения расходов уже не действует. Но важно
ответить на вопрос: сумеем ли мы в ближайшем будущем по мере улучшения
ситуации в сфере занятости уменьшить расходы государства на помощь
безработным? Ведь когда в силу особых обстоятельств достигнут определенный
уровень расходов, отказываться от этого уровня, после того как указанные
обстоятельства изменились, очень трудно. Стоит реальным «денежкам»
замаячить перед глазами, как тут же начинают разыгрываться аппетиты и расти
требования к государству, которое и само ищет способ этими средствами
завладеть, чтобы употребить их на свои цели.
Проблема уменьшения финансовых нагрузок, вызванных безработицей,
больше всего интересует трех партнеров: лиц наемного труда, предприятия (они
озабочены размерами своих взносов в AssEDIC1), а также государство,
направляющее на эти цели часть бюджетных средств. Для покрытия расходов,
связанных с ростом безработицы, страховые взносы повышались неоднократно.
Ныне было бы желательно, чтобы эти партнеры договорились между собой
относительно стратегии постепенного возвращения указанных средств
предприятиям и государству по мере констатируемого снижения уровня
безработицы, расчищая таким образом поле для социальных инициатив в
других областях.
Второй фактор увеличения государственных расходов является
постоянным: это следствие гипертрофии управленческого аппарата, то есть
диспропорции между численностью государственных служащих и объемом тех
задач, которые они в нормальных условиях должны выполнять.
Как только этот вопрос встает, тут же слышатся возражения, суть
которых заключается в том, что Франция еще недостаточно продвинута—в
области правосудия, безопасности граждан и т. д. Конечно же, в тех или иных
областях определенные улучшения нужны, но они не
AssEDIC (Association pour Pemploi dans l'industrie et le commerce) — Союз промышленников и
коммерсантов, организация, созданная в 1958 г. во Франции на паритетных началах патронатом
и профсоюзами для обеспечения дополнительной (негосударственной) помощи безработным в
промышленности и торговле.
1
135
избавляют от необходимости рассматривать проблему глобально. Среди
всех промышленно развитых стран Франция имеет самое большое число
государственных служащих по сравнению с активным населением. Эту оценку
следует уточнить, приняв в расчет тот факт, что во Франции на государстве
лежат те функции, например, в образовательной сфере, которые в других
странах частично выполняют местные общины или частный сектор.
То, что во Франции административный аппарат раздут, — бесспорный
факт, легко поддающийся проверке: 44,5% расходной части бюджета 1999 года
шло на содержание государственных служащих, работающих на данный момент
или уже вышедших на пенсию.
Управленческий сектор остался в стороне от реструктуризации, идущей
в нашей экономике. Исключением здесь явилась сфера национальной обороны,
где предпринимаются значительные усилия. Измерения затрат в этом секторе
проводятся редко и приблизительно, а аналитикам при подходе к нему начинает
изменять чутье. Между тем именно рассматриваемый сектор жестко
регламентирует все другие виды деятельности!
Если же какие-либо нужды появляются у предприятий, то им советуют с
упорством майских жуков стучать в окна государственных учреждений,
отвечающих за экономику, судебных палат по коммерческим делам, всех трех
этажей территориальной администрации. Потратив там значительное
количество времени, предприниматели нередко бывают вынуждены
отказываться от своих проектов.
У Франции хороший административный аппарат, компетентный,
честный, но большая часть закрепленных за ним функций отмерла. Ныне у нас
уже нет ни дефицита, которым нужно управлять, ни импортных квот, которые
следует распределять, ни цен, которые надо фиксировать. Рыночная экономика
и регулирование на уровне ЕЭС перенесли либо на предприятия, либо в
Брюссель решение большинства вопросов, находившихся ранее в ведении
национальной администрации. Число сельских производителей уменьшилось в
пять раз! Вся система профессиональной подготовки молодежи и управления
лицеями передана регионам. Но сказалось ли хоть как-нибудь это сужение круга
обязанностей центральных ведомств на численности их персонала? Президент
одного из самых крупных наших банков недавно признавался мне: «Вот уже
шесть с лишним месяцев у меня не было случая общаться с руководителями
Казначейства!» А ведь еще несколько лет назад он обращался к ним каждую
неделю, если не каждый день.
Дело решенное: Франции необходимо модернизировать и упростить
свою административную систему, чтобы приспособить ее к новому
территориальному устройству и к новым правилам функционирования
экономики. В этой управленческой реструктуризации следовало бы прибегнуть
к рецептам, которые успешно применяли другие страны:
136
избегать широких предварительных оповещений, которые порождают
непримиримые противоречия среди персонала; проводить обновление каждого
сектора, исходя из его собственной специфики; устранять дублирование
уровней ответственности в центре и на местах; наконец, отказаться от
составления планов увольнений.
На этом пункте я хотел бы остановиться особо. Общественному мнению
известна реакция профсоюзов на планы реструктуризации.
И оно требует исключить из названных планов любые предположения о
каких-либо «массовых увольнениях». Если общественное мнение сможет
настоять на своем в этом вопросе, то оно сочтет, что одержало социальную
победу. Процесс управленческой реструктуризации не должен приводить ни к
каким вынужденным уходам с работы. За исключением уходов естественных,
связанных с возрастом или причинами личного характера, остается лишь одна
величина, которую можно менять: число принятых на работу. Эту цифру
следовало бы устанавливать исходя не из количества уже имеющегося
персонала — а сегодня поступают именно так, — а из потребностей, которые
определятся после реорганизации. Подобный подход исключает возникновение
тревоги у служащих и угрозы для прав, имеющихся у них.
Мне могут возразить, что, поскольку возрастная пирамида сохраняется и
набор кадров придется удерживать на минимальном уровне, эти рамки слишком
узки для действий. Этот довод, однако, меня не убеждает, ибо то
обстоятельство, что ежегодно численность персонала администрации будет
изменяться даже на несколько процентов, приведет к постановке вопросов о
методах работы, об упрощении задач — вопросов, ответы на которые смогут
привести к коренному изменению установок административных служб. В
результате их сотрудники избавятся от пассивного неприятия всего нового в
своей работе и станут рассматривать ее как миссию.
Во время конфликтов начала 2000 года, вызванных достойными
уважения, но неумелыми попытками правительства реформировать некоторые
подразделения государственной администрации, в том числе учреждения
Министерства финансов, оказавшиеся слишком многочисленными в результате
развития информатики, противники реформы выдвинули странный довод:
следует полностью сохранить ту численность персонала, которая была
достигнута в 1999 году. Произошел своеобразный перенос «ни — ни», этого
золотого правила иммобилизма, в сферу определения численности
администрации. Однако совершенно непонятно, по какой причине — оттого ли,
что он был достаточно высок или, наоборот, достаточно низок — именно
уровень 1999 года абсолютно точно соответствует непрерывно изменяющимся
потребностям государственных служб!
Полагаю, что два самых главных лица государства оказали бы великую
услугу Франции, если бы убедили общественное мнение в том, что лучшим
методом для того, чтобы приспособить персонал администра137
ции к ее будущим задачам, избегая при этом любых увольнений или
вынужденных уходов с работы, является метод воздействия на величину набора
кадров. Наблюдаемое сокращение безработицы, как мне представляется,
облегчает такой подход.
Для разъяснения предпринимаемых шагов они могли бы прибегнуть к
решению, доказавшему свою эффективность при проведении приватизации:
создать «комиссию мудрецов», которая без лишней шумихи и никому не
нужных общих правил занялась бы определением того числа мест, которое
необходимо ежегодно создавать для кадрового пополнения различных ветвей
администрации.
Это изменение могло выразиться еще ярче, если бы сопровождалось
новой волной децентрализации. Приблизить администрацию к местам и
разрезать созданную Наполеоном пуповину, которой она все еще связана с
центральными парижскими ведомствами, — вот самый лучший способ
изменить ментальность ее персонала.
Одновременно были бы созданы условия для того, чтобы задаться
вопросом о том месте, которое занимает «государственная служба» (fonction
publique), иначе администрация, внутри французского общества. Ее
сегодняшнее позиционирование нельзя признать удовлетворительным, даже
если своему персоналу она дает чувство безопасности и гарантию карьерного
продвижения. То, что называют «статусом государственного служащего»,
возникло в первые послевоенные годы. Этот статус никоим образом не
приспособлен к происшедшим изменениям: к децентрализации системы
управления, к повышению ответственности лиц, принимающих решения, к
профессиональной мобильности персонала.
Главная черта этого статуса — жесткость. Он мало считается с личным
выбором и заслугами. При аттестации используется система, теоретически
состоящая из двадцати баллов, но обычно оценки выставляются в диапазоне от
16 до 20 баллов, причем установилось правило, по которому эти оценки
ежегодно следует повышать, что лишает их всякого смысла. Устраняется
практически всякая зависимость размера жалованья от качества выполненной
работы. Сама величина вознаграждения за труд всячески затемняется системой
«премиальных», весьма неодинаковых в различных ведомствах; Счетная палата
пытается в ежегодных докладах рассеять тьму, окружающую эти выплаты
своими прожекторами, но свет их быстро меркнет.
Правила начисления пенсий для государственных служащих
существенно отличаются от правил пенсионного обеспечения остальных
французов, то есть от общегражданских правил, и в плане возраста, дающего
право на пенсию, и в плане размера самой пенсии.
Однако существует взаимосвязь между пенсиями чиновников и
ресурсами всех вместе взятых французов, поскольку для покрытия дефицита в
пенсионном обеспечении государственных служащих обращаются к общему
бюджету, а дефицит этот в предстоящие годы должен возрасти.
138
Говорить о том, что положение, разработанное в период между 1945 и
1950 годами, то есть в первой половине XX века, имеет мало шансов на то,
чтобы удовлетворить потребности XXI века, — значит говорить банальности.
Однако этот статут по-прежнему окружен ореолом святости, и ни одно из
сменяющих друг друга правительств, похоже, не помышляет ставить это под
сомнение. Результатом, негативным результатом такой позиции является все
более углубляющаяся пропасть между миром государственных служащих и
миром остальных людей, которых сегодня большинство. Это удаление одних от
других не удовлетворяет ни тех, кого считают привилегированными, ни всех
остальных, болезненно переживающих такое положение вещей, при котором
они вносят свой немалый вклад в процветание страны, не получая за это
достаточного признания своих заслуг.
Лучшим возможным выходом из этого положения была бы переработка
рассматриваемого акта так, чтобы он определял новый, с точки зрения
управленческой культуры, подход к преобразованию администрации с
иерархической структурой, построенной по модели наполеоновских армий, к
администрации, выполняющей «миссию», организованной исходя из стоящих
перед ней задач. Естественная внутренняя эволюция этой администрации
побуждала бы ее приспосабливаться к постоянным изменениям задач.
Очевидно, что описываемая система должна была бы гарантировать занятым в
ней лицам беспрепятственное прохождение службы, но при этом обогатиться
двумя новациями: определенными гарантиями объективности при увеличении
вознаграждений, сопровождающих повышения по службе, и большей
гибкостью при подборе кадров, облегчающей переход от административной
деятельности к ответственным должностям на предприятиях и наоборот.
В результате молодые люди начали бы по-другому воспринимать свою
карьеру, она не казалась бы им больше скучной, однообразной дорогой, по
которой им придется тащиться изо дня в день от приема на службу до выхода на
пенсию, а представлялась бы полем, где одна за другой появляются
возможности проявить свою индивидуальность в рамках профессии.
В духе этой новой управленческой культуры следовало бы
реформировать Национальную школу администрации — так, чтобы обучение в
ней строилось в соответствии с профессиональными предпочтениями
студентов. Единый вступительный конкурс должен перестать быть средством
для создания некоего садка, из которого ведомства черпают потребные им
кадры, руководствуясь результатами зачетов. Эту систему следует заменить
целым рядом конкурсов, в которых соискатели принимали бы участие в
зависимости от своего призвания: дипломатия, управление государственными
финансами, административное право, социальное право и т. д. Школа стала бы
местом встреч и центром организации стажировок, предназначенных для
обмена опытом, но
139
«карьеры» учащихся определялись бы их первоначальным выбором. Они
не становились бы равнодушными «чиновниками», но готовились бы к тому,
что предпочли сами.
КУЛЬТ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ
Последней причиной того, что наши государственные расходы раздуты,
является, конечно, страстная привязанность французов к денежной помощи со
стороны государства. Эта привязанность воспитана давней традицией.
Всемогущее государство при монархии и при Империи имело возможность с
помощью подарков, доходных мест и привилегий улучшить индивидуальное
положение значительного числа лиц. А постоянное государственное
вмешательство при Республике приучило хозяйствующих субъектов
рассматривать в качестве нормального явления финансовую поддержку своих
проектов со стороны государства или местных общин.
Любой француз полагает, что у него в кармане лежит долговое
обязательство, выданное государством.
Это поведение не похоже на то, которое по устоявшейся привычке
называют assistanat, когда индивид получает вспоможение. Данное поведение
скорее является результатом длительного восприятия индивидом его отношений
с государством. В наших умах понятия «государственные финансы» (пусть за
все платит государство!), Государственное казначейство и даже Французский
банк вызывают представление о некой коллективной кубышке, которую
незаконно прячут от граждан, хотя она является их собственностью. К ней
нужно только получить доступ, чтобы разрешить большую часть своих
проблем. Видимо, такое представление сложилось в давнюю эпоху, когда
существование королевской или императорской казны никак не отражалось на
жизни народа, но в то же время могло быть источником неограниченных льгот.
Во всяком случае, и это бесспорно, французы отнюдь не убеждены, что
расходуют свои собственные деньги и что им придется оплачивать по счетам
все полученное. Современная эпоха начинает разрушать миф об упрятанных
сокровищах, однако до сих пор увязка вопроса о дополнительных расходах с
вопросом о том, из какого источника эти расходы финансировать, является
одной из задач коллективного воспитания людей.
Что касается ожиданий государственной помощи для финансирования
проектов местных предприятий и общин, то такие ожидания тоже
распространены почти повсеместно. Пока лишь часть предприятий начинает
высказываться в пользу системы, при которой помощь со стороны государства
будет оказываться реже, зато нагрузки на них уменьшатся.
Навязчивое стремление получать субвенции является важным фактором
увеличения расходов, ибо в редких случаях выборное лицо отказывается от
преимуществ, которые предоставляет субвенция его
140
коллективу, даже если последнему придется оплачивать значительную
часть счетов. Эта система стала еще более порочной благодаря практике
перекрестного финансирования, то есть выделения субвенций значительным
числом сторон. Например, местный проект финансируется по следующей схеме:
40% расходов покрывает коммуна, 20% — департамент, 20% — регион,
остальные 20% обеспечиваются благодаря государственной помощи и
обращению к структурным фондам ЕС. В результате каждый партнер считает,
что ограничил свои расходы! Кроме того, лишь первый кредитор будет
ощущать реальную ответственность за осуществление проекта. Можно
представить, сколько собраний, бумаг, словопрений понадобилось для того,
чтобы выработать эту ученую схему! Самое забавное заключается в том, что
три партнера из четырех или пяти — коммуна, департамент и регион —
обращаются к одним и тем же источникам финансирования и что все эти
расходы станут очевидными, когда налогоплательщик получит единое
уведомление на уплату местных налогов.
В этой системе следует терпеливо разобраться и, сделав выводы, идти
вперед, развивая понятие исключительной компетенции. У каждого
административного уровня должна быть какая-то своя сфера исключительных
полномочий, действуя в которой, он несет всю полноту ответственности и
которую полностью финансирует. Для регионов такой областью могут быть
лицеи, для департаментов — коллежи. Если возникают финансовые трудности,
связанные с тем, что общины обеспечены неодинаково, то эту проблему
следовало бы разрешать так, как это делается в Германии, — путем всеобщего
выравнивания средств, осуществляемого на национальном уровне.
Второе понятие — единая субвенция. Когда местный коллектив, будь то
коммуна или объединение коммун, предполагает осуществить какой-либо
проект, ему следовало бы выяснить, представляет ли этот проект интерес для
департамента, региона или страны в целом. После этого данный коллектив мог
бы обратиться к ответственным лицам на соответствующем уровне с просьбой
выделить субвенцию. Она исключала бы все остальные субвенции, кроме,
может быть, помощи со стороны учреждений ЕС. В особенности это касается
департаментской и региональной субвенций, предназначенных для одного и
того же проекта; государственные учреждения-кредиторы должны объявлять
эти субвенции несовместимыми друг с другом и отказывать в их выделении.
Тогда клубок стал бы распутываться, общественному мнению стало бы легче
различать уровни полномочий. Это, в свою очередь, привело бы к перестройке
региональных и департаментских бюджетов, обеспечивающей их большую
прозрачность.
Задача уменьшения государственных расходов огромна, но, как
выясняется, ее решение естественно вписывается в траекторию модернизации
Франции.
141
Для того чтобы очистить и реформировать одновременно и налоговую
сферу, и администрацию, нам следует постепенно переходить от
консервативной и оборонительной установки к «глобальному» видению и к
«обращенности в будущее», от иерархической административной системы — к
управлению, основанному на выполнении миссии.
***
Можно было бы продолжить путешествие по всем тем многочисленным
строительным площадкам, которые нуждаются в реформировании, таким как
просвещение, социальная защита, пенсионное обеспечение и его
финансирование, но в намерения автора не входит рассмотрение этих проблем,
какими бы важными они ни были. Моя задача — выявить, приведя некоторые
примеры, те причины, по которым, как мне представляется, так трудно
проводить реформы во Франции, причины, вот уже двести лет заставляющие
нас колебаться между стойким консерватизмом, в котором больше упрямства,
чем благородства, и революционными потрясениями, когда мало заботятся о
том, чтобы созидать, и проявляют равнодушие к тому, что разрушают.
Последний пример — борьба с безработицей — позволит прийти к
некоторым общим выводам.
ПРИЙТИ К ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Вот уже двадцать пять лет Франция борется с безработицей, она
испробовала не один десяток средств, но чувствует, что по-настоящему хорошее
лекарство еще не найдено, хотя ситуация благодаря Небесам — или, вернее,
международному развитию — стала улучшаться.
Быть может, вначале следует разложить проблему на составные части, в
соответствии с методом, который так ценил Рене Декарт и который, по
убеждению зарубежных мудрецов, продолжает вдохновлять французов.
В нашей безработице, охватившей примерно 12% самодеятельного
населения (этот уровень на два пункта выше того, из которого исходили в
Древнем Риме, когда наказывали взбунтовавшиеся легионы, — тогда казнили
каждого десятого мятежника), довольно ясно просматриваются три вида:
— конъюнктурная безработица как следствие недостаточного
экономического роста, сокращающего потребности в новой рабочей силе.
Можно предположить, что безработные этого типа составляют от трех до пяти
процентов от общего количества;
— структурная безработица, вызванная тем, что наше общество в силу
жесткости и неприспособленности к жизни своих конструкций
142
оказывается «неспособным» создавать рабочие места, в которых
нуждается трудоспособное население;
— безработица, обусловленная личными проблемами; она возникает
тогда, когда какое-то число людей наталкивается на препятствия, желая развить
свои способности, получить знания или иметь здоровье, необходимое для
выполнения той или иной работы.
Различие между двумя последними видами не является абсолютным, ибо
благодаря соответствующим мерам некоторое число безработных удается
перевести из третьей категории во вторую.
Первое, что надо сделать, это определить цель. Политические
руководители, неоднократно обжигавшиеся на этой проблеме, ограничились
выдвижением осторожных предложений о «сокращении безработицы».
Общественное мнение, в свою очередь, не готово поверить в то, что можно
достигнуть гораздо больших успехов: ежемесячное снижение на 0,1% или на
0,2% количества людей, ищущих работу, кажется ему вполне приемлемым
результатом.
Однако такая страна, как Франция, промышленно развитая, имеющая
неплохие интеллектуальные ресурсы, только-только вспахавшая обширное поле
новых технологий, могла бы поставить перед собой цель более мобилизующую
— добиться полной занятости, то есть ликвидировать два первых типа
безработицы. Именно это и начинает происходить. Выявившееся с некоторых
пор сокращение безработицы придало смелости политическим руководителям:
они снова задумываются о возможности возврата к полной занятости. Так как
наблюдаемое
движение
является
для
упомянутых
руководителей
неожиданностью, то можно сказать, что экономический рост застал их врасплох
и что они не в состоянии этот процесс объяснить. Прибегая к хитроумным
политическим маневрам, эти господа готовятся ныне представить полную
занятость в качестве своей давней цели.
Что касается конъюнктурной безработицы, то и здесь наблюдаются
подвижки, и можно лишь пожелать, чтобы они продолжались. Пессимисты и те,
кто ратовал за административное регулирование безработицы, в течение ряда
лет твердили нам, что улучшение конъюнктуры якобы не приведет к
существенному снижению уровня безработицы. Факты опровергли эти
утверждения. Остается сожалеть, что названное движение оказалось не таким
быстрым, каким могло быть.
Улучшение ситуации во французской экономике началось благодаря
изменению соотношений между обменными курсами доллара, франка и
немецкой марки, которое произошло в конце 1996 года в результате действия
рыночных механизмов. Если бы правительство не продолжало в период с 1992
по 1996 год упорно держаться за дефляционную политику (ее оправдывали
желанием не раздражать немецких партнеров с их довольно неповоротливым
догматизмом) и если бы вместо этого оно тогда же взяло на себя инициативу
указанной корректировки обменных
143
курсов, то можно было бы обеспечить такое же ускорение темпов
экономического роста и сокращение безработицы, какие мы наблюдаем сегодня.
В этом случае правительство имело бы весьма благоприятные позиции перед
проведением парламентских выборов в их нормальные сроки, в июне 1998 года.
В моей статье, опубликованной в ноябре 1996 года, я решился предположить,
что желательным для франка обменным курсом был бы такой, когда за семь
франков давали бы один доллар. И вот всю весну 2000 года, отмеченную
высокими темпами экономического роста и снижением уровня безработицы,
сохранялся курс, в соответствии с которым доллар продавали именно за семь с
лишним франков! Для того чтобы двигаться дальше, чтобы обеспечить
уменьшение структурной безработицы, необходимы реформы. И здесь мы
зажаты между рекомендациями международных учреждений и предложениями
наших политических партий.
Международные организации — МВФ, ОЭСР, Европейская комиссия —
в один голос требуют от нас большей гибкости в сфере труда и ослабления
административных ограничений. За достаточно осторожными формулировками
скрываются настоятельные советы сделать увольнения с работы менее
дорогостоящими и сложными в нормативном плане. Несомненно, эти расходы и
сложности отвращают многих промышленников, особенно владельцев средних
по размеру предприятий, от набора новой рабочей силы и объясняют то, почему
они прибегают к форме временного найма. В эпоху, когда представления обо
всем меняются, когда многие молодые люди не исключают для себя перехода от
одной профессии к другой, необходимо найти равновесие между сегодняшними
чрезмерно жестокими нормами и полным отсутствием гарантий в сфере труда.
Если бы этого удалось добиться, рынок труда стал бы лучше приспособлен к
выполнению своих задач, а поиск рабочей силы — значительно легче. Однако
обретение такого равновесия не может привести к увеличению количества
вновь созданных рабочих мест, к расширению пространства для применения
наемного труда.
Самый серьезный упрек, который можно было бы сделать
существующей системе, заключается в том, что из-за величины нагрузок,
которые она заставляет нести предпринимателей, становится невозможным
использование наемного труда во многих сферах производства товаров и услуг.
Сегодня хорошо известно, к чему это приводит. Вкратце ситуация
выглядит так. При минимальной зарплате рабочего на его работодателя ложатся
социальные нагрузки, достигающие примерно 50% размера этой зарплаты.
Таким образом, затраты на труд, предоставляемый данным рабочим, возрастают
до 150% Smic1. Между тем в нашей экономике имеется значительное число
операций по производству товаров и оказаSmic (salaire minimum interprofessionel de croissance) — минимальная межпрофессиональная
зарплата роста, то есть минимальная официальная зарплата.
1
144
нию услуг, рыночная цена которых находится где-то между уровнем
Smic и уровнем в 150% Smic. Указанные операции невозможно осуществлять,
ибо их слишком дорого оплачивать в соответствии с наложенными на них
хозяйственными издержками, а это приводит к возникновению обширной
«зоны», в которой исключено использование наемного труда. Описанная
ситуация объясняет, почему во Франции населению перестали предоставлять
некоторые виды товаров и услуг, тогда как в других промышленно развитых
странах такие услуги предоставляют по-прежнему, а также то, почему
изменилось местонахождение некоторых производств, использующих рабочую
силу низкой квалификации.
Если бы в этой зоне вновь стало возможно использование наемного
труда, то, как показывают результаты исследований, проведенных с
привлечением лучших специалистов, удалось бы дополнительно создать от
одного до полутора миллиона новых рабочих мест, а это равнозначно почти
полной ликвидации структурной безработицы. Большая часть политических
деятелей в конце концов была вынуждена согласиться с этой очевидностью.
Они уснащают свои речи рекомендациями относительно уменьшения нагрузок
на низкие зарплаты. И однако же за пять лет, прошедших после начала в 1994
году дискуссии на эту тему, не было предпринято ни одного заметного шага в
данном направлении.
Лишь Жак Барро, министр по социальным делам в правительстве Алена
Жюппе, выступил с конкретными предположениями. К этой точке зрения
присоединилась также госпожа Мартин Обри, министр труда.
Однако сменявшие друг друга правительства предпочитали обращаться к
другим мерам: они пытались ввести в практику трудовые договоры,
предусматривающие государственную помощь и побуждающие предприятия
принимать на работу молодых людей, чтобы дополнить их подготовку или
предоставить им преимущества предварительного найма. Каждый министр и
каждый кандидат на ответственный пост создавал свою систему. Если бы
проблема не была столь драматичной, перечень этих формул, появляющихся
одна за другой, мог бы вызвать смех1.
Эти взлеты фантазии не производили ни малейшего впечатления на
уровень безработицы. Хотя некоторые из предложенных комплексов мер были
действительно полезными, так как приводили к усовершенствованию
профессиональной подготовки или гарантированному приему на работу в
будущем, их отличал один общий недостаток: они
Перечислю договоры, предусматривающие государственную помощь, которые были
разработаны начиная с 1988 г.: Квалификационный договор; Адаптационный договор;
Стажировки для приобщения к профессиональной жизни {SIVP); Солидарный договор найма;
Договор возобновления найма; Ориентационный договор, заменивший SIVP; Местный
ориентационный договор; Консолидированный договор найма; Договор профессионального
включения (CIP), который так и не появился на свет; Инициативный договор найма,
заменяющий Договор возобновления найма; Квалификационный договор для взрослых;
Договор найма для молодых людей. Надеюсь, что ничего не забыл. — Примеч. авт.
1
145
не раздвигали границ применения наемного труда. Совершенно
естественно поэтому, что количество создаваемых рабочих мест не
увеличивалось.
БОЯЗНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДХОДА
Почему после признания пользы глобального подхода к проблеме его
отвергли и предпочли проводить многочисленные и сложные комплексы мер?
Эта позиция обнаруживает то состояние умов, которое нам совершенно
необходимо изменить.
Глобальный подход выглядит слишком простым, а последствия его
применения слишком трудно просчитать. Политические круги не уверены, что
обладают знаниями, необходимыми для верной оценки действий глобальных
механизмов, и опасаются таких результатов их использования, с которыми
потом невозможно будет справиться. То же самое произошло в валютной сфере:
проблемы, возникшие в связи с проводившейся в 1992—1997 годах спорной
дефляционной политикой, ни разу не стали предметом серьезного обсуждения.
В политических кругах предпочитают искать спасение в незначительных мерах,
последствия которых, как они полагают, можно предугадать. В таком подходе
есть что-то анекдотическое: исходить из частного случая, который кажется
знакомым, чтобы на его основе выработать общее решение.
В глазах администрации такие простые и глобальные решения, как
изменение паритета денежных курсов, освобождение цен или большое и
повсеместное сокращение нагрузок на низкие зарплаты, имеют серьезный
недостаток — они выводят из игры государственные управленческие
структуры. Туда уже не обращаются с ходатайствами, их персоналу больше не
надо ни готовить дела, ни проводить проверки. Администрация, охраняя свои
права, никогда не предлагает подобных решений, какого бы оттенка ни было
действующее в данный момент правительство. Вот почему только
законодательная ветвь власти в состоянии вырабатывать простые решения и
добиваться их принятия.
Нынешнее правительство прибегло только к одной мере общего
характера, которая была представлена в качестве главного инструмента в борьбе
с безработицей: к сокращению продолжительности рабочей недели с 39 до 35
часов при сохранении в прежнем размере заработной платы. В качестве
доказательства пользы этой меры приводились рассуждения о том, что
предприниматели, «лишившись» четырех часов труда своих рабочих, наймут
дополнительных работников для выполнения той работы, на которую требуется
указанное время. Но из каких источников работодатели будут оплачивать труд
новых рабочих, ведь на оплату 35 часов труда нанятых ранее рабочих уйдут
средства, прежде уходившие на оплату 39 часов, а выпуск продукции, судя по
всему, не увеличится?
146
Да и в истории экономики не было ни одного случал, когда
одномоментное увеличение трудовых затрат приводило бы к созданию новых
рабочих мест.
Тем не менее следует констатировать, что переговоры, связанные с
переходом на 35-часовую неделю, на некоторых предприятиях проложили путь
к большей гибкости в организации труда: к годовому регулированию рабочего
времени, к гибким рабочим графикам, к лучшей организации неполного
рабочего времени. Можно сказать, что в приоткрывшуюся дверь неслышными
шагами начала входить новая культура труда...
Добавим, что по иронии истории и здесь не обошлось без ложки дегтя.
Когда обязательная 35-часовая неделя распространится на все предприятия,
крупные и мелкие, то положение на рынке труда может коренным образом
измениться и мы столкнемся с нехваткой рабочих рук! Пожелаем же, чтобы
законодатели вовремя заметили эту тенденцию!
Фактически речь идет о выполнении предвыборного обещания
социалистической партии, которым предполагалось украсить программу,
небогатую инициативами, устремленными в будущее.
Подобное обещание уже было сделано в 1981 году. В телепередаче
«Карты на стол» по каналу Antenne-2 (созданному благодаря реформе
электронных СМИ 1975 года) кандидат в президенты Франсуа Миттеран
объявил о двух главных составляющих своей экономической программы:
проведении массовой национализации крупных промышленных и финансовых
предприятий (спустя двадцать лет это кажется сном!) и уменьшении до 35 часов
продолжительности рабочей недели. Что касается национализации, то обещание
было полностью выполнено и даже перевыполнено, чтобы удовлетворить
требования коммунистов, союзников по блоку... Но осторожность, а также, без
сомнения, полученные президентом советы побудили его в течение двух сроков
своего правления ничего не предпринимать для введения 35-часовой недели. Он
ограничился ее уменьшением с 40 до 39 часов, а затем вообще перестал
заниматься этим вопросом.
Строгая этика, которой следует Лионель Жоспен, побудила его
выполнить свое предвыборное обещание, наперекор ветрам конкуренции и
приливам глобализации.
Таким образом, в начале двух последних периодов своего пребывания у
власти — в 1981 и 1997 годах — социалисты предпочли не осуществлять
реформ, необходимых для модернизации страны, а заниматься выполнением тех
предвыборных обещаний, которые они дали. К несчастью, первое из этих
обещаний оказалось несовместимым с рыночной экономикой и потому было
быстро забыто, второе же обещание оказалось несовместимым с глобализацией
экономики,
заставляющей
нас
любой
ценой
повышать
нашу
конкурентоспособность.
147
Глава 6
ПОВРЕЖДЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ФРАНЦУЗОВ
Французы
—
это
разучившиеся улыбаться.
Жан Кокто
итальянцы,
Когда я говорю о том, что доля ответственности за политический упадок
Франции ложится на психологию французов, то одновременно с волнением
испытываю некоторое замешательство.
Замешательство — поскольку нелегко говорить о нраве народа, к
которому сам принадлежишь и которым в течение нескольких лет с огромным
удовольствием руководил. У меня нет личной обиды на него, как полагают или
пишут некоторые, ибо всегда, и когда результаты выборов были для меня
благоприятными, и потом, когда они стали неблагоприятными, я считал, что
при нынешнем состоянии нашей политической культуры решение, принятое
путем голосования, является легитимным и единственно возможным актом, что
его следует принимать полностью, не идеализируя и не драматизируя. Я всегда
чувствовал, что, проще говоря, живу в ладу с французами, даже если в
политических и информационных кругах придерживались иного мнения,
продиктованного им расчетами или предрассудками.
Рассуждая о психологии французов, не стану говорить подобно другим
авторам: «Я не уверен в том, что буду понят», а скажу сразу: «Я уверен в том,
что не буду понят». У французов сложилось определенное представление о себе
самих, этим представлением они играют, оно их тешит, а нашим политикам
нравится на него ссылаться, помещая перед их глазами словно кривое зеркало и
думая доставить этим удовольствие. Между тем указанное представление не
является, как мне кажется, ни верным, ни удачным. Оно не соответствует
изначальной природе французского характера, который прежде обладал
большей силой и вызывал большее уважение. Можно было бы сказать, что
французский характер испортило время и что это изменение тесно связано с
политическим упадком Франции в том смысле, что ухудшение французского
характера способствовало упадку, а от упадка французский характер делался
все хуже и хуже.
148
Этому вопросу специалисты посвятили множество трудов. В области
гуманитарных и социальных наук за несколько десятилетий достигнуты
значительные успехи, и меня переполняет восхищение, когда я знакомлюсь с
темами диссертаций, в которые погружены сегодняшние студентки и студенты.
Я смотрю на вещи под иным утлом: описываю увиденное и пережитое, включая
и перемены в общественном мнении, являющиеся одним из слагаемых моей
деятельности.
И тут меня охватывает волнение. В обществе часто полагают, что те, кто
руководит, поддерживают с ним, обществом, отношения рассудочного
характера, основанные только на расчете, а иногда и вообще им манипулируют.
И не допускают, что в указанных отношениях может присутствовать и
эмоциональная составляющая. Однако можно любить множество людей, народ
так же, как любят одного человека. И тогда пытаются предугадать его реакции
на свои действия, испытывая радость, когда он вас понимает, и обижаясь, когда
он высказывает недоверие. В последние недели предвыборной кампании 1974
года после моих выступлений на собраниях избирателей многие из них, словно
повинуясь таинственному приказу, принимались вполголоса желать мне:
«Удачи, удачи!» в то время, как я шел к дверям. Вспоминаю день Первого мая в
Нанте, когда люди преподносили мне букетики ландышей. Каждый раз, когда я
слышал эти слова, у меня начинало щипать в глазах, и я испытывал счастье,
видя как те, мимо кого я шел, протягивают ко мне руки, как бы стремясь меня
обнять. Да, можно любить людское множество так, как любят одного человека.
И поэтому мне не хотелось бы, чтобы этот анализ психологии французов
из-за какого-нибудь недоразумения завел меня в тупик. Если же мои
соотечественники сочтут, что я приписываю им слишком много недостатков, то
они всегда могут мне возразить, что ведь это и мои недостатки.
Отложим в сторону все напоминания о наших галльских корнях,
которыми привычно объясняют нашу склонность к ссорам и расколам. Это
забавная фантазия, не имеющая под собой ни малейшей научной основы. Не
знаю, подвергал ли профессор Жан Бернар1 кровь французов такому же анализу,
как кровь некоторых народов Африки, в частности Сенегала. Но если он и
проводил такое исследование, то вряд ли бы обнаружил большое количество
хромосом галльского типа. На самом деле французский народ соединил в себе
две популяции: одну — галло-романского происхождения, которая издавна
занимала центр и юго-восток страны, и другую — германского (или «готского»)
происхождения, жившую на севере, востоке, а также на юго-западе. Что
касается Нормандии, то она, особенно край Ко, все еще хранит отчетливые
следы некогда заселявших ее викингов. Процесс слияния
1
Жан Бернар (род. в 1907 г.) — французский ученый-медик, писатель.
149
всех этих культур, чья интенсивность то возрастала, то спадала между V
и XI веками, определил особый характер Франции и объясняет некоторые из его
противоречий.
После поражения в матче по регби или шумного заседания
Национального собрания весьма удобно пытаться объяснить их перипетии
нашим галльским происхождением! Но таким образом мы попадаем в царство
фантазии.
У сегодняшних французов галльских черт не больше, чем у классических
римлян, консулов или императоров — влияния на жизнь современной Италии
или у афинских философов V века до н. э. — возможности воздействовать на
современные политические споры в Греции. Тоненькую струйку, еще текущую
из этого источника, питают климат, язык — он является романским, а не
франкским! — названия местностей, имена, которые ныне встречаются все
реже. Для того чтобы проанализировать поведение французов в повседневной
жизни, достаточно ограничиться эпохой, начавшейся с феодализации и
христианизации и завершающейся веком индустриальным, городским и
республиканским, то есть ограничиться уходящим тысячелетием. Изменения,
сформировавшие своеобразную психологию французов, произошли именно в
этом тысячелетии и особенно в его последние три столетия.
Одна из черт поведения французов — стремление возложить
ответственность за неудачи на своих руководителей, разделяя таким образом
общество на две половины — просто французы и их руководители, которых
сегодня называют «политиками». Когда наши соотечественники долго
перечисляют
недостатки
названных
«политиков»,
проявления
их
некомпетентности или развращенности, они ни на миг не задумываются о том,
что эти упреки могли бы высказать самим себе! Указанное разделение надвое
искусственно, так как разрыв между политическим сообществом и просто
обществом не может быть глубоким в стране, которая насчитывает пятьсот
тысяч политических избранников различных уровней представительства, в
стране, где каждый готов выставить свою кандидатуру, если получит
поощрительный сигнал. Политическая жизнь отражает просто жизнь. Если
политическим партиям грозят расколы, то потому, что сами французы
расколоты, и если общественная жизнь больше не отличается спокойствием, то
это потому, что французы усвоили привычку оспаривать любое решение —
даже законное, — если оно лично для них невыгодно. Нет необходимости
приводить много примеров. У каждого они в памяти.
Рассмотрение своеобразных черт политической и социальной
психологии сегодняшних французов я хотел бы предварить еще одним
замечанием — о средствах массовой информации. Массмедиа — новый
феномен, поскольку он появился несколько десятилетий назад, в частности
телевидение заполонило власть во время моего семилетнего президентства;
поэтому невозможно отступить достаточно далеко,
150
чтобы лучше увидеть этот феномен и по достоинству его оценить. С
начала XX века французов, заменив привычный покой, стали окружать шум и
мелькание. Представим себе жизнь французского крестьянина или рабочего
второй половины девятнадцатого столетия, попытаемся подсчитать то
количество слов, которое они могли услышать за день. В былые времена то
были слова, которыми люди обменивались в семейном кругу, возвратившись
домой после утомительного трудового дня; слова, с помощью которых
общались с товарищами по работе, с партнерами по игре в белот и другими
посетителями бистро. По утрам и во время еды соблюдалось полное молчание.
Теперь же рабочий с самого раннего утра слышит радио, оно его сопровождает
повсюду. Телевизор, установленный в общей комнате или кухне, остается
включенным значительную часть времени, в среднем телепередачи смотрят на
протяжении пяти-шести часов ежедневно, особенно когда собираются за
обеденным столом. В течение столетия от наших соотечественников ушла
тишина, унаследованная ими от предков, ее заменили почти не
прекращающееся звуковое присутствие, даже давление музыки и слов.
Источники этого давления, то есть массмедиа, оказывают на своих слушателей
значительное влияние, ощутимое и неощутимое, осознаваемое или
неосознаваемое. В этом и состоит власть СМИ.
В отличие от Соединенных Штатов или Германии, где политическая
власть и власть массмедиа географически разделены, во Франции обе эти власти
сконцентрированы в столице. И если даже телеведущие говорят о «политиках»
как о лицах, принадлежащих к другому сообществу, на деле речь идет об одном
и том же круге: журналисты и политические деятели в Париже передают одни и
те же слухи, посещают одни и те же рестораны, следуют одной и той же моде в
одежде, используют один и тот же лексикон. Сложился единый политикоинформационный круг, где создаются и разрушаются репутации, где извлекают
выгоду из героев дня и сразу же забывают тех, кто перестает приносить
дивиденды, в том числе и политические. Принадлежащие к этому кругу
внимательно следят за показаниями двух приборов: один из них — аудиометр,
измеряющий величину аудитории передачи, другой — опросы населения,
фиксирующие популярность передач и доверие к ним; эти инструменты похожи
на тахометр и спидометр, установленные на приборном щитке автомобиля.
Данные, полученные благодаря этим двум счетчикам, накладываются друг на
друга: на телеэкране показывают то, что способно понравиться, а показанное в
результате становится более известным. Так продолжается до тех пор, пока
сцепление не износится, тогда приходится давать задний ход: все меньше
показывать то, что больше не нравится, а то, что больше не показывают,
перестает быть известным и, соответственно, нравиться.
Вопреки тому, что думают политики, деятельность медиа никто
специально не ориентирует в том смысле, что их сотрудники не полу151
чают указаний со стороны руководителей радио- или телеканала
относительно того, как следует представлять определенное лицо или
определенный сюжет. Единственное, что могут себе позволить эти
руководители, — сообщить какому-либо деятелю, что были бы рады видеть его
на контролируемом ими канале. Эта система является в значительной степени
автоматической, подобной той, которую когда-то называли самоуправляемой.
Собственники частных каналов обычно придерживаются консервативных
взглядов и заботятся о величине своей прибыли, в то время как ведущие и
журналисты в большинстве своем более восприимчивы к левым идеям. Но ни те
ни другие не действуют подобно директорам ежедневных политических газет
прошлых времен. Они живут событием, исходя из своих собственных реакций, а
последние зависят от личных вкусов, при этом у них отсутствует какая-либо
определенная доктрина, за исключением непременной ориентации на то, что
объявлено «политически корректным».
В результате власть СМИ существенно влияет на общественное мнение,
внимание которого ежедневно в течение нескольких часов приковано к ним, но
в то же самое время массмедиа обречены на то, чтобы послушно следовать за
всеми переменами этого мнения, если не хотят растерять потребителей. Перед
нами новая форма отношений, где больше невозможно четко различить (как это
могли сделать читатели «Орор» Жоржа Клемансо1 или читатели «Фигаро»
Пьера Бриссона2) группу тех, кто обращается к аудитории, с одной стороны, и
клиентелу, людей, которых хотят убедить, — с другой. И первые и вторые стали
активными составляющими одной и той же системы, и она не в состоянии
обойтись ни без выступлений одних, ни без внимания со стороны других. Эта
новая форма коммуникации или, скорее, коммуникативных отношений уже
сегодня оказывает немалое влияние на психологическое поведение французов, а
в будущем ее влияние должно увеличиться еще более.
ФРАНЦИЯ В XVIII ВЕКЕ
Нам трудно представить себе умонастроение, склад характера
французов, живших два или три века назад. Для этого следовало бы сделать
огромный скачок в прошлое, где все, что мы увидим, разительно отличается от
того, что окружает нас сегодня: пища, одежда, мебель, способы передвижения,
лечение болезней.
Как вели себя французы в той обстановке, совершенно не похожей на
нашу? Были ли они людьми веселыми или угрюмыми, улыбались
1
2
Газета «Орор» существовала в 1897—1914 гг., Ж. Клемансо был ее политическим директором.
Пьер Бриссон руководил газетой «Фигаро» в 30-е и в начале 40-х годов, а затем в 1944-1965 гг.
152
или ходили с вытянутыми лицами, проявляли агрессивность или
доброжелательность, были гостеприимными или нет? Какой характер имели
события коллективной жизни — радостный или мрачный? Когда какой-либо
персиянин приплывал во Францию, каково было его первое впечатление?
Являлась ли вежливость подлинной, насколько широко были распространены
чувство меры и чувство прекрасного?
Зададим вопрос, пользуясь словами Жана Кокто, упрощавшего,
разумеется, картину: были ли тогда французы людьми «разучившимися
улыбаться», раздражительными, недовольными собой? Или они отличались от
нас, сегодняшних обитателей Франции?
При ответе на этот вопрос следует остерегаться света, озаряющего и
преобразовывающего прошлое. Со времен Конфуция этот чудесный свет
раздвигает горизонты, сглаживает все шероховатости, делает более красивыми
лица, скрадывая грубые складки и морщины, так что есть риск, поддавшись его
действию, дойти до лжесвидетельства. Несомненно, тогдашние условия жизни
французов были нелегкими. Люди жили бедно, вплоть до XVIII века их
подстерегал голод. И в XIX веке обстановка в большинстве домов оставалась
самой простой: кровать, несколько стульев, стол, шкаф или сундук, о чем
свидетельствуют описи имущества. Страдания были делом привычным.
Хирурги, зубные врачи действовали очень жестко. Облегчать мучения больных
и умирающих не умели. Продолжали свирепствовать массовые эпидемии.
Только в Марселе великая чума унесла в 1720—1722 годах сорок тысяч жизней.
Перемещались французы очень мало и лишь в пределах ближайшей
округи. Редко кому удавалось в течение жизни больше одного раза посетить
соседний город, за исключением времени военной службы. Коллективные виды
транспорта сводились к двуколкам и дилижансам, на них передвигались с
неизменной скоростью бега лошади. Для того чтобы из Тулузы или Лиможа
добраться до Парижа, в 1830 году требовалось столько же времени, сколько
тремя веками ранее. В деревнях, где проживало четыре пятых населения, одни и
те же имена передавались в семьях из поколения в поколение.
В большинстве своем люди не умели читать и писать. Монополия на
обучение принадлежала Церкви, первоначально она готовила лишь своих
будущих служителей, затем, начиная с XVII века, под влиянием монашеских
орденов, посвятивших себя воспитанию, церковные школы стали открывать
свои двери для детей мирян. Обучали лишь мальчиков, девочек не принимали.
Первые образовательные учреждения для девушек появились лишь в середине
XVII века. Они были доступны только для членов семей, принадлежащих к
привилегированным кругам, к дворянскому и судейскому сословиям.
О политических новостях население узнавало благодаря слухам, которые
питали появлявшиеся в больших количествах пасквили и пам153
флеты, карикатурные и крайне резкие. Эти издания имели хождение
среди читающей части общества, их вывешивали на стенах, а содержавшиеся в
них сведения передавали из уст в уста, распространяя с необычайной
скоростью, при этом они раздувались, искажались, окрашивались в такие яркие
цвета, что приобретали способность всего за несколько дней или даже за
несколько часов в Париже вызвать заметную реакцию общественного мнения. В
провинции информация такого рода распространялась медленнее, о столичных
новостях там узнавали обычно с недельным опозданием.
Французы жили тогда при авторитарном и иерархическом
государственном строе. Но нельзя сказать, что это было царство произвола, ибо,
как пишут Франсуа Фюре и Мишель Антуан1, Старый порядок покоился на
праве, хотя и представлял из себя систему, при которой большинство людей
никак не участвовало в принятии решений. Общество было жестко
структурированным и разделенным. Широкое распространение имела
религиозность, а соблюдение церковных обрядов носило почти обязательный
характер. Таким образом, все французы были размещены в обществе в строгом
порядке: одни, в соответствии со своими титулами и состояниями, занимали
верхние этажи, другие, составляющие большинство, — нижние, причем каждая
из этих категорий внутри была разделена непроницаемыми перегородками.
Жизненный путь каждого француза от рождения до смерти, а затем и в ином
мире был обозначен многочисленными, тщательно расставленными вехами,
указывавшими границы добра и зла.
Французы оставались воинственным народом и считали, что власть,
которой они подчиняются, корнями уходит в седую древность. Подобно тому
как императоры династии Цин в XVIII и в XIX веках психологически
продолжали считать себя предводителями маньчжурских «знамён»2, суверены
династии Капетингов считали себя наследниками франкских герцогов.
Привилегии предоставлялись знати в качестве компенсации за выполнение ею
обязанности по защите королевства; этой обязанности дворянство должно было
посвятить себя полностью, всякие иные виды деятельности являлись для него
запретными. Хотя системы военной службы тогда еще не существовало, страсть
к войне была присуща французам. Первые зачатки национальной армии
появились при королях династии Валуа. Французам было свойственно также
уважение к иерархическим системам, что подтвердили, за некоторыми
исключениями, армии Революции и Империи; традицию этого уважения
переняла и современная жандармерия.
См.: Antoine M. Le Conseil du Roi sous le regne de Louis XV. P.: Droz, 1970; Inventaire des Arrêts
des Conseils du Roi. P.: Imprimerie Nationale, 1968, 1974.
2
Маньчжурская династия Цин правила Китаем в 1644—1911 гг.
1
154
Какими же были при всем этом индивидуальное поведение, установки,
склад характера француза — не среднего француза, ибо тогда еще такого
понятия не было, но француза усредненного?
Драгоценным источником информации обо всем этом является
литература, в частности произведения писателей, особенно интересовавшихся
жизнью народа, таких, например, как Лафонтен, Мольер и Дидро. Для
исследователя французского психологического пространства дореволюционных
времен нет лучших проводников, чем лафонтеновский башмачник1, Сганарель2
и Жак-фаталист3.
Эта литература рисует нам картину мирной страны (кажется, уровень
преступности в середине XVIII века был самым низким во всей французской
истории), ее населяют деятельные, жизнерадостные, как правило, отзывчивые
люди. Ведут они себя довольно уравновешенно, женщины, в силу более
строгого соблюдения ими религиозных обрядов, пользуются заметным
влиянием. Споры о политических институтах возникают редко и не вносят
раздоров в общество, почти не выходя из стен местных парламентов. Население
только начинает понимать, что лишено свободы, то есть никак не может влиять
на решения, принимаемые властями. Стремление к равенству выражается пока
лишь в форме желания увидеть отмену особенно больших налоговых льгот и
последних остатков феодальных прав.
Это французское общество отличает высокая цивилизованность. В его
распоряжении находится великолепный язык, и оно прекрасно умеет им
пользоваться. Городское и загородное строительство отличают дух величия,
избегающий всякой помпезности, чувство меры и тщательная отделка деталей.
Художественные ремесла достигают невиданного совершенства. Поголовно все
увлекаются литературой и театром, где звучат голоса самого разного регистра
— от красноречивых поучений церковных проповедников до непринужденного
вольнодумства модных философов. Французы остроумны, любят, чтобы их
забавляли, и в глазах остальной Европы выглядят как люди, которые увлечены
интеллектуальными играми. При личном общении они соблюдают правила
вежливости, которые высоко чтят, причем на всех этажах общества, о чем
свидетельствуют диалоги театральных героев.
Своим блеском эта цивилизация во многом обязана меценатству королей
и сильных мира сего, но расцвет переживали и те ее области, которыми
меценаты не интересовались: песенное искусство, раскраска
Этот герой басни «Откупщик и сапожник» предпочитает обладанию мешком с деньгами свое
скромное ремесло и спокойную жизнь.
2
Сганарель — персонаж пьес Мольера, олицетворяет здравый смысл, присущий людям из
народа.
3
Жак-фаталист — герой одноименного романа Д. Дидро. В спорах со своим хозяином он
1
выражает не только и не столько покорность судьбе, сколько доверие к природному,
естественному движению жизни.
155
самых скромных тканей, проведение праздников. Цивилизация того
времени не была свободна от насилия: преступников по-прежнему ждала
суровая участь, но все же не такая тяжелая, как в других странах.
Эта эпоха теперь далеко от нас. Мы не в состоянии перенестись туда с
нашими сегодняшними оценками, и любая попытка «судить» людей того
времени обернется произволом с нашей стороны. Нам следует ограничиться их
описанием, по возможности максимально точным. Полагаю, что у меня есть все
основания сказать: в эпоху, которая предшествовала Революции, французы
являлись существами деятельными и рассудительными, они интересовались
всем, что могли дать им природа и жизнь, и были скорее всего довольны собой.
Они любили праздники, им нравилось веселиться всем вместе, устраивая игры и
танцы, во время которых не чурались и вольностей и непристойностей.
Неудивительно, что эта обстановка вдохновила Жан-Жака Руссо на то, чтобы
предложить свое представление о счастливом естественном состоянии человека.
Высокий уровень французской цивилизации был признан повсеместно, а
французов стали считать достойными любви. Скажем, возвращая этому слову
его первоначальный смысл, они были всеобщими любимцами.
***
Глубокие политические и социальные потрясения конца XVIII, XIX и
XX веков нанесли психологическому складу французов большой ущерб.
Прежде всего речь идет о Французской революции, объединившей призывы к
свободе и равенству, затем о беспрерывных политических конвульсиях XIX
века, к которым приводили попытки отыскать самый лучший способ
политического представительства, а также определить, какая категория
населения будет обладать реальной властью (народ в целом, буржуазия,
прежние правящие классы, а в конце века — рабочий класс); об
индустриализации, разрушившей прежний образ жизни большинства крестьян;
об урбанизации, обусловившей перемещение и концентрацию населения;
наконец, о сегодняшнем информационном обществе и глобализации. Нельзя
забывать и о наполеоновских войнах, и о поражении 1870 года, и о двух
мировых войнах с их нескончаемой вереницей жертв боевых действий и
гнусным истреблением мирного населения.
Эти события оказали колоссальное воздействие на нрав французов и на
их поведение. В результате изменился сам французский характер, так что
иностранцы воспринимают наш национальный темперамент совсем не так, как
прежде. Было бы любопытно вернуться к истокам великих исторических
событий и определить, в какой мере каждое из них воздействовало на образ
жизни французов и предопределило изменение их психологических реакций.
Быть может, если обстоятель156
ства позволят, я возьмусь когда-нибудь за этот труд. Но здесь, в этих
«Размышлениях» о политическом упадке Франции, я ограничусь тем, что
покажу, в какой степени черты психологического поведения французов
усугубляют упадок нашей страны, а также проанализирую то, каким образом
изменение этого поведения могло бы подготовить человеческие ресурсы для
возрождения страны.
ТРЕБОВАНИЕ СВОБОДЫ
Величие Французской революции заключается в том, что она смогла
удовлетворить две самые насущные потребности преобладающей части
населения страны в последние десятилетия XVIII века — потребности в свободе
и равенстве.
В первую очередь французы желали именно свободы. Философы века
Просвещения создавали свои проекты общества, основываясь на том, что
ставшая всеобщим достоянием свобода даст разуму возможность выработать те
принципы, по которым следует выстраивать новые общественные институты.
И американская революция, предшествовавшая нашей, опиралась на
свободу, которую рассматривали как фактор организации общества.
Действительно, свобода имеет социальное измерение, поскольку для жизни
сообщества крайне важно, чтобы его члены осознавали пределы личной
свободы и уважали свободу друг друга.
Члены Учредительного собрания в своих первоначальных замыслах
исходили из социального измерения свободы, то есть преимущественно из того,
что она содержит в себе право на участие в принятии решений по вопросам,
интересующим общество. Договорились о том, что граждане будут
руководствоваться принятыми решениями, даже если последние окажутся в
противоречии с их предпочтениями, личными интересами или вкусами. Этот
подход находился в русле мыслей Жан-Жака Руссо, определявшего свободу
через участие во власти. Вопрос о всеобщем избирательном праве тогда еще не
стоял. И указанное участие осуществлялось в коллективной форме. Статья 3
Декларации прав человека и гражданина провозглашала: «Источник верховной
власти зиждется, по сути, в нации. Никакая корпорация, никакой индивид не
могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника».
Данный институциональный смысл, вложенный в понятие свободы,
отличается от того смысла, который усвоили сегодняшние французы. Для них
свобода по самой своей сути превратилась в свободу индивидуальную, то есть в
возможность каждого действовать для защиты своих прав, охраны своих
интересов или утверждения своих мнений так, как он считает нужным. В нашем
современном понимании свободы мы уже не исходим из того, что она дает нам
чувство приобщенности к делам страны и участия в принятии решений, каса157
ющихся нас, — это кажется само собой разумеющимся. Сегодня свобода
воспринимается как право на обладание индивидуальным пространством
свободы, в пределах которого каждый поступает так, как он этого желает.
Особенности психологии французов толкнули их на то, чтобы свести
понятие свободы к свободе индивидуальной, причем последняя
рассматривается как личное достояние, которым каждый волен распоряжаться,
как ему угодно. Право на защиту мы ощущаем как право «обороняться». Все это
ослабило связь между нашим восприятием свободы и ее ролью организатора
демократии. В последнем случае свобода является правом участвовать в
принятии решений.
Свобода в понимании, усвоенном сегодня французами, узаконивает в их
глазах противоправное поведение. Когда мелкие торговцы, раздавленные
налоговым гнетом, громят помещения фискальных служб, когда производители,
недовольные падением цен на свои товары, произошедшим, по их убеждению,
из-за импорта, переворачивают и поджигают иностранные грузовики, законно
передвигающиеся по нашей территории, — все участники таких действий
считают, что «имеют право» защищаться. То, что указанные передвижения
разрешены договорами, ратифицированными парламентом, отнюдь не
ограничивает в глазах этих людей личную свободу, дающую им, с их точки
зрения, законное право воспрепятствовать данным передвижениям. Когда
средства массовой информации проводят опросы, выясняя отношение
населения к этим неблаговидным действиям, большинство опрошенных
оправдывает их зачинщиков или, во всяком случае, проявляет по отношению к
ним понимание. Именно такой оборот приняла история с разрушением в 1999
году торговых заведений (хотя они были открыты на законных основаниях),
после того как выяснилось, что часть общественного мнения считает
существование этих заведений противоречащим его, общества, интересам или
является оскорбительным для его культуры1.
Отклики на судебные решения свидетельствуют о присутствии в
сознании граждан все той же концепции использования свободы. Хотя закон,
как считается, обязателен для всех и всем следует его соблюдать, судебные
решения, — а ведь каждый требует, чтобы суд был независимым! — вызывают
бурные протесты, как только обнаруживается, что эти решения не
соответствуют ожиданиям, порожденным личной оценкой собственных прав,
или потому, что насильственные акты протеста, как правило, осуждаются
органами правосудия. Юстиция, в соответствии с указанной концепцией, якобы
не имеет законного права ограничивать данную особую форму свободы,
заключающуюся в защите своих интересов собственными силами. Если
продолжить это
1
Речь идет о ресторанах сети Макдоналдс.
158
рассуждение до конца, то выходит, что свобода самозащиты поставлена
выше правосудия.
Тот смысл, который мы таким образом придаем свободе, отклоняет
свободу от ее первоначальной цели, от вложенного в нее Революцией
содержания — организовать переход от феодальной власти к демократическому
исполнению функций власти. Когда мы читаем начертанный на наших
общественных зданиях девиз: «Свобода, равенство, братство!» — то попадаем в
парадоксальную ситуацию: авторы его думали прежде всего о демократическом
отправлении власти, сегодня же в наших умах эти слова вызывают мысли о
свободе отстаивать наши индивидуальные интересы!
В годы самого напряженного и нетерпеливого ожидания свободы, в
десятилетия, которые непосредственно предшествовали Революции, требование
свободы выражало коллективную позицию, совместное переживание, тогда
считали, что свобода позволит организовать общество на основе разума.
Произошедшее в наше время смещение понятия свободы, имеющее
целью защитить то, что индивид считает своим законным правом, придает
данному понятию оборонительную окраску. Указанное смещение уводит
свободу от ее миссии по организации общества. Вот почему, когда иностранцы
обсуждают тот вклад, который внесла Франция в завоевание свободы, они,
отдавая нашей стране должное, всегда говорят о Французской революции, а не о
том, как мы понимаем наши свободы сегодня.
Описанная эволюция объясняет ту репутацию, которую мы приобрели,
— репутацию страны, где защита людьми своих интересов часто переходит в
беспорядки при полном пренебрежении требованиями закона страны, которая
не предоставляет достаточных гарантий от покушений со стороны индивидов
или групп.
При возникновении беспорядков, организуемых с целью борьбы за
индивидуальные интересы и явно противоречащих закону (дикие забастовки,
блокада дорог, занятие взлетных полос аэродромов, разрушение торговых
помещений и т. д.), правительства сначала довольно твердо призывают к
соблюдению закона. Но нервы у них быстро сдают. Через несколько дней
общественное мнение начинает призывать власть «проявить большее
понимание» и «возобновить диалог». СМИ, радуясь нежданной удаче, дают
организаторам беспорядков широкую возможность предстать в роли
защитников жертв власти. Испытывая это почти всеобщее давление, к которому
часто присоединяются и духовные власти, правительства начинают думать, что
гораздо разумнее, а главное, осторожнее с их стороны было бы пойти на
незаметную капитуляцию. Последнюю относят на счет свойственного властям
«духа компромисса», после чего правительства ждут, что общественное мнение
по какому-нибудь другому поводу начнет призывать их к большей твердо159
ста... Так, мы могли видеть, как некий руководитель-аграрий,
посаженный в тюрьму за уничтожение чужого имущества, через шесть недель
после решения суда был приглашен сесть за один стол с премьер-министром,
чтобы высказать свое мнение относительно той позиции, которую Франции
следовало бы занять на международных переговорах по вопросам сельского
хозяйства.
Это сведение свободы к защите индивидуальных интересов ослабляет
демократический порыв наших институтов. Всякий раз, когда их действия идут
наперекор чьему-нибудь личному интересу, они перестают вызывать к себе
симпатию и уважение. Без сомнения, именно в этом одна из причин потери
интереса граждан к участию в выборах — они более не считают, что это участие
«может им что-то принести».
Описанное поведение в значительной степени объясняется тем, что
французы в течение восьми веков были подчинены сильной и абсолютной
власти. Даже в те эпохи, когда легитимность этой власти была для них
бесспорной, они боролись за то, чтобы ограничить ее посягательства на свои
интересы. В сознании французов закрепилась оборонительная установка
«человек — против власти»; в давние времена им казалось, что такая позиция
тем безопаснее для общества, чем крепче выглядит власть. Когда благодаря
полученной политической свободе власть перешла в их руки, французы в
глубине души сохранили прежнюю позицию, ту самую установку «человек —
против власти», игнорируя то, что теперь власть является их достоянием. Таким
образом, мы наблюдаем некое отсутствие власти, ее постоянные «каникулы».
Наши взгляды на отношения между свободой и законностью непонятны
для американских и английских умов. В Великобритании, как и в Соединенных
Штатах, закон рассматривают как порождение свободы, а не власти. Восстание
против закона — это не демонстрация своей свободы, а отрицание
демократического процесса, который сам по себе основан на свободе.
В ходе необходимого движения Франции к более твердой и более
энергичной демократии, к тому, что я назвал бы сильной и спокойной
демократией, нам следует, как мне кажется, обновить наше представление о
свободе, чтобы вернуть ей роль источника организации общества и чтобы не
сводить функции свободы только лишь к охране индивидуальных прав. Это
предполагает изменение установок нашего общества, которое слишком
равнодушно относится к делу обеспечения ровного и ритмичного хода
демократических механизмов, которое сохраняет пристрастие (у одних оно
выражается в романтической форме, у других — в анархической) к
драматизации политической жизни и к практике так называемых «политических
переворотов», нарушающих размеренный ход демократии, как это подтвердил
роспуск Национального собрания в 1997 году.
160
Эта эволюция потребует, как очевидно, серьезных раздумий со стороны
кругов, ведающих образованием, относительно воспитания граждан в духе
перехода от свободы «против» к свободе «за» или, по крайней мере, к свободе
«с», а также размышлений со стороны СМИ, которые должны перестать
показывать в сенсационном духе, а часто и с симпатией выходки лиц,
бросающих вызов закону, ибо это делает все более хрупкими наши институты,
основанные на отправлении демократических свобод.
ИНСТИНКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАВЕНСТВЕ
Иную эволюцию претерпело понимание равенства.
Требование равенства приобрело взрывную силу лишь в самые
последние годы перед Революцией. До той поры неравенство, даже если в
глубине души его не принимали, ощущалось как составная часть естественного
порядка вещей. В литературных произведениях, созданных до 1750 года, можно
найти
многочисленные разоблачения злоупотреблений, критикуются
привилегии, получаемые не по заслугам, но редко оспаривается сам принцип
неравенства. Эволюция общественного сознания резко ускорилась под
влиянием писателей, проповедовавших равенство, таких как Руссо и Дидро, оно
достигло кульминации в 1788 году, после опубликования аббатом Сьейесом
своего «Эссе о привилегиях».
Французы сделали открытие, что живут в «классовом» обществе, где
судьба человека, за небольшим исключением, предопределена с момента
рождения. Глядя на поведение представителей старинной знати, пытавшихся
перекрыть дорогу идущим за ними новоиспеченным дворянам (и
предпринимавших с этой целью такие бессмысленные шаги, как, например,
решение военного министра, графа Сен-Жермена, — прекрасного министра,
между прочим, чья деятельность подготовила будущие успехи наполеоновских
армий, — присваивать высшие воинские звания лишь тем лицам, которые могут
доказать, что их предки в течение четырех поколений являлись дворянами),
глядя на непрестанные лихорадочные попытки судебно-административных
палат наделить себя правами, с помощью которых они могли бы защищать свои
финансовые интересы, люди осознавали, что живут в обществе, где царит самое
худшее из неравенств — неравенство по рождению, в обществе, которое все
больше и больше делается закрытым, вместо того чтобы открываться, как того
требует время. Отношения такого рода в их совокупности вели к социальной
организации, основанной, по имевшим разрушительный эффект словам Мирабо,
на сплошной «череде презрении».
Требование равенства стало столь неодолимым, что превзошло по своей
силе даже требование свободы.
161
Как можно видеть, имелось некое ожидание действий со стороны
властей, которые должны были разрушить перегородки, делавшие
невозможным путь наверх. То была одна из форм уравнительного идеализма,
согласно которому каждый должен иметь одни и те же возможности, одни и те
же права и в конечном счете доступ к одному и тому же положению.
Воцарение буржуазии в XIX веке, обогатившейся благодаря торговле, а
затем индустриализации, позволило ей обратить себе на пользу стремление к
равенству и в особенности изменить природу этого стремления. Поражает
мысль о том, что писателей, подобных Жан-Жаку Руссо, уже тогда тревожил
тот вред, который могли нанести великим принципам «буржуазные
притязания».
Под влиянием последних понятие равенства отдалилось от
содержавшегося в нем представления о равенстве возможностей, достигаемом
благодаря упразднению кастовых перегородок, и перевоплотилось в зависть по
отношению к успехам других, которая в конце концов пропитала все общество
и является его современным выражением.
Эта эволюция принципа равенства практически обошла мир труда.
Вопреки тому, что писал Франсуа Миттеран, отнюдь не тяжелые условия
существования рабочих (хотя они действительно были тяжелыми в 1840-е годы)
вызвали первую волну революции 1848 года, ее породило недовольство
буржуазии тем, что обогащение не привело к признанию за ней
соответствующей политической роли, а также ее социальное тщеславие.
По мере превращения Франции в общество средних классов описанное
понимание равенства стало в стране всеобщим. Несомненно, оно соответствует
одной из черт характера, присущего народам латинской культуры, ибо
наблюдается и в Испании, но именно во Франции данное понимание приобрело
свою наиболее отчетливую форму: равенство ощущается как неприятие успехов
других. Ныне речь идет уже не о том, чтобы предоставить каждому равные
шансы для продвижения наверх, а в первую очередь о том, чтобы
воспрепятствовать или ограничить успех других.
У меня был случай лично убедиться в этом «классовом» понимании
равенства французским обществом, когда я проявил инициативу, вообще-то
ничем не примечательную, — стал вместе с моей супругой принимать
приглашения от французов посетить их и разделить с ними трапезу. Мое
поведение было естественным и являлось ответом на набившее оскомину
утверждение, что у французских руководителей нет никакого представления о
том, что на самом деле думают рядовые граждане. Я хотел послушать людей у
них дома, там, где им было легче всего со мной разговаривать. Два самых
крупных в мире руководителя той эпохи, президент Картер и Дэн Сяопин,
проявили интерес к этой инициативе и просили меня рассказать, как я действую
на
162
практике. Но во Франции эта инициатива вызвала вопль негодования у
политических кругов и большей части средств массовой информации. Ибо я
нарушил табу. Если бы так поступал какой-нибудь скандинавский монарх, то
им бы восхищались, но подобный шаг со стороны Президента Французской
Республики подвергся осуждению. В нашей унитарной республике
руководителям не следует принимать приглашения от граждан, ибо эти
приглашения нарушают представления тех, кто привык считать, что французы
по-прежнему заперты, каждый на своем уровне, а политические круги и СМИ
являются обязательными посредниками между «рядовыми» французами и их
руководителями.
Вот почему французское общество так и осталось обществом
расслоенным, где каждый социальный слой стремится ограничить продвижение
наверх представителей слоя, находящегося непосредственно под ним. В то же
время внешние признаки старинного разделения общества на касты сохраняют в
республиканском государстве удивительную жизнестойкость. Во французской
армии начала XX века некоторые старшие офицеры, представляя себя,
продолжали называть вслед за воинским званием свои дворянские титулы, хотя
они были отменены сто лет назад. И только в 1979 году упоминания об этих
титулах исчезли из официальных адресных книг, которые ежегодно издает
почтовое ведомство.
Описанная выше установка тесно связана с тем, как французы
воспринимают свое «я». Они уверены в себе лишь до тех пор, пока рядом не
появляется кто-то, кто в чем-либо их превосходит: в богатстве, особенно если
оно выставляется напоказ, в компетентности, если она им кажется по своему
уровню выше их собственной. Показательно, что французы терпимо относятся
только к таким источникам обогащения, в основе которых лежит случай, —
удачная ставка на бегах, выигрыш в лото, поскольку здесь ничто не
свидетельствует ни о какой форме превосходства, как, например, при победе в
спортивных соревнованиях.
Темы предвыборных кампаний опираются на эту уравнительную
концепцию, которая состоит скорее не в том, чтобы получить возможность
подняться выше — как во времена Империи, когда каждый солдат мог считать,
что носит маршальский жезл в своем ранце, — но в том, чтобы сделать такой
подъем недоступным для других.
Наша налоговая система построена по тому же принципу. Забавно
видеть в печати, посвященной финансам, результаты опросов, в ходе которых
французы высказывают свои налоговые предпочтения. На вопрос: «Какие
налоги следовало бы уменьшить?» — граждане в большинстве своем отвечают:
«Косвенные», поскольку, по их ощущениям, они платят именно эти налоги. А
когда опрашиваемым предлагают перечислить по порядку налоги, которые
следовало бы сократить, они ставят подоходный налог лишь на четвертое место,
хотя максимальная его ставка у нас выше, чем в любой другой стране
Европейского союза.
163
Дело в том, что указанный налог взимается с меньшей части
налогоплательщиков, принадлежащей к обеспеченным слоям, а участникам
опросов и в голову не приходит, что может идти объективный поиск лучшей
системы налогообложения для всей совокупности граждан.
«ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕУСПЕТЬ»
Это перенесение концепций свободы и равенства в зону защиты
индивидуальных интересов является одной из характерных черт сегодняшней
французской психологии. Оно серьезно ослабляет нашу способность
приспосабливаться к современности (modernité), поскольку затрудняет
коллективный подход к любой проблеме и вознаграждение любого личного
успеха.
Вспоминаю беседу, состоявшуюся в 1993 году с министром иностранных
дел Китая, пригласившим меня на обед в один из пекинских ресторанов. Когда
рисовая водка стала развязывать языки, он доверительно сообщил мне, переходя
на шепот, к которому располагает звучание китайской речи: «Мы изучили одну
за другой все крупнейшие европейские страны — Германию, Великобританию,
Францию, чтобы узнать, с кем из них нам было бы выгодно развивать
отношения. Что касается Франции, то мы пришли к выводу, что вам не удастся
преуспеть». «Почему же вы пришли к такому выводу?» — спросил я его. «Мы
изучили, как вы действуете, и увидели, что у вас в стране люди в первую
очередь стремятся к удовлетворению личных потребностей, даже если при этом
наносится ущерб тому коллективу, частью которого они являются, будь то
предприятие или ведомство. И мы, китайцы, стремимся к личной выгоде, но
думаем, что прежде всего она достигается благодаря успеху коллектива, к
которому данный человек принадлежит. Вот почему мы трудимся прежде всего
ради успеха этого коллектива, а уже затем стремимся удовлетворить свой
личный интерес».
И как бы опасаясь, что я недостаточно хорошо его понял, мой
собеседник еще раз подчеркнул: «Вот почему мы пришли к выводу, что вы не
сможете преуспеть».
Выпив последнюю чашку чаю, мы покинули наш стол, огороженный с
трех сторон бамбуковыми занавесками, и расстались поздней ночью китайской
весны. Его слова ни на миг не выходили у меня из головы, пока меня вез
автомобиль по широкому бульвару «Вечного мира», мимо старинного
посольского квартала, в котором западные дипломаты были осаждены сто лет
назад, во время боксерского восстания: «Вот почему мы пришли к выводу, что
вы не сможете преуспеть».
Эхом этого анализа прозвучали два года спустя слова французского
священника, живущего в самой толще китайского народа.
«Китайский характер отличают три черты, — сказал он мне. — Это люди
умные, работящие и послушные. Послушные потому, что убеж164
дены: добро приходит свыше. Они считают, что анархия хуже любого
установившегося порядка. Они полагают, что успех коллектива, к которому
человек принадлежит, приносит ему большую пользу, чем успех
индивидуальный. — И добавил: — Когда я приехал сюда двадцать лет назад,
Китай был первой из развивающихся стран. Через пятьдесят лет, а такова
китайская мера времени, эта страна будет, возможно, мировым лидером. Но не
забывайте, что ее много раз подвергали унижениям и она остается весьма
обидчивой».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
При рассмотрении психологии отношений французов с современным
миром следует, разумеется, уделить место их интеллектуальным реакциям.
Иностранцы и, в частности, наши европейские партнеры упрекают нас в
самодовольстве и в интеллектуальных претензиях. Французы в большинстве
своем ничего об этих упреках не знают, так как никто им о них не рассказывает,
и поэтому думают, что являются предметом всеобщего восхищения и зависти.
Эта строгая оценка, которую выносят главным образом англичане и
американцы, но также и некоторые германские руководители, обусловлена
суждением, в соответствии с которым мы не способны серьезно и объективно
подходить к проблемам, встающим перед нами. Считается, что делать это нам
мешают отсутствие реализма в идеологических предпочтениях, а также
легковесный и сумбурный характер, который носят наши споры. Во всяком
случае, мы часто отказываемся признавать факты.
В этой критике много верного, но она все-таки грешит чрезмерной
поверхностностью.
Перенесение на индивида понятий свободы и равенства параллельно
сопровождалось развитием того, что я назову за неимением лучшего термина
«интеллектуальным ячеством» (ego intellectuel). Каждый из нас убежден, что он
всегда и во всем прав. В кризисной ситуации, будь то на Балканах или в
Алжире, не найти француза, который не был бы готов предложить свой
собственный выход из создавшегося положения, представляющийся ему
бесспорным. Когда французы обсуждают на радио с журналистом или
политическим деятелем какую-нибудь проблему, то прежде всего стремятся не
к тому, чтобы вникнуть в аргументы собеседника, а к тому, чтобы выразить
удивление тем, насколько далеко от истины, которой он, выступающий,
несомненно, обладает, находится мнение его оппонента.
Эту убежденность в своей вечной правоте («d'avoir raison») укрепляют
две черты интеллекта, приобретенные французами благодаря образованию. В
основу нашего обучения положено стремление развить
165
критический дух и способность строить собственные «умозаключения».
Против такого подхода нечего было бы возразить, если бы критический дух
выражался в аналитическом подходе к стоящей проблеме и если бы
«умозаключению» предшествовало тщательное ознакомление с фактами.
Но этого нет. У нас существует особая форма критического духа,
пропитанная негативизмом. Философы Просвещения, взгляды которых попрежнему вдохновляют наши школьные учебники, видели роль критического
духа в искоренении верований, по сути своей являющихся суевериями, в
сокрушении устарелых и тиранических институтов. Следовало вырвать умы из
рутины, чтобы разрушить прежний порядок и открыть дорогу для нового.
Критический дух тогда стремились развивать не как инструмент оценки
системы, но скорее как способ покончить с прежними предрассудками. Именно
этим объясняется тот факт, что первая реакция француза на новое предложение,
независимо от его содержания, является отрицательной.
Этот критический метод вошел в мыслительные привычки, французский
ум критикует то, что еще не успел изучить. Ссылки на литературные источники
и выбор тем экзаменационных работ по-прежнему пропитаны этим
критическим негативизмом. В результате ум французов плохо подготовлен к
тому, чтобы обсуждать будущее и задаваться вопросами о нем. Поиски
решений, сравнение возможных вариантов развития — не те занятия, к которым
привычен ум французов. Они очень искусны, когда выявляют то, что «не идет»,
или ставят под вопрос утверждения своих руководителей, но не слишком
способны к разработке практических решений и даже, кажется, мало этим
интересуются.
Поразительный пример такого направления умов дают дискуссии
относительно эволюции пенсионной системы. Составные части этой проблемы
сравнительно легко определить. Она вращается вокруг трех переменных
математических величин и одного вопроса. Три переменные — это,
естественно, пенсионный возраст, размер пенсии и величина пенсионного
взноса, который платят работающие. Что касается вопроса, то он заключается в
следующем: стоит или не стоит включать в пенсионную систему
дополнительный резерв в форме сбережений, чтобы смягчить те последствия
для размеров пенсий, которые нетрудно предугадать и которые будут зависеть
от перемен в соотношении количества работающих и пенсионеров. Существует
множество возможных комбинаций названных переменных. Было проведено их
методичное исследование. Но французам никак не удается сосредоточиться
окончательно и определить, какую конструкцию они бы предпочли всем
остальным. Их внимание по-прежнему обращено на предыдущие этапы
рассуждений, а силы тратятся на критику методов подачи аргументов. На
обсуждение выносится не вопрос о самой будущей системе, но о тех шагах,
которые ведут к ее разработке.
166
Вторая интеллектуальная черта, полученная нами при обучении,
заключается в умении «рассуждать». Именно благодаря этому умению мы
приобрели
международную
репутацию
картезианцев
(импульсивных
картезианцев, как сказал бы Жан Кокто!). Верно, что преподавание грамматики,
особенно классических языков, а также преподавание математики во втором
цикле среднего образования1 развивают навыки построения умозаключений. Но
наш подход остается абстрактным. Мы отдали предпочтение умению
рассуждать в ущерб методичному познанию предмета рассуждения. Мы плохо
умеем устанавливать факты; наша способность к наблюдению ограниченна. Мы
все время пытаемся подогнать факты под наши рассуждения, а не собрать
возможно больше информации к рассуждению.
Этот метод весьма уязвим для критики. Нас можно упрекать
одновременно и в чрезмерном безразличии к объективным данным, и в
стремлении слишком поспешно строить умозаключения. Мы способны
произвести впечатление на иностранную аудиторию, иногда ее пленить, но
редко — убедить. Мы завоевали таким образом репутацию людей, умеющих
обращаться с идеями, но эту репутацию сводит на нет отсутствие серьезности и
аналитичности при подходе к вопросам, требующим решения.
Описанный тип интеллектуальных реакций приводит к тому, что
действительность не имеет большого значения для коллективной жизни
французов, а их способность предвидеть будущее крайне ограниченна. Малый
удельный вес, который реальность имеет в глазах французов, создает
возможности для идеологических крайностей и плохо готовит нас к тому, чтобы
встретить эпоху, в которой объективные факты — данные, получаемые
благодаря рыночной конкуренции, а также быстро передаваемая информация
экономического и социального характера — постепенно оттесняют
идеологический подход к проблемам и обрекают его на неминуемую отставку.
В этой ситуации имеются не только отрицательные стороны. Умение
рассуждать дает французам возможность отступить от явления, чтобы лучше
его рассмотреть, располагать пространством для маневрирования при натиске
фактов, и это все позволяет им лучше понимать, куда поворачиваются события
(«voir venir»). Но нельзя позволять заставать себя врасплох, как это часто
случается с нашими сегодняшними руководителями: названное пространство не
позволяет выдвигать альтернативы реальному; оно лишь предоставляет нам
время для поисков верных реакций и лучшей адаптации к фактам
действительности.
Меня всегда удивляла весьма ограниченная способность французов к
предвидению. Им с большим трудом удается заглядывать в будущее,
1
То есть в последние (10— 12-й) годы школьного обучения.
167
и они уделяют ему лишь малую толику своего внимания. Они видят
лишь ближайшую перспективу: для многих из них это перспектива очередного
летнего отпуска. Повторяющиеся из года в год формулы, похожие одна на
другую (типа: «начало нового социального года будет горячим»), способствуют
этому затуманиванию долгосрочных перспектив. Что касается людей,
вовлеченных в политику, то их временной горизонт — предстоящая
предвыборная кампания, все равно какая — региональная, парламентская,
европейская или президентская. Каждый раз после закрытия избирательных
участков можно услышать одну и ту же рекомендацию, навязшую в зубах:
«Нельзя ждать! Уже сегодня надо начинать подготовку к следующим выборам».
Выражения, обычные в устах китайских руководителей, — «через двадцать
лет», «через пятьдесят лет» — лишены всякого смысла для французских
политических деятелей. Когда в 1978 году я заявил, что следует начать
подготовку к следующему тысячелетию, то политические круги осыпали меня
градом плоских шуток1. И даже те элементы будущего, контуры которых
известны уже сегодня (например, демография и состав самодеятельного
населения в течение ближайших тридцати лет), с трудом проникают в умы
французов.
Такая
мыслительная
установка
объясняется
крестьянским
происхождением значительной части нашего населения. Земледельцы следуют в
своей жизни ритму природы. Долгий (и тяжкий) опыт научил их опасаться
долгосрочных прогнозов. Будущее должно оставаться осязаемым. К этому
следует добавить влияние нашей политической системы, которая сделала
привычным разделение будущего на небольшие промежутки, соответствующие
ритму правительственных кризисов; свою роль сыграло, конечно, и нетерпение
— черта, унаследованная от латинских предков: избиратели, как правило,
стремятся получить желаемое «сейчас же».
Как эхо возмущенных (и, по правде говоря, вызывающих улыбку) слов
Людовика XIV «Мне чуть было не пришлось ждать» звучат слова французов:
«Мы отказываемся ждать!»
Эта неспособность принимать в расчет временное измерение лишает нас
пространства для маневра при осуществлении наших проектов. Между тем
наличие времени дает возможность сделать перемены не такими резкими.
Стремление заключить реформу в слишком короткий промежуток времени
чревато превращением этой реформы в нечто невыносимое.
Мне вспоминается голосование в Национальном собрании в I960-е годы
относительно реформирования патентного сбора. Этот налог, введенный
Материалы, подготовленные моими помощниками в Елисейском дворце весной 1978 г. на тему
«Проблемы 2000 года», представляют необыкновенный интерес. Эти документы будут
опубликованы в качестве приложения в III томе моей книги «Власть и жизнь». — Примеч. авт.
1
168
во времена Первой империи, ненавидели мелкие торговцы и
ремесленники, так как для них он представлял тяжкое бремя, но был
относительно щадящим для лиц либеральных профессий, входивших в XIX веке
в привилегированный круг. Мы разработали проект, в соответствии с которым
обложение этим налогом наиболее ущемленных категорий значительно
облегчалось. Поскольку нам необходимо было уравновесить наш проект
(поступления от налога шли в распоряжение департаментов и коммун), мы
предложили уменьшать налог постепенно, в течение трех бюджетных сроков,
примерно на 20% ежегодно, и компенсировать уменьшение поступлений от него
осторожным увеличением патентного сбора с той категории лиц, которые до
той поры находились в благоприятных условиях, причем указанное увеличение
тоже разбить на три года. Когда проект был поставлен на обсуждение в
Национальном собрании, депутаты были в восторге. «Прекрасная реформа! —
заявили они. — У нее есть лишь один недостаток: она слишком медлительна!
Следует осуществить ее сразу же!» Напрасно я пытался объяснить им, что
политическое искусство состоит, быть может, в том, чтобы растянуть процесс
уменьшения налога на три года и не допустить резкого введения
компенсационных мер; все мои аргументы пропали зря. На голосование была
поставлена поправка, предлагавшая немедленную реализацию реформы. За эту
поправку проголосовали почти все присутствовавшие, за исключением тех, кого
поздний час дебатов застал дремлющими, их неучастие в голосовании сочли
возможным истолковать как желание воздержаться. В результате выигравшие
от реформы были в восторге, но их признательность депутатам довольно быстро
улетучилась, в то время как налогоплательщики, которым пришлось принять на
себя тяжесть компенсационных мер, введенных на протяжении одного
бюджетного года, затаили стойкую и вполне понятную злобу на своих
избранников.
Были основания надеяться на то, что установление Пятой республики,
обеспечив стабильность наших институтов, изменит такое положение вещей и
позволит политическому действию приобрести еще одно измерение: временное.
В общественном сознании эта эволюция началась, но она с трудом пробивает
себе дорогу в умах наших политических избранников, ибо главная причина их
избрания — по крайней мере, так они думают — это обещания немедленно
удовлетворять желания своих избирателей.
***
Рассмотренная здесь совокупность влияний определила особый характер
интеллектуальных реакций французов: они сосредоточены на индивиде, на
защите его личных интересов, основаны на убежденности в своей правоте в
любом вопросе. На учет коллектив169
ных аспектов проблем и разработку соответствующих формул
нормального функционирования общества у них остается не слишком много
времени. Стремясь немедленно удовлетворить свои желания, француз мало
задумывается над тем, какие возможности скрыты в будущем и какие
ограничения оно накладывает, даже если все это нетрудно предвидеть.
Невнимательность к фактам приводит нас к решениям, вытекающим из
идеологии. Это отсутствие ощущения «силы тяжести», точнее, веса
действительности, подталкивает к внезапным увлечениям, когда порывы
великодушия, не подкрепленного проницательностью, оборачиваются
непрактичностью и нерациональностью подхода к тем или иным проблемам.
170
Глава 7
ФРАНЦУЗСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Для общественного мнения, получившего
информацию благодаря дискуссии, опасность
стать жертвой идеологов и популистов
значительно уменьшается.
Курт
Саксонии
Биденкопф,
премьер-министр
Наша манера рассуждать, соединяющая гипертрофированное «я» с
восприимчивостью к идеологии, объясняет то, почему французское общество,
все французское общество от правых до левых, оказалось неспособным за
двадцать лет усвоить взвешенный, реалистичный и справедливый подход к
проблеме иммиграции.
Цена этой неспособности оказалась высокой. Часть правого электората
стала объединяться при голосовании с крайне правыми, что сделало возможной
политическую эксплуатацию абсурдного тезиса, в соответствии с которым
значительная часть французской общественности якобы восприняла
неофашистские взгляды. Отсутствие сдержанности в высказываниях участников
спора питало атмосферу яростной непримиримости. Неумеренные суждения
отразились в законопроектах по данной проблеме. Своими умелыми руками
Франсуа Миттеран подлил масла в этот огонь, вновь подняв вопрос о
предоставлении избирательных прав иностранцам — в «совместной программе
левых сил», опубликованной до 1981 года, и еще раз, в смягченной форме, в
«Письме к французам» в 1988 году. Таким образом, одним великолепным
ударом он убивал сразу двух зайцев: подталкивая часть правого электората к
крайне правым, выводил из политической игры их избирательные бюллетени и
укреплял крайне правых. Описанный маневр по разделению центра и правых
сил усиливал влияние социалистической партии на власть.
Этот маневр, будучи как бы посмертным даром Франсуа Миттерана
левым силам, содействовал также возвращению социалистов в правительство в
июне 1997 года, после злополучного роспуска парламента. Пятьдесят семь
избирательных кампаний, в ходе которых крайне правые получали достаточное
число голосов для выхода во второй тур, не имея при этом никаких шансов на
победу в нем, облегчали избрание некоторого числа кандидатов от левых.
171
Таким образом, начиная с 1981 года и вплоть до сегодняшнего дня
политическая жизнь Франции серьезно расстраивается из-за отсутствия
надлежащего подхода к проблеме иммиграции, подхода справедливого,
продуманного и рассчитанного на длительный срок.
Между тем попытки в этом направлении предпринимались. На
конференции, организованной оппозицией в Вильпенте в 1985 году, удалось
произвести методичную и разумную оценку проблемы. Фактически это был
единственный за двадцать лет случай, когда состоялось серьезное ее
обсуждение. Полезные сведения относительно технических аспектов
приобретения французского гражданства, в частности, содержались в
материалах доклада, подготовленного Патриком Вейлем по просьбе Лионеля
Жоспена. Таким образом, решения вырабатываются, но в сознании некоторого
числа французов проблема остается конфликтной, ибо подход к ней умышленно
запутывают, никогда не ставя прямо основной ее вопрос — о совместимости
(или по меньшей мере об отношениях) иммиграции и французской
идентичности.
В постижении данной проблемы мы сможем продвинуться только тогда,
когда откажемся от подхода, различающего лишь две группы — французов и
иммигрантов. Чтобы углубить анализ, следует принимать во внимание то, что
существуют три группы: иностранцы, приехавшие жить во Францию; французы,
получившие гражданство недавно; французы, имеющие более глубокие корни.
Удел двух последних групп (и только их) — постепенное слияние в ходе
развития интеграции с основной массой французов.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИММИГРАЦИИ
Во все времена во Франции проживали иностранцы, точно так же как
французы проживали в других странах. Число таких людей стало увеличиваться
под воздействием глобализации экономики. Это нормальная ситуация, и к ней
следует относиться нормально. Пусть несколько ксенофобов заскрипят зубами
— я не побоюсь сказать, что являюсь ксенофилом, то есть испытываю интерес и
симпатию к иностранцам, с которыми встречаюсь у них на родине и в нашей
стране, когда они ее посещают или когда в ней живут. Мне доставляют радость
знакомство и общение с ними.
Благодаря такому общению мы можем вернее оценивать образ жизни
других народов, другие формы культуры, другую природную среду. Франция,
которая всегда была гостеприимной, должна оставаться открытой и впредь — и
для тех, кто приезжает к нам на учебу, и для тех, кого приводят сюда
профессиональные интересы, и для простых туристов. Все они сохраняют свое
гражданство, так же как и французы, проживающие за рубежом, которые
желают оставаться французскими гражданами. Иностранцы обязаны соблюдать
те из наших зако172
нов, которые их касаются, — это повсеместно распространенная
практика, и другие крупные страны мира, расположены ли они на Западе или на
Дальнем Востоке, с ней не шутят (хотя французам об этом мало известно). Если
иностранцы не следуют правилам, регулирующим их пребывание в нашей
стране, они должны покинуть ее территорию.
Гораздо более расплывчатыми являются понятия, относящиеся ко второй
группе — группе лиц, недавно получивших французское гражданство, хотя есть
возможность эти понятия прояснить.
Действительно, история иммиграции во Францию относительно проста.
Вплоть до середины XIX века Франция не знала этого явления. Французское
гражданство получали по рождению, то есть наследовали его от своих
родителей, а точнее — от отца. Первые иммиграционные потоки возникли
вместе с индустриализацией. Эти потоки приносили людей из соседних стран,
как правило, из Италии или Испании, а затем, через какое-то время, — из
Польши и Португалии. Их гнала из родных мест нищета, они приезжали во
Францию, чтобы заниматься здесь своим ремеслом. Первоначально дети
иммигрантов сохраняли гражданство своих родителей и, таким образом,
избегали призыва на военную службу. Потребность армии в новобранцах в
период, когда другие страны Европы готовились к введению всеобщей
воинской повинности, привела к изменению законодательства, в соответствии с
которым отныне дети иностранцев, родившиеся во Франции и проживавшие
здесь с самого рождения, были обязаны проходить военную службу и,
соответственно, обладать французским гражданством. В данном случае имело
место не признание права, как это нам недавно пытались доказать, но
возложение обязательства.
На пороге XX века Франция приняла евреев, которые бежали из Польши
и России от погромов. Эти люди желали прочно обосноваться в нашей стране, и
их натурализация, прошедшая согласно действовавшим правилам и срокам, не
вызвала проблем. Для них, как и для других иммигрантов этой эпохи,
получение французского гражданства явилось следствием соединения
обстоятельств и твердого желания. Обстоятельства подтолкнули их к тому,
чтобы приехать во Францию и прочно здесь обосноваться, их желанием было
интегрироваться во французское сообщество. Получение французского
гражданства эти люди воспринимали как радостное событие, которое
торжественно отмечали в семейном кругу.
Иммигранты прибывали из самых различных мест на карте и составляли
незначительную долю населения нашей страны. Их культура или, скорее,
культуры растворялись в нашей культуре, обогащая ее собой. Появление этих
иностранцев вызывало иногда негативные реакции со стороны трудящихся
слоев населения в тех местах, где им угрожала безработица, а также со стороны
немногочисленных авторов-ксенофобов. В целом же отрицательное отношение
к иммигрантам
173
постоянно проявляло лишь незначительное меньшинство французов.
Ассимиляция все новых групп, прибывавших одна за другой, осуществилась
полностью, не приведя ни к каким трудностям, оставив лишь след в виде
позитивного вклада в нашу общую жизнь, правила которой они уважали, и в
культуру, которую они принимали.
НОВЫЕ ИММИГРАНТЫ
Описанная ситуация изменилась сразу же после Второй мировой войны
под воздействием деколонизации и требований нашей экономики,
переживавшей период реконструкции и требовавшей все новых рабочих рук,
которых во Франции постоянно не хватало.
В тех случаях, когда деколонизация проводилась в алжирских
департаментах, а также в некоторых старых колониях Франции в Черной
Африке, таких, например, как Сенегал, возникала двусмысленная ситуация: те
их жители, которые по нашим законам до той поры обладали французским
гражданством, теперь становились гражданами какого-нибудь нового
независимого государства. Было ясно, что если эти люди постоянно проживали
во Франции и особенно если они добирались до нее в качестве беженцев (из-за
своего пребывания на французской службе и участия в алжирских событиях), то
им следовало дать возможность сохранить для самих себя и своего потомства
французское гражданство.
Иной характер имел приезд рабочих в 1950-е годы для того, чтобы
заработать, участвуя во французском промышленном строительстве.
Первоначально многие из них предполагали, что когда-нибудь возвратятся к
себе на родину и будут жить там на накопленные средства. В их намерения
необязательно входила интеграция. Но под давлением обстоятельств им
пришлось изменить свои планы. Все увеличивавшаяся разница между
условиями жизни и социальной защиты, которые у них были во Франции, и
теми, которые их ждали на родине, тот факт, что их дети начали учиться во
Франции, привели этих людей к желанию продлить здесь свое пребывание, а
многих из них — к намерению получить французское гражданство. Учитывая
обстоятельства их приезда во Францию, было бы справедливо принять для
подобных случаев соответствующие решения.
Две черты отличают данную иммиграцию от тех, которые ей
предшествовали: первая — она шла из одной географической зоны, и вторая —
она породила поток нелегальных иммигрантов, людей, которыми двигало не
желание влиться во французское сообщество, а страх перед нищетой и
безработицей на своей родине, толкавший их на поиски какого-то иного, в
крайнем случае, любого места, где условия жизни были бы лучше.
Эти потоки, миграционный и тот, который за ним тянулся, ставили
новую проблему в области интеграции. До той поры кандидаты на
174
иммиграцию во Францию объявляли о своем желании, собственном и
своей семьи, влиться во французское общество. Продолжая сохранять понятную
привязанность к своей изначальной идентичности, они были готовы
превратиться в составную часть того общества, в которое входили.
Но новые миграционные потоки, идущие из Магриба и Западной
Африки, состоят из людей, носителей исламской культуры и религии, всеми
способами утверждающих свою собственную идентичность и отказывающихся
вливаться в греко-романо-иудео-христианскую культуру, к которой мы
принадлежим.
Предыдущие поколения иммигрантов состояли из представителей
меньшинств, часто являвшихся жертвами преследований в стране своего
происхождения, теперь же общественное мнение чувствует, что потоки
нелегальных иммигрантов берут свое начало в неистощимом людском
резервуаре.
Видя новые ориентированность и культурные установки этой
иммиграции, французы, естественно, стали задаваться вопросами относительно
тех последствий, которые могут иметь эти ориентированность и установки для
их собственной культуры и идентичности. Обсуждение данных вопросов
оставалось в пределах разумного вплоть до 1980-х годов. Обусловлено это было
тем, что правительства того времени осознавали важность проблемы и
стремились найти справедливые и реалистичные ее решения.
В 1976 году я принял решение о создании Государственного
секретариата по делам рабочих-иммигрантов, который должен был заниматься
всеми аспектами проблемы.
Для того чтобы иметь точное представление об иммиграционных
потоках и обладать возможностью при необходимости их контролировать, я
попросил в 1979 году правительство (которое, как я чувствовал, проявляло
нерешительность в данном вопросе) установить всеобщую визовую систему для
регулирования доступа на нашу национальную территорию, систему, которой
тогда еще не существовало. Действительно, до того времени граждане
большинства африканских стран и стран Европы, не входивших в ЕС, свободно
въезжали на французскую территорию, что делало невозможным проведение
какой-либо последовательной иммиграционной политики. И такая система
действительно была установлена.
С целью дополнить набор инструментов, необходимых для управления
легальной иммиграцией, правительство предполагало заменить документы,
которые слишком легко было подделать, информатизированным видом на
жительство, не поддающимся подделке. Показательно, что эта мера,
продиктованная здравым смыслом, вызвала кампанию неистовых разоблачений
со стороны объединившегося большинства профсоюзов и левых партий,
инспирированную некоторыми газе175
тами. Доводы, выдвинутые юристами против данного проекта, заставили
от него отказаться, хотя эти законники фактически отстаивали существование
документов, поддающихся фальсификации!
Положение определенной части рабочих-иммигрантов, в течение
продолжительного времени оторванных от своих семей (при этом мы исходили
из того, что структура этих семей подобна нашей), требовало корректив. Мы
придали им форму воссоединения вокруг отца семейства. Эта мера, в принципе
правильная, была недостаточно продумана и подготовлена. Моя вина состояла в
том, что я ослабил контроль, и в ходе ее осуществления начали возникать
различные искажения: то понятие «семья» толковалось расширительно, выходя
за рамки наших концепций, то члены семьи не следовали за ее главой, когда он
возвращался к себе на родину.
Одновременно министр иностранных дел Жан-Франсуа Понсе начал в
первые месяцы 1980 года нелегкие переговоры со своим алжирским коллегой
Мохамедом Беняхья. Самым трудным в них был вопрос о совместной
организации возвращения на родину алжирцев, проживавших во Франции и
потерявших работу. По имевшимся оценкам, их количество составляло 535
тысяч человек, или 819 тысяч вместе с семьями. Франция предлагала
гарантировать соблюдение их социальных прав, приобретенных в нашей стране,
и предоставить им финансовые возможности для профессионального
устройства в Алжире в форме денежных пособий, выдаваемых при возвращении
для создания малых предприятий на родине. Со своей стороны Алжир
обязывался предоставлять своим вернувшимся гражданам освобождение от
таможенных и налоговых сборов, продолжая в то же время совместно с
французским правительством борьбу с нелегальной иммиграцией. 18 сентября
1980 года после длительных дискуссий было подписано соглашение. Оно
явилось замечательным документом еще и потому, что подводило черту под
длительным французско-алжирским спором по вопросам социального
обеспечения. Нашим партнерам удалось добиться включения в соглашение
пункта о возвращении к себе на родину по 35 тысяч алжирских рабочих
ежегодно, а с учетом их семей — по 50 тысяч человек. С октября 1981 года
соглашение должно было вступить в силу. Сразу же после избрания Франсуа
Миттерана на пост Президента Республики Франция в одностороннем порядке
отказалась от выполнения соглашения, никак не мотивировав этот шаг.
Для нашего анализа проблемы важно выяснить реакцию общественного
мнения на попытки ее решения.
Хотя некоторые меры удалось провести в жизнь лишь частично и они
яростно оспаривались группами влияния, хотя по тем или иным пунктам наше
законодательство все еще нуждалось в дополнениях, французы чувствовали, что
подход к проблеме иммиграции являлся тогда рациональным и что для ее
решения принимались достаточно
176
последовательные действия. Они не открывали поэтому никакого
политического пространства для экстремистских партий, мечтавших сделать на
них ставку в предвыборной борьбе. В 1974 году лидер Национального фронта,
баллотировавшийся на пост президента, собрал лишь 0,74% голосов
избирателей. В 1981 году, после семилетнего рационального управления
проблемой иммиграции, он отказался выставлять свою кандидатуру. За
кандидата от крайне правых, которого этот деятель намеревался поддержать,
предполагали проголосовать, судя по опросам, лишь 0,3% избирателей, и он
выбыл из соревнования. В ту пору на выборах во Франции не было никаких
проявлений ксенофобии.
ПЕРЕЛОМ
После президентских выборов 1981 года подход к обсуждаемой
проблеме стал другим. Какой-то части общественного мнения обдуманно
внушалось, что наша иммиграционная политика входит в конфликт с
национальной идентичностью. Благодаря этому подходу крайне правые,
которые до той поры в дискуссии не участвовали, получили возможность
осуществить политический прорыв.
Первой мерой, вызвавшей беспокойство, было признание за
иностранцами избирательного права. Уточним: речь шла не об иммигрантах,
получивших французское гражданство — избирательное право они приобретали
автоматически, — но об иностранцах, постоянно проживавших во Франции и
сохранявших свое первоначальное гражданство. В манифесте, принятом
социалистами в январе 1981 года в Кретее, уточнялось, что этим правом
следовало бы наделять иностранцев после их трехлетнего пребывания во
Франции. Новое правительство возобновило кампанию за принятие данного
предложения.
Что касается Франсуа Миттерана, то он старательно поддерживал огонь,
выразив в «Письме французам» в марте 1988 года свое личное сожаление по
поводу того, что «состояние наших нравов не позволяет признать за
иммигрантами право контроля за политическими решениями местного или
национального уровня путем голосования».
Вторая мера состояла в массовой выдаче, путем оформления «в порядке
исключения», документов на жительство иностранцам, находившимся в нашей
стране нелегально. Благодаря этому иностранцы получали доступ на рынок
труда, для них автоматически открывалось право пользоваться всем комплексом
социальных пособий. Самой неприятной стороной этого нововведения было то,
что в сознании кандидатов на иммиграцию укреплялось представление о том,
что для ее осуществления имеется канал из трех частей, очевидно связанных
между собой: незаконный въезд на французскую территорию, автоматическая
легализация положения въехавших, а затем — доступ ко всей
177
совокупности социальных и семейных пособий французской системы.
Сведения о принятой мере сразу же широко распространились, создав
настоящий стимул для нелегальной иммиграции.
Одновременно правительство упразднило 25 ноября 1981 года помощь
при возвращении, предоставлявшуюся до того момента рабочим-иммигрантам,
чтобы побуждать их к возвращению в страну, гражданами которой они
являлись.
Из чего бы ни исходили, принимая подобные меры, — а без
предвыборных соображений здесь явно не обошлось! — главный вред,
нанесенный ими нашей стране, заключался в том, что окольным путем и грубо,
без должного осмысления, подошли к деликатной проблеме — к вопросу об
отношениях между иммиграционной политикой и сохранением идентичности
такой страны, как Франция, имеющей среднее по величине население и
культуру, ставшую, как стало понятно в последнее время, уязвимой. Некоторые
интеллектуальные кружки и религиозные деятели усугубили путаницу в этом
вопросе, заявив, что французское общество должно превратиться в
многокультурное, то есть что ему следовало бы отказаться от сохранения одной
общей культуры и стать обществом с множеством равноправных культур.
Такая цель заставила бы задрожать от негодования учителей из школ
Жюля Ферри, которые с 1880 года и вплоть до 1914 года стремились внушить
маленьким французам, севшим за парты, убеждение в том, что у них одна общая
история («наши предки галлы») и что их объединяет одно национальное
чувство. Эта цель опасна тем, что своего смысла лишалась политика
интеграции, поскольку французскому обществу предлагали разделиться на
части, сильно отличающиеся друг от друга.
Достоянием все более далекого прошлого становятся для нас
вызывающие волнение действия польских или итальянских иммигрантов начала
XX века, выражавших горячее желание влиться в жизнь французского
общества, которое они воспринимали как единое целое, гостеприимное и
терпимое. Наконец, указанный курс никак не был представлен на одобрение
французского народа. Вопреки демократическим нормам никто как будто не
стремился выяснить мнение этого народа, единственного обладателя власти,
согласно Конституции 1958 года, относительно данной проблемы, основной для
его будущего. СМИ, церкви, значительная часть интеллектуалов не чувствовали
никакого1 неудобства, решая эту проблему за народ, тем более что, как они
ощущали, их увлекала мощная волна единого мышления и глобализации,
которая должна была вот-вот окончательно поглотить оставшиеся хрупкие
структуры идентичности.
Отсутствие четкого критерия для различения иммигрантов и
иностранцев, проживающих во Франции, делало невозможным правильное
восприятие проблемы. Недостаток знаний и великодушие подтал178
кивали французов к тому, чтобы они приняли на себя вину за
бедственное экономическое положение, в которое попала значительная часть
мира, в частности Африка; при этом забывали о том, что в нашей стране живет
1% населения Земли и потому наши возможности явно ограниченны! Любую
меру, направленную на сокращение незаконной иммиграции, изображали как
бесчеловечный отказ принять участие в глобальной борьбе против нищеты.
Двусмысленность в отношении к понятию гражданства усилилась,
причиной чего было возобновление в декабре 1999 года парламентской
дискуссии по инициативе коммунистов и при поддержке социалистов,
предложивших проект конституционного закона «с целью определить условия
участия иностранцев в муниципальных выборах». Гражданство и избирательное
право тесно связаны. Именно потому, что ныне появляется новая форма
гражданства — гражданство Европейского сообщества, основанное на праве
постоянного проживания и свободного передвижения, мы смогли принять
решение, в соответствии с которым гражданам Евросоюза предоставляется
право участвовать в наших местных выборах в 2001 году с учетом
продолжительности их пребывания во Франции и исключая их голосование в
какой-либо другой стране. Предложение же коммунистов и социалистов имеет в
виду «иностранцев», то есть не граждан ЕС, положение которых уже было
урегулировано; это предложение ведет к размыванию прав французского
гражданина, означает вступление на путь глобализации избирательного права.
Данный демарш представляется тем более странным, что абсолютно
противоречит некоторым тенденциям, проявляющимся кое-где во Франции.
Так, например, когда в начале 2000 года за резолюцию, содержавшую
требование автономии, высказалось меньшинство генерального совета Корсики,
возник спор о том, кто войдет в число избирателей, которым предложат
высказаться относительно будущего статуса острова. В итоге было принято
решение, что голосовать будут только корсиканцы, а французы с континента,
работающие на острове, к урнам допущены не будут. Получается, что
иностранцы, даже не европейцы, могли бы получить избирательное право во
Франции, а французы с континента такого права на Корсике лишены! Таким
образом, мы оказываемся в затруднительной ситуации, которая сбивает с толку
и тревожит граждан всякий раз, когда предпринимается попытка разделить во
имя принципов автономии или глобализации гражданство и избирательное
право. Правительство, проявляя осторожность, уклонилось от дискуссии на эту
тему с помощью пируэта: «Будем реалистами! Потребуем невозможного!» Но
данное требование имеет извращенный характер, так как не берет в расчет
господствующую потребность, которая будет набирать мощь в нашей стране на
протяжении всего XXI века, — потребность в идентичности. Отказ от рацио179
нального подхода к ней в пользу идеологических и даже демагогических
установок привел к нарушению процесса ее реализации. Мы все чаще слышим
голоса ненависти и нетерпимости, все большее число избирателей
поддерживает крайне правых. Положение дел с интеграцией тех, кто недавно
стали французскими гражданами, не улучшилось настолько, насколько можно
было рассчитывать. Появилась тенденция концентрации выходцев из
мусульманских
и
африканских
стран
в
районах,
называемых
«неблагополучными», где осуществление принципа обязательного школьного
обучения ежедневно наталкивается на трудности, где высок уровень
безработицы среди молодежи. Напряженность все усиливается, причиной чего
является нелегальная иммиграция, которую зачастую организовывают
преступные группы, специализирующиеся на данной деятельности и
извлекающие из нее барыши словно работорговцы в старину.
Загнанные в тупик противоречиями своего политического мышления,
нынешние руководители взяли на вооружение оборонительную тактику,
состоящую в том, чтобы стыдить французов за якобы присущую им
ксенофобию, в которой усматривают причину неудач интеграции. Но при этом
забывают, что в политике такая ксенофобия не проявляла себя вплоть до 1981
года, что она не является органичной частью нашей культуры, умаляют
необыкновенные усилия французов по приему начиная с 1975 года беженцев из
Вьетнама и Камбоджи, а затем из Чили. По количеству принятых беженцев
наша страна занимала второе место в мире после Соединенных Штатов.
Таким образом, можно видеть, что каждый раз, когда действия
правительства становятся более рациональными, общественное мнение
возвращается к достаточно спокойным и объективным суждениям относительно
проблемы иммиграции.
Каковы же на самом деле основные слагаемые данной проблемы?
Первая из них обусловлена коренным изменением демографических
величин.
НОВЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
В 1950-е годы население Европейского континента было равно
населению Африки и Америки (Северной и Южной), вместе взятых. Если брать
одну лишь Африку, то население Европы по своей численности в два с
половиной раза превосходило ее население. И когда в те времена задавались
вопросом об иммиграции, то представляли ее как отношения между регионами
с населением менее многочисленным и более многочисленным, между
государствами слабыми и сильными.
Ныне эта картина изменилась полностью. В 2000 году по числу своих
жителей каждый из двух континентов, Америка и Азия, превосходил Европу:
например, на 780 млн африканцев приходилось 720 млн
180
европейцев. Ожидается развитие данной тенденции в ближайшие
пятьдесят лет, к этому времени, согласно среднему прогнозу ООН, Америка
будет иметь в два раза больше жителей, чем Европа, а Африка — в три раза.
Населению Европы, которое уменьшится до 628 млн человек, будет
противостоять население Африки, которое в результате взрывного роста
составит 1766 млн человек1.
Иммиграция развертывается ныне в направлении от более
многочисленных к менее многочисленным, от демографически мощных к
демографически слабым странам. Общественное мнение смутно это осознает.
Оно не вникает в детали демографической статистики, но ощущает на себе
воздействие некоторых ее данных. Люди видят, как вокруг них падает
рождаемость: если в 1950-х в Европе ежегодно появлялось на свет 12 млн детей,
то ныне их появляется лишь 8 млн. Доля лиц старше шестидесяти лет в составе
населения достигла 15— 20%, к 2050 году она поднимется до 35%. Каждый
может непосредственно сам видеть эту ситуацию. В то же время иммиграция
отнюдь не слабеет (хотя это вполне естественно, когда речь идет о потоке,
текущем от менее многочисленных народов к более многочисленным), она
имеет тенденцию сосредоточиваться на определенных территориях, стремится
сохранить свои национальные черты и свою первоначальную культуру
наперекор интеграции.
Приведенные демографические данные объясняют тот факт, что
население принимающих стран, таких как Франция, стало бояться,
инстинктивно бояться иммиграции, часто даже не признаваясь в этом.
Когда политические деятели рассуждают о проблемах иммиграции и
расизма, — а это проблемы, отличающиеся друг от друга, и не следует
допускать их смешения, — то прибегают к подходу, который соблазняет своей
простотой: сравнивают расизм и ксенофобию гитлеровской Германии и
современные реакции населения принимающих стран на иммиграцию. Но
данная аналогия неверна и ведет к рекомендациям, не способным вылечить
недуг.
Исходным положением в гитлеровском расизме было чувство
превосходства. Следовало избавить, так сказать, очистить германское
пространство от низших рас, чье появление начинало портить это пространство,
— от евреев, цыган, а прусскую часть Германии — от поляков. Уродливая
логика расизма диктовала истребление низших рас
Эта цифра может измениться из-за развития эпидемии СПИДа, опустошающей Африку. По
оценкам Международного бюро труда, в 2015 г. население 27 африканских стран,
расположенных к югу от Сахары, достигнет 698 млн жителей, то есть будет на 61 млн человек
меньше, чем по прогнозам, сделанным до начала эпидемии. Можно надеяться на то, что
международная солидарность проявится наконец в масштабах, достаточных для борьбы с
болезнью и сдерживания ее распространения. Но если даже эта эпидемия замедлит проявление
демографической тенденции, изменить ее направленность она не способна по своей природе. —
Примеч. авт.
1
181
еще в большей степени, чем изгнание. Нацисты не испытывали никакого
страха. Они хотели избавиться от тех, к кому питали лишь ненависть и
презрение. И ощущали в себе силу, достаточную для осуществления этого
замысла.
Совсем иной является природа современного отношения к иммиграции.
Это отношение главным образом питает смутный страх того, что приток
иммигрантов приведет к возникновению необходимости в перемене места
проживания, что начнут изменяться условия жизни и социальное окружение,
что будет поставлена под вопрос самобытность культуры. По мере знакомства с
демографическими данными, которые я приводил, страх такого рода
увеличивается. Без сомнения, то здесь, то там он порождает презрение, даже
ненависть, но, не пытаясь эти чувства извинить, скажу, что истоки их не имеют
ничего общего с тем презрением, которое выросло из утверждения
превосходства арийской расы. Они сходны скорее с тем, что Альфонс Доде
называл гневом слабых.
Прибегая к этой неверной аналогии, нельзя найти необходимые
лекарства против страха перед иммиграцией. Порицания или заклинания не
способны заставить его отступить. Такого рода действия скорее могут это
чувство усилить, обостряя у людей ощущение своей изолированности и
побуждая их замкнуться, занять оборону. Подтверждением этого послужили
события во Франции 1980-х и 1990-х годов.
Чтобы побеждать страх, необходимо обладать умением успокаивать, то
есть, изучив объективные факторы проблемы, предлагать ее рациональное
решение.
Премьер-министр Саксонии господин Биденкопф недавно заявил: «Если
вы хотите сделать какое-либо преобразование приемлемым для общественного
мнения, вам следует начать дискуссию. Для тех, кто получил информацию об
истинном положении вещей, опасность стать жертвами идеологов и
популистов, заявляющих, что мы катимся в пропасть, значительно уменьшается.
Именно в этом и заключается роль ответственных руководителей —
представлять проблемы общественному мнению».
С этой точки зрения моноконцептуальная1 позиция французских
политических и информационных кругов (а состоит она в том, чтобы наложить
табу на обсуждение темы иммиграции, ее нельзя даже назвать своим именем, не
вызвав бурной реакции, которая исключает любое продолжение дискуссии)
является контрпродуктивной в том смысле, что не помогает осознанию
истинной природы данной проблемы и принятию необходимых решений.
Обостренную, хотя и вполне понятную реакцию вызывает обсуждение
проблем иммиграции у влиятельной еврейской общины, бывшей
Так выражаются педанты, характеризуя какую-либо единственную в своем роде идею. —
Примеч. авт.
1
182
в недалеком прошлом жертвой самой ужасной из всех когда-либо
возникавших форм расизма и обреченной тогда же на холокост. Почти
инстинктивно члены общины опасаются, что это обсуждение может пробить
брешь, через которую вырвется ненавистный им антисемитизм. Не думаю,
однако, что подобные опасения обоснованны. Иммиграция, такая, какой она
является сегодня, существует в изменившемся мире, обусловлена иными по
своей природе обстоятельствами, и ее проблемы, сегодняшние и будущие,
затрагивают все сообщества, соединенные ныне во французской нации, такие,
например, как антильская, ливанская и армянская общины, принявшие
гражданство и разделившие нашу идентичность. И нет никаких резонов для
того, чтобы чувствовать себя отличными от других только лишь потому, что
идет обсуждение вопроса, который касается всех, кто образует нашу нацию, и
формулируется в понятиях, общих для нас всех.
Между прочим, в других странах со сходной структурой, таких как
Соединенные Штаты или Великобритания, на обсуждение иммиграционной
политики не накладывают никаких запретов, отчеты о ней и материалы,
содержащие ее оценку, регулярно публикуются в печати, не вызывая полемики.
Известно, что со времени своего основания Соединенные Штаты проводили
«квантифицированную» политику иммиграции, основанную на определении
количества людей, которых они могли принять или из каждого региона, или из
каждой страны. Эти квоты неоднократно изменялись, то увеличиваясь, то
уменьшаясь в соответствии с политикой, которая публично обсуждалась, а
избираемые для ее проведения меры каждый взвешивал, тщательно учитывая
все «за» и «против».
Если я настаиваю на важности рационального подхода к этому вопросу и
выработки «квантифицированной» политики иммиграции вместе с нашими
партнерами по Европейскому союзу, то это потому, что опасаюсь возможных
последствий безразличного отношения к нему или упорного отказа от его
обсуждения. Здесь нетрудно занять личную позицию, и она получает щедрое
вознаграждение от СМИ, но не может излечить от страха, и ее явно
недостаточно для того, чтобы избежать проявлений во Франции и остальной
Европе непредсказуемых реакций со стороны народов, ощущающих угрозу,
которую для них создают демографический упадок и ослабление идентичности.
Один из самых уважаемых государственных деятелей современной
Европы, бывший канцлер Гельмут Шмидт, недавно поделился со мной
следующим мрачным пророчеством: «Если правительства окажутся не
способными проводить справедливую и рациональную политику иммиграции,
мы рискуем увидеть почти повсеместный приход к власти — не говорю через
двадцать, но через пятьдесят лет — правительств, ставленников авторитарных
правых сил, и развал Европейского союза».
183
УЗЛОВАЯ ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ
Франции следует сохранить свою традиционную открытость в пределах,
разумеется, совместимых с поддержанием своей национальной идентичности.
Эта открытость по-прежнему должна быть диверсифицированной, а не иметь
какой-нибудь единственный источник, чтобы дать возможность иммиграции
вносить свой вклад во французскую культуру, обогащая и развивая ее изнутри,
как это удавалось делать в прошлом, но не пробуя образовывать внутри этой
культуры нечто такое, что попытается заместить ее собой. Действительно,
эволюция французской культуры опирается на ее способность впитывать в себя
культурные взносы со стороны, что вовсе не означает ее раздробления на
несколько различных культур.
Такой подход предполагает проведение «квантифицированной»
иммиграционной политики, основанной на определении ежегодных квот
иммигрантов из каждой страны, а также квот профессионального характера.
Данные квоты следовало бы периодически пересматривать, оценивая
результаты, достигнутые в процессе интеграции. Конечно, эту политику следует
согласовывать с нашими европейскими партнерами, но что касается выдачи
документов, предоставляющих право на постоянное жительство и получение
работы, то все это должно оставаться сферой национальных полномочий.
Ключевая задача, имеющая глубокое политическое и важное
эмоциональное значение, состоит в том, чтобы обеспечить успешную
интеграцию французов, недавно получивших наше гражданство, и особенно —
интеграцию их детей. Следует признать, что полученные результаты не могут
нас удовлетворить, даже если каждому из нас известны блестящие примеры
достижений отдельных мужчин и женщин. Для успешной реализации всей
указанной задачи целиком понадобится, несомненно, новое поколение, которое
сможет пройти полный образовательный цикл. Надеяться на такой результат
можно лишь при том условии, что будет остановлен поток нелегальной
иммиграции, который замедляет процесс интеграции легальных иммигрантов,
разжигая вновь культурную и социальную напряженность. Как показали
научные исследования, когда доля иммигрантов в составе населения достигает
определенного уровня, их желание интегрироваться в это население ослабевает,
а после перехода через определенный порог это желание меняется на
противоположное. И тогда приехавшие стремятся сгруппироваться, замкнуться
в своей среде и защищать свою первоначальную идентичность, сохраняя свой
язык, свою культуру, все прежние привычки повседневной жизни. С этого
момента процесс интеграции приостанавливается. Для того чтобы
предотвратить эту опасность, необходима — что бы ни говорили нам наши
чувства — четкая организация возвращения нелегальных иммигрантов на
родину. У Франции имеются все возможности организовать этот процесс,
обеспечивая уважение к
184
человеческой личности, но не проявляя слабости, которая автоматически
вновь запускает цикл нелегальной иммиграции.
При условии действительной остановки незаконной иммиграции задача
интеграции французов, получивших гражданство недавно, могла бы стать делом
всей нации, куда свой посильный вклад должны бы внести и территориальные
коллективы, и образовательная система, и культурные и спортивные
ассоциации, обеспечивая его необходимыми ресурсами. Без сомнения, среди
новых французов, мужчин и женщин, немало талантов, которые можно
поставить на службу общей жизни, причем не только в спорте (где это недавно
вместе со своим отцом блестяще продемонстрировал Зинедин Зидан 1, человек
обаятельный и скромный), но и во многих других областях нашей
экономической и социальной жизни. Особый вклад в эту жизнь вносят
женщины — их здравый смысл, заботливость и нежность, с какой они
воспитывают своих детей.
Кроме того, необходимо, чтобы рациональность возобладала и нанесла
окончательное поражение экстремистам, чтобы она совершенно четко показала
разницу между необходимостью интеграции и примиренческим отношением к
незаконной иммиграции, чтобы в глазах французов любого состояния и
происхождения подтвердила: в XXI веке дело сохранения французской
идентичности получит приоритет.
***
Все сказанное ранее подводит меня к необходимости рассмотреть
проблему французской идентичности.
Эта проблема застала нас врасплох, ибо в нашей истории мы никогда с
ней не сталкивались! Нога чужеземного захватчика не вступала на французскую
землю начиная с XVI века и до прихода на небольшой срок союзных армий
после поражения Наполеона, а затем — до вторжения в 1870 году прусских
войск, покинувших нашу страну через год. Демографическое превосходство
Франции в Европе оставалось бесспорным до XIX века. Вплоть до Первой
мировой войны французская культура сохраняла господствующее положение в
мире как благодаря тому, что языком международного общения служил
преимущественно наш язык, так и влиянию нашего созидательного духа в
художественном и литературном творчестве. У французов не было никаких
оснований опасаться того, что другие страны или другие культуры могут когданибудь покуситься на французскую идентичность.
Как все помнят, это положение изменилось на наших глазах, порой
весьма заметно. Приведу лишь один пример из пережитого. В начальЗинедин Зидан — знаменитый французский футболист, родился Б 1972 г. в Марселе в семье
выходцев из Алжира.
1
185
ный период существования Европейского сообщества все дискуссии
между министрами стран-участниц проходили на французском языке. В 1989
году, когда председатель Европарламента Энрике Барон Креспо пригласил
руководителей его политических групп на завтрак перед открытием сессии в
Страсбурге, из девяти человек, все еще прибегавших к французскому языку,
исключение составил председатель группы Европейской народной партии,
которому понадобился переводчик с немецкого языка. Ныне, десять лет спустя,
большая часть таких дискуссий проводится на английском языке.
Если вы попытаетесь читать афиши, которыми пестрят стены наших,
как, впрочем, и других европейских городов, от Венеции до Берлина и Праги,
сообщающие о проведении различных «Tags» («Дней»), то не обнаружите
никаких следов французского письма...
Французская идентичность уже не чувствует спокойной уверенности,
которая была присуща ей длительное время. Наоборот, теперь она ощущает
себя все более хрупкой и беззащитной перед грозящей ей опасностью.
У данной угрозы есть два источника: во-первых, как мы видели, наш
демографический упадок, во-вторых, идеологическое давление глобализации.
Она стремится смести все препятствия на пути к унификации мира — торговые
барьеры (эта цель практически достигнута), преграды культурного плана —
путем распространения одного-единственного языка и одной-единственной
музыки; а теперь — помехи, создаваемые идентичностью. Речь идет не о какомто заговоре, и тщетно было бы искать некую невидимую руку, но о тотальном
влиянии, которое оказывают две решающие силы нашего времени — поиск
прибыли и легкость коммуникации. И очень странным выглядит то, что те, кого
больше всего тревожит нивелирующее воздействие глобализации, содействуют
выкорчевыванию национальной идентичности.
Какова же она, эта французская идентичность? Как можно ее
определить?
Эта идентичность принадлежит народу, живущему на определенной
территории, вернее — в определенном природном окружении, ландшафте.
Отношения между этим народом и этим ландшафтом являются сложными, но
неразрывными. Они долго формировали друг друга, однако для того, чтобы
ощущать себя французом, недостаточно проживать в данном природном
окружении. Франция не может быть только адресом. Она является тем местом,
которое требует определенной манеры жить. Эту манеру отличают уважение к
личности, терпимость, радушие и учтивость (хотя утонченная форма нашей
учтивости, кажется, в XX веке погибла!). Описанная манера жить остается, без
сомнения, единственной в мире. Определяя идентичность Франции, нельзя
сводить ее к возможности жить на земле этой страны. Данная идентичность
предполагает желание принять ее образ жизни, которому свой186
ственны иногда беспорядочность, часто — противоречивость, почти
всегда — терпимость, но в то же время активность и трудолюбие; в этом образе
жизни общее, составленное из элементов, входивших в него один за другим,
тех, что формируют идентичность, значит в конечном счете больше, чем
различное.
Французская идентичность есть результат слияния, накопления культур,
которые собрались, чтобы обогатить первоначальную ветвь, культур, след
которых легко обнаружить, но это отнюдь не существование их рядом друг с
другом, когда каждая сохраняла бы свою особую укорененность и когда
единственным элементом, эти культуры объединяющим, являлось бы
одновременное их присутствие на одной и той же территории.
Согласия относительно рациональной политики иммиграции можно
достигнуть в том случае, если будет найден совместный подход к восприятию
французской идентичности и к способам ее утверждения. ЮНЕСКО составляет
список памятников, входящих в мировое наследие и подлежащих охране. Но
существуют еще и терпеливо собранное культурное наследие, защиты которого
нам следует добиваться.
Эта установка проявляется в таких несхожих областях, как утверждение
«культурной исключительности», защита французского языка, привязанность к
традициям питания, гордость спортивными достижениями. Кроме того, их
необходимо еще связать между собой сильным и единым чувством
принадлежности к этому французскому народу, собравшемуся с разных концов
земли и прочно укоренившемуся в этом облагороженном трудом самом чудном
ландшафте на свете.
187
Глава 8
О ТЕХ, В КОМ СЕГОДНЯ СОСРЕДОТОЧЕНЫ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ
ФРАНЦИИ
Выше я рассмотрел, каким образом психология и черты характера,
свойственные французам, способствуют политическому упадку нашей страны.
Но эта картина в темных по большей части тонах не дает исчерпывающего
представления о действительности. В столь разнообразном обществе имеются, к
счастью, группы, являющиеся носителями ценностей будущего. И именно рост
влияния этих групп позволяет надеяться на то, что наше движение изменит свое
направление и что Франция вновь будет прогрессировать.
Две из упомянутых групп образуют руководители экономики и
женщины. А дальше мы начинаем различать авангард поколения, несущего
политическое обновление.
В НАЧАЛЕ БЫЛА ПОЛИТИКА
Каждодневно мы наблюдаем миграцию талантов, покидающих
политику, чтобы реализовать себя в экономике. Эта миграция ускорилась в
последние двадцать лет. И именно она объясняет нынешние успехи наших
предприятий.
Во Франции, выражаясь библейским языком, в начале была политика.
Политическая власть возвышалась над всем. Именно она бросала вызов
амбициям и притягивала честолюбцев. Такую ситуацию порождала старая
традиция абсолютной власти, монархической и имперской, на смену которой
пришел централизм, якобинский и наполеоновский. Данную политическую
власть осуществляла администрация — центральная администрация, — строго
соблюдавшая иерархию и уверенная в своей компетентности.
Чтобы достигнуть власти, надо было делать выбор между двумя
лестницами. Первая, ступенями которой являлись мандаты, получаемые от
избирателей, позволяла попасть в парламент, а некоторым, опьянен188
ным этим причислением к лику святых, — войти в правительство.
Высшая администрация представляла собой вторую лестницу: по ней начинали
подниматься, участвуя в конкурсной системе получения должностей в высших
административных учреждениях, таких как Государственный совет, Финансовая
инспекция и Счетная палата, а затем, начиная с 1946 года, — проходя конкурс
при поступлении в Национальную школу администрации. Путь наверх
продолжали, совершая искусные колебательные движения между ступенями
министерских кабинетов и административных повышений, вплоть до получения
самых высоких постов в руководстве крупных ведомств, государственных
финансовых учреждений или государственных служб. Иногда с одной лестницы
перепрыгивали на другую, — как правило, с административной на
политическую, так как здесь можно было мечтать о приобщении к высшей
власти.
Отнюдь не финансовые соображения толкали к выбору этих двух типов
карьеры. От них ожидали обеспеченности, но не богатства. Честность здесь
являлась правилом или даже чем-то более прочным, чем правило, —
привычкой, которую каждый считал нормальной. Вплоть до 1980-х годов члены
кабинета министра финансов ни разу не становились объектами судебного
разбирательства.
Движущей силой такого образа действий было стремление к служению.
Называли это служение по-разному, в зависимости от традиции данного
учреждения. В армии и дипломатическом ведомстве говорили: служить
Франции; в финансовых учреждениях и префектурах: быть на государственной
службе; в образовательной системе: быть на службе Республике. Но в любом
случае целью объявлялось служение.
Высшая администрация в целом являлась исключительно компетентной.
Это было обусловлено системой первоначального отбора кадров, ибо к
вступительным экзаменам с последующим конкурсом готовились лучшие
выпускники средних школ, и эти конкурсы отличала особенная строгость
отбора и объективность. Никакое вмешательство со стороны, никакие
незаконные льготы не могли повлиять на их результаты. Свою роль играли
также правила назначения на высокие должности. В основе этих правил лежало
признание личных способностей кандидата. Бездарный руководитель
центрального учреждения был явлением редким; исключение составляли лишь
немногие лица, получавшие посты благодаря политическому покровительству,
но правительственная нестабильность позволяла освобождаться от таких лиц
при первом удобном случае.
Описанная система обладала всеми достоинствами и недостатками
мандарината. Она обеспечивала нормальное функционирование классической
администрации, но в силу своей негибкости, неспособности к быстрым
решениям и отсутствия конкретного опыта была плохо приспособлена к
вмешательству в экономическую жизнь. В финансовом плане данная система в
течение длительного времени ограничивалась
189
тем, что обеспечивала поступление налоговых платежей и покрытие
государственных расходов.
Этот административный и политический мандаринат привлекал и
поглощал элиту страны, или, чтобы не прибегать к спорному выражению,
вбирал в себя большую часть талантов, которые можно было найти в
сменявших друг друга поколениях. Обитатели этого Олимпа смотрели с легкой
снисходительностью на тех, кому не удалось туда попасть и кто пачкал руки,
занимаясь повседневной жизнью предприятий.
Это различие нашло свое отражение и в расхожих словах. Тех из наших
товарищей, которые после окончания Политехнической школы не поступали на
службу в высшие государственные учреждения, а выбирали частную
экономику, называли «домашними туфлями».
«НОВЫЕ» ФРАНЦУЗЫ
Описанная картина резко изменилась в последние десятилетия.
Постепенное исчезновение великих политических задач — защиты границ и
внутреннего преобразования общества, — перенос на уровень Европейского
союза разрешения большей части проблем в сфере экономики, в таких вопросах,
как конкуренция и внешняя торговля, глобализация рынков, переставших
реагировать на вмешательство со стороны национальных учреждений, а теперь
еще и европеизация валютной политики, короче говоря, весь этот комплекс
изменений выхолостил значительную часть функций высшей администрации,
вызывавших к ней традиционное внимание. Интерес молодых французов,
«новых французов», которые часто являются «новыми француженками»,
переместился из сферы политики в сферу экономики. Это перемещение
одновременно вызвало и миграцию талантов, они стали сразу же после
окончания учебы направляться не в политику и высшую администрацию, а на
предприятия.
Нет причин сожалеть об этой эволюции. Ведь всегда желательно, чтобы
таланты сосредоточивались там, где в них более всего нуждается общество,
думающее о будущем. Например, если существует внешняя угроза, то в
обороне. С этой точки зрения можно лишь восхищаться уровнем специалистов
военной промышленности, усилия которых дали Франции возможность в
период «холодной войны», в 1960—1980-е годы, обеспечить себя самыми
совершенными самолетами, подводными лодками и ядерными материалами.
Сегодня, когда судьба Франции начинает все более и более зависеть от
ее способности побеждать в международном экономическом соревновании,
обнадеживает то, что молодые таланты дружно устремляются в
промышленность.
За несколько лет Франция обеспечила себя замечательным корпусом
руководителей предприятий. Полагаю, не преувеличу, если скажу, что
руководители крупных французских предприятий, получившие
190
различное образование, большинство которых по-прежнему составляют
инженеры, являются сегодня самыми лучшими в Европе. Недавние примеры
показывают, что при сравнении с руководителями промышленности Германии
перевес часто оказывается на стороне французов.
Эта миграция талантов благотворна для экономики. Возможно, что
данное перемещение станет полезным и для политики, создавая благодаря
образовавшейся пустоте «садок», откуда появятся будущие французские
руководители.
У нас еще будет возможность задаться вопросом относительно
оскудения притока политических руководителей нашей страны, вызванного
тем, что традиционный канал этого притока обмелел, а представление, согласно
которому только в политике можно сделать настоящую карьеру, устарело.
Успокаивает мысль о том, что человеческие ресурсы для их замены на
сей раз создаются в мире экономики. Очевидно, что эти молодые таланты не
включатся в политическую игру до тех пор, пока не будут изменены ее правила.
Однако они образуют резерв, к которому в нужный момент можно будет
обратиться.
Думаю, можно принять меры для того, чтобы ускорить это обновление.
В Национальном собрании слабо представлены силы экономики: из 576
депутатов, его составляющих, 232 чиновника и преподавателя, 113 — лица
свободных профессий, тогда как те, кто трудится на производстве (их
руководители, управленцы, служащие и рабочие), представлены лишь 146
депутатами, то есть 25% от общего числа. Это обусловлено тем, что человеку,
занимающему какое-то место на предприятии, трудно от него отказаться, чтобы
пойти заседать в парламент, ибо будущее такого человека после истечения
срока депутатского мандата никак не гарантировано. Здесь кроется причина
того, что в парламентских дебатах недостаточно внимания уделяется проблемам
экономики и предпринимательства.
Это положение можно было бы исправить, приняв по инициативе
социальных партнеров закон об «отпуске для демократического
представительства», который гарантировал бы избраннику автоматическое
возвращение на прежнее место работы, а также включение в трудовой стаж
времени (ограниченного одним или двумя сроками), затраченного на
выполнение депутатских функций.
ФРАНЦУЖЕНКИ: ШАНС ДЛЯ ФРАНЦИИ
Вторую группу населения, которая могла бы переломить тенденцию
политического упадка, составляют женщины.
Французские женщины совершенны. Я пишу это без всяких колебаний.
Они великодушны, энергичны, естественны. Умеют заботиться о детях.
Проявляют уважение и оказывают помощь пожилым лю191
дям. Им не свойственно тщеславие, от которого страдают мужчины. Они
жизнерадостны, охотно следят за собой, полны очарования. Мне известен лишь
один их недостаток: иногда им трудно ладить между собой на службе; с этой
трудностью я столкнулся, работая в правительстве.
Как и в других латинских странах, во Франции женщины превосходят
мужчин, но все наши системы, правовая, экономическая, социальная и
политическая, вынуждают женщин замыкаться в кругу семьи, заниматься теми
делами, которые латинская этимология называет домашними. В традиционном
обществе эти дела были первостепенными. От них зависело, выживут ли дети,
сохранят ли здоровье члены семьи, будет ли теплой обстановка в доме. Но
ограничивать женщин такими задачами в наше время значило бы использовать
их способности не до конца.
То, что для женщин открылась возможность занимать различные посты
и делать карьеру, является одним из самых крупных достижений
современности. Лишь в 1944 году, по предложению генерала де Голля,
женщины получили во Франции избирательное право. Двери высших военных
школ открылись для них в 1960-е годы. А в следующем десятилетии по моей
инициативе женщин стали приглашать для выполнения важных
правительственных функций.
Эту эволюцию облегчило одно совпадение: оказалось, что естественные
задатки женщин довольно точно соответствуют недавно возникшим
потребностям нашего общества. Женский подход к проблемам отличают
практичность и реализм. Они питают недоверие к действиям, продиктованным
концепциями. Женщины обладают большими возможностями адаптации. Они
свободно обращаются с инструментами информатики, которые вызывают у
женщин любопытство скорее практического, чем теоретического свойства: их
больше интересует «как этим пользоваться», чем «как это работает?».
Видя, что влияние женщин и система их ценностей получают все
большее распространение, политические движения, руководство которых
являлось исключительно мужским, попытались вскочить на ступеньку
уходящего поезда. Действовали они часто скрепя сердце, так как поступали
вопреки своим внутренним убеждениям. Когда им предлагали в качестве
кандидата на какой-либо выборный пост женщину, в ответ обычно звучал
аргумент, изношенный как застиранное белье, повторяющийся как припев и
правдоподобный лишь внешне: «Почему женщину? Это ничего не даст, потому
что избирательницы никогда за нее не проголосуют!» Тем не менее дело
сдвинулось с мертвой точки. Хотя Франция продолжает отставать от
скандинавских стран и Испании, где женщины осуществили подлинные
прорывы на муниципальных выборах, количество женщин, занимающих
ответственные посты, постоянно увеличивается.
192
Показательно, что женщины являются председателями двух самых
крупных политических партий в Европейском союзе — РПР во Франции и ХДС
в Германии.
Последние события выявили противоречия, все еще существующие в
среде французской политики. В тот самый момент, когда парламенту
предстояло принять документ, гарантирующий равный доступ женщин и
мужчин к ответственным политическим постам, реорганизация действующего
правительства привела к тому, что в его обновленный состав вошли семь
мужчин и две женщины!
Женская часть населения, в силу ее высоких качеств и независимости по
отношению к политическим играм, является для Франции щедрым источником
талантов. Обращение к этому источнику принесло бы многое, ибо женщины, за
исключением нескольких экзальтированных кружков, не испытывают
искушения начать все с tabula rasa, столь дорогой для их спутников-мужчин.
Женщины обладают инстинктом продолжения жизни, и каждая из них в своей
области стремится найти равновесие между традицией, которую она уважает, и
современностью, которая ее влечет к себе.
ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ
Поколение, которое осуществит политическое обновление страны, еще
не появилось на сцене.
Мы по-прежнему живем в пустоте, которая образовалась по той причине,
что от власти отошли те, кто в юношеские или зрелые годы участвовал в
великом событии — жестокой войне, принесшей лишения, потребовавшей
жертв, в войне, которая выковала их характеры и заглавными буквами
начертала в их душах иерархию личных и национальных ценностей, а молодые
таланты устремились в предпринимательство. Это объясняет, почему сегодня
общественности трудно распознать людей, которые в будущем призваны стать
руководителями Франции. Они готовят себя к этому, находясь, без сомнения,
вне политических группировок, и следует предоставить им время для такой
подготовки.
Вопрос о сроке является коренным, и наш подход к нему нельзя назвать
реалистичным. Когда Тони Блэр нанес поражение британским консерваторам,
никто не ждал, что они вернутся к власти в результате следующих выборов.
Точно так же завоевание власти Испанской народной партией, после того как
массовую поддержку общественности получил Фелипе Гонсалес, потребовало
длительной и неустанной работы, этапами которой были успехи на
муниципальных выборах и первоначальная неудача на парламентских.
Обновление политических кадров невозможно обеспечить в короткий
промежуток, отделяющий одну кампанию по выборам в парламент
193
от другой. В ближайшем будущем мы должны увидеть появление нового
политического поколения в результате муниципальных, а затем и региональных
выборов.
У этих молодых кандидатов не будет тех жизненных возможностей,
которые были у поколения послевоенных «тридцати славных лет», тех
возможностей, которые усилили у этого поколения вкус к легким победам и
упрямое стремление не считаться ни с кем. Этому поколению придется пройти
обучение кризисом и неуверенностью в завтрашнем дне, и думаю, что им будет
двигать желание созидать и необходимость модернизировать.
Мы должны уверенно, но без излишнего нетерпения ожидать передачи
эстафеты в руки тех, кто примет ее тогда, когда завершится срок, необходимый
для подготовки обновления.
Но История способна и на гримасы! Может статься, что в стране, где
электорат часто имеет обыкновение голосовать «против», как в 1993 и в 1997
годах, ее граждане пожелают покончить с властью социалистов еще до того, как
правые окажутся в состоянии эту власть осуществлять...
***
Когда идет спор о политическом положении Франции, то чаще всего
задают следующий вопрос: «Но в конце концов что же вы предлагаете?»
Французов очень быстро утомляют описание фактов и их анализ. Они сразу же
перескакивают к заключению: «Что же вы предлагаете?»
Предмет этих «Размышлений» — изучение причин политического
упадка. Это изучение не приводит сразу к описанию лекарства. Я надеюсь лишь
на то, что более точное знание его причин сможет помочь будущим
руководителям и самому французскому обществу остановить ход
политического упадка.
Но для того, чтобы психология французов не выглядела такой
сумрачной, мне хотелось бы в заключение вспомнить о ее светлой стороне—о
французском великодушии.
Это великодушие особого типа, и о нем мало знают за пределами страны.
Оно образуется в результате соединения гостеприимства и душевного подъема.
Речь идет о гостеприимстве в крестьянском его понимании, когда делят кров и
хлеб, когда среди ночи отправляются на помощь тому, кто застрял в дорожной
грязи или в снежных сугробах, причем делают это просто, без жестов и
церемоний, как самый естественный поступок. Если же говорить о душевном
подъеме, о присущем французам энтузиазме, то есть у него неприятное
свойство — приводить к неожиданным переворотам, но обычно он
представляет собой некий сердечный порыв, искренний и непосредственный,
обра194
щенный к другим, к тем, кого постигли горести и невзгоды, а при иных
обстоятельствах этот энтузиазм вызывается славой нашего оружия или
спортивными триумфами. Благодаря ему французы познают редкие мгновения
общего для всех счастья и испытывают чувство полноты жизни, о котором
помнят очень долго.
Французы умеют выделять людей, которые символизируют собой
великодушие, среди них — аббат Пьер, которого мне довелось принимать в
Ёлисейском дворце для вручения ему ордена Почетного легиона, его стали
присваивать, в соответствии с принятым мною решением, лицам, отличившимся
на поприще защиты прав человека, и аббат Пьер был среди первых
награжденных. Мы увидели в тот день совсем маленького человека с жесткой
бородой и пронзительными глазами, одетого в рясу священника; среди таких
людей и сестра Эммануэль, о которой общественное мнение почти ничего не
знает, за исключением того, что эта женщина жила среди океана нищеты на
каирских свалках, пытаясь вернуть их несчастным обитателям обыкновенное
человеческое достоинство.
Нередко этим великодушным людям принадлежат заслуги выдвижения
гуманитарных инициатив, назову здесь организацию «Врачи без границ»
Бернара Кушнера, Клода Малюре и доктора Эммануэли, а также «Фармацевты
без границ». Если говорить о религиозных конгрегациях, то они без всякого
шума и стремления к внешним эффектам выполняют замечательную работу,
помогая делу образования и охраны здоровья в самых нищих районах Африки и
Среднего Востока.
Именно соединение этого великодушия (унаследованного, без сомнения,
от франкских предков) и рационального ума (плода галло-романского
происхождения) может стать той силой, которая вынудит политических
руководителей перестать играть на слабостях французов для достижения
собственных целей, как это они сознательно делали в течение 1980-х годов, и
обратиться наконец к достоинствам французских граждан, дав им возможность
распрямиться в политическом смысле.
195
Глава 9
ТЕРЗАЕМЫЕ ИНСТИТУТЫ
Французы
терзают
свои
политические
институты
подобно
безжалостному ребенку, мучающему животных. Они не оставляют эти
институты в покое. Они обращаются с ними, как подсказывают им их
настроения. Они часто насмехаются над ними. И когда французы приходят к
мысли, что эти институты более не могут приносить пользы, быть им защитой,
то сразу же их забрасывают и обращаются к другим.
Конституциональная история Франции двух последних столетий
является невероятной в собственном смысле этого слова. Она является курьезом
сама по себе. В период между 1780 и 1980 годами можно было увидеть четыре
монархии, в том числе две абсолютные и две конституционные, пять республик,
две империи, три режима особого вида — Директорию, Консульство и режим
Виши. Полтора десятка различных вариантов государственного строя. Только
лишь Третья и Пятая республики просуществовали более двадцати лет каждая.
Другой подобной институциональной бури свет не видел, и она выражает те
трудности, с которыми столкнулась Франция, пытаясь после продолжительной
феодальной эпохи приспособиться к уравновешенному функционированию
демократической власти. Два имперских опыта, прерванных лишь военными
поражениями, показывают, какую власть предпочитало в те времена
большинство французов: сильную и справедливую; последнее ощущение
возникало вследствие упразднения привилегий. Первые попытки создания
республики ослабляла приверженность ее сторонников принципу tabula rasa,
которая очень скоро подтолкнула их к крайностям экстремизма, как в 1848 году,
так и в 1871-м, во время мучительной авантюры Парижской коммуны. Ее
жестокое подавление привело к изгнанию рабочего класса из политики и
вызвало в остальных частях страны — вне Парижа — прилив острого неприятия
республики. Все это было тщательно проанализировано Токвилем в его
воспоминаниях о ходе Революции 1848 года, мелкобуржуазного подражания
«Великой революции» 1789 года.
196
Франсуа Фюре в своем обобщающем труде о Французской революции,
увидевшем свет в 1988 году1, пришел к выводу, что наша страна пережила
длительный революционный период — «революционный транзит»; он начался с
опалы Тюрго в мае 1776 года, закрепившей неуспех последней попытки
обеспечить эволюцию Старого порядка, и завершился окончательным
установлением Республики в 1880-х благодаря Гамбетте и Жюлю Ферри. Они
тоже черпали вдохновение в идеях 1789 года, одновременно не желая
вспоминать о крайностях 1793 года и откликаясь на два главных чувства
французов: «...страстное желание равенства и страх перед революциями...»2
Не имея намерения соперничать с Франсуа Фюре, проведшим глубокий
анализ указанных событий, я все же попытаюсь доказать, что традиционные
рамки, в которые обычно заключают переход от феодальной эры,
ассоциирующейся с абсолютной монархией, к окончательному принятию
демократического строя, признаваемого всеми гражданами, следует раздвинуть.
Что касается отправной точки «транзита», начала кризиса, кульминацией
которого стала революция 1789 года, то, как мне представляется, эту точку
следует отодвинуть ко времени брожения парламентов, проявившегося около
1755 года и принявшего на заключительном своем этапе форму официального
неприятия королевской власти и принципов, на которых она покоилась.
Легитимность монархической власти в том виде, в каком она
представлялась последним Бурбонам, была публично оспорена в
постановлениях парламентов Руана, Гренобля, Тулузы, Бретани, наконец,
Парижа в 1763—1766 годах. И глава парламента Тулузы, председатель де
Бастар, оказался удивительным провидцем, заявив в январе 1763 года: «Вы
только что дали, господа, роковой пример, пример упразднений; вы сами, в
свою очередь, подвергнетесь упразднению!»
Людовик XV ясно видел, что в основании его власти образовалась
глубокая трещина, но, хотя и обладал блестящим умом, не мог дойти до
понимания того, что это основание (абсолютная и наследственная власть,
покоящаяся на божественном праве) стало несовместимым с социокультурными
реальностями эпохи, и дважды пытался осуществить «контрреволюцию».
Первый раз — когда явился в понедельник 3 марта 1766 года в Парижский
парламент, чтобы произнести там знаменитую «бичующую речь»,
начинавшуюся словами: «Господа, я пришел, чтобы самому ответить на все
ваши ремонстрации»3, речь, в которой король утверждал абсолютный и
неделимый характер своей власти. Столкнувшись с неуспехом ордонансов и с
возобновившимися отказами некоторых проСм.: Furet F. La Révolution française. P.: Hachette, 1988.
Ibid.
3
Будучи судебно-административными учреждениями, дореволюционные парламенты
регистрировали акты королевской власти (ордонансы и эдикты), после чего последние входили
в законную силу. Парламенты обладали правом ремонстрации (от позднелат. remonstratio —
указание), то есть отказа от такой регистрации на основании несоответствия названных актов
законам или обычаям.
1
2
197
винциальных парламентов регистрировать его эдикты, король принял в
1770 году решение об увольнении и ссылке в провинцию всех членов
Парижского парламента. Вместо этих палат, должности в которых
«покупались», он создал судебные учреждения с назначаемыми членами, то
есть учреждения «профессиональные». Известно, что сразу же после своего
вступления на престол в 1774 году Людовик XVI решил призвать назад старые
парламенты, оспаривавшие в свое время королевскую власть, сделав жест,
выражавший стремление успокоить страсти. Таким образом, не столько опала
Тюрго, сколько спровоцированное в 1760-е годы представителями
привилегированных
сословий
кипение
парламентов,
оспаривающих
королевскую власть, является, как мне кажется, начальным пунктом
революционного «транзита».
Когда же Франсуа Фюре относит его завершающий момент, момент
окончательного установления республиканского строя, к 1880-м годам, то он, на
мой взгляд, грешит здесь оптимизмом. Если и верно, что начиная с этого
времени возможность появления какой-то альтернативной формы власти
(например, возвращения монархии) постепенно становилась все менее
вероятной, то спор вокруг республики, то есть обсуждение вопроса о том, какой
строй, по мнению каждого, был бы самым подходящим для Франции, этот спор
по данной причине отнюдь не затих.
В дилижансе, который зимой 1870 года вез из Руана в Дьепп убегавшую
от прусской оккупации молоденькую проститутку по прозвищу Пышка, из
десяти путешественников двое были роялистами-легитимистами, двое —
орлеанистами, двое принадлежали к либеральной оппозиции Второй империи,
ехали в нем и две монахини, погруженные в свои молитвы и осуждавшие
светские порядки. Пышка являлась горячей бонапартисткой. И лишь последний,
единственный из десяти, — Корню-де — был «демак'ом», как тогда
выражались, то есть республиканцем.
Верно, что в период, предшествовавший войне 1914 года, Франция
постепенно привыкла к республике. Но возникшая вновь социальная
напряженность, порожденная индустриализацией, последствия которой для
жизни людей во Франции недооценивались и мало учитывались,
напряженность, усиленная кризисом и безработицей 1930-х годов, возобновила
спор о режиме. Старый разрыв между сторонниками tabula rasa и
приверженцами установленного порядка был практически воскрешен, приобрел
те же очертания, обусловленные разделением, которые создала борьба классов.
В этом промежутке времени русская революция 1917 года привела к появлению
новой альтернативы, возникшей на этот раз на крайне левом фланге. Уличные
выступления членов правых объединений, кульминацией которых стала
демонстрация на Елисейских полях 6 февраля 1934 года, неистовство левых,
последовавшее за успехом на выборах На198
родного фронта, — все это ясно показывало, что неприсоединение к
повсеместно признанному республиканскому консенсусу стойко сохраняется.
Режим Виши с его неявными, а подчас и явными обвинениями в адрес
Республики, с законами, которые он создал и которые обернулись против него
самого, выпустил, как джина из бутылки, большую часть старых противоречий.
Судебные расправы и проявления нетерпимости разбередили раны, казавшиеся
уже излеченными. Политические дискуссии 1950-х годов все еще проходили в
атмосфере такого насилия и таких крайностей, которые, думается, сегодня нам
трудно и вообразить. Генерал де Голль с 1958 года восстановил нормальное
течение жизни страны, но способ его действий (к этому вопросу я еще вернусь)
приводил к тому, что из политической игры исключались все те, кто не разделял
его целей и не одобрял его методов. У Франции, по его убеждению, был выбор
лишь между порядком, созданным им, и «хаосом». Отсюда неожиданные резкие
рывки в стороны, такие как разбуженное недовольство 1968 года.
Последним эпизодом революционного «транзита» следовало бы, без
сомнения, назвать Совместную правительственную программу, принятую в
1970-е годы коалицией, объединившей социалистов, коммунистов и некоторых
радикалов, и объявление об «изменении общества», которое должно было
последовать за президентскими выборами 1981 года. Когда перечитываешь
документы или вспоминаешь события той эпохи, то испытываешь странное
чувство, словно ты попал в нереальный мир. Тон заявлений, содержание
объявленных мер, само понятие «изменение общества» заставляют представить
себе какой-то революционный скачок, но скептицизм общественного мнения
душит его, лишает энергии; люди вроде бы поддаются соблазну поверить в
великие обещания, но в то же время интуитивно чувствуют их
нереалистичность. Как Революция 1848 года выглядела в глазах Токвиля
бледным подражанием Революции 1789 года, когда люди 48-го пытались
дотянуться до своих предшественников, подражая их языку и позам, точно так
же последнее изменение общества 1981 года занимает, кажется, самую
последнюю ступеньку на этой лестнице, ведущей вниз. Некоторое сходство
между перечисленными событиями можно увидеть, но это в некотором роде
сходство в угасании. Когда тогдашний неописуемый премьер-министр заявлял о
«конце правительства замков», то сновидения переносили его, должно быть, в
Учредительное собрание 1790 года1.
Упомяну также характерный эпизод — создание в 1981 году по
инициативе Франсуа Миттерана комиссии, которой поручалось дать оценку,
вопреки
всем
республиканским
обыкновениям,
правлению
его
предшественника. Пост председателя сей комиссии был доверен Франсуа
Общеизвестны слова Карла Маркса о том, что исторические события проявляются дважды,
«первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса». — Примеч. авт.
1
199
Блок-Лэне, которого председатель Пине в свое время вывел из
руководства Государственного казначейства. Те из высших чиновников —
дипломаты, финансисты и администраторы, которым пришлось через это
пройти, рассказывали, что чувствовали там себя словно на допросе в какой-то
комиссии по чистке, настолько суровым был характер задававшихся им
вопросов. Там обсуждался вопрос и о том, не следует ли заслушать меня.
Напрасный труд, ибо я не подчинился бы этому экстравагантному
предписанию, ясно сознавая, что несу ответственность перед французским
народом, а не перед комиссарами, назначенными властью. После
многомесячных трудов и публикации невыразительного доклада эта
разоблачительная перипетия закончилась ничем!
Не знаю, доводилось ли вам слышать, как бьют барабаны, когда по
завершении церемонии оркестр покидает площадь. Впечатляющий барабанный
грохот, поглотивший все звуки, сменяется дробью более приглушенной, но все
еще отчетливо слышимой, как шум 1848-го после гула 1789-го. А затем все
стихает вдалеке, и ветер лишь изредка доносит звуки отдельных барабанных
ударов, как в 1981-м.
Долгий революционный переход Франции завершился неудачной
попыткой изменить общество в 1981 году, то есть на сто лет позднее, чем
полагал Франсуа Фюре. Хотелось бы, чтобы точка, которую я пытался здесь
поставить, была окончательной. В этом заключался смысл моего призыва к
каждых двум французам из трех, то есть ко всем французам, за исключением
правых и левых экстремистов нашего времени, и моего публичного признания
того, что чередование во власти, которое заменит теорию хаоса, возможно. Если
бы я выиграл выборы 1981 года, то, думаю, последний порыв к «изменению
общества», порыв всегда искусственный и несовременный, вскоре бы остыл и
сошел на нет сам собой из-за отсутствия надежды на успех, и конец
длительному историческому переходу был бы положен скорее жестом,
выражающим примирение, чем констатацией неуспеха попытки его
продолжить.
Необычная, оставшаяся почти незамеченной фраза премьер-министра
Лионеля Жоспена, произнесенная осенью 1999 года, фраза, в которой он
утверждал, что «нашей целью более не является изменение общества», явилась
для меня сигналом, означающим конец эпохи — времени, когда французское
общество продолжало искать свой путь, следуя концепции tabula rasa. Нельзя
не видеть связи этого изменения установки с идеологическим крахом
последнего социально-революционного проекта — коммунистического — в
1990-е годы. А по ту сторону Рейна эхом прозвучали слова социал-демократа,
канцлера Герхарда Шредера: «Я более не думаю, что общество без неравенств
было бы желательно»1.
1
Le Monde, 20 novembre 1999.
200
Итак, длительный демократический «транзит» Франции завершился, помоему, не в конце XIX века, а в конце XX века.
Продолжительность этого двухвекового периода республиканской
нестабильности, когда Старый порядок был отвергнут, но продолжали
сохраняться разногласия относительно того, каким строем следовало бы его
заменить, помешала французам сосредоточиться на вопросах, которые им
следовало решить, чтобы придать своей демократической власти прочные
основания.
Какую демократию они хотели установить? Прямую, в которой народ
приобщен к руководству государственными делами настолько близко,
насколько это возможно? Или же демократию представительную, в которой
власть народа осуществляется выбором тех лиц, которым он передает ведение
дел и которые являются в некотором роде опекунами общественного мнения?
Что касается республики, то о какой именно шла речь? О республике
революционной, роль которой состоит в непрерывном изменении
общественных структур с целью обеспечить их соответствие какой-то
доктрине? Или же о республике умеренной (буржуазной), от которой ждут лишь
одного: умелого управления общим достоянием?
Начнем с ответов на последние вопросы. Если руководствоваться
словарем и питать живую привязанность к памяти о таких деятелях, как
Робеспьер, Сен-Жюст или даже Кутон, то Французской республике следовало
бы сохранять революционную вдохновленность. Но если внимательно
рассмотреть, как в действительности с 1880-х годов, следуя предначертаниям
Гамбетты и Жюля Ферри, сначала была установлена, а затем поддержана
республика, то приходим к выводу: речь идет о республике умеренной и
буржуазной, даже, скорее, мелкобуржуазной.
Государственные деятели, обеспечившие укрепление ее структур, —
Вальдек-Руссо с правом на ассоциации, Жозеф Кайо с прямым
налогообложением, Аристид Бриан и даже Леон Блюм с социальными
новациями 1936 года — все они были людьми буржуазной культуры и
буржуазных вкусов. Редкие династии республиканских деятелей, возникшие во
Франции (можно сожалеть о том, что, в отличие от Соединенных Штатов, они
не были более многочисленными), такие как Карно, Казимир-Перье, и слишком
быстро прерванная династия Ферри происходили из умеренной буржуазии. Это
объясняет причины, по которым Республика, вопреки своему внешнему виду,
заняла центристскую позицию в политической жизни страны. Партия, которая
максимально отождествляла себя с политической культурой Республики —
радикальная — полностью являлась партией центра, она придерживалась левой
ориентации по некоторым политическим вопросам, но твердо стояла на правых
позициях в том, что касалось экономического и социального выбора. В этих
условиях неудивительно, что Респуб201
лике всегда приходилось иметь дело с двумя оппозициями: одной —
правой, другой — крайне левой.
Можно подытожить: выбор Францией республики как формы своего
государства имеет революционные корни, но выросла она, республика, на
умеренной и буржуазной почве, за чем внимательно следили с высоты своих
прочных бастилий префектуры и Сенат.
ДЕМОКРАТИЯ: ПРЯМАЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ?
Первый вопрос является самым фундаментальным: должна ли
французская демократия быть прямой или делегируемой? Должен ли народ
участвовать в принятии решений, или же последние будут приниматься от его
имени представителями, которых он назначит и которые затем будут
действовать, беря ответственность на себя?
Если поинтересоваться суждениями французов, включая и тех, чья
профессия — преподавать гражданские знания относительно природы
демократической системы страны, в которой они живут, то, боюсь, эти
суждения окажутся туманными, так как в их головах, должно быть, перепутаны
два основных названных понятия. Все же общее убеждение будет состоять
скорее в том, что право решать принадлежит гражданам, но что это право
постепенно присвоили себе «политики», которых народ избрал, но которые
осуществляют власть в замкнутом круге, не заботясь о подлинных интересах
своих избирателей. То есть речь идет о некой похищенной прямой демократии.
Текст Конституции 1958 года поддерживает эту двусмысленность. В
первом ее разделе, посвященном суверенитету, провозглашается принцип
Республики: «правительство народа, по воле народа и для народа» (ст. 2). Это
близко к идее прямой демократии и вызвало бы негодование Эдмунда Бёрка,
для которого народная власть может легитимно осуществляться лишь при
уважении традиций прошлого и исторически приобретенных прав, вся
совокупность которых охраняет функционирование реальной свободы.
Следующая статья подтверждает эту ориентацию, устанавливая, что
«национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его
через своих представителей и посредством референдума», то есть прямого
голосования граждан.
Этот дух прямой демократии пропитывает всю политическую культуру
Франции. Национальное собрание, подобно своему предшественнику — Палате
депутатов, по-настоящему живет лишь в минуты экзальтации, когда
парламентариями целиком овладевает чувство, что они представляют собой
власть граждан. В звездные часы французского парламентаризма воскрешается
дух Конвекта 1792 года, приходят на память выступления великих ораторов,
таких как Ламартин в 1848 году, когда с восторгом и вдохновением
очерчивалось будущее Республики.
202
В эти «великие мгновения» все становится возможным. То же самое
Национальное собрание, которое освистывало в июне 1958 года молодых
депутатов, осмелившихся заговорить о возможном обращении к генералу де
Голлю, и требовало от председательствовавшего удалить их из зала,
польщенное, послушно внимало генералу три недели спустя, когда он явился,
чтобы описать депутатам процедуру, с помощью которой намеревался изменить
Конституцию. В тот день он был одет в двубортный костюм темно-серого цвета
и сидел на «министерской скамье».
В этой новой Конституции, по которой мы живем и сегодня (добротно
составленной Мишелем Дебре), отведено значительное место прямой
демократии, а полномочия Национального собрания, обвиненного в присвоении
власти и неумении ее использовать, которое, в частности, выразилось в
увеличении числа правительственных кризисов, резко ограничены. Таким
образом Национальное собрание вновь отправили решать только
законодательные задачи.
Сам генерал де Голль ощущал, что ему близка концепция
плебисцитарной республики, в которой народ просили бы высказать свою точку
зрения всякий раз, когда это было бы сочтено необходимым. Такую его
установку питали два соображения: во-первых, народ менее увяз в разного рода
сделках и «комбинациях», а потому более способен выразить подлинный
национальный интерес; во-вторых, от народных избранников можно ожидать
лишь решений по «выходу из кризиса», исходящих из их собственных
интересов и ограничивающих их личный риск.
То, что называл большинством генерал де Голль, представляло собой не
парламентское большинство, но большинство французского народа. Поскольку
мне довелось наблюдать реакции этого человека вблизи, полагаю, что
ощущение легитимности своих действий, пришедшее на смену ощущению
1940—1944 годов (тогда он считал свои действия легитимными потому, что
оказался единственным деятелем, поднявшим наперекор всему голос в защиту
независимости и достоинства Франции), он черпал в народном одобрении,
напоминавшем времена первых Капетингов. Отсюда то значение, которое он
придавал своим поездкам по провинции, и та необыкновенная
добросовестность, с которой он относился к своим выступлениям перед
гражданами, собиравшимися даже в самых маленьких местечках.
По самой своей сути режим, который воплощал генерал де Голль,
являлся просвещенным деспотизмом, ограниченным во времени, ибо его
функционирование должно было сразу же прерваться в тот день, когда
большинство народа откажет ему в своей поддержке. Конечно, он соглашался с
тем, что выполнение президентских функций определялось рамками,
содержащимися в Конституции, хотя эти рамки иногда его раздражали. Но он
ни на миг не представлял себе, что легитимностью своей власти обязан какой-то
совокупности конституционных механизмов.
203
Генерал де Голль прибег к прямой демократии, чтобы положить конец
войне в Алжире, умножив этим количество референдумов. И уже в 1962 году,
четыре года спустя после своего прихода к власти, он предложил изменить
Конституцию таким образом, чтобы президент Республики избирался путем
всеобщего голосования, то есть посредством прямого одобрения гражданами.
Он решил обеспечить проведение этой реформы с помощью
референдума, хотя данный метод явно противоречил тексту Конституции.
Действительно, авторы этого документа посвятили одну статью, статью 89-ю,
вопросу о пересмотре Конституции. В этой статье точно определены два пути,
которые могут быть использованы для такого пересмотра: референдум или
парламент, созванный в качестве конгресса. Референдум можно было
организовать по предложению правительства лишь в том случае, если бы текст
реформы приняли в одинаковой редакции и Национальное собрание, и Сенат,
чего в 1962 году добиться было невозможно.
СЕРВИЛЬНАЯ ШКОЛА
В этом месте позволю себе некоторое отступление, касающееся темы,
которая меня очень волнует. Одно из несчастий французской политики
заключается в том, что в числе специалистов по публичному праву всегда
обнаруживались представители школы, которую я назову сервильной, люди,
постоянно готовые с помощью юридических трюков одобрять любые деяния
власти. Хотя было очевидно, что применение референдума без
предварительного обращения к парламенту противоречило статье 89-й
Конституции, когда дело шло о пересмотре Основного закона (это, впрочем,
генерал де Голль признавал в приватных беседах), они ухитрились доказать
законность принятой процедуры в своих напыщенных заявлениях и
выступлениях на «свободных» трибунах.
Я не являюсь юристом, однако одного прочтения Конституции
(немногословной, как этого желал аббат Сьейес, но совершенно ясной),
оказалось достаточным, чтобы меня просветить. Перед референдумом 1962 года
я решил пойти к генералу де Голлю, в правительстве которого был министром
финансов, чтобы поделиться с ним своими сомнениями.
Он выслушал меня, не останавливая (ему была свойственна
необыкновенная вежливость, он никогда не прерывал собеседника, даже самого
скромного) и не испытывая, видимо, раздражения, так как на лице у него не
появилось обычного нервного подергивания, возникавшего в таких случаях,
после чего сказал мне: «Может быть, вы правы». И после паузы добавил:
«Думаю даже, что вы правы полностью. Это, несомненно, не соответствует
букве Конституции, но, видите ли, у меня нет
204
способа действовать иначе, ибо парламент никогда не проголосует за эту
реформу, никогда. Между тем она нужна стране».
И он принялся перечислять аргументы в пользу избрания Президента
Республики всеобщим голосованием как единственного способа поставить во
главе страны личность национального масштаба.
«При существующей системе голосование ограниченного числа
нотаблей, которыми легко манипулировать, приведет в большинстве случаев к
избранию посредственности. Впрочем, многих это устроит», — добавил он с
той иронией, порожденной жизнью, которая составляла одну из граней его
юмора.
Слушая генерала де Голля, я сказал себе, что он, бесспорно, прав по сути
дела, но законника во мне не переставал смущать избранный им метод.
Недавно мы были свидетелями того, как еще раз себя проявила
сервильная школа. Когда судьи, которым было поручено рассмотреть дело о
коррупции в сфере финансов, привлекли к следствию председателя
Конституционного совета Ролана Дюма, то стало очевидно, что ему следует
оставить свой пост. В число обязанностей председателя Конституционного
совета входит наблюдение за правильностью выборов президента, и именно он
объявляет их результат. Можно ли было себе представить ситуацию, в которой
об избрании Президента Республики сообщает председатель, находящийся под
следствием? Даже Директория не пошла бы на такую крайность! Председателя
Конституционного совета назначает сам Президент Республики, при этом в
Конституции не указан срок его пребывания на данном посту, хотя сроки
действия мандатов других членов Совета определены. Президенту Республики
надлежало освободить председателя от должности и назначить на этот пост
другого члена Совета. Ролан Дюма сохранил бы свое место члена
Конституционного совета, имея возможность осуществлять свое право на
защиту на любом уровне вплоть до суда. И все бы тогда снова пришло в
порядок. Такое решение дало бы Франции возможность не выставлять себя в
неприглядном виде в течение целого года перед международной
общественностью. Президент Республики по причинам, только его
касающимся, не пожелал принять это решение. И сервильная школа
устремилась ему на помощь, утверждая, что президент и не имел права это
сделать. Тщательное изучение статьи 56-й Конституции — единственной,
сильной настолько, что ее можно противопоставить власти Президента
Республики, ибо никакой органический закон не должен противоречить букве
этого документа, — показывает, что ничто не мешало президенту действовать
подобным образом и что он обеспечил бы своим посредничеством «нормальное
функционирование государственных органов» (ст. 5). В конечном счете было
объявлено о выборе «временно исполняющего обязанности председателя
Конституционного совета», тогда как назначенный председатель фор205
мально сохранял свое звание, что не соответствовало ни одному
конституционному положению1.
Улыбнемся на мгновение. Когда «временно исполняющий обязанности
председателя Конституционного совета» успокоился относительно того, что его
пост просуществует достаточно долго, он заказал почтовую бумагу со своим
странным титулом. Я с удивлением это обнаружил, когда в качестве
пожизненного члена Конституционного совета получил от него почту. Уважая
точность, свое ответное письмо я адресовал ему как «Господину члену
Конституционного совета». На чем наша переписка и закончилась.
***
Влечение к прямой демократии не покидало генерала де Голля вплоть до
конца его пребывания на президентском посту. В апреле 1969 года он решил
поставить на карту свою судьбу, вынеся на референдум законопроект, на этот
раз в полном соответствии со статьей 11-й . Конституции. Поскольку проект
был отвергнут, де Голль на следующий же день оставил власть, следуя логике
своей политической системы. Если он нередко и действовал подобно
просвещенному деспоту, то в его поведении не было ничего от узурпатора,
вопреки яростным диатрибам Франсуа Миттерана в книге «Постоянный
государственный переворот»2. Основная ветвь исполнительной власти Пятой
республики, то есть институт президентской власти, черпала свою легитимность
в существовании народного большинства. Лишаясь поддержки такого
большинства, она исчезала. Де Голль совершил этот шаг с удивительным
достоинством.
Мои собственные рассуждения в январе 1978 года относительно
парламентских выборов, намеченных на март, внешне были иными, но
следовали той же логике. Нужно вспомнить обстановку тех дней. Мы все еще
жили в условиях «холодной войны». Советские ракеты были нацелены на Запад,
и как раз в это время советское командование устанавливало знаменитые «СС20» — новые ракетоносители средней дальности — с явной целью —
«отрезать» европейскую оборону от американской и сделать Европу таким
образом более уязвимой для советского нападения. Под «Совместной
правительственной программой», предложенной левыми, стояли рядом подписи
коммунистов, социалистов и некоторых радикалов. Опросы избирателей в
январе 1978 года предвещали возможную победу — ее желала и большая часть
СМИ —
В связи с постановкой вопроса об уголовной ответственности Р. Дюма (так называемое «дело о
статуэтках») ему пришлось в марте 1999 г. уйти в отпуск, приостановив выполнение своих
функций председателя КС, а еще через год — подать в отставку и покинуть этот пост.
2
См.: Mitterand F. Le Coup d' Etat permanent. P.: Plon, 1964.
1
206
левой коалиции. Социалисты во главе с Франсуа Миттераном заявляли,
что в случае успеха коалиции участие министров-коммунистов в правительстве
неизбежно.
Какую позицию в этом случае следовало занять мне? В марте 1973 года
президент Жорж Помпиду оказался в сходных обстоятельствах. Существовала
угроза поражения его большинства на выборах в парламент, и он поделился со
мной планами, которые вынашивал со своим советником Пьером Жюйе. «Я
подам в отставку, — заявил он мне, — не останусь в Елисейском дворце.
Социалистическим руководителям будет слишком легко меня высмеивать и
ставить в невыносимое положение. Вероятно, они позволят организовывать
демонстрации на авеню Мариньи1, и не найдется никого, кому можно было бы
отдать приказ о защите Елисейского дворца. У них есть также возможность
ограничить средства Президентской канцелярии и уменьшить свободу ее
действий, придираясь к любым мелочам. Этой возможности я им не
предоставлю. В такой ситуации достоинство исполняемой должности и
человеческое достоинство заставляют уйти». Думаю, что он так бы и поступил.
Без сомнения, ход рассуждений Жоржа Помпиду был точным. Я был
готов повторить каждое его слово применительно к самому себе (хотя образ
действий левых в 1978 году и отличался от образа действий в 1973 году), но
вывод при этом делал совсем другой. Было очевидно, что выполнение обычных
функций Президента Республики, состоящих в определении главных
ориентиров политики страны, оказалось бы невозможным в случае победы
левых сил. Я не пытался бы строить иллюзии на этот счет, но с помощью
символических жестов показал бы, что отныне придаю исполнению
президентских функций новый характер: я бы ограничил мою политическую
деятельность формальным выполнением обязанностей председателя на
заседаниях Совета министров и Высшего совета магистратуры, как это
предписывает Конституция, и перенес бы свое постоянное пребывание в
Рамбуйе2, чтобы сделать очевидной дистанцию, установленную мной по
отношению к действиям правительства.
Сохранение мною моего поста преследовало бы одну-единственную
цель: дать французам возможность — если развитие событий в стране и в мире
начнет их тревожить в связи со сделанным ими выбором — поменять
политическую ориентацию. Я принял бы к сведению, что право роспуска
Национального собрания, предусмотренное статьей 12-й Конституции, является
неотъемлемым правом президента, которое не нуждается в скреплении ничьей
подписью. Подобно тому, как ключник хранит ключи от дверей, я сохранил бы
свою должность, чтобы дать французам, когда придет время и когда я
почувствую, что они этого желают, возможность пойти по другому пути.
1
2
То есть непосредственно перед президентской резиденцией.
В этом городе находится одна из резиденций Президента Франции.
207
***
Необыкновенное равновесие между прямой демократией, вызванной к
жизни первоначальным республиканским импульсом и отвечавшей, хотя и в
иной плоскости, личной склонности генерала де Голля, и представительной
демократией, которая осуществлялась во Франции в течение почти столетия,
это равновесие было подорвано действиями выборных лиц; в душе они
склонялись, разумеется, к представительной демократии, но когда им это
казалось неизбежным, всячески восхваляли выбор народом прямой демократии.
Во Франции пополнение состава выборных лиц национального уровня,
то есть корпуса депутатов и сенаторов, осуществляется на местной основе. Они
дебютируют в своей карьере как избранники низовых коллективов. Сначала эти
люди становятся мэрами, часто — мэрами сельских коммун, затем —
генеральными советниками, то есть избранниками департаментского масштаба
(поистине, наш политический лексикон вдохновлен Юбю1, в соответствии с ним
в каждом кантоне выбирается генеральный советник, который заседает в
департаментской ассамблее, сама же она называется генеральным советом, хотя
полномочия этого собрания ограничены). Для всех тех, кто имеет намерение
сделать карьеру национального масштаба, каждая должность, как мы видели,
является лишь трамплином для должности более высокой.
Итак, состав французских политических руководителей формируется на
базе представительства местных выборных лиц. Описанная практика имеет свои
плюсы — эти руководители имеют довольно полное представление о жизни на
местах, включая деревню, — но также и свои минусы, такие, как почти полное
незнание международной обстановки и слабое знакомство с механизмами
глобальной экономики. Большинство из них приходит из государственных
учреждений, в частности образовательных. Незначительная их часть знакома, и
то довольно поверхностно, с рычагами экономики. Инстинктивно эти деятели
мыслят в понятиях государственных расходов и субвенций, мер, которые они
сами привыкли проводить, а совсем не в понятиях управления предприятиями
или рыночных законов. Для этих людей чуждыми остаются денежная политика
и техника налогообложения, за исключением знакомого им местного
налогообложения.
Описанный состав выборных лиц изменился благодаря двум
пополнениям, пришедшим одно за другим: избранникам-голлистам и
избранникам-социалистам. И первых и вторых подняли наверх общественные
волны преимущественно городского происхождения. Предварительное наличие
местного мандата становилось менее необходимым. Централь1
Юбю — герой фарса А. Жарри «Юбю-король».
208
ные штабы политических партий, находящиеся в Париже, направили в
провинциальные избирательные округа кандидатов из министерских кабинетов,
часто — бывших питомцев Национальной школы администрации.
Когда эти кандидаты получили свои мандаты, они попытались влиться в
уже существующие формы политической жизни, чтобы обеспечить свое
переизбрание. Вот почему мы вновь увидели их в качестве мэров или
генеральных советников. Но если их немного поскрести, то обнаружится, что
обычно они испытывают слабую привязанность к обязанностям
муниципального или департаментского должностного лица и эти обязанности
рассматривают как тяжкий долг, который необходимо выполнять, чтобы
упрочить свое положение на территории будущих выборов.
Это приводит нас к двум великим правилам, которых неукоснительно
придерживаются все французские политики от мала до велика: для депутата
единственной движущей силой политической жизни является переизбрание;
для парламентария высшее счастье состоит в том, чтобы стать министром.
Никакие соображения политического или морального характера не могут
воспрепятствовать этому стремлению.
Изложенные подобным образом, эти правила могут показаться жесткими
или циничными. Но если присмотреться поближе, то в конечном счете они
окажутся довольно естественными в том смысле, что хорошо вписываются в
логику карьерного движения, происходящего внутри французских
политических кругов.
ПАРЛАМЕНТСКОЕ РЕМЕСЛО
Первое правило этого ремесла изложил в своей книге «Профессия:
парламентарий»1 Андре Тардьё. Я прочитал ее, взяв в библиотеке моего деда,
дружившего с автором. Это был необыкновенно талантливый человек,
выпускник Высшей нормальной школы, принадлежавший к праволиберальному
течению. Его как политика часто упрекали за некоторую несерьезность, ибо он
позволял себе выступать с различными новациями. Ему удалось совершить
подвиг, когда он стал председателем Совета министров в 1929 году, в самый
разгар мирового кризиса. Для того чтобы спасти от этого кризиса Францию, он
предложил принять закон о «развитии национального инструментария», то есть
фактически о развитии инвестиций, проявив удивительную интуицию
предшественника Кейнса. Палата депутатов, ошеломленная этим новшеством,
поспешила его свергнуть. Обескураженный и озлобленный, Андре Тардьё уехал
в Мантон2, и тогдашняя оппозиция обвинила
1
Tardieu A. La Profession parlementaire. P.: Flammarion, 1936—1937.
Мантон — средиземноморский курорт, который славится богатой растительностью и
разнообразием цветов.
2
209
его в том, что он спрятался «под масками и мимозами». Именно тогда он
подверг анатомированию ремесло парламентария, чтобы выяснить, как оно
функционирует, и пришел к следующему заключению: единственной движущей
силой парламентской деятельности является переизбрание.
Этот вывод не вызовет удивления, если подумать о том, что попадание в
парламент счастливо завершает путь, по которому двигался обладатель местной
выборной должности, а также изменяет условия его жизни. Ему приходится
обосновываться в столице, хотя бы частично. Он получает жалование, пусть и
не роскошное, но позволяющее вести определенный образ жизни. И что
особенно важно — избрание в парламент наделяет данное лицо некоторым
социальным статусом, помещая в первый ряд во время публичных мероприятий
в его избирательном округе и открывая ему доступ в резиденции высшей
государственной власти. Можно понять, что для такого человека это настоящая
драма, когда перечисленные преимущества исчезают как бы по воле случая, изза капризов избирателей, которые, как известно, коварны и переменчивы, и что
он делает все возможное ради сохранения указанных привилегий. Для
парламентария забота о переизбрании действительно является главной
движущей силой. Я намеренно пишу «главной», считая, в отличие от Андре
Тардьё, что эта забота не единственная, ибо большая часть депутатов обладает
все-таки некоторым набором убеждений, диктующих им их поступки и
позицию при голосовании, но все это вплоть до того момента, когда встает
вопрос об их переизбрании.
Солидарность, которую политики испытывают по отношению к членам
своего круга, когда дело касается перевыборов, сплачивает их в некое
оборонительное единство и напоминает солидарность рабочих, которым грозит
увольнение. Она помогает им понять свою принадлежность к сообществу,
живущему по своим собственным законам и членам которого приходится
сталкиваться с одними и теми же опасностями. Это сообщество мало-помалу
самоопределяется и самоутверждается в качестве парламентского круга.
Таким образом, происходит отход от прямой демократии и приближение
к некой форме делегируемой демократии. Конечно, навязчивое желание
переизбраться постоянно заставляет парламентариев возвращаться к тому, что,
как они воображают, является ожиданиями избирателей. Но участие в игре в
качестве избранника состоит в том, чтобы действовать на свой страх и риск
внутри названного круга, стремясь одновременно представлять избирателям в
самом благоприятном, насколько возможно, свете свои политические действия.
Это нелегкое балансирование заставляет избранников делить свою жизнь
на две части: несколько дней в неделю они заседают в парламенте, где
соблюдают правила политического круга, включающие в себя
210
добродушное обращение на «ты», остальные дни проводят в своих
избирательных округах и тогда, с целью удержать благосклонность
избирателей, разоблачают ошибки противников.
Двери Бурбонского дворца открываются для внешнего мира все реже и
реже. Правил той игры, которая ведется в его амфитеатре, могут
придерживаться одни лишь посвященные.
Для того чтобы восстановить взаимосвязь между общественным
мнением и содержанием парламентских дебатов, я рекомендовал в своем
послании парламенту, первом после моего избрания в июне 1974 года, ввести в
практику вопросы на актуальные темы, которые депутаты имели бы
возможность задать непосредственно министрам, будучи при этом совершенно
свободными в их выборе, а члены кабинета были бы обязаны присутствовать на
заседании, чтобы давать ответы. В качестве образца я взял процедуру, которую
наблюдал в Палате общин в Великобритании. Эта новая практика дала
положительные результаты, вызвав интерес у граждан, которые теперь могут
следить за парламентскими дебатами в прямой телевизионной трансляции.
Сменявшие друг друга правительства, в частности нынешнее во главе с
Лионелем Жоспеном, продолжали соблюдать правила игры.
Если переизбрание является общей заботой всех депутатов, то
значительная их часть одержима и другой идеей — стать министрами.
Новоиспеченный избранник, решивший сделать политическую карьеру, не
представляет себе, что могут пройти две легислатуры, а его все еще не
пригласят в правительство в качестве государственного секретаря, а затем и
министра.
Это страстное желание заполучить министерскую должность и то
уважение, которое она вызывает, свойственны странам латинской культуры, их
нет в Соединенных Штатах, где президент сам выбирает членов своего кабинета
методом поиска за пределами парламентского круга; иначе обстоит дело и в
Великобритании, где премьер-министр без всяких затруднений черпает таланты
из резервуара своей партии. Во Франции же скорее имеет место какая-то давка,
гонка, начинающаяся сразу же после ухода в отставку предыдущего
правительства, во время которой каждый готов бесцеремонно перепрыгнуть
через голову соседа.
Во время этой погони за портфелями, скорость которой значительно
возросла за последние двадцать лет, речь о компетентности даже не заходит.
Мы наблюдаем поразительные ситуации, которые могли бы вызвать улыбку,
если бы их цена не была так высока: министр сельского хозяйства превращается
в министра юстиции; обладатель портфеля министра культуры становится
министром обороны («занимайтесь любовью, а не войной»), кто-то переезжает
из Министерства по жилищным делам в другое ведомство. Не стоит продолжать
этот список.
211
Мне помнятся исключительные качества первого правительства под
руководством Жоржа Помпиду при президентстве генерала де Голля. Когда мы
приезжали в Брюссель для участия в заседаниях Европейского сообщества,
состоявшего тогда из шести государств-членов, я испытывал гордость,
сравнивая уровни нашей делегации и делегаций наших партнеров. По своим
способностям наша была намного выше.
Я лично следил в период с 1974 по 1981 год за тем, чтобы при
назначениях на все правительственные посты производилась предварительная
оценка пригодности кандидатов к выполнению тех задач, которые
предполагалось им доверить. В расчет, конечно, могли приниматься и другие
аспекты, такие как, например, необходимость иметь в составе правительства
достаточное количество женщин. При возникновении вопроса о замещении
одной из самых трудных должностей — руководителя Министерства народного
образования, когда прошли всего лишь шесть лет после конвульсии 1968 года, я
обратился к преподавателю Рене Аби, начинавшему свою карьеру со школы
первой ступени и ставшему в своем довольно молодом возрасте ректором
учебного округа в Клермон-Ферране. Точно так же для системы высшей школы
я выбрал университетского преподавателя, Алису Сонье-Сеите, супругу
человека, пользовавшегося уважением у тех, кто возглавлял народное
образование, которая была одной из редких женщин — полагаю, единственной
— среди руководителей учебных округов и работала в Реймсе, где, используя
свой авторитет, буквально творила чудеса.
Когда с помощью Раймона Барра мы стали искать человека, который мог
бы наладить связи между системой профессиональной подготовки и
предприятиями — это сближение руководство левых категорически осудило (в
чем еще раз можно убедиться, читая материалы архивов), усмотрев в нем
попытку финансового капитала взять в свои руки нашу образовательную
систему, — то Раймон Барр предложил мне в качестве кандидата одного из
своих личных друзей, Кристиана Бёллака, выпускника Политехнической
школы, инженера-гуманиста, не занимавшего ранее какого-либо выборного
поста и являвшегося в тот момент заместителем генерального директора
государственной компании «Рено». Он оказался прекрасным руководителем
образования.
Что касается министра национальной обороны, то на этот пост я выбрал
одного из кавалеров ордена Освобождения. Опасаясь брожения, которое
охватило некоторые войсковые подразделения и выражалось в том, что
солдаты, возвращаясь в казармы из увольнительных в конце недели, устраивали
беспорядки на парижском Восточном вокзале, я обратился к генералу Бижару.
Его необыкновенные личные достоинства я в свое время отметил про себя,
вручая ему награду в парадном дворе Дома инвалидов, и поэтому возложил на
него задачу восстановления расстроенного морального духа армии. Ив Бурж,
последний губернатор Французской Экваториальной Африки и прекрас212
ный администратор, обновлял структуру нашей обороны и следил за тем,
чтобы она была обеспечена необходимыми средствами бюджета. Министры
иностранных дел — Жан Сованьярг, являвшийся ранее послом в Бонне, затем
Луи де Гиренго, проявивший свое искусство в ООН при начале диалога Север
— Юг, и Жан-Франсуа Понсе, имевший обширные связи среди зарубежных
коллег, — все они до своего назначения на министерский пост входили в число
наших лучших дипломатов.
Напоминать имена тех, кто отличился на своих высоких постах, я
больше не буду, ибо их перечисление преследовало единственную цель —
подчеркнуть критерии назначения на ответственные государственные
должности. Разумеется, не раз нам приходилось испытывать разочарование, ибо
выполнение правительственных функций не сводится лишь к проявлению тех
способностей и той компетентности, которых было достаточно на прежнем
месте. Оно обязательно сопряжено с ростом уровня подхода к проблеме, с
умением взвешивать шансы на победу и поражение, с необходимостью
приобретения такого личного авторитета, который был бы способен побеждать
уклончивость администрации и самолюбие высших чиновников. Нужны также
и мужество, и дар убеждения. Необходимо наконец научиться завязывать
рабочие отношения с отдельными членами парламента и с парламентскими
комиссиями.
Эти качества не проявляются априори, чего не желали понять эти вечные
кандидаты на министерские должности, предпринимая свои настойчивые
демарши, вот почему их визиты в те времена завершались обычно в приемной!
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Я хотел бы сделать тут некоторое отступление, заговорив о признании —
и о вознаграждении — компетентности. В нашем обществе интерес к
компетентности и профессионализму невелик. В этом одно из объяснений того,
почему наши достижения сильно отличаются от достижений американского
общества, для которого поиск компетентных людей является одной из
первоочередных задач. Наша образовательная система (я не являюсь ее
недоброжелателем, ибо часто вижу, бывая в аудиториях, какие личные усилия
прилагают
преподаватели)
не
вознаграждает
профессиональную
компетентность ни оплатой труда, ни повышением в должности, единственное
исключение здесь составляют те, кто находится у руководства. На предприятиях
отношение к компетентности в последнее время изменилось. Довольно долго
статусные соображения, такие как принадлежность к кругу лиц определенной
профессии и даже социальное происхождение, играли решающую роль при
назначении на руководящие посты, но в особенности препятствовали
213
увольнению с этих постов, так как последнее воспринималось как удар,
наносимый авторитету высокопоставленных лиц. Ныне критерием,
определяющим выбор, становится компетентность. Потребность в помощи
«охотников за умами» для поиска и подбора специалистов, обладающих
знаниями, необходимыми для выполнения определенной работы, а также
высокая цена ошибки при наборе кадров — то и другое сыграло полезную
воспитательную роль. Сегодня французское общество все больше занимается
поиском компетентности.
Модернизация требует от нас ускорить темпы этой эволюции и
распространить ее на область политики, делая нестандартные шаги. Какойнибудь конституционный закон мог бы раз и навсегда определить тот набор
министерств, который необходим Франции для нормального управления
делами, а также зафиксировать названия этих ведомств, чтобы положить конец
чехарде служебных бланков. Назначению на министерскую должность должна
предшествовать оценка компетентности кандидата пропорционально
составленной парламентской комиссией ad hoc. Соображения этой комиссии ее
председатель устно передавал бы Президенту Республики, который и принимал
бы окончательное решение.
***
В условиях непрекращающихся попыток — упорных и искусных —
тогдашних политических кругов отвоевывать власть, от которой, как они
чувствовали, реформа де Голля 1958 года их отстраняла, усилившихся после
переизбрания Франсуа Миттерана в 1988 году1 и с тех пор ни на миг не
ослабевавших, спор между прямой демократией и демократией
представительной сохранил свой двусмысленный характер.
Были предприняты попытки двигаться по направлению к прямой
демократии, вновь обратившись к референдуму. Франсуа Миттеран попробовал
сделать это, задумав было вынести на референдум проект закона,
регламентирующего частное обучение. И осмотрительно отказался от своего
замысла, натолкнувшегося на мощную негативную реакцию общества, которая
сама представляла своего рода референдум.
Так что в истории Пятой республики после неудачи референдума де
Голля в апреле 1969 года лишь два раза прибегли к референдуму, приУ меня такое впечатление, что во время своего первого президентства Франсуа Миттерану
понравилось исполнять всю совокупность властных функций, унаследованных от своих
предшественников, и он с некоторым наслаждением нарядился в одежды президентов Пятой
республики. Он, хотя и проявлял необыкновенное искусство в обращении с политическими
кадрами, никогда, казалось, не испытывал к ним ни симпатии, ни особого интереса. — Примеч.
авт.
1
214
чем в обоих случаях на голосование выносились внешнеполитические
вопросы: договор о присоединении Великобритании к Европейскому союзу (по
инициативе президента Помпиду) и ратификация Маастрихтского договора,
учреждавшего Европейский экономический и валютный союз (по предложению
Франсуа Миттерана).
И в первом, и во втором случае результаты были сочтены достойными
сожаления;1 особенно невыразительным был итог голосования по
Маастрихтскому договору, хотя обсуждение этого вопроса приобрело характер
национальной дискуссии. Поэтому инструмент референдума из осторожности
некоторое время держали под замком.
Извлекли его в период второго сосуществования, в 1993—1995 годах.
Жак Ширак, готовивший тогда свою президентскую кампанию, заявил об
имеющемся у него намерении посоветоваться со страной посредством
референдума относительно «важной проблемы образования». Поскольку такой
референдум явно противоречил Конституции, согласно которой на всенародное
обсуждение могут выноситься лишь вопросы, касающиеся «организации
государственной власти», сразу же после своего избрания на пост Президента
Республики он выступил с инициативой пересмотра Основного закона, с тем
чтобы расширить круг вопросов, которые можно выносить на референдум.
Предложив провести голосование по вопросу о школьном обучении, он
поддержал также тех, кто хотел организовать референдум по вопросу о
будущем европейском договоре. Парламент удовлетворил желание президента,
расширив в августе 1995 года крут вопросов, которые могут ставиться на
референдум. Это положение до сих пор остается на бумаге, хотя тогда, четыре с
половиной года назад, оно было сочтено срочным.
Это замешательство политических кругов при обращении к прямой
демократии обусловлено их устоявшейся привычкой советоваться с
общественностью лишь тогда, когда есть уверенность в том, что избиратели
ответят на вопрос так, как желательно тем, кто данный вопрос задает.
Целью референдума во Франции никогда не является получение ответа
на вопрос, в отличие, например, от Швейцарии. От него, скорее, ожидают
одобрения какого-нибудь курса, директивы. Таким образом заранее отвергается
любая попытка выяснить мнение граждан относительно тех вопросов, которые
сочтены слишком острыми, иначе политическим кругам пришлось бы мириться
с теми решениями, которые предпочла бы общественность. Данную установку,
не слишком демократичную по своему принципу, оправдывают
необходимостью защиНа референдуме относительно допуска Великобритании в ЕС (апрель 1973 г.) предложение
правительства поддержали 10,6 млн избирателей, 5 млн ответили «нет». Более 39% избирателей
не приняли участия в голосовании — рекордное число за всю историю референдумов во
Франции.
1
215
тить избирателей от их собственных порывов, к проявлению которых
могут подтолкнуть опасные советчики.
Вот характерный пример этого недоверия руководителей к
общественному мнению — подход, который они используют, намереваясь
внести предложение о включении в Европейский союз неевропейской страны, а
именно Турции. В связи с относительно небольшими изменениями в
Маастрихтском договоре был потребован референдум. Однако не было
предложения вынести на референдум договор о присоединении к ЕС страны,
вхождение которой в этот союз ставит два взаимосвязанных ключевых вопроса:
является ли наличие общего исторического наследия основой для проекта
Европейского союза? И следует ли открывать Союз для государств, большая
часть территорий которых расположена вне Европейского континента? В любом
объединении подобные действия, влекущие за собой изменения в уставе, были
бы представлены на одобрение генеральной ассамблеи его членов, а то и на
утверждение судебных инстанций. Если следовать духу Пятой республики,
воплощенному в Конституции, 11-я статья которой предусматривает
возможность проведения референдума с целью получить согласие на
ратифицикацию какого-нибудь международного договора, то становится
очевидным, что присоединение к Европейскому союзу неевропейского
государства, каким бы сильным и уважаемым оно ни было и которое в силу
численности своего населения неизбежно займет в ЕС первое место, следовало
бы вынести на референдум. Было бы странно, если бы то, что президент
Помпиду счел необходимым по отношению к Великобритании, его ученики
сочли бы излишним сделать по отношению к Турции!
Эта сдержанность политиков в отношении к традициям прямой
демократии Пятой республики вызвана, как мы видели, правилами игры этих
кругов, чьи старательно скрываемые и тщательно рассчитанные планы могло бы
нарушить вторжение желаний и тревог общественного мнения. Отсюда золотое
правило, состоящее в том, что не следует будить спящего зверя
провокационными вопросами. Задавать зверю вопрос следует лишь тогда, когда
есть уверенность в том, что он послушно даст нужный ответ.
***
Темпы вышеописанной эволюции ускорились в последнее десятилетие
под давлением того, что называют «единым мышлением». Термин этот неверен,
ибо речь идет не о каком-то наборе убеждений, которые люди, их разделяющие,
хотели бы сделать всеобщими, но о запретах, налагаемых на любую попытку
выразить сомнение, просто начать обсуждение неких утверждений,
объявленных табу.
216
Это единомыслие зародилось вне французских политических кругов.
Хотя названным кругам часто недостает терпимости, к дискуссиям они
привыкли. И испытывают некоторое раздражение, когда им приходится
сталкиваться с суждениями, которые они расценивают как «примитивные».
Антикоммунизм эти круги допускали, но ни в коем случае не пещерный.
Единое мышление появилось не в среде политиков, оно — детище СМИ.
И навязывает себя, опираясь на мощный комплекс аудиовизуальных средств,
развившийся вместе с телевидением. Как и это последнее, оно сопровождает
североамериканскую политическую и культурную экспансию. Я никогда не был
в числе сторонников примитивного антиамериканизма, тем более что одной из
самых больших радостей моей жизни после 1981 года стали ежегодные, в
начале лета, поездки по маленьким городкам юго-запада США, по следам
пионеров, завоевывавших Запад; но в то же время у меня нет намерения
закрывать глаза на действия мощных сил, формирующих наш завтрашний мир.
В последние два десятилетия политическая власть переместилась в
телевизионные студии. Речь идет не о власти, принимающей решения, но о
власти, обеспечивающей избрание или, самое меньшее, неизбрание. В
дискуссиях о финансировании политических кампаний, волнующих
американское политическое сообщество, в первую очередь поднимается вопрос
о покупке телевизионного времени, так как появление на телеэкране обычно
является решающим и стоит дорого. Вездесущий аппарат, который практически
постоянно работает там, где находятся люди, транслируя образы, специально
подобранные так, чтобы трогать и волновать, этот аппарат оказывает влияние на
избирателей.
Разумеется, и я уже об этом говорил, телевидение стремится
воздействовать на общественное мнение, но в то же время само зависит от своей
аудитории и вынуждено за ней следовать или, во всяком случае, не слишком ей
противоречить.
Телевещательная индустрия развивает собственную культуру в
информационной области. После неуверенных дебютов, когда телевидение
ограничивалось тем, что играло под домашним кровом роль «хроники», обычно
демонстрировавшейся в кинозалах, — тогда на маленьком черно-белом экране
де Голль, одетый в гражданский костюм или военную форму, зачитывал перед
взволнованными его появлением французами заранее выученный текст, а
неподвижная телекамера снимала его — итак, после этого периода
телевизионная информация начала обретать собственную жизнь. Постепенно
она избавилась от деклараций, от рассуждений, все более и более сокращая
словесные отчеты о событиях и концентрируя свое внимание на подаче образов.
Эта эволюция носит всемирный характер, с большим или меньшим опозданием
она произошла во всех странах. Крупные телесети, переда217
ющие свои новости в одни и те же часы, выстраивают порядок показа
образов, а следовательно, и сюжетов таким образом, чтобы удержать внимание
зрителей и не допустить их ухода на каналы конкурентов. Каждый сюжет
должен уложиться в несколько десятков секунд, самое большее — в одну-две
минуты. Публика включилась в игру, приняв этот ритм. В случае
международного кризиса кадры хроники Си-Эн-Эн задают темп показа
теленовостей по всему миру, даже если они повторяются и воспроизводят много
дней подряд одни и те же эпизоды. Так было, например, во время войны в
Заливе.
Этот переход от устной информации к информации образной, от
объяснения к утверждению, от анализа к эмоции изменил, как мне кажется,
природу передачи информации. Его можно сравнить с тем глубоким
потрясением, которое мы бы испытали, отказавшись от фонетического
принципа своей письменности, в которой каждая буква означает какой-то звук,
и приняли бы китайскую письменность, где каждый знак обозначает слово, без
всякой связи с его произношением.
Новая информационная культура опирается на пару «эмоция —
упрощение», приводящую к утверждению. Итак, образ возбуждает эмоции, он
выбран из-за своей способности волновать телеаудиторию; рассуждение
упрощается в силу краткости выделенного ему времени; в качестве заключения
дается утверждение. Можно резюмировать еще короче, сказав, что в
большинстве случаев в качестве опоры используют пару «эмоция —
утверждение»: сильная эмоция ведет к категоричному утверждению, которое и
запечатлевается в сознании. Механизм единого мышления готов. Вызванное к
жизни с помощью СМИ единое мышление — это средство, используемое в
целях экономии времени, необходимого для рассуждения, путем
распространения своего рода инстинктивного мнения, которое призвано
заменить здравомыслие.
Это единое мышление вырабатывается в лоне крупных, следовательно,
американских массмедиа, что естественно в силу их мощи и влияния.
Удивительно, что многие СМИ, являющиеся проводниками единого мышления
во Франции, — это те самые, что разоблачают американское господство в
области культуры или питания. Судя по всему, они не видят истоков тех идей,
которые защищают.
Частью единого мышления являются запреты на любые самые
рациональные и взвешенные дискуссии. Например, на дебаты по поводу
иммиграционной политики, или такого, очевидно, ошибочного мнения, что
введение рыночной экономики и приватизации предприятий якобы достаточно
для решения всех проблем перехода к демократии бывшего Советского Союза;
или по поводу недопустимой дискриминации Чечни в вопросах защиты прав
человека, когда к ней относятся не так, как к Косово; или об объявлении
Африки землей, чуть ли не сошедшей со старинных карт, где об упомянутых
правах и не слыхали!
218
Единое мышление несовместимо с прямой демократией, ибо заранее
отвергает любой вывод, не согласующийся с его собственным. Одновременно
оно превращает в своих заложников кандидатов на выборные посты, особенно
во время кампаний национального масштаба, поскольку эти кандидаты не могут
позволить себе роскошь вступать в конфликт с господствующей культурой
массмедийного механизма, который, как совершенно очевидно, будет решать их
судьбу.
Таковы причины, по которым, думается мне, происходит, несмотря на
декларации и изменения конституционных положений, увядание ветви прямой
демократии, бывшей некогда одним из институтов Пятой республики. И
Президенту Республики надлежит обеспечить ее выживание, без чего само по
себе его избрание всеобщим голосованием утратило бы какую-то часть своего
смысла.
При использовании прямой демократии в будущем нашим
руководителям следует обратить внимание на феномен, который имеет
тенденцию к развитию и может стать главным в предстоящие десятилетия,
феномен истощения демократии, или же, если вы хотите прибегнуть к иному
выражению, охлаждения к демократии.
Оно проявляется в значительном сокращении числа избирателей,
участвующих в выборах, которое мы наблюдаем в большинстве старых
демократий. Это сокращение выражает растущее безразличие к ставкам,
которые делаются на выборах. В некоторых случаях с подобным безучастием
относятся и к личностям победителей. Сама их выборность представляется
гражданам бесполезной, не влияющей на их повседневную жизнь; этот вывод
подтверждают кантональные выборы в городах, где активность избирателей
падает до крайне низких уровней. В других же случаях сам предмет
политического спора более не способен, как кажется, приковывать к себе
внимание избирателей: «Победят ли правые, победят ли левые — какая разница!
Ведь они будут проводить одинаковую политику».
Об охлаждении к демократии говорит и постоянное сокращение
эфирного времени, которое СМИ посвящают политическим дебатам, а теперь и
политическим новостям.
Прямая демократия, то есть непосредственный опрос граждан, особенно
страдает от охлаждения к демократии, принимая в этих условиях форму
массового отказа отвечать на поставленные вопросы.
При персональных выборах, когда голосуют за конкретных лиц, тот
факт, что к урнам приходит лишь часть избирателей, имеет не такие серьезные
последствия. Как бы то ни было, кандидат выбран, и его противник,
опротестовывая результаты голосования, может ссылаться лишь на то, что
победитель получил на самом деле еще меньше голосов, чем указано в
официальных итогах выборов.
При проведении референдума риск возрастает. Ибо трудно ссылаться на
то, что народ поддерживает предложенную меру, если выразить
219
свое мнение согласилось меньшинство граждан. Юридически решение
будет принято, но с точки зрения политики в конституционном здании появятся
трещины.
Эти заметки содержат практический урок: обращение к прямой
демократии не является самоцелью, но представляет собой политический
инструмент, перед применением которого следует все тщательно взвесить. Для
того чтобы граждане согласились ответить на вопрос, предложенный
референдумом, этот вопрос должен обладать двумя качествами: необходимо,
чтобы проблема не казалась заранее решенной и чтобы предложенная мера —
реформа или договор — имела для граждан ощутимые последствия, причем эти
последствия им следует хорошо разъяснить. Именно так действовал генерал де
Голль, организуя в 1962 году референдум по вопросу о выборах Президента
Республики путем всеобщего голосования: он прибег к педагогическому
воздействию на участников опроса, принявшему форму трех телевизионных
выступлений.
Другими словами, прямую демократию следует оставить для таких
случаев, когда существует спорный вопрос, который еще предстоит решить, и
когда общественное мнение чувствует, что данный спор его касается.
Применения этой формы демократии надо избегать, если речь идет о решении,
которое, как считается, уже принято и которое власти лишь просят одобрить.
Все изложенное подводит нас к рассмотрению вопроса о том, каким
образом сосуществование изменяет выполнение президентских функций.
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ, ИЛИ ДВУГЛАВЫЙ ПЕТУХ
Ни Конституция 1958 года, ни голлистская политическая культура 1960х не предусматривали возможности сосуществования Президента Республики и
правительства, которое составлено парламентским большинством, враждебным
политике президента. Не помню, чтобы кто-нибудь предполагал такую
возможность.
Правда, законодательные акты ее не исключали. Поскольку выборы
президента и выборы в парламент проводились в разные сроки, мог произойти
случай, когда большинство, выбравшее президента, не совпало бы с
парламентским большинством. Но режим, казалось, был настолько уверен в
народной поддержке, что эта вероятность всерьез не принималась. Было
распространено представление, которое не было тогда достаточно четко
сформулировано и в соответствии с которым в указанном случае «генерал
удалился бы в Коломбе»1. Двадцать лет
В Коломбе-ле-дез-Эглиз генерал де Голль имел собственный дом, там он постоянно проживал
после ухода в отставку.
1
220
спустя Пятая республика провела опыт сосуществования и даже стала
постоянно жить в его условиях. В шестнадцатилетний период между началом
первого сосуществования, в 1986 году, и окончанием президентства Жака
Ширака, в 2002 году, Франция испытывает на себе девять лет сосуществования.
Оно стало преобладающей практикой в этот период истории Пятой республики.
Мы стали свидетелями трех сосуществований: 1986—1988 годов, 1993—
1995 годов и того, которое протекает на наших глазах. По своему типу они
различны.
Два первых были сожительствами переходного типа в том смысле, что
они заняли тот ограниченный отрезок времени, который отделял срок
завершения парламентской легислатуры от срока завершения действия
президентского мандата. Эти сосуществования проходили в состоянии
ожидания, когда умы занимала прежде всего мысль о том, что скоро предстоят
президентские выборы. В случае сосуществования 1986—1988 годов была
вероятность того, что действующий президент, Франсуа Миттеран, выставит
свою кандидатуру и что премьер-министр, Жак Ширак, станет его соперником.
Это предопределяло ту напряженность, которой была охвачена вся система
власти и которая облекала действующих лиц в костюмы героев трагедии.
Франсуа Миттеран мастерски справился со сложившейся ситуацией, сыграв, без
сомнения, свою лучшую роль. Ему удалось сохранить достоинство президента,
заслужить признание общественности в качестве защитника ценностей своего
лагеря и своих избирателей, не делая при этом невозможной нормальную
работу правительства. Он умел поднимать давление до нужного уровня, так что
его позиция становилась совершенно ясной, затем спускал пар как раз тогда,
когда о нем могло возникнуть впечатление как о тормозе, останавливающем
поезд. По окончании сосуществования президент, срок полномочий которого
истекал, был легко переизбран.
Второе сосуществование также являлось переходным, но обладало двумя
чертами, отличавшими его от предыдущего. Здесь отправной точкой было не
поражение парламентского большинства, поддерживавшего президента, но
настоящий его разгром, вызванный ростом безработицы и количества афер:
после выборов 1993 года в социалистическую группу парламента, состоящего
из 567 членов, вошли лишь 67 депутатов. И хотя конец сосуществованию попрежнему должны были положить ближайшие президентские выборы, имя
кандидата, которому предстояло возглавить лагерь действующего президента,
оставалось неизвестным. Это сосуществование было менее напряженным по
сравнению с предыдущим. Казалось, президента Миттерана нисколько не
заботит подготовка почвы для будущих выборов главы государства. В конечном
счете его утомил второй срок президентства, и он стал с большим безразличием
отно221
ситься к ходу политических баталий. В 1995 году победу одержал
кандидат от оппозиции.
У этих двух сосуществований есть общая черта: они не изменили ни
функционирование институтов власти, ни их восприятие общественным
мнением. Президент оставался президентом. Именно он постоянно находился
во главе государства. Выполнение его властных функций осложнялось
наличием премьер-министра, в принципе враждебно относившегося к
президентской политике, но этот последний воспринимался скорее как
управляющий текущими делами, озабоченный удовлетворением требований
своих сторонников в парламенте, чем как соперник президента. Вот почему
практика этих сосуществований не нанесла большого вреда институту
президента.
Третье сосуществование, то, при котором мы живем, имеет иную
природу. Оно не было навязано календарными сроками выборов. Данное
сосуществование есть результат решения о роспуске Национального собрания,
принятого Президентом Республики, Жаком Шираком, и последовавших за
этим роспуском выборов. В мои намерения не входит обсуждать здесь мотивы
сего странного решения, принятого в тот момент, когда объективные
обстоятельства — рекордный уровень безработицы, непопулярность
правительства Жюппе (о чем свидетельствовали и опросы) — позволяли
предвидеть неудачу, но я хотел бы поразмышлять о положении, к которому
данная мера привела.
В заявлении по этому вопросу, сделанном 21 апреля 1997 года,
Президент Республики оправдывал свое решение желанием вызвать в стране
«новый подъем духа». В самом деле, он говорил: «Мы совместно предприняли
значительные усилия... Сейчас не время делать паузу... Необходим мощный
подъем политической активности в предстоящие пять лет... Вместе мы должны
реформировать государство, обеспечить сокращение государственных расходов,
чтобы облегчить груз налогов и сборов... Это главный выбор, который я делаю,
ибо он является выбором будущего».
Это представление об институтах власти Пятой республики полностью
совпадает с интерпретацией де Голля, в соответствии с которой президент
определяет основные направления политики страны. Если же избиратели
отвергают предложение, выдвинутое по его инициативе, то ему следует, исходя
из той же трактовки, сразу же уйти, как это сделал бы, по всей вероятности,
генерал де Голль в подобной ситуации: тогда не было ни внешней угрозы для
страны, ни кризисной ситуации внутри нее. Состоялись бы новые
президентские выборы. Существует вероятность, что на этот раз большинство
голосов, поданных за президента, совпало бы с парламентским большинством.
И продолжалось бы применение правил нормального функционирования Пятой
республики.
222
НОВАЯ ФОРМА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
Жак Ширак предпочел остаться на президентском посту, не вдаваясь в
разъяснения зачем и почему. Он открыл еще одну форму сосуществования,
новую и долгосрочную, рассчитанную минимум на пять лет, вплоть до срока
проведения двух национальных избирательных кампаний — парламентской
(исходя из даты роспуска предыдущего Национального собрания) и
президентской (в соответствии с положениями Конституции).
Такая практика оказала значительное воздействие на психологию
французов и на восприятие ими того, как действуют институты Республики.
Опросы общественного мнения выявили неизменное одобрение
гражданами данной ситуации. Французов она, видимо, удовлетворяла. Они
сочли позитивным подход и президента и премьер-министра к управлению
делами Республики, по крайней мере, находили его таковым до появления
между ними некоторых расхождений во внешней политике. Французы оценили
то, что оба деятеля стремились избегать конфликтов друг с другом и в течение
первых лет выступали единым фронтом на международной арене.
У этого одобрения сложные мотивы. Французы опасаются слишком
стремительных шагов со стороны правительства, и природный консерватизм,
заставляющий их беречь то, что существует, порождает недоверие к
недостаточно осторожной в своих действиях власти. В сосуществовании они
увидели систему, ограничивающую риск злоупотреблений со стороны
правящих верхов, а также практический способ приобщить к власти обе
половины расколотой Франции, без необходимости для каждой из них
отказаться от своей идентичности: правых представляет Президент Республики,
левых — премьер-министр, которым, кажется, удается работать вместе.
Наконец, и это особенно важно, данному сосуществованию не пришлось
сталкиваться с трудными ситуациями. Его подхватила волна экономического
роста, обусловленная возвратом к выгодному курсу франка по отношению к
доллару и ускорением хода мирового развития, произошедшим вслед за
стремительным подъемом благосостояния США и напором новых технологий.
Если закрыть глаза и представить себе, что мы находимся в состоянии шока,
вызванном нефтяным кризисом 1973 года или массовой безработицей 1991—
1992 годов, то ход сосуществования, вероятно, был бы совершенно иным, а
реакция на него общественности — отрицательной.
Это одобрение покоится в значительной степени на иллюзии: на самом
деле сосуществование не сближает обе половины Франции, а лишь располагает
их рядом. Здесь мы вновь обнаруживаем эту черту психологии французов,
состоящую в том, чтобы удовлетворяться видимостью решения, не желая
заглядывать глубже, быть может, испы223
тывая тайный страх перед картиной, которую в этом случае рискуешь
увидеть.
При данной форме сосуществования, опирающейся на две
расположенные рядом ветви власти, обе части страны не работают вместе,
плечом к плечу! Нет ни одной структуры, где бы проблемы анализировались
совместно, ни действенного метода их согласования, в основе которого лежит
желание добиться результата. Оппозиция редко соглашается с проектами
правительства, а оно принимает лишь те поправки оппозиции, которые
касаются формы, никогда ничего не изменяя в содержании своих проектов.
Достаточно побывать на заседаниях Национального собрания, посвященных
текущим вопросам, чтобы, даже не вслушиваясь в реплики, которыми
обмениваются
депутаты,
удостовериться:
установки,
которых
они
придерживаются, делят зал надвое, независимо от обсуждаемого вопроса; и
если с одной стороны слышны аплодисменты, то с другой — враждебные
выкрики, когда же слово берет другой лагерь, то позиции автоматически
меняются.
Зато этот тип сосуществования коварно изменяет практику
функционирования политических институтов. Никто не желает это замечать,
ибо декорации и ритуалы остаются прежними. Президент Республики
постоянно находится в Елисейском дворце, а премьер-министр — в отеле
Матиньон. Они совместно председательствуют на церемониях в честь памятных
событий, привлекающих довольно немногочисленную публику, в то время как
стадионы, где разыгрываются матчи Национального чемпионата и Кубка
Европы по футболу, переполнены! Но втайне структуры власти, задуманные де
Голлем и учредителями Конституции 1958 года, движутся совсем к другому
равновесию.
По замыслу де Голля и его преемников, включая Франсуа Миттерана в
его первый срок, Президент Республики является вдохновителем политики
страны, он определяет ее, выступая публично, отвечая журналистам на их
вопросы относительно этой политики на пресс-конференциях в Елисейском
дворце, он следит за тем, чтобы правительство проводило ее в жизнь. Президент
обладает одновременно властью говорить и властью делать, вернее, властью,
которая обязывает делать.
Что касается правительства, то о нем судили, исходя из его способности
проводить политику, определенную президентом, и заставлять общественное
мнение ее принимать, и даже, при хорошей погоде, добиваться того, чтобы оно
эту политику поддерживало!
Президент Республики менял премьер-министра, когда у того иссякали
силы (как это произошло с Мишелем Дебре), когда полагал, что премьерминистр потерпел неудачу в своей деятельности (как это случилось с Мишелем
Рокаром). Иногда президентское окружение считало, что премьер-министр
отклоняется от линии президента (таков был случай Жака Шабан-Дельмаса)
или, напротив, что премьер-министр отмежевывается от политики, проводимой
Президентом Республики
224
(так был отставлен Жак Ширак). Но ни в одной из этих ситуаций смена
премьер-министра не изменяла вертикаль власти, то, что Президенту
Республики, избранному всеобщим голосованием, принадлежало право
определять направление политики страны.
Данную систему можно упрекать в негибкости, поскольку на какой-то
определенный срок одному лицу доверяется самая высокая власть в стране.
Этот политический выбор, выразивший волю де Голля и горячо одобренный
французами в то время, явился плодом опыта Четвертой республики. Последняя
буквально рухнула в результате своей неспособности разрешить алжирский
кризис, точно так же как Третья республика распалась, не выдержав удара
поражения в войне 1939 года, причем и та и другая оказались не в состоянии
извлечь уроки из печальных событий и реформировать самих себя.
Институционная структура, избранная для Пятой республики, придает ей
способность преодолевать кризисы, это подтвердилось во время мятежа
полковников в Алжире и студенческих движений в мае 1968 года. Республика
обладает также способностью самореформироваться, как это показало решение
избирать президента всеобщим голосованием или решение ввести евро,
принятое в конце долгого пути.
Однако эта система изменилась под воздействием сегодняшней практики
сосуществования, которая расчленяет власть надвое: с одной стороны — власть
говорить, проводимая Президентом Республики, с другой — власть делать,
осуществляемая премьер-министром.
Сначала общественное мнение этого не замечало. Президент Республики
выражал намерения власти таким образом, что подразумевалось: за ними
последуют конкретные действия, настолько, до деталей, они казались
разработанными. Например, его заявление, что «реквизиции пустующих жилищ
и обложение налогом свободных помещений — хорошие меры для решения
жилищных проблем людей, оказавшихся в трудном положении», предполагало
скорое практическое осуществление таких мер. Со своей стороны, премьерминистр следил за тем, чтобы принимаемые им решения не входили в
противоречие с ориентацией президента.
Очевидно, что подобное осуществление власти имеет свои пределы, если
только не лишать политическую мысль всякого содержания, сведя его к
минимальному числу вариантов.
Практическое решение возникшей проблемы состояло в том, чтобы
постепенно отделить слово от дела: сохранить президенту свободу говорить, а
премьер-министру — свободу вести политику так, как он ее понимает.
Единственное ограничение, которое стороны добровольно на себя налагают, —
избегать излишней агрессивности в словах и действиях.
Нет уверенности в том, что воспитание общественности в этом духе
было для нее благодетельно. Оппозиция, еще сохраняющая, согласно
положениям Конституции, вместе с постом Президента Республики
225
видимость обладания верховной властью, на практике имеет лишь
возможность интерпелляции. Председатель группы РПР в Национальном
собрании писал в апреле 1999 года: «Состояние неуверенности возвращается. С
полным основанием Президент Республики выразил тревогу по поводу этой
ситуации и сделал запрос правительству!»
С другой стороны, Премьер-министр, проводя свою политику в
соответствии с собственными принципами и убеждениями, при соблюдении
традиционной формы, выхолащивает содержание и принижает сущность
президентской должности.
У каждого может быть собственное мнение относительно описанной
эволюции. Лично я не думаю, что она является позитивной. Во всяком случае,
ясно то, что продолжение эволюции в том же направлении означает удаление от
концепции Пятой республики в ее первоначальном виде и от принципов, в
соответствии с которыми она была организована.
Если указанной эволюции суждено приобрести постоянный характер,
это будет означать, что права на разработку и проведение политики страны
полностью перейдут к премьер-министру, опирающемуся на парламентское
большинство своих сторонников, а не останутся прерогативой Президента
Республики, облеченного доверием большинства народа. Роль Президента
Республики, помимо его протокольных и представительских функций, тогда
сведется к тому, чтобы сделать выводы из состоявшихся выборов путем
назначения премьер-министра. При более пристальном взгляде на сегодняшнее
сосуществование обнаруживается, что оно ведет нас именно к такой ситуации.
Поэтому Эдуар Балладюр имел все основание написать, что выборы в
парламент становятся главными выборами в стране.
Это положение вещей не отличалось бы от того, которое существует в
других европейских странах, таких как Финляндия или Португалия, где
Президент Республики также избирается всеобщим голосованием.
Преимущественно протокольный в большинстве случаев характер, приданный
этому посту, приводит к тому, что соответствующие страны представлены в
Европейском совете своими премьер-министрами, истинными руководителями
исполнительной власти. Есть вероятность того, что Франция будет поставлена
перед необходимостью принять такое же решение, чтобы положить конец
сосуществованию, характерному исключительно для нашей страны, решение,
которое лишило бы тогда Президента Республики его основных функций.
Кто же призван разрешить этот спор? Юристы? Парламентарии?
Руководители политических партий? Не думаю, что у них имеются на это
полномочия. Как ни удивительно, но решение будет исходить в ближайшем
будущем от французского народа, и примет он его в процессе предстоящих
президентских выборов.
Выборы на этот раз будут особенные: наряду с другими кандидатами мы,
без сомнения, вновь увидим двух главных действующих лиц
226
сегодняшнего сосуществования. Этим двум кандидатам обязательно
придется высказаться о сосуществовании — странности в сроках проведения
выборов, возникшие в результате роспуска Национального собрания в 1997 году
приводят к тому, что парламентские выборы скорее всего будут проводиться на
два месяца раньше президентских.
Кандидату большинства, которое выявится в ходе парламентских
выборов, не придется высказываться относительно принципа сосуществования,
поскольку ему будет достаточно призвать избирателей подтвердить сделанный
ими выбор. Напротив, весьма вероятно то, что после своего избрания он
потребует, чтобы ему были предоставлены полномочия для проведения
политики, одобренной страной, и что он в связи с этим возвратится к
первоначальному толкованию смысла институтов Пятой республики. Следуя
естественному ходу вещей, он назначит премьер-министра, поддерживающего
его политическую линию и лояльного по отношению к его действиям. Если ему
и придется (а это вероятно) принимать такие меры предосторожности, как
заявление, что он «будет избегать мелочного вмешательства в действия
правительства, как это иногда имело место в прошлом, и станет максимально
учитывать направления, выражаемые Национальным собранием», то, как бы то
ни было, система институтов будет восстановлена на нормальной основе, а
Президент Республики вновь почти полностью обретет свои функции.
Более сложной окажется позиция кандидата лагеря, только что
потерпевшего поражение на парламентских выборах. Он не сможет уклониться
от того, чтобы выразить свое отношение к новому сосуществованию. Если
избирателям покажется, что он смирился с этой политической ситуацией и
согласился с выбором победившего лагеря, то рискует потерпеть настоящий
разгром. Если же он отвергнет возможность нового сосуществования, то должен
будет объявить о роспуске Национального собрания сразу же после своего
избрания. И тогда Франции придется с весны 2002 года пережить две кампании
по выборам в парламент на протяжении неполных шести месяцев, а в
промежутке между ними — кампанию по выборам президента!
Но важно подчеркнуть, что благодаря двум выборам 2002 года создается
самая большая возможность восстановить совпадение большинства,
выбравшего президента, с парламентским большинством, а также воссоздать
изначальную структуру институтов Пятой республики. Неудобство
противоположной ситуации с ее лавиной выборов будет таково, что, видимо,
убедит избирателей не идти на такой риск.
Парадокс состоит в том, что граждане будут голосовать за своих
депутатов как раз перед избранием своего президента. О чем они будут думать в
момент этого голосования? По всей вероятности, скорее о выборе президента,
чем о выборе депутата, по крайней мере, во время второго тура парламентской
кампании. Так что мы станем свидетелями невиданного зрелища — досрочных
выборов президента.
227
В то же время сосуществование, каким популярным бы оно ни казалось,
будет отвергнуто и осуждено. Его отвергнут проигравшие в парламентских
выборах, чей кандидат в президенты не захочет надевать на себя дощечку с
постыдной надписью «кандидат сосуществования», его осудят победители,
которые призовут вновь слить в одно два большинства, президентское и
парламентское, как побуждает это сделать ход развития Республики.
***
Думаю, каждый осознает необходимость восстановить порядок и
логичность в системе институтов Республики, расстроенной в результате
сосуществования 1997—2002 годов.
Простого решения этой задачи, подсказанного каким-нибудь
безупречным законом, не существует, потому что, если к гражданам
обращаются дважды, в первый раз — для избрания Президента Республики, во
второй раз — для избрания депутатов, то нет уверенности, что оба раза они
дадут один и тот же ответ. Однако возможность такого ответа сильно
увеличивается благодаря сближению сроков двух избирательных кампаний. И
здесь мы сталкиваемся с проблемой пятилетнего промежутка между выборами,
вызывающей постоянное раздражение.
Она раздражает потому, что до сих пор политической системе удавалось,
прибегая ко всевозможным трюкам, уходить от самого простого способа ее
решения — спросить французов.
Трюки эти состоят в том, что или откладываются сроки выборов, или же
усложняется сама постановка проблемы.
Напомню коротко ее историю.
РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАФА ДЕ
ШАМБОРА
Маршал Мак-Магон был избран Президентом Республики в мае 1873
года, сменив на этом посту Тьера, ушедшего в отставку. Поскольку в
Конституции не было никаких указаний на этот счет, Национальное собрание, в
котором тогда большинство принадлежало монархистам, решило избрать МакМагона на семь лет. Срок был рассчитан эмпирически, чтобы, как пишет
Франсуа Фюре, «дать время созреть конституционным расхождениям, которые
завели в тупик монархистов и республиканцев, или же графу де Шамбору,
претенденту на трон, — скончаться». Своим рождением президентский
«септеннат» в какой-то мере обязан расчету вероятной продолжительности
жизни графа де Шамбора, смерть которого позволила бы восстановить
коалицию легитимистов и орлеанистов.
228
Когда в начале 1879 года Мак-Магону пришлось уйти в отставку, его
преемника, Жюля Греви, избрали на тот же срок, причем на этот раз вопрос о
продолжительности мандата даже не обсуждался. Дело в том, что интерес к
этому вопросу пропал, ибо вследствие неудачи с роспуском парламента в июне
1877 года1 пост Президента Республики стал иным по своей сути. Орлеанисты
желали иметь в лице президента некоего республиканского монарха, который
был бы главой исполнительной власти, избирался бы двумя палатами, обладал
бы наряду с ними законодательной инициативой, имел бы право распускать
парламент и производить назначения на все военные и гражданские
государственные должности, однако вместо такого Президента Республики
страна получила совсем другого — лишенного практически права роспуска
парламента, вынужденного при назначении председателя Совета министров
всего лишь следовать указаниям, полученным от палат, президента, чья
деятельность сводилась к церемониальным функциям. Вплоть до 1958 года
сохранялись именно эта концепция роли Президента Республики и именно этот
срок его пребывания у власти.
Конституция 1958 года восстановила представление о Президенте
Республики, в соответствии с которым он руководит политикой страны.
Президент стал избираться отныне не обеими палатами, а коллегией
выборщиков с мест. Если оставить в стороне это различие, его полномочия
удивительным образом походят на те, которыми обладал президент в 1873 году:
право роспуска, право помилования, назначения на гражданские и военные
должности, выбор премьер-министра. И для того, безусловно, чтобы не
создавать о себе впечатления как о людях, желающих слишком круто изменить
привычные представления, авторы Конституции сохранили «септеннат» без
какого-либо подробного обсуждения данного вопроса2.
Подлинное изменение произошло в 1962 году, когда французы по
инициативе генерала де Голля приняли решение избирать Президента
Республики всеобщим голосованием. Именно с этого момента возникла
возможность появления двух противоречащих друг другу политических сил —
президентского большинства и парламентского большинства. До этого времени
парламентское большинство, какие бы цвета оно ни носило, не входило в
столкновение с совершенно иной по своему составу коллегией, выбиравшей
Президента Республики. Последний имел возможность заниматься
выполнением своих обязанностей, оставаясь в стороне от любых «поворотов» в
политических дискуссиях и сохраняя
Тогда провалилась попытка Мак-Магона произвести монархический переворот и он был
вынужден досрочно покинуть свой пост.
2
См.: Publication des travaux préparatoires de l'actuelle Constitution (издание, осуществленное
согласно декрету от 8 июня 1984 г., подписанному президентом Ф. Миттераном). — Примеч.
авт.
1
229
тем не менее свою легитимность. Именно так правоведы-голлисты
представляли себе Президента Республики, воплощением которого являлся
генерал де Голль: стоящим над партиями, огражденными в силу самой высоты
своего положения от раздоров и резких изменений поведения политических
кругов.
Избрание всеобщим голосованием коренным образом изменило эту
ситуацию. Если такое избрание генералу де Голлю представлялось актом
народного освящения его власти (что объясняет горечь, вызванную в нем
голосованием 1965 года)1, то для всех его преемников речь шла о настоящем
избрании в результате предвыборной кампании, в ходе которой они стремятся
обеспечить себе большинство голосов.
То, что в наше время один и тот же электорат чуть ли не обязан давать
два большинства, одно — для избрания президента, другое — для получения
полномочий на правление, а также то, что сроки пребывания у власти
президента и премьер-министра различны, в некотором роде исказили систему и
привели к ее разлому, к сосуществованию.
В то же время легитимность власти Президента Республики стала
больше зависеть от ее одобрения или неодобрения со стороны общественного
мнения. В зависимости от приливов и отливов в этой поддержке позиции
президента усиливаются или ослабевают. Для нашей эпохи характерно
необыкновенное ускорение хода времени, некое его сжатие, тогда как раньше
этот ход подчинялся неторопливому чередованию времен года. Люди быстро
перемещаются, не жалея усилий для того, чтобы еще больше сократить
длительность своих перемещений. Связь осуществляется мгновенно, а новости
становятся все более и более краткими. Легитимность уже невозможно
растянуть на вечность длиной в семь лет.
Эти две потребности обеспечить, насколько это возможно, совпадение
одного и другого большинства, а также сжать временные рамки легитимности
говорят в пользу принятия пятилетнего срока, при котором продолжительность
полномочий Президента Республики и полномочий депутатов стала бы
одинаковой.
Чутье проявил здесь президент Жорж Помпиду, он добился от
правительства одобрения своего предложения, облеченного в форму проекта
реформы Конституции. Правительство в то время возглавлял Пьер Мессмер,
который представил этот проект парламенту. Жак Ширак тогда участвовал в его
заседаниях в качестве министра сельского хозяйства, а сам я — министра
экономики и финансов.
Осенью 1973 года Национальное собрание приняло этот проект 270
голосами против 211. Группы РПР, независимых республиканцев
Речь идет о президентских выборах, проходивших в декабре 1965 г. Во втором туре этих
выборов де Голль получил около 54% голосов, а его противник, Франсуа Миттеран, — около
45% голосов избирателей.
1
230
и центристов ПДМ1 голосовали за документ. Социалисты, включая
Франсуа Миттерана, а также, что парадоксально, реформаторы2 голосовали
против. Между тем в Совместной правительственной программе (вариант от 27
июня
1972
года)
говорилось:
«Будет
установлена
пятилетняя
продолжительность мандата Президента Республики». Затем проект в той же
редакции был одобрен Сенатом (162 голоса «за», 112 — «против»). Теперь, в
соответствии со статьей 89-й Конституции, законопроект мог представляться на
референдум или на одобрение парламента, созванного в качестве конгресса.
Президент Помпиду склонялся к варианту конгресса. У него не осталось
хороших воспоминаний о референдуме, к которому он прибегнул для решения
вопроса о вхождении Великобритании в Общий рынок и который принес
неоднозначные результаты. Помпиду задавал себе вопрос, какой момент будет
удобнее всего для созыва конгресса, ибо собрать необходимое большинство
было нелегко из-за психологической установки на неприкосновенность
институтов Республики, существовавшей у некоторых депутатов-голлистов. В
самом деле, недоставало 21 голоса, чтобы получить большинство в три пятых, и
среди этих голосов оказалось девять голлистов. Если же взвешивать
возможности обращения к референдуму, то, как признавался президент
Помпиду в беседах с близкими, состояние его здоровья не позволяло ему лично
участвовать в заведомо утомительной кампании. Президент не отступал,
однако, от своего замысла, но его кончина в апреле 1974 года приостановила
движение проекта.
Все это подводит меня к рассказу о себе самом, ибо, как мне известно,
находятся лица, упрекающие меня в том, что я ратовал за пятилетие, но в жизнь
его не провел. Они безусловно правы, и вот мое объяснение. Я всегда полагал,
что уменьшение продолжительности президентского мандата входит в перечень
мер, необходимых для проведения модернизации, и у меня была решимость его
добиваться, как и решимость поднять в удобный момент щекотливый вопрос о
совмещении мандатов. Впрочем, я заявил об этом сразу же после начала
предвыборной президентской кампании, 11 апреля 1974 года, во время
дискуссии на волне станции «Европа-1». Но очень скоро я ощутил натянутость
среди голлистов, являвшихся частью электората, который меня поддерживал.
Они задавались вопросом о том, сможет ли человек в таком молодом возрасте
принять наследие генерала де Голля. По правде говоря, я и сам себя об этом
спрашивал. Когда-то мне довелось войти в его окружение. Во время наших
первых встреч я робел перед ним и почти не решался обращаться к нему с
вопросами. Он вызывал у меня одновременно и преклонение и восхищение —
два чувства, упоминание о которых вызывает
1
2
ПДМ — парламентская группа «Прогресс и современная демократия».
«Реформаторы» — блок правых радикалов и центристов.
231
у политиков улыбку, ибо подобные эмоции практически исчезли из
современной политической культуры. Для того чтобы успокоить своих
сторонников, тех самых, которые помешали президенту Помпиду довести до
успешного завершения его проект, и, быть может, чтобы связать самого себя, я
дал следующее обещание, впоследствии неоднократно мною повторенное: «Я
оставлю в неприкосновенности все учреждения Пятой республики. В конце
срока своего президентства я возвращу эти учреждения в том виде, в котором
их получил». Всё, ловушка захлопнулась.
Два обязательства, которые я дал, — приведенное выше, а также
обязательство никогда не прибегать к аресту тиражей печатных органов, какова
бы ни была природа их атак на Президента Республики, — обошлись мне
дорого. Накануне истечения срока президентства в 1981 году я понимал
необходимость крупномасштабной инициативы. Референдум по вопросу о
пятилетнем сроке пребывания на посту президента являлся бы идеальным в
этом плане. Все указывало на то, что он получил бы массовую поддержку
избирателей и внес бы смятение в ряды моих конкурентов, как левых, так и
правых. К этому добавлялось еще одно преимущество: было бы устранено
препятствие, состоявшее в том, что в глазах общественного мнения мое
переизбрание вело к чрезмерно долгому пребыванию у власти. В период между
ноябрем 1980 года и январем 1981 года я все время задавал себе этот вопрос,
взвешивал все «за» и «против» и в конце концов четко осознал, что должен
выполнить свое обещание и вернуть учреждения в том виде, в котором их
получил. И я решил провести референдум о пятилетнем сроке в первые два
месяца после моего переизбрания, что могло обеспечить поддержку народа в
начале действия моего нового мандата. Переизбрание не состоялось...
***
Другой способ задержать введение пятилетнего срока состоит в том,
чтобы как можно чаще отступать от темы при обсуждении тех последствий, к
которым может привести данная мера. Утверждают, что она непременно
повлечет за собой установление президентской республики на американский
манер, что при указанном сроке для проблемы сосуществования не найдется
решения, так как граждане всегда могут проголосовать за два большинства с
противоположными политическими направлениями. А что будет в случае
кончины президента? И так далее. Действительно, каждый из этих вопросов
можно задать, и он потребует практического ответа, за исключением самого
первого. Потому что устойчивой связи между продолжительностью
президентского срока и введением режима президентской республики нет. Это
софизм, придуманный для ухода от решения, дымовая завеса. Нет никаких
оснований для того, чтобы проведение президентских и парламентских выборов
в одно и то же время или через короткий промежуток времени автома232
тически запускало процесс установления президентской республики.
Именно такая ситуация имела место в начале президентских сроков Франсуа
Миттерана, в 1981 и в 1988 годах, однако же функционирование институтов
Республики от этого не изменилось.
Из трех возможных концепций роли Президента Республики,
применяемых нашими западными демократиями (президентский режим;
протокольный президент; президент, несущий политическую ответственность,
но не участвующий непосредственно в действиях правительства), нам следует,
думаю, остановиться на последней. Она — самая французская. Именно эту
концепцию ощупью искала Франция на протяжении всего XIX века, не желая
останавливать свой выбор ни на авторитарных режимах в их монархической
или имперской форме, ни на парламентских с их приверженностью к
революционному неистовству или демагогическому бессилию. Понятие о том,
каким должен быть настоящий президент, данное Гамбеттой и Жюлем Ферри, а
позднее дополненное де Голлем, соответствует одновременно и исторической
культуре французов, и особенностям их психологии: это руководитель, который
с помощью своего авторитета бережет страну и вдохновляет ее граждан, причем
его превращение в тирана или привилегированную особу невозможно. Вторая
составляющая этого представления является следствием всенародного избрания
президента, а первая предполагает, что он обладает не абсолютной властью, а
определенными полномочиями, круг которых строго очерчен. Это французская
модель президента при парламентской республике.
Американская формула отвечает совершенно другим обстоятельствам.
Президент там направляет и управляет, но он стоит во главе федеративного
государства. Снизу по вертикали его власть ограничена властью штатов, а по
горизонтали — конгрессом, который обладает всей полнотой законодательной
власти. Это равновесие властей нельзя перенести во французское общество (и
тем более в китайское), ибо нашей стране пришлось пережить длительный
процесс объединения, он привел к определенной централизации власти, и у нас
нет устоявшейся практики, когда законодательная власть существует отдельно
от правительственных институтов, не испытывая при этом воздействия
всемогущей администрации.
Подведем итог обсуждения: президентский режим наподобие
американского во Франции невозможен. Если он и прельщает некоторых
политических деятелей, то причиной тому — или ошибки при анализе его
функционирования, или стремление избавиться от институтов Пятой
республики, которое скрывают из опасения прослыть сторонниками возврата к
прошлому1.
Поэтому мы можем исключить из рассмотрения первый аргумент.
1
См.: Chiroux R., doyen. Annales de Clermont-Ferrand. 1992.
233
***
Сближение периодов, да и самих дат проведения президентских и
парламентских выборов не дает достаточных гарантий того, что избиратели
выскажут на них одинаковое мнение и что оба большинства будут обязательно
идентичными. Вот все, что можно утверждать по опыту 1981 и 1988 годов:
такой итог возможен, а при реализации противоположного сценария
большинство, проголосовавшее за него, оказалось бы небольшим, а потому
непрочным и предрасположенным к быстрому износу.
Лучший анализ этой проблемы, самый тонкий и проницательный, сделал
Эдгар Фор в своей книге «Душа битвы», опубликованной в 1970 году1. Он
прежде всего констатирует, что совпадение дат двух выборов может произойти
как при семилетнем, так и пятилетнем сроках президентства. Если бы Жорж
Помпиду оставался на посту до окончания своего срока и если бы
президентские выборы состоялись в 1976 году, сближение дат выборов
автоматически произошло бы уже в 1983 году!
Затем автор выдвигает аргумент в характерном для него стиле, то есть
внешне парадоксальный, указывая на риск серьезного конфликта между
Президентом Республики и Национальным собранием в случае их избрания в
разное время. Если же это произойдет примерно в одно и то же время, то
различие между ними предстанет как результат волеизъявления народа, в таком
случае каждая из сторон обязана принять к сведению и приложить все усилия
для того, чтобы согласовывать свои действия с ним. Иначе у только что
избранной
власти
может
появиться
склонность
к
отрицанию
представительности власти, избранной ранее, и эта тенденция с течением
времени будет усиливаться...
Наконец Эдгар Фор выявляет еще одно неудобство, связанное с
правилом семилетнего срока. Оно ограничивает свободу суждений граждан и
ведет их к отказу от участия в выборах. Избиратель начинает опасаться, что
собственными руками может создать кризисную ситуацию в том случае, если
выберет президента, являющегося выразителем тенденций, противоположных
тем, которые выражает Национальное собрание, и наоборот. Он будет
страшиться продлить ситуацию неопределенности, когда или президенту
следовало бы распустить парламент, или же новому парламенту — призвать
президента подать в отставку, повторив требование, обращенное в 1924 году к
Александру Мильерану: «Президент, уходите!» Между тем пребывание в
подвешенном состоянии дорого обходится стране, жизнь которой на несколько
месяцев замедляет свой ход.
Этот анализ, сделанный в 1970 году, сохраняет удивительную
актуальность, он вполне применим к ситуации выборов 2002 года.
1
См.: Fame E. L'Âme du combat. P.: Fayard, 1970.
234
***
Можно было бы и дальше получать удовольствие от игры в аргументы,
однако к истине она не ведет. Поэтому обратимся вновь к выводам, которые
лежат в основе необходимых действий.
Сокращение продолжительности президентского мандата является
существенным моментом в модернизации политической жизни Франции.
Цепляться за анахронизм семилетнего срока пребывания президента у власти —
значит цепляться за установки, мешающие нашей стране приспосабливаться к
требованиям современности.
Французы хорошо это чувствуют. Опрос, посвященный учреждениям
Пятой республики, который провел в марте 2000 года институт IPSOS по заказу
газеты «Франс-Суар», показал, что 78% граждан высказываются за пятилетний
срок, против же выступают 18%. При сравнении этих результатов с данными
предыдущего опроса, состоявшегося в 1991 году, выясняется, что доля
сторонников пятилетия увеличилась на три пункта, а доля его противников на
то же число пунктов уменьшилась. Желательно, разумеется, провести эту
реформу до предстоящих в 2002 году президентских выборов, с тем чтобы не
скатиться к запутанной дискуссии о том, следует или не следует распространять
на действующего президента ту продолжительность пребывания у власти, за
которую выскажется народ. В этом случае установленная норма была бы
применена к тому президенту, которого французам предстояло бы избрать.
Можно ли было придать динамику этой необходимой реформе, которую
желало большинство французов, в то время как некоторые высокие
руководители упорно отказывались спрашивать их мнение? Наша Конституция
дает ответ: в 89-й ее статье указывается, что «инициатива пересмотра
Конституции
принадлежит
одновременно
Президенту
Республики,
действующему по предложению премьер-министра, и членам парламента». Эти
последние могут вносить законопроекты о конституционной реформе. Вот,
подумал я, прекрасный случай для парламента реализовать свои права и
поднять свой престиж, выступив с двусторонней инициативой, отвечающей
ожиданиям общественности. Меня обрадовало, что это было сделано в мае 2000
года и что парламент таким образом проявил «инициативу пересмотра».
Инициатива эта действительно была двусторонней, ибо предложение о
пятилетнем сроке выдвинули все крупные политические образования, начиная
от ЮДР1 Жоржа Помпиду и кончая коалицией участников Совместной
программы Франсуа Миттерана. Это предложение присутствует в хартии ЮДФ2
и пользуется поддержкой либе1 ЮДР — Союз демократов за республику.
2 ЮДФ — Союз за французскую демократию. В 1988 г. Жискар д'Эстен стал одним из лидеров
этой организации.
235
ралов. Так кто же держит дверь с другой стороны, не давая реформе
войти?
Это все те же силы, объединенные реакционностью и атавистической
косностью, они сбиваются в один мерзкий сгусток всякий раз, когда им нужно
помешать обновлению Франции. Никогда эти силы не появляются с поднятым
забралом. Их тактика — тактика уловок и проволочек. Они прибегают к
помощи хитрой диалектики, когда аргументы перепутаны и противоречат один
другому, спекулируют на усталости общественного мнения, никогда не занимая
определенной позиции, которая позволила бы — наконец! — прийти к
определенному выводу.
Теперь у парламента возникло окно возможностей!
Пересмотр Конституции в конце концов был одобрен подавляющим
числом парламентариев в июне 2000 года. Произошло это на основе документа,
которым правительство по соображениям, оставшимся в тайне, предпочло
заменить документ, содержащий предложения парламента и который
ограничивал реформу. Для завершения процедуры пересмотра президенту
следовало теперь выбирать: или одобрение со стороны конгресса, где легко
было набрать требуемое большинство в три пятых, или же голосование на
референдуме. Он выбрал референдум. И тот и другой путь вели к одному и тому
же результату — принятию пятилетнего мандата для президента, который будет
избираться в 2002 году. Дело было сделано.
Теперь можно думать о дальнейшем продвижении. Как я уже
подчеркивал, в календаре выборов 2002 года заключен парадокс: выборы в
парламент пройдут на два месяца раньше выборов президента. Между тем ключ
от возвращения к норме находится в руках правительства. В самом деле, именно
оно может обеспечить, апеллируя к своему парламентскому большинству,
одобрение органического закона, изменяющего дату парламентских выборов.
Правительство могло бы объявить, что, поскольку принят пятилетний срок
президентства, оно было бы готово, со своей стороны, выступить с инициативой
заключения «институционального пакта модернизации», перенеся дату
парламентских выборов, отказываясь от всех предвыборных расчетов, с тем
чтобы указанные выборы прошли одновременно с президентскими — решение
в духе современности, удобное для избирателей, — или через два месяца после
президентских выборов.
Имело бы место лишь воспроизведение ситуации, преобладавшей в
1981-м или в 1988-м. И тогда Франция восстановила бы логичность своего
конституционного устройства и уважение к политической культуре Пятой
республики.
Если бы удалось заключить такой «институциональный пакт
модернизации» с участием Президента Республики, премьер-министра и двух
палат, для того чтобы провести в жизнь решение о пятилетнем сроке и
восстановить желательное чередование президентских и парламент236
ских выборов, то, может быть, французы почувствовали бы, что
избавляются от мелочности и взаимных уколов, допускаемых ими в
политических спорах, и вступают благодаря этому в период, когда снова, как в
1958 году, обновление государственных институтов будет сопровождать и
вдохновлять модернизацию страны.
***
Когда задаются вопросом о сроках будущих выборов, то встает вопрос и
о политической конфигурации Франции. Должны ли эту конфигурацию
образовывать два крупных объединения: одно — представительное для социалдемократии и другое — для правых? Или же мы заинтересованы в сохранении
большего количества объединений, среди которых избиратель находил бы то,
которое вернее всех отражало его интересы?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны выбрать для себя
избирательный закон. Пропорциональная система способствует увеличению
количества партий, по крайней мере, тогда, когда порог представительства в
парламенте не слишком высок. Голосование в два тура подталкивает к
выдвижению двух кандидатов в первом туре и, следовательно, к существованию
двух группировок в каждом лагере в надежде «огрести» как можно больше
голосов. Если говорить о поименном голосовании в один тур английского или
американского типа, то оно приводит к формированию двух основных
политических сил.
Перед левыми эта проблема отнюдь не стоит. Их организации,
подающей себя как «плюралистская», не удается скрыть очевидного
превосходства социалистической партии. Проходящая ныне эволюция
коммунистической партии как у нас в стране, так и повсюду в Европе ведет к
стиранию ее отличий от левого крыла социалистической партии, в которой
коммунисты в конце концов и растворятся. Что касается зеленых (которых я не
назову экологистами, ибо они представляют не весь спектр чувств и взглядов,
связанных с экологией, ныне широко распространившихся во французском
обществе), то они играют свои вариации на самом краю социалдемократической партии и обречены или оставаться в коалиции с этой партией,
или же исчезнуть.
Нет, данная проблема стоит не столько перед левыми, сколько перед
правыми, точнее, перед различными течениями правых сил. Оставит ли
политическое будущее Франции место для одной лишь правой организации или
же для совокупности отличающихся друг от друга правоцентристских и правых
политических образований? Если учитывать традиции, то отчетливо
обнаруживается существование значительного числа политических культур
правой ориентации, каждая из которых выделяет себя среди остальных, все они
обычно отвергают и презирают друг друга, это голлистская, либеральная,
христи237
анско-демократическая, националистическая, а если продолжить, то
бонапартистская, легитимистская, орлеанистская и жирондистская культуры.
Исчезновение различий под катком современности приводит к появлению двух
крупных правых образований, за исключением крайне правых, замкнувшихся в
своем довольно узком идеологическом пространстве, — правых националистов;
либеральных и социальных правоцентристов. Рубеж между двумя названными
движениями не совпадает точно с границами действующих ныне политических
партий, он остался в наследство от соперничества доминировавшей голлистской
партии с ее либеральными и социальными союзниками 1960-х и 1970-х годов.
Он пролег вновь в результате возникновения еще одного спора о суверенитете,
который привел к появлению двух блоков общественного мнения за неимением
организованных партий: националистического правого и либерального
правоцентристского. Могут ли они объединиться? Должны ли они образовать
коалицию? Обречены ли они на борьбу друг с другом?
Успех политической стратегии в системе, сформированной выборами в
два тура, зависит от умения собрать на своей стороне все голоса,
рассредоточенные в первом туре голосования. Левым это прекрасно удается
благодаря традиции «республиканского фронта», имеющего скорее
оборонительный, чем наступательный характер.
Правые обычно добиваются такого результата с трудом, если только
обстоятельства не складываются явно в их пользу. Например, так было в 1968
году, когда левые на волне уличных беспорядков пытались взять власть, а
правые этому воспротивились, или в 1993 году, когда по предложению правых
общество проголосовало против потерпевшей крах политики занятости и
наглого роста коррупции. В этих случаях правые переступали через свои
разногласия и превращались в явное большинство.
Если правоцентристам и правым националистам в течение длительного
времени придется организовываться на основе двух самостоятельных
группировок, то, вероятно, обеспечивать переход голосов будет часто трудно,
ибо эти две тенденции отличаются друг от друга не различными подходами к
определению экономических и социальных приоритетов, а противоположными
взглядами в области идеологии: с одной стороны — те, кто считает себя
защитниками интересов Франции, а с другой — те, кого подозревают в том, что
они предают ее ценности ради глобализации и европеизации. То есть речь идет
о некоем повторе «призыва Кашена», который, как известно, дорого обошелся
нашей стране1.
1 Речь идет, очевидно, о призыве, с которым в 1920 г. М. Кашен (1869—1958), являвшийся
тогда видным деятелем Французской социалистической партии, обратился к ее членам, —
присоединиться к 3-му Интернационалу и создать во Франции подлинно революционную
партию. Кашен стал одним из основателей ФКП.
238
Это разделение правоцентристов и правых было, без сомнения,
неизбежным, когда главной темой дискуссии являлась необходимость
интегрировать Францию как можно скорее в крепкую политическую
конструкцию Европы, необходимость интеграции, которую одни желали, а
другие отвергали.
Сегодня, когда реализация европейского проекта принимает иное
направление — организации континентального пространства, включающего от
двадцати семи до тридцати государств-членов, указанное разделение в какой-то
мере теряет свой смысл. Было бы гораздо полезнее внутри крупного общего
образования заменить названную дискуссию обсуждением вопроса о наиболее
удобном для Франции способе участия в организации этого обширного
пространства.
Единая структура или два образования? Выбор здесь, как мне кажется,
зависит от того содержания, которое будет основным в дискуссии о
французской политике в перспективе 2010—2020-х годов.
Если полагать, что эта дискуссия будет посвящена главным образом
вопросам экономического и социального управления страной, то нет никакой
опасности в сохранении двух образований, ибо перераспределение голосов во
втором туре происходило бы легко при наличии экономической программы
левой коалиции, имеющей противоположное направление.
Если же, напротив, предполагать, что одним из основных в
политической жизни явится вопрос о том, каким образом защитить
историческую и культурную идентичность нашей страны, ее образ жизни
наперекор демографическому давлению и все ускоряющейся глобализации, то
было бы предпочтительнее собрать правоцентристов и правых в одном и том же
объединении, чтобы исключить возобновление или усиление дрейфа части их
электората в сторону крайне правых.
Вполне возможно, что результатом наличия двух образований,
противостоящих друг другу в данном вопросе, может быть радикализация
одного из них.
Чтобы обеспечить, исходя из этого предположения, успешное
объединение правоцентристов и правых в рамках одного и того же образования,
необходимо тщательно и глубоко рассмотреть вопрос о том, как правильно
отделить полномочия, которые следует передать в ведение общеевропейских
учреждений, от тех полномочий, которые необходимо сохранить для защиты
идентичности и «жизненных интересов» нашей страны. Следовало бы также,
отрешившись и от покорности судьбе, и от фанатизма, приступить к
обсуждению стратегии, способной сохранить идентичность Франции вопреки
любым давлениям, которые могли бы на нее попытаться оказать в недалеком
будущем, и собственным недостаткам, подтачивающим ее.
Подобная
задача
позволила
бы
объединить
устремления
правоцентристов и правых: одно из них, унаследованное от генерала де Голля,
239
направлено на поддержание идентичности и достоинства Франции,
другое, свойственное правому центру, которое я в свое время попытался
оживить, нацелено на то, чтобы обеспечить вхождение нашей страны в
современность, исключающее разрыв исторической преемственности.
Выбор этой стратегии может быть осуществлен только на уровне
Президента Республики. Руководителям партий неизбежно приходится
действовать и принимать решения в условиях, когда их целью в первую очередь
является победа на выборах, для чего ведется подготовка своих кандидатур.
Поступают они вполне легитимно, но при этом в расчет не берутся ни надежды
более широкого круга людей, ни устремления граждан, далекие от проблем
такого рода, ни опасения, вызванные неопределенностью будущего.
Генерал де Голль дал на все эти вопросы свой собственный ответ,
основав крупную голлистскую партию, призванную преодолеть традиционный
раскол правых, и ему многое удалось сделать. Что касается меня, то я
попытался приложить усилия, первоначально познав успех, а позднее —
разочарования, ради объединения совокупности правоцентристских течений,
политических культур, созданных республиканским либерализмом, социальным
христианством и правительственным центром, сходным с радикальной партией.
Я желал распространить свои усилия в конечном счете и на голлистскую
партию, чтобы включить ее в это великое объединение. Для этого, видимо,
необходимо было располагать большим временем...
Вопрос этот останется открытым до того момента, когда его решит успех
или неуспех Президента Республики, который, придя к определенным выводам,
предложит их французам. Мне кажется, что с учетом всех обстоятельств, в силу
характера первоочередных проблем, с которыми Франции придется столкнуться
в ближайшем будущем, французским правоцентристам и правым лучше было
бы объединиться в рамках большого единого образования с гибкой структурой
и близкого к «почве», образования, действующего под двойным лозунгом —
сохранения идентичности Франции и ее продвижения в современность.
240
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В защиту своих воззрений могу лишь
сказать, что они — плод длительных
наблюдений
и
абсолютной
беспристрастности... И когда судну, на коем
плывешь, угрожает опасность оттого, что оно,
накренившись на бок, теряет равновесие,
стремишься бросить невеликий вес своих
доводов на противоположный борт, дабы
равновесие это сохранить.
Эдмунд Бёрк. Из заключительных строк
«Размышлений»1
Наступило время вернуться к Эдмунду Бёрку, тем более потому, что я на
последних страницах этой книги позволил завлечь себя в отравленные воды
современной политики.
Мне захотелось увидеться с Бёрком в последний раз. Мы договорились
встретиться в Париже. Я нашел его в кафе, где-то между гением Бастилии и
кладбищем Пикпюс2. Хозяин заведения, судя по его выговору, происходил из
Оверни, скорее даже из Северного Аверона. Поскольку погода стояла хорошая,
мы расположились на террасе кафе, под навесом. Сквозь его полотнище можно
было прочесть словно отраженное в зеркале название заведения. Эдмунд Бёрк
попросил темного пива, я же заказал чашечку кофе со сливками.
Проходившие по тротуару люди бросали на нас взгляды. Вид Бёрка,
похоже, их не удивлял. Он носил длинные волосы (или парик, не знаю) и своей
прической ничем не отличался от наших современников. Его полотняный
сюртук был изрядно помят и потому не выделялся в массе измятых и
поношенных, по моде, костюмов. Привлечь внимание могли бы разве что его
белые чулки и пряжки на туфлях. К счастью, их скрывал от посторонних
взглядов столик.
Другие обращали внимание на мою особу. Прищуривались, чтобы лучше
меня разглядеть. Через несколько шагов, после того как мое лицо сверялось с
образом, запечатленным в их сознании, люди оборачивались, проверяя, не
ошиблись ли они. И после того как убеждались,
1 Цит. по: Бёрк 9. Размышления о революции во Франции и о прениях в некоторых лондонских
обществах касательно сего события, содержащиеся в письме, предполагавшемся быть
отправленным некоему благородному господину в Париж / Пер. с англ. С. Векслер. L.: Overseas
Publications Intercharge Ltd, 1992.
2 Фигура гения Свободы венчает колонну, установленную на площади Бастилии. Кладбище
Пикпюс известно тем, что на нем были похоронены гильотинированные жертвы
революционного террора.
241
что в самом деле ошиблись, спокойно продолжали свою прогулку.
Молодая женщина, уцепившаяся обеими руками за руку мужчины между
плечом и локтем, прошептала, приподнявшись на цыпочки, ему в ухо:
«Странно, он так похож на Жискара!» Люди более скептичные или более
уверенные в себе, бросив на нас быстрый косой взгляд, ограничивались
пожатием плеч.
Одна девушка — студентка, полагаю, филологического факультета —
остановилась, затем подошла и встала передо мной. Она была в джинсах, щеки
и нос у нее были усыпаны веснушками. Девушка воскликнула:
— Но ведь вы же господин Эдмунд Бёрк!
— Нет, — был мой ответ, — я не Бёрк. Вон Бёрк!
— Как вы думаете, можно попросить у него автограф?
— Конечно!
Она приблизилась к Бёрку. А этот человек, привыкший наблюдать и
успевающий думать решительно обо всем, уже извлекал из жилета гусиное
перо. Затем обмакнул его в чашечку с кофе и расписался на бумажной салфетке,
на которой, как и на полотнище навеса, черными буквами было изображено
название заведения: «Кафе — табачная лавка Революции». Подпись вышла
бледноватой из-за сливок.
Затем повернулся ко мне и спросил раздраженным тоном:
— Do you think we could speak, at last?1
Он выделил слово «наконец», сделав на нем ударение.
— Of course! Of course!2 — ответил я ему.
Я воздержался от третьего «конечно», подумав, что мания повторять
слова поразила Великобританию в XIX веке!
— You are an historian, aren't you?3 — спросил он.
— He совсем, — ответил я. — Скорее один из тех, кто занимается
управлением государства. Но я интересуюсь историей.
— Если вы интересуетесь историей, — продолжал Бёрк, — то, вероятно,
могли бы посвятить себя написанию «другой истории».
— Что вы называете «другой историей»?
— Это не так уж трудно понять. Это даже очевидно. Все мы думаем, что
история уникальна, что другой истории нет и быть не может! Но это
чудовищное упрощение. Развитие событий могло бы пойти многими другими
путями. Возьмите ваш случай. Take the case of France!4
Он смотрит на меня с некоторым пренебрежением, как учитель на
непонятливого ученика. Делает большой глоток пива и вытирает белую пену с
губ манжетой.
1 Как по-вашему, мы можем наконец побеседовать?
2 Конечно! Конечно!
3 Вы историк, не так ли?
4 Возьмите французский случай!
242
— Представьте, что ваше Национальное собрание проявило бы
благоразумие, что Мирабо не умер бы столь рано и что Людовик XVI сделал бы
его своим премьер-министром. Представьте также, что Людовик XVI понял бы,
что время требует от него отказаться от абсурдной теории власти, основанной
на божественном праве, и тогда, возможно, ход событий был бы иным.
Написание этой «другой истории» могло бы оказаться для вас интересным!
И он засмеялся или, скорее, стал издавать довольное хмыканье, которое
интеллигентные британцы называют смехом.
— Несомненно, — отвечал я ему, — несомненно!
И чуть было не добавил третье «несомненно», столь заразительной
оказалась мания. Но про себя я возразил: в таком случае надо бы, чтобы
абсолютно все было другим — и характер французов, и их чувства, среди
которых преобладали стремления к свободе и равенству, и влияние великих
философов, а затем этот дух времени, исходивший от произведений Дидро и
предвещавший большие перемены! То, что Бёрк называет «другой историей»,
— это не иная ветвь нашей жизни, а мелькание листьев, трепещущих на ветру.
Вот что я вынес из нашего дальнейшего разговора.
***
Бёрк начал с того, что обрушился на действия Законодательного
собрания, на его пагубную судебную реформу, в основе которой лежало
упразднение парламентов, на беспорядки и отсутствие дисциплины,
беспрепятственно охватившие армию, на обнищание народа, которое неизбежно
должно было произойти в результате введения бумажных денег. Для избавления
от всех этих недугов он предлагал лишь одно средство — приобщение Франции
к благам британской Конституции, которую изображал как бесценное
сокровище.
Я слушал его лишь краем уха. Весенний полдень всегда вызывает у меня
легкую дремоту, которую не смог полностью перебороть выпитый кофе, тот
самый, в который Бёрк обмакивал свое перо.
И потом, этим разговорам уже больше двухсот лет! За это время стали
прошлым войны Империи, индустриализация, классовая борьба, марксизм,
колонизация и деколонизация, две ужасные и разрушительные мировые войны,
геноцид. Недуги уже не те, что прежде, а лекарства — тем более. Однако же...
Глаза мои по-прежнему прикрыты. Я слышу, как шумно дышит Эдмунд
Бёрк. И как бы вижу ту тонкую нить, которая ведет всех нас сквозь
бесконечную цепь событий, связывая их друг с другом. Эта нить —
французский образ жизни, она вытягивается из клубка, где перепутаны между
собой взгляды, рассуждения, страсти, а также — увы — предрассудки, от
которых не свободен никто.
243
Этот клубок психологических и культурных свойств нам следует
распутать и привести в порядок все, из чего он состоит, если мы хотим
обеспечить Франции блестящее вхождение в современность.
***
Прежде всего французы должны согласиться с тем, что каждый из них
является частицей единого народа, создавшего свою историю, вложившего в нее
силы ума и души и несущего всю тяжесть ее последствий. Отдельные ее
периоды заслуживают похвалы, другие — порицания, и это понятно. Но
история Франции целиком — достояние всех французов.
Обращенное к ним пожелание — почувствовать свою принадлежность к
одному единому народу, которая предполагает братство и солидарность, —
может показаться банальным. Однако же это чувство появлялось у французов
лишь в редкие часы их истории: бесспорно — в войну 1914—1918 годов;
вероятно — во времена Первой империи, когда на их глазах происходило
великое действо примирения между Революцией и новым обществом. И
никогда — в другие моменты.
Самое великое открытие, которое французы могли бы сделать для себя,
— это признать друг друга.
В тот день, когда они почувствуют, что принадлежат к одной и той же
человеческой общности, созданной и отшлифованной единой историей, в
бушующем океане возникнет маленький островок общей демографии и
культуры, и в этот день у них появятся новые силы для адаптации к будущему.
Единый народ, одна и та же история, отказ от представления, согласно
которому преимущественно столкновение является движущей силой прогресса.
Управлять нашей политической системой следовало бы так, как если бы
это была одна объединенная система с обычными внутренними различиями и
расхождениями, которые нуждаются в урегулировании, а не два обществаантагониста, вечно сталкивающихся друг с другом.
Исчезновение в нашу эпоху мифа о tabula rasa позволяет принять
наконец метод эволюционного прогресса. Метод этот для нас совершенно нов, и
нам нужно еще приобрести навыки его использования.
Очевидно, что этот поворот должен быть обозначен, как это часто
происходило
во
Франции,
новаторской
инициативой
в
области
функционирования наших институтов. Всякий раз, когда такие инициативы
принимаются, французам становится легче дышать. Они избавляются тогда от
сомнений, от горького осадка в душе, от злобы. Думаю, такая инициатива
возможна в этом году, символическом году кануна тысячелетия. Я желаю ей
успеха.
244
***
Следовало бы, далее, чтобы французы, обретя таким образом друг друга,
отрешились от пассеизма, с тем чтобы повернуться к современности.
Это пожелание нуждается в уточнении: речь отнюдь не идет о том,
чтобы порвать с прошлым или попытаться его стереть из памяти. Я являюсь
решительным сторонником сохранения связи с историей как самого мощного
фактора идентификации народа.
Но при этом я задумываюсь о том, в какую сторону следует обратить
наши взгляды. Сегодня они устремлены на то, что существует, на положение,
которого мы добились, коллективно или индивидуально, и которому, как мы
опасаемся, угрожает эволюция мира. Великих благ от стремительно
наступающей современности — modernité — мы не ждем. И предпочли бы ей
непрерывное и спокойное улучшение прежнего положения вещей.
Наш образ жизни вполне оправдывает такую позицию. Но этот образ
жизни нам удастся сохранить лишь в том случае, если мы добьемся успеха в
условиях современности. Состояние упадка не может служить защитой от
дальнейшего ухудшения положения, упадок — это наклонная плоскость, по
которой скользить вниз можно бесконечно.
Франция может многого ждать от современности. У нашей страны есть
все необходимое, чтобы преуспеть, и она уже добилась определенных успехов.
Достаточно лишь почувствовать ту атмосферу бодрости и созидания, которая
царит на предприятиях, в основе производства которых лежат новые
технологии.
Наши дискуссии, будь то в публичной, контрактной или
информационной сфере, стали бы более интересными, если бы в них
поднимались вопросы нашей адаптации к современности. Какие
образовательная и воспитательная системы нужны нам для того, чтобы
поколение 2020 года получило свой шанс на успех? Должны ли эти системы
оставаться централизованными, по образцу 1890 года, или следует больше
считаться с местными требованиями и проходящими там изменениями? Какими
будут через двадцать лет потребности крупных административных учреждений
в количестве и уровне компетентности кадров и какими путями следует идти
для удовлетворения этих потребностей? Как совместить пенсионную защиту и
женщин и мужчин с вероятностью того, что в течение своей трудовой жизни
они будут два или три раза менять профессию? Короче говоря, следует скорее
задаваться вопросами о том, каким образом мы будем управлять грядущим
миром, чем цепляться с отчаянием за борт привычного, безопасного, но
уходящего мира.
Добавлю, что скорей всего на основе экономического подъема,
являющегося плодом применения высоких технологий, произойдет но245
вый расцвет культуры. Такое происходило всякий раз, когда делался
скачок вперед в экономической области: в XVI, XVIII веках и особенно в XIX
веке.
Что касается политических кругов, то они были серьезно, но
несправедливо дискредитированы в результате ошибок некоторых своих
представителей, их покинули активисты, осознавшие, что им готовят роль
пешек в чужих играх, теперь же политическому миру предстоит занять новые
позиции и возглавить эволюцию страны. Политическим деятелям придется
отказаться от своего прежнего шаблонного и нудного лексикона с его
призывами «выйти на улицы», «выразить гнев», неизвестно к кому
обращенными, обогатить свой язык понятиями из словаря вновь обретенного
братства. А вместо проектов невозможной глобальной реформы, этой
замороженной глыбы уходящего века, от них должны поступать предложения
по развитию и адаптации страны к будущему, скоординированные с этапами
нашего движения в предстоящем столетии, этапами, которые можно предвидеть
уже сегодня.
Франция ждет, что современность придаст ей динамику. Однако в
раздающихся ныне речах политиков этой динамики не находит, хотя всемерно
готова ее поддержать.
Пусть политический мир проложит путь для крупных начинаний,
которые обновят саму основу дискуссии. Пусть он станет в 2000—2002 годах ее
главным инициатором...
***
— Вы что, спите?
Это голос студентки. Да, я дремлю, сплю, вижу сны, сам толком не знаю,
чувствую только неудобство, причиняемое мне твердой спинкой стула.
Открываю глаза.
Эдмунд Бёрк уже не сидит рядом со мной. Он только что ушел, не
попрощавшись, раздраженный, видимо, моей дремотой, которую счел
бестактностью. Я смотрю ему вслед, и он кажется мне не таким высоким, более
сутулым и хрупким по сравнению с тем, каким я его представлял. Это
впечатление создает, видимо, возраст.
Студентка — полагаю, филологического факультета — завладела
стулом, который освободил Бёрк. Обеими руками она прижимает к своей груди
бумажную салфетку, на которой видна бледная подпись Эдмунда Бёрка. Если
она и дальше будет так держать салфетку, то буквы пройдут сквозь ее тело и
отпечатаются на стене позади нее.
Она обращается ко мне, голос ее полон восхищения, никак не
относящегося к моей особе:
— Это такое счастье — знакомство с ним, встреча с ним. Он многому
меня научил!
246
Я с трудом верю своим глазам. Мне кажется, что на ногах у девушки
черные туфли Эдмунда Бёрка с серебряными пряжками, или, во всяком случае,
они странным образом походят на те, что были на Бёрке. Подарил он их ей, что
ли, на память? Или оставил под столиком? Он ушел уже слишком далеко,
потерявшись в толпе, чтобы я мог попытаться его об этом спросить.
— Я так счастлива, что с ним познакомилась, что с ним встретилась, —
повторяет она, а глаза ее светятся восторгом.
— Я тоже, — вторю я ей, — я тоже.
Оглавление
Ю.И. Рубинский. Жискар д'Эстен о Франции и французах..................... 7
Вступление.................................................................................................. 13
Глава 1. Политический упадок и могущество........................................ 17
Глава 2. В конфликтах с временем..........................................................29
Глава 3. Позиционирование в пространстве, или Франция —
центр мира?............................................................................................... 49
Глава 4. Монархический кольберизм и якобинский централизм...........87
Глава 5. Невозможная реформа............................................................... 117
Глава 6. Поврежденная психология французов.................................... 147
Глава 7. Французская идентичность и движение населения............... 170
Глава 8. О тех, в ком сегодня сосредоточены жизненные
силы Франции........................................................................................... 187
Глава 9. Терзаемые институты.................................................................. 195
Заключения.................................................................................................240
Жискар д'Эстен В.
Французы: Размышления о судьбе народа: Пер. с фр. М.: Ладомир, 2004. - 248 с.
ISBN 5-86218-439-2
В своем блестящем эссе В. Жискар д'Эстен, бывший Президент Франции, размышляет об
уроках французской и мировой истории последних веков. В книге дается яркий собирательный
портрет его соотечественников со всеми их сильными и слабыми сторонами. Проницательно
анализируется психология народа, проявляющаяся в отношениях с государством, образ
мышления, политические традиции (кольберизм и якобинство), стремление к коренным
переустройствам (дух tabula rasa) и одновременно сопротивление любой конкретной реформе.
Обрекают ли эти «родовые признаки» Францию на упадок или в условиях глобализации она
найдет все-таки свой путь к процветанию? Таков главный вопрос, ответ на который ищет автор.
Научное издание
Валери Жискар д'Эстен
ФРАНЦУЗЫ
Размышления о судьбе народа
Редактор Т. М. Добрусина
Технический редактор И. В. Котанчан
Корректор Н. М. Соколова
Компьютерная верстка Л. И. Багма
ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Сдано в набор 15.11.2003 г. Подписано в печать 15.02.2004 г.
Формат 60х90У16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура «Баскервиль»
Печать офсетная. Печ. л. 16,0
Тираж 1500 экз. Заказ № 1242
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, Зеленоград, Заводская, д. 6а
Тел. склада (095) 533-84-77
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14