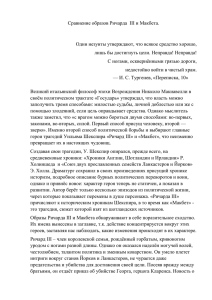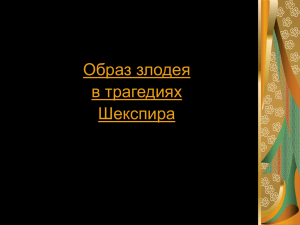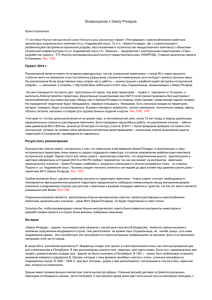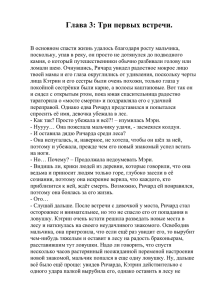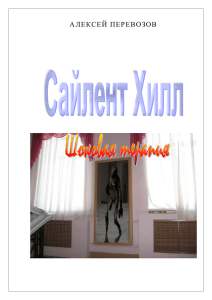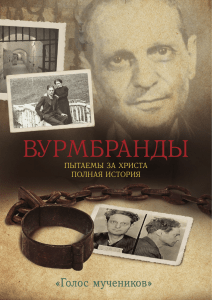Татьяна Филатова
advertisement

Рецензия на спектакль «Ричард III» (по пьесе В.Шекспира) Серовского театра драмы им. А.П.Чехова (сезон 2011-20012 гг., режиссура Ю.Батуриной) Подобного рода драматургия обладает еще и тем замечательным качеством, что как лахмусовая бумажка служит выявлению не только масштаба, профессиональной состоятельности и (что действительно важно не так само собой разумеющимся в наше время) как овладение простыми основами ремесла, но и – ориентацией на саму природу режиссерской данности, его стилистической и жанровой пристрастностью, туда, куда его действительно «влечет и клонит», не все пьесы и темы «твои», но здесь как раз, по-моему, произошло счастливое совпадение натуры режиссерского поиска и запросов шекспировской театральности. Жанр спектакля определен как «Шекспировские страсти», собственно, на это все действие и заточено, раскручиваясь и разметав всю историю по восходящей и сошедшейся в результате в финале, сузившись как в воронке, задушив главного персонажа, наткнув его на заостренные копья… Этому посвящено все: здесь нет иной логики, как раскручивание неумолимой жажды власти – без цели даже и любого представления «что же с этим потом со всем делать» (о чем, собственно, сам же Ричард и воспрошает в финале, сам же прекрасно зная, что нет ответа), страсть сама по себе имеет лишь одну цель – удовлетворение в достижении, ни за чем больше, и потому, кажется, у него нет иного выхода, как умереть, достигнув вожделенной короны. Этот Ричард не любит – женщин, мать, друзей, он не любит даже себя (и может быть, в этом все и дело, он обретает себя в уважении только в момент, когда у него «получается», и неважно, что именно: обольщение стоящих на пути женщин или коварное убийство врагов и друзей, что в пределе для него одно и то же, его не любили в детстве (и он прямо об этом говорит, упрекая, прежде всего, мать, не любили как урода, не созданного для любви и красоты), и единственно, где он может себя осуществить – есть любовь, даже жажда, стремление и вожделение самой власти. Власть – его единственная женщина. Возлюбленная, с которой он, кстати, завоевав, не знает, что делать, обращаясь так же безжалостно и неумело, как слишком резвый ребенок – с тонкой игрушкой: он все ломает. Это настоящее ницшеанское одинокое существование, где холодно и жутко и нет друзей (а лишь союзники, и то, ненадолго), и единственным способом обратить на себя внимание, как-то застолбиться в чужой памяти – значит, вызвать животный страх и ужас, замешанный на боязни все потерять – в обмен на это мнимое восхваление и обожание – через силу, через неприятие и даже ненависть. Любовь через ужас. Но было бы слишком просто: как раз в подлинных врагах (особенно в женских персонажах Анны и Елизаветы) – он, как ни странно, вызывает, в конце-то концов – конечно же, при собственных даже неимоверных усилиях – если не любовь (но и - любовь), то согласие и подчиненность. Он – злодей, но злодей талантливый и интересный. За которым любопытно следить. И кому, как ни странно, даже сочувствуешь. Вообще же в подобного рода пьесах-монологах – где все заточено на одного центрального персонажа, а все остальное, включая всех персонажей – его оппозиция, призванная лишь служить способом развития собственной логики центрального героя, - все «пляшется» от выбора этого центра, природы артистического дарования, он действительно может быть «любым», в том смысле, что амплуа злодея еще не определения: злодей может быть обаятельным, страшным, игроком, шутом, лицедеем, а равно и – интеллектуалом, даже «рыцарем дьявола». Здесь это - (арт. П.Незлученко) не страшный (физически, внешне), но, скорее, сознательно изуродованный мужчина (и это вполне объяснимо: он воин, прошедший множество боев и сеч), очень сильный, страстный, игрок, чаще даже удивляющийся человеческой слабости-податливости его неимоверному напору, даже сожалеющий, а не ликующий от собственных побед. Его раздирает собственная неприкаянность, сила страсти, но женщины сдаются слишком просто (несмотря, что одна – вдова, мужа которого он убил и не скрывает этого, а другая – тоже вдова, а вообще – мать, потерявшая всех сыновей, а единственную дочь он присмотрел себе в жены, ничтоже сумняшеся), а мужчины – служат даже не задаваясь вопросами, надолго ли эта служба и будет ли вознаграждена (он, кстати, вознаграждает – привычным для себя способом: кинжал всегда рядом. Убийство – для него единственный способ любви. Если он вообще знает, что это такое. Но именно к этому он и стремится – этот когда-то брошенный ребенок, а теперь – не видящий даже достойного соперника себе. Злодей все же нуждается в каком-нибудь оправдании или хотя бы понимании. Сам он прекрасно раскусил главное: у каждого есть своя «точка», на которую можно нажать, - у кого-то это простой страх за собственную жизнь или за жизнь своих детей, родственников, вообще – страх и подчинение чужой силе и большей власти, кто-то сам себе выговаривает какие-то условия – рядом с могуществом проще на что-то надеяться и для себя, а кто-то – действительно очарован силой его личности и воздействия (ведь завораживает и «подсаживает» на самом деле – хоть какой-то, пусть и с таким знаком – интерес к собственной жизни. Это опасно – да, но попадая в поле зрения сильной личности, ты сам способен напрочь это забыть, не думая о том, чем все кончается.). Игровой момент в образе Ричарда (этой постановки) очень важен, он объясняет многое из его поведения, мотивацию – ибо игра сама по себе не имеет вне себя поставленной цели, игра самодостаточна, пока человек играет – он должен получать удовлетворение и удовольствие. Так и выходит. Но корона все-таки маячит – хотя бы на первых порах – как видимая цель, а после – с ней уже не знают, что делать, вцепляются в нее как в вожделенную игрушку – в попытке снова ощутить тот же ускользающий – теперь уже неизбежно – смысл собственного существования. Но эта игра – как всякая конечная игра (доиграться до смерти) страшна, и горы множащихся трупов тут лишь ступеньки в этом вечном движении (было бы больше препятствий Ричард прожил бы дольше, это несомненно). Этот сущностно игровой момент поддерживает и декорация, устраивающая «театр в театре», где: и шкаф – превращающийся в чудесный черный ящик фокусника-иллюзиониста, с помощью которого многое и происходит, и всякие другие «игрушки» как неизменные атрибуты цирка, да и собственно действия Ричарда похожи на фокусы, где, правда, его «предметами для жонглирования» служат человеческие жизни. Отрубленная голова, швыряющаяся в мешке как мяч (в нее играют). Да и само чучело человека – центральный образ, сразу же оказывающийся на сцене – с нарисованной мишенью на груди – служит той самой игровой «грушей», которую нокаутируют все, кому не лень. Играют с жизнями. Играют в смерть. Вот достойный противник для Ричарда, не люди, которые его, скорее, огорчают своей податливостью – его откровенному злому хамству, чем – злят и отталкивают. Он их даже, скорее, по-своему любит. Любит, как умеет любить маньяк власти. Тиран в упоении своей власти. И это достаточно убедительно почти всегда. Все предметы внутри сценического пространства – а они немногочисленны, и это совершенно укладывается в современную уже традицию постановок шекспириады, где все предметы «говорящи» и символичны, беря на себя часть «разгрузки» часто неподъемного вербального текстового материала, пьеса действительно во многом архаична, с прямым отсылом к знанию той конкретной исторической эпохи, когда ясно «кто кому кто», что еще живо должно было быть в памяти. (Кстати, конечно, то, что пьеса как постановочный материал – супер сложен даже технически – не извиняет возможного провала или неудачи (к счастью, тут этого не случилось, как раз наоборот), но иметь в виду это нужно, ибо дает дополнительные бонусы при удаче.) Но минимализм в выборе и определении визуального ряда спектакля – накладывает и обязательное требование к особому отбору, к добросовестной «отработке» всех его элементов, «отработки по полной», когда «отбиваются» все возможные вложенные в них смыслы. Например, швейная машинка, на которой в первый же момент появления Ричарда на сцене он самозабвенно «шьет», а, по сути, - разворачивая колесо судьбы (прежде всего, своей, но и всех остальных тем самым), запуская маховик страшного действа, запуская нить судеб (и это частенько протягивается, появляется в действии, в том числе и – в накручивании на запястьях – нитей, веревок и проч., затягивающихся и на шеях жертв), - но сама машинка, оставаясь на сцене при этом все действие, включается в действие лишь вначале, а там – еще пару раз, а по потом о ней благополучно забывают. Но ведь это Ричард – шьет, и он продолжает «шить», в том числе и саваны, и подвенечные платья, вообще – костюмы (маскарада, в котором он – главное действующее лицо и демиург всего действа). Сюда хорошо вкладывается и собственно черно-белый шкаф (из которого в какой-то момент Ричард вытаскивает что-то от костюма, в первый раз решаясь показаться «на сцене»), но после и эта его ипостась (шкафа) совсем забывается (правда, появляются новые, как-то даже – гроб, вообще – черный ящик фокусника). Чучело человека – жертвы, пушечного мяса, а в результате – он же сам, когда надевает на чучело долгожданную корону, где сразу считывается, что с самого начала это было самоубийство: воткнув с первого же момента копье – как в себя самого. (Это и есть пьеса о самоубийстве, самоуничтожении, когда собственные страхи, преодолеваясь, превращаются в его жертв, а на самом же деле, никуда не деваются, переходя в мир призраков, терзающих свою жертву-палача. Вообще это интересная замыкающаяся на себе логика монологического развития, как змея, жалящая сама себя – свой хвост.) Замечателен маленький «дворик» - могильные холмики – кладбище – даже «вишневый садик», которые Ричард в какой-то момент любовно поливает, вешая на очередную ветку-крест – кровавый платок и проч., как атрибут очередной жертвы. И это тоже делается поразительно любовно (а в это время на основной сцене разворачивается кровавое злодеяние, решается и разрешается чья-то бренная судьба). И этот момент сделан действительно хорошо, что называется, в точку. Кровавая ванна – могила – где совершается первое убийство… Вообще практически каждое убийство как ритуальное жертвоприношение обставляется с поистине фантазийной помпой. В этом сам Ричард волшебник, он фокусник и лицедей, он иллюзионист этого действа. Он – Автор. С большой буквы. (А все остальные – лишь его воплощения, эманации его души и сущности – фантомы и призраки, они не имеют собственного существования и значимости, Ричард награждает их правом существования – обрати свой взор на них, включив в луч прожектора собственного внимания.) Основная и единственная декорация, на которой отображаются фрагменты Босха – с чудовищами и святыми, уродцами и проч. – покрывается в моменты совершения злодеяний – кровавой краской… (Может быть, это лобово, и потом, когда Ричард наконец-то становится королем, нелогично снова становится небесно-голубым, хотя кровь никуда уже не девалась, но это уже из области технического воплощения замысла, наверное, не везде это подчинялось только желанию режиссера в купе с художником-постановщиком (А.Унесихин), уступая и каким-то далеко не художественного свойства причинам. И все-таки…) Вообще все игровые элементы цирка не просто уместны, выразительны, но замечательно соприродны шекспировскому миру вакханалий, где нет мира «ваших» и наших», это весь мир превращенный и мир превращений, чудовищного виртуозного «праздника смерти», где есть даже свое упоение и даже свое удовольствие вовлеченностью в этот процесс. Важен тут сохраненный ритм разворачивающегося действа (правда, не везде выдержанный – особенно в первом действии, где-то в середине заметно провисающий, но это, по-моему, во многом объясняется спецификой данной драматургии, где «море» перекрещивающихся персонажей, сменяющихся лиц, чехарда в круговороте жертв, переходящих из мира людей в мир посюсторонний. Режиссер пытается решить эту действительную проблему, в частности, раздав по нескольку сходных ролей как ролевых функций – одним актерам, и часто это решается, но все-таки некоторая неразбериха остается. Вообще, кажется, что весь спектакль можно сыграть «на троих», ибо это маски, сменяющие друг друга. И единственный живой в этом сонме – сам Ричард, он, раздаривающий свою волю и силу, растаскивается в конце-то концов этими отпочковавшимися от него частичками.). Что действительно (и это видно, прежде всего, по отборке и компоновке и акцентированию окончательного текста – составленного из трех как минимум кусков переводов, что тоже создает дополнительную сложность) не совпадает в спектакле с собственно с пьесой, и что делает эту постановку не иллюстрацией, но решением темы, решением пьесы, режиссерским взглядом, это, по-моему, отказ от другого полюса – божественного (об этом даже в тексте практически не улавливается) – в противовес дьявольскому, не сохранившиеся и объединившиеся силы на стороне добра (сконцентрировавшиеся против Ричарда, дорвавшегося к власти, где-то заграницей и выступившие единым фронтом), но сам Ричард, выпущенные на волю – его волей(!) – из ящика Пандоры – собственные желания и устремления. Не – восстанавливается справедливость реально существующими противниками, но если и божьим проведением (оно, как известно, действует различными способами), то как бы изнутри, поглощая сам себя, и в этом смысле судит Ричарда он сам. Решение вмешательства божественного, дождавшегося перевалившего все мыслимые пределы самоволия Ричарда, было бы здесь слишком простым решением, выходом в этой безвыходности, где выход просто не предусмотрен. И это делает, на мой взгляд, спектакль конкретно о так понятом Ричарде – честнее, чем могло бы случиться. К счастью, этого не случилось. Как часто (и от прочтения самой пьесы) остается ощущение привлечения, «прибегания» к теме бога как последнего судьи и палача - кстати, приведшего свою волю к исполнению, - как к палочке-выручалочке, слишком механического решения, автоматического даже, когда не придумано ничего другого. Все все-таки гораздо сложнее. И было бы так просто… Не было бы все так сложно. Конечно, подобного рода пьесы всегда манки и притягательны – если в труппе есть потянувшей весь этот накал актер. Но он все-таки не однозначен и тем более, не «картонен», он и внутри действия – разный, он и усталый, и несчастный, и обиженный, и – «на коне», страстный, увлекающийся, и даже сам порой верящий – «здесь-и-сейчас» в собственную правоту, и даже в любовь и дружбу. И жалость. К этим глупым (не раз подчеркивающий именно эту характеристику людей), жадным и слабым людишкам. Собственно, так и должен относиться тиран. Все же остающийся человеком, боящийся в то же время, какую бодягу от замутил. Разность состояний, внезапность переходов, многообразие красок – этого еще недостает и есть куда развиваться и спектаклю и конкретно центральной роли – Ричарда. Он лицедей, и этим все сказано. Но это значит лишь то, что потенциал у спектакля далеко не исчерпан, он будет наращивать, надеюсь, и обретать четкость ритма, без которого возможно распадение на отдельные моменты-эпизоды, чего все-таки не хотелось бы. При всей «вкусности» отдельных диалоговых сцен взаимодействия Ричарда с остальными. Замечательны в этом смысле созданные и сыгранные сцены с королевой Елизаветой (арт. О.Кирилочкина): тонкой, яркой, по-хорошему театральной, вкусово практически безупречной, - леди Анной (арт. В. Созонова): с острой и подлинно современной манерой существования, - герцогиней Йорской (арт. Г.Маслеников): шаржированной, но и трагически наполненной… Что касается мужских образов, то они не столь однородны по накалу и нерву страстей, которые испытывают, но, безусловно, действительно хорош ближайший друг и в последующим один из злейших врагов – герцог Бекингем (арт. Д.Плохов), не боящийся крупных планов и выходов на авансцену, он действительно ведет свою роль, свою игру, не совпадающий с игрой Ричарда, он не всегда в его тени, даже наоборот, вот поэтому он дольше всех, наверное, и держится в мире живых. Особенно надо сказать о Маргарите (арт. Е.Балтин), сыгранная мужчиной-актером, потерявшая тем самым всякое женское как правило податливое начало (и она действительно противопоставлена самому Ричарду), она уже поднята на высоту ведьминского, исчадия ада, она несет особую нагрузку, именно от ее проклятия начинается вся эта нисходящая в преисподнюю чехарда. Она – тот ад, который ждет Ричарда. Она его заманивает и затаскивает. И в этом исполнении есть и гротеск, и необходимая «сказочность», но и фарсовость, и подлинная театральность. Что для Шекспира более чем естественна. На это интересно смотреть, это сделано с чувством и ощущением театральной природы. Интересно, что явные (в трактовке пьесы) ангелы, безвинные жертвы – два принца, возможные в будущем претенденты на престол, описывающиеся в тексте в самых возвышенных выражениях, - в спектакле вынесены как буквальные дебилы-переростки, инфантильность которых в будущем может обернуться еще теми жертвами… И их смерть – уже не так чудовищна, а просто неизбежно, как неизбежное зло как «малое зло» становится объяснимым перед возможным «большим», если не совершится сейчас. В этом мире все зло, здесь нет по-настоящему «хороших», за которых следует «болеть», и это правильно, ибо именно Ричард призван стянуть на себя и все возможное (как это ни странно) сочувствие. И в этом смысле даже еще не запятнавший себя действующий король Эдвард (арт. Г.Маслеников) – лишь слабый и безвольный, умирающий и не вызывающий особого сочувствия – как слабый перед правом того, кто сильнее. На троне должен быть сильный. Слабость порождает не меньшие (если не большие) беды. Особо надо отметить единственную сцену «выхода в зал» как «выхода в народ» – выламывающуюся, но создающую тем самым необходимый объем действия, налично, то есть, реально – отрабатывающей смысл современного осуществления пьесы. Нельзя, конечно же, откреститься от современной, сегодняшней ситуации «за пределами театра», контекста, в который погружен этот спектакль, но не было сделано сознательно проведенных явных и прямых аналогий (к большому счастью), которые умирают так же скоротечно, не имея возможности остаться в изменяющемся мире, но и лишающие глубины само действие. Здесь же все возникающие в сознании отсылки в прочтении – лишь наши необходимые и неизбежные ассоциации, избегающие дурной указательности (на «мэров и губернаторов»). Кому надо, тот разберется. Музыкальное решение так же намеренно современно, даже «драйвово», задающее ритм и атмосферу чудовищного и чудесного действа, это тема Ричарда, темной стороны его души, наиболее выразительна. Может быть, большее количество разнообразных тем, сколоченных в единый сонм происходящего развертывающегося на сцене, дали бы более красочную картину (как и – аналогично – несколько повторяющиеся куски, фрагменты картин Босха, транслирующиеся на полотнища – вряд ли должны повторяться, даже если они привязаны (и это считывается) к определенным сценам, персонажам… Но это все – придирки, не мешающие основному положительному впечатлению.). Вообще спектакль не скучный и не дурно пафосный, чего избежать особенно нелегко, в повсеместной увлеченности обличить зло, а не – разобраться с ним. И начинать стоит – с самого себя. Только там мы можем хоть что-нибудь изменить. Или хотя бы – попытаться осознать. Татьяна Филатова