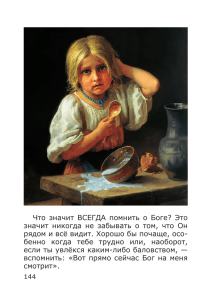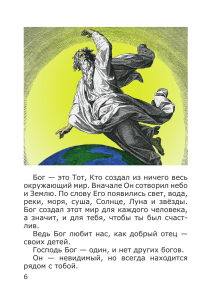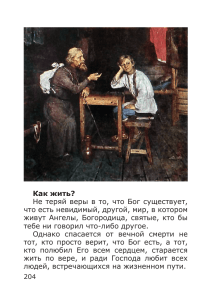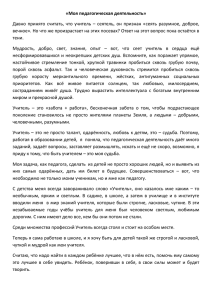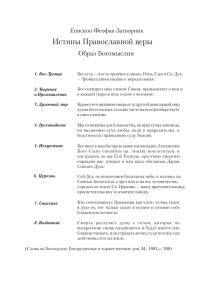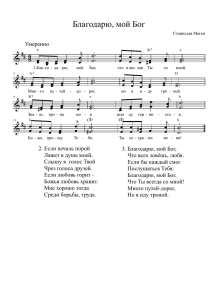И все же, чего бы ни было до слова, перед словом или в начале
advertisement

И все же, чего бы ни было до слова, перед словом или в начале слова, от самого слова нам, похоже, никуда не деться. Слово — это зеркало, которое отражает и удваивает реальность, причем человек не в состоянии увидеть самой реальности — он может видеть только ее отражение в зеркале слова. Что говорить о человеке, если согласно Писанию сам Бог нуждался в Слове, для того чтобы увидеть то, что Он Сам замыслил? «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош». Получается, что Бог увидел свет только после того, как произнес слово «свет». Стало быть, для того, чтобы увидеть свой замысел, Бог тоже нуждается в зеркале слова. И здесь можно обнаружить непроходимую пропасть, разделяющую Слово Бога и слово человека. Бог говорит и видит, что Он говорит, а человек видит и говорит, что он видит. Бог своим Словом создал зверей и птиц, для того чтобы показать их Адаму, а Адам давал имена тому, что показывал ему Бог. Эта ситуация очень хорошо высвечивает проблему соотношения божественного и человеческого слова. Слово Бога — это первичное, производящее, творческое Слово, слово же человека — это вторичное, воспроизводящее слово. И это совпадает с данными современной психолингвистики, согласно которым и в филогенезе, и в онтогенезе появлению слова предшествовал указательный жест и визуальный образ. Слово Бога и слово человека обладают совершенно разными, возможно, даже несводимыми друг к другу природами, и природу божественного слова, скорее всего, невозможно познать при помощи слов человека. Тем не менее сама эта невозможность может быть осознана только на словесном уровне, то есть реальность этой невозможности мы можем увидеть только в зеркале слова, и, таким образом, мы снова приходим к выводу о том, что от слова нам никуда не деться. Но здесь в очередной раз возникает вопрос: «А можем ли мы каким-то образом все же выскользнуть из-под власти слова, преодолев прессинг “империализма логоса”, или же мы вечно должны смотреть на отражение реальности в слове, вместо того чтобы пребывать в самой реальности?» На первый взгляд, положение выглядит совершенно безнадежно, ибо человек является человеком только благодаря слову, и вне слова ни о каком человеке не может быть и речи. Если, задумав погрузиться в реальность саму по себе, человек решится отбросить слова, преграждающие доступ к этой самой реальности, то тут же окажется, что нет ни реальности, ни самого человека, ибо отказ от слова автоматически делает несуществующим как то, во что следует погрузиться, так и того, кто собирается совершить погружение. И все же мне кажется, что некая возможность преодоления диктатуры слова может иметь место и для этого вовсе не нужно отбрасывать слова и начисто отказываться от любого слово употребления — нужно лишь попытаться использовать слова каким-то иным способом, попробовать использовать их не по их прямому назначению. Ведь если правда, что слово — это зеркало, которое отражает реальность, то этим зеркалом можно воспользоваться двумя совершенно различными способами. Можно без конца рассматривать то, что отражается в зеркале, а можно поступить с зеркалом так, как поступила с ним одна маленькая девочка по имени Алиса. Как известно, она, не особенно утруждая себя разглядыванием отражаемого в зеркале, просто прошла сквозь это отражение и сквозь само зеркало. Применительно к нашему случаю можно было бы говорить о том, что Алиса, пройдя сквозь слово и сквозь его значение, обнаружила себя по другую сторону слов в некоем «засловье», и, может быть, это является наиболее радикальной попыткой проникновения в тайну слова. Характерно, что здесь, так же как и в фильме Тарковского, к тайне слова прикасается именно ребенок, но если у Тарковского этим ребенком является задающий вопросы мальчик, то здесь место мальчика занимает девочка, которая, вместо того, чтобы задавать вопросы, просто проходит сквозь слово. Это очень симптоматично, и это позволяет говорить о двух путях, ведущих к тайне слова, — о пути мальчика и пути девочки, каждый из которых обладает своими собственными характеристиками взаимоотношений сознания с реальностью. Мне кажется, что идея двух путей — пути мальчика и пути девочки — нашла предельно четкое претворение в двух последних главах джойсовского «Улисса». Предпоследняя глава — «Итака», посвященная Блуму, построена по принципу катехизиса, превращающего единое пространство текста в систему вопросов и ответов, и это полностью соответствует природе мальчика, задающего вопросы. Последняя же глава — «Пенелопа», произносимая засыпающей Молли, — по принципу потока сознания, превращающего текст в некую нечленораздельную асинтаксическую массу и растворяющего смысл слова в мощной стихии подсознательных и даже биологических импульсов, что полностью соответствует природе девочки, проходящей сквозь слово, как Алиса сквозь зеркало. Характерно также и то, что все вопросы и ответы в «Итаке» даются в третьем лице, что подчеркивает господство субъект-объектных отношений, в то время как повествование «Пенелопы» ведется от первого лица, полностью растворяющегося в повествуемом, что в значительной степени размывает четкость субъект-объектных отношений и приводит к тому, что сознание не противопоставляется реальности, как то происходит в вопросно-ответной форме катехизиса, но погружается в нее и сливается с ней. Однако кристаллически четкое противопоставление двух путей, выявленное Джойсом, на практике не всегда воспринимается как нечто равноценное и равноправное, и, может быть, особенно наглядным это становится на примере западноевропейской метафизической парадигмы. Дело в том, что западная цивилизация — это по преимуществу мужская цивилизация, а метафизика — это по преимуществу мужское предприятие;недаром тот же Деррида, развивая идею логоцентризма, добавляет к списку онто-, тео-, телео-, фоно- и прочих центризмов еще и фаллоцентризм, что дает повод говорить не только об «империализме логоса», но и об «империализме фаллоса». Естественно, что в таком контексте многие проявления женского начала воспринимаются не просто как нечто маргинальное, но и как нечто посягающее на основы цивилизационной парадигмы. Так, женская болтовня посягает на смыслообразующую силу слова, а женская логика посягает на саму логику. Но есть и другое. В условиях западной цивилизации девочки гораздо чаще становятся ведьмами, чем мальчики колдунами. Во всяком случае, если говорить о количестве, западная история знает гораздо больше ведьм, чем колдунов, — неслучайно нам известна книга «Молот ведьм» и неизвестна книга «Молот колдунов». Вполне возможно, что ведьмачество как способ поведения, получения и передачи знания уходит корнями в далекое допатриархальное прошлое и зарождается где-то в неясных безднах матриархата, в результате чего в нашей мужской цивилизации все женщины в какой-то степени представляют собой «пятую колонну». Впрочем, сейчас я не буду углубляться в эту тему и скажу лишь, что, несмотря на явное и видимое преобладание «мужского» и «логоцентрического», западная цивилизация представляет собой все же скорее сложное переплетение путей мальчиков с путями девочек, причем переплетение настолько запутанное, что иной раз трудно разобраться, где что. Порою начинает преобладать путь мальчиков, порою — путь девочек. Бывают времена, когда необходимо бесконечно задавать вопрос «почему?» и неустанно отыскивать на него ответы. А бывают времена, когда, вместо того чтобы задавать вопросы, нужно, подобно Алисе, войти в слово и пройти сквозь него, чтобы оказаться в какой-то новой, неведомой реальности. Мне кажется, что сейчас наступило именно такое время — время Алисы. Можно подумать, что когда я говорю о способности к прохождению сквозь слово, то говорю о чем-то фантастическом и невозможном, однако я уверен в том, что эта способность естественным образом присуща каждому человеку в очень-очень раннем детстве. Каждый человек, будучи ребенком, когда-то не умел ни читать, ни писать и вообще не имел никаких представлений о грамотности, и вот именно в это предграмматическое, девственное время способность к прохождению сквозь слово может проявиться в любую минуту. Когда не умеющий читать ребенок видит перед собой текст, то воспринимает его не как текст, который нужно читать, но как картинку, на которую нужно смотреть. Не обладая навыком водить глазами вдоль строки и переходить от одной строки к другой, он видит все строки сразу, воспринимая их как единое целое. В результате этого взгляд уже больше не скользит по поверхности листа, но направлен строго перпендикулярно по отношению к нему, как бы пытаясь пройти сквозь него, а время, необходимое для движения взгляда вдоль строк, превращается в некий застывший момент, исключающий какие-либо векторнонаправленные темпоральные представления. Здесь возникает сразу несколько тем…