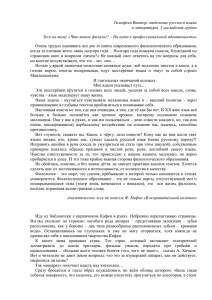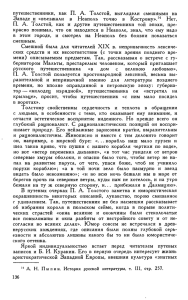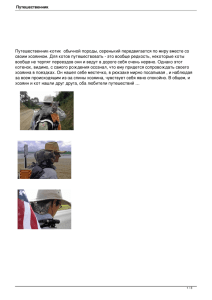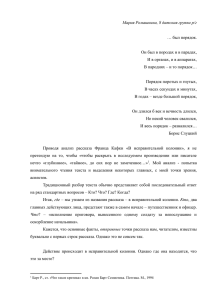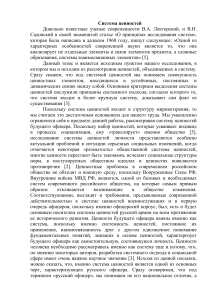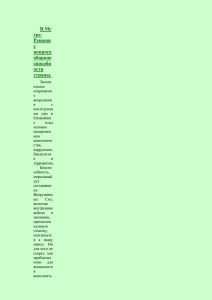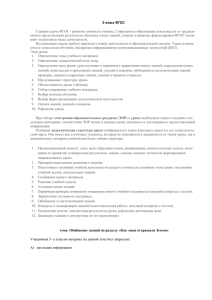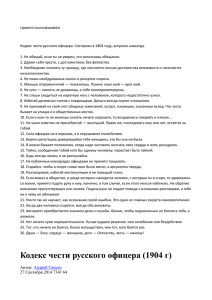Знал ли Макс Хоркхаймер, в какие ненадёжные руки он отдаёт
advertisement
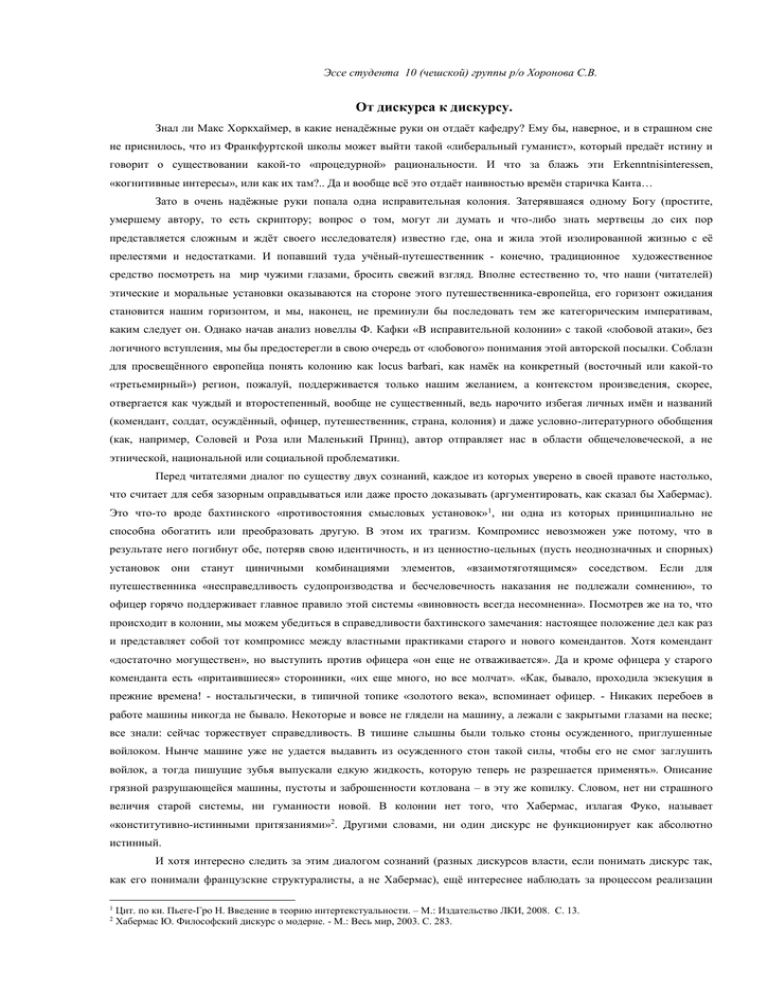
Эссе студента 10 (чешской) группы р/о Хоронова С.В. От дискурса к дискурсу. Знал ли Макс Хоркхаймер, в какие ненадёжные руки он отдаёт кафедру? Ему бы, наверное, и в страшном сне не приснилось, что из Франкфуртской школы может выйти такой «либеральный гуманист», который предаёт истину и говорит о существовании какой-то «процедурной» рациональности. И что за блажь эти Erkenntnisinteressen, «когнитивные интересы», или как их там?.. Да и вообще всё это отдаёт наивностью времён старичка Канта… Зато в очень надёжные руки попала одна исправительная колония. Затерявшаяся одному Богу (простите, умершему автору, то есть скриптору; вопрос о том, могут ли думать и что-либо знать мертвецы до сих пор представляется сложным и ждёт своего исследователя) известно где, она и жила этой изолированной жизнью с её прелестями и недостатками. И попавший туда учёный-путешественник - конечно, традиционное художественное средство посмотреть на мир чужими глазами, бросить свежий взгляд. Вполне естественно то, что наши (читателей) этические и моральные установки оказываются на стороне этого путешественника-европейца, его горизонт ожидания становится нашим горизонтом, и мы, наконец, не преминули бы последовать тем же категорическим императивам, каким следует он. Однако начав анализ новеллы Ф. Кафки «В исправительной колонии» с такой «лобовой атаки», без логичного вступления, мы бы предостерегли в свою очередь от «лобового» понимания этой авторской посылки. Соблазн для просвещённого европейца понять колонию как locus barbari, как намёк на конкретный (восточный или какой-то «третьемирный») регион, пожалуй, поддерживается только нашим желанием, а контекстом произведения, скорее, отвергается как чуждый и второстепенный, вообще не существенный, ведь нарочито избегая личных имён и названий (комендант, солдат, осуждённый, офицер, путешественник, страна, колония) и даже условно-литературного обобщения (как, например, Соловей и Роза или Маленький Принц), автор отправляет нас в области общечеловеческой, а не этнической, национальной или социальной проблематики. Перед читателями диалог по существу двух сознаний, каждое из которых уверено в своей правоте настолько, что считает для себя зазорным оправдываться или даже просто доказывать (аргументировать, как сказал бы Хабермас). Это что-то вроде бахтинского «противостояния смысловых установок»1, ни одна из которых принципиально не способна обогатить или преобразовать другую. В этом их трагизм. Компромисс невозможен уже потому, что в результате него погибнут обе, потеряв свою идентичность, и из ценностно-цельных (пусть неоднозначных и спорных) установок они станут циничными комбинациями элементов, «взаимотяготящимся» соседством. Если для путешественника «несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению», то офицер горячо поддерживает главное правило этой системы «виновность всегда несомненна». Посмотрев же на то, что происходит в колонии, мы можем убедиться в справедливости бахтинского замечания: настоящее положение дел как раз и представляет собой тот компромисс между властными практиками старого и нового комендантов. Хотя комендант «достаточно могуществен», но выступить против офицера «он еще не отваживается». Да и кроме офицера у старого коменданта есть «притаившиеся» сторонники, «их еще много, но все молчат». «Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! - ностальгически, в типичной топике «золотого века», вспоминает офицер. - Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять». Описание грязной разрушающейся машины, пустоты и заброшенности котлована – в эту же копилку. Словом, нет ни страшного величия старой системы, ни гуманности новой. В колонии нет того, что Хабермас, излагая Фуко, называет «конститутивно-истинными притязаниями»2. Другими словами, ни один дискурс не функционирует как абсолютно истинный. И хотя интересно следить за этим диалогом сознаний (разных дискурсов власти, если понимать дискурс так, как его понимали французские структуралисты, а не Хабермас), ещё интереснее наблюдать за процессом реализации 1 2 Цит. по кн. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 13. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. - М.: Весь мир, 2003. С. 283. властной практики офицера и переживаниями путешественника. Принципы власти офицера (старого коменданта) строятся, очевидно, на «рациональности управления», которая, в свою очередь, порождается «техническим когнитивным интересом» (по Хабермасу). Что это значит? Человек, руководствуясь желанием подчинить себе природу, создаёт целый комплекс технических средств, которые должны эффективно работать. Для этой цели в свою очередь создаётся объясняющая наука (Хабермас, как и Фуко, видел начало воли к власти в начале воли к знанию; очевидно, изза близости теоретических предпосылок были возможны те бесконечные дискуссии, в которые вступали философы). Власть, таким образом, начинается как управление технологией. Такое властвование и порождает «рациональность управления». Но есть и «рациональность понимания», за которую путешественник-европеец и мы с вами. Такая рациональность может быть не менее эффективным инструментом управления, а главное, она пропитана тем духом гуманизма, на который мы так падки. Эта рациональность рождается в результате удовлетворения практического когнитивного интереса: люди заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно организовать свою совместную деятельность, что возможно в процессе углубления взаимного понимания (interactive understanding)1. Если перейти к конкретике, то можно сказать, что наказание представляется офицеру, скорее, как насильственное излечение, усиленная терапия, в конце концов просто уничтожение, а вовсе не как диалог или попытка убедить и изменить. Привычное нам правосудие, обращаясь к душе преступника, так или иначе вступает в диалог с ним, пытаясь «объяснить», в чём и почему он был неправ, заставить его впредь так не поступать. Поэтому современными уголовными законами (например, УК РФ) задача предупреждения преступлений постулируется в последнюю очередь, а принцип «возмездия» отсутствует вообще. Зато важен принцип гуманности наказания, оно должно исправить, а не отомстить. (В связи со сказанным очень хочется подискутировать с Фуко. Не подписывая карт-бланш своей и без того не на шутку разыгравшейся философской музе, скажем только о том, что, на наш взгляд, корни перехода от наказания театрализованного к наказания «потайному», от публичных четвертований к одиночным камерам стоит искать не только в переключении с одного объекта (тело) на другой (душа), но и в самом режиме говорения с осуждённым. В конце концов при смене объекта нельзя не поменять и подход к нему: с профессором на экзамене и с младшим братом или сестрой мы разговариваем по-разному.) Интересна и та психологическая игра, с которой читателю подаётся описание казни. Авторское повествование на протяжении всего рассказа почти не перебивается никакими приёмами субъективации (если забыть о совсем привычных речевых приёмах – прямой речи персонажей), повествователь лишь несколько раз позволяет себе заговорить голосами героев. Все из них – примеры несобственно-прямой речи или путешественника («Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру2 никак не уразуметь»), или осуждённого – в форме внутреннего монолога («В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит?»). Такое поведение повествователя, по-видимому, репрезентирует авторскую оценку, которая на стороне пары путешественникосуждённый. Два этих персонажа действительно связаны своего рода отношениями двойничества (хотя стоит понимать намного большую самостоятельность путешественника в этой паре). Текстуально такая «связка» обнаруживается в том, что осуждённый настойчиво повторяет действия путешественника либо вступает с ним в невербальный диалог («Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами»; «путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру»; «путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи»). Особо показателен эпизод, когда лёжа на аппарате осуждённый невольно протягивает руку (прося, если хотите, руки помощи) в сторону, где стоит путешественник. На содержательном же уровне такую игру можно интерпретировать не как стремление осуждённого к путешественнику, а напротив как попытку путешественника встать на место осуждённого. И читатель действительно в 1 2 См. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.:Гуманит. изд. Центр Владос, 2003. С. 776-777. Курсив наш. определённый момент чтения может представить себе на лежаке путешественника (сострадание, жалость к казнимому и неприятие палача сразу усиливаются в разу). Особенно хорошо такая замена ощущается в том «повисшем» моменте повествования, когда офицер освобождает осуждённого. Мы ждём, что же будет дальше. Выслушав вердикт путешественника, офицер достаёт чертёж с заповедью «Будь справедлив». Читатель ожидает, что сейчас будет казнён путешественник, не сумевший, по мнению офицера, справедливо оценить систему правосудия в колонии, но «миниретардация» разрешается неожиданно: под борону ложится сам офицер. Медленно убивая офицера, разрушается сама ужасная машина (абстрактнее – система, дискурс). Тело «короля» не удваивается, оно напротив представляет собой довольно жалкое зрелище вместе с разрушающимся аппаратом. Очевидно, потому, что у «короля» уже нет никакого избытка власти да и вообще он уже не король, а осуждённый, подвергаемый казни. Однако сменив позицию «короля» на позицию «подданного», офицер не успел сформировать у себя ту самую вторую душу, о которой пишет Фуко 1. Поэтому он и не получил того «избавления», которое любили демонстрировать детям при старом коменданте («Тут он [путешественник] почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления: того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел»). Кафка в этом образном ряду всё же следует традиционной метафоре «тело – тюрьма души» (а не наоборот, как у Фуко). Поэтому освобождаясь от тела, казнимый являл свою душу. Офицеру же было нечего явить. Такое описание смерти офицера, пронизанное эмоцией, которая сродни романтической иронии, ставит ещё одну морально-этическую проблему: как господство отражается на внутреннем мире человека, грубо говоря, есть ли душа у власть имущих. Финал новеллы заставляет нас задуматься о дискурсе в понимании Хабермаса. «Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!» - гласит надпись на памятнике старого коменданта. И действительно, а есть ли гарантия, что всё через какое-то время не повторится вновь? Вновь не придёт комендант и вновь не загудит зловещая машина, расписывая бесконечной чередой завитушек чью-нибудь спину? Как кажется, автор допускает такую возможность. Бесконечен процесс аргументации и опровержения, утверждения чего-то в качестве истинного и его свержения. Вот она, эта непонятная хабермасовская «процедурная» рациональность. Вот он дискурс как становление на пути к истине. 1 См. первую главу кн. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. Филология и я. Замечательно, что человек может размышлять сам над собой. Феномен рефлексирующего сознания занимал многие великие умы (уже третья степень опосредованности!), а ценим ли мы его, этот феномен? Не оскорбляем ли его пошлостью? Положа руку на сердце, надо сказать, что очень часто мы обманываем то своё «второе» я. Воспринимая его как равноправный субъект, мы и поступаем с ним, как с внешним, так сказать, субъектом. Как результат – ограниченная самоуспокоенность вместо возможного недовольства, которое ведёт к какому бы то ни было, но, если угодно, «исправлению». И если удовольствие объективной (не говорим о флагелатском самобичевании) рефлексии – дело сугубо эгоистическое при всей своей возвышенности, удовлетворяющее только рефлексирующего субъекта, то возможные результаты верной (не корите автора этих строк за наивную оценочность, он не говорит об абсолюте, а лишь уверен в возможности рассуждать о надличностном абсолюте: да, то, что кажется верным одному субъекту, может ожесточённо оспаривать другой, однако если попытаться «очистить» голоса оппонентов от эмоций и нежелания уступить, а также не забывать о том, что они вообще могут спорить, а значит находят общий для рассуждения фундамент, то надо признать наличие некоего надличностного, объективного начала) рефлексии – дело уже не только личности, но и её окружения. Поэтому плоды рефлексии субъекта часто бывают значимы если не в общечеловеческом, то уж точно в социальном масштабе (в масштабе той социальной общности, в которой он «экзистирует»). То, что начинается как субъективное, взращивает общезначимое. Это возможно как раз благодаря объективному подходу к рефлексию Всё, обещаю больше не тяготить проверяющего тяжеловесными рассуждениями, впредь буду пресекать на корню все ростки философствования. Однако моё мрачное вступление было неписано не зря. Таким не очень адекватным и многословным способом я попытался обосновать своё право, во-первых, на честность, а во-вторых, на субъективность. - Ты на каком факультете учишься? – спросили у меня недавно. - На филологическом, - ответил я. - Это что за ерунда такая? – возмутился простодушный собеседник. Нас, коллеги, давно не знают и не хотят знать. А малая часть знающих (кто с улыбкой, кто с ехидной усмешкой, кто с грубым издевательством) задаёт один и тот же вопрос: зачем нужна ваша наука? Что она миру даёт? Дома вы строите? Людей лечите? Танки собираете? В современном обществе очень трудно отбиваться от таких нападок. Лично мною не раз предпринимавшаяся попытка увещевать и предупреждать о важности не только «внешнего», но и «внутреннего» строительства, о необходимости сохранять свою национальную идентичность, которая невозможна без поддержания культурной традиции и без которой все эти танки, самолёты и троллейбусы становятся ненужным придатком обезьяньей колонии, методично терпела фиаско. Обыватель не чувствует и не понимает этого. А должен ли? Лучше даже спросить, а может ли? Пожалуй, для него это очень сложно. И отчасти вина лежит на нас самих. То ли от интеллигентской позы, то ли от усталости вообще что-либо объяснять и доказывать мы не дали обывателям возможности соприкоснуться с этим эфемерным для них миром культуры. Если человек не понимает, что есть культура, как он может ценить её. Мы (люди сегодняшнего образа мысли) не жили без культуры и не знаем, что нас ждёт. Что нас ждёт без курса русской литературы в школе, без знания родного языка, без театров, музеев и кинематографа? Нам (филологам) кажется, что ничего хорошего, а кому-то, быть может, совсем иначе. Корни отступления филологии, снижение её популярности и престижности в обществе надо искать не только в обществе (хотя и в нём тоже), но и в самой нашей системе. Она тоже переживает глубокий кризис. Сегодня мы не знаем, как писать словари: нормативно, предписывая и приказывая, или «расширительно», учитывая узус. Мы не знаем, как описывать историю литературы: как поступательный процесс или как гигантский интертекст. Мы почти ничего не знаем, у нас нет единодушия. И против десяти защитников интертекста встанет, думаю, примерно столько же сторонников традиционного литературоведения (без смущения и даже с некоторой гордостью скажу, что среди них буду и я). Но, коллеги, что может быть нелепее, чем сказать обывателям: «Мы не знаем, как правильно»? Тогда ясен их скепсис, их нежелание вообще считать филологию научной дисциплиной. Каков выход? Расписываюсь в бессилии ответить на подобный вопрос. Но ведь каково бы ни было наше положение в обществе, мы всё равно продолжаем оставаться как бы над ним в силу особенностей своего труда. Всё-таки пока мы решаем, что будут читать (а главное, как это будут понимать), как будут писать и каковой вообще будет коммуникация. (Во многом в силу этой излишней императивности нас и не любят.) Забавно только то, что эта верхушка, решающая не так уж мало, оказывается компанией вечно гонимых и непризнаваемых. Важно ли для меня, что меня не признают? Нет и ещё раз нет. Для меня как для личности непризнание важности моей профессиональной деятельности не имеет никакого значения, потому что я сам в силах обосновать её важность для себя. Мне, собственно говоря, никогда не надо было доказывать и право филологии на существование, я в этом не сомневался, она вообще всегда казалась и сейчас продолжает казаться самодостаточной. В этом утверждении, конечно, больше личной эмоции, чем объективности, но я же обосновал в самом начале эссе своё право на субъективность. Я поступал на филологический факультет с абсолютно твёрдым и осознаваемым решением заниматься филологией серьёзно, как наукой. А свой выбор именно этого факультета обосновывал стремлением приобщиться к культурному наследию и фундаментальному знанию. После почти двух лет довольно тяжёлой и кропотливой работы я только укрепился в своём стремлении. А одной из целей своей дальнейшей жизни (говорю это искренне, без желания бросаться громкими словами) вижу работу на сохранение филологического знания. Естественно, эта работа будет ничтожнозначительной и в силу скромности моих талантов, и в силу многих других причин, однако, сложив усилия множества скромно одарённых людей, можно не только сохранять, но и развивать нашу науку.