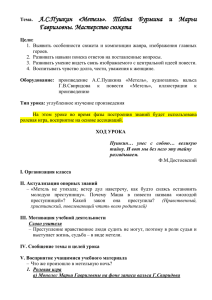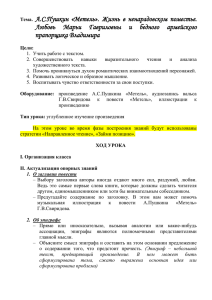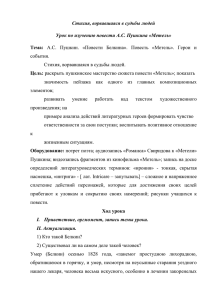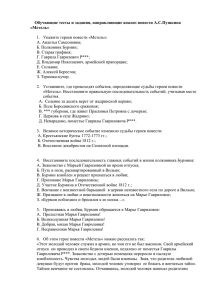Целостный анализ повести А. С. Пушкина
advertisement
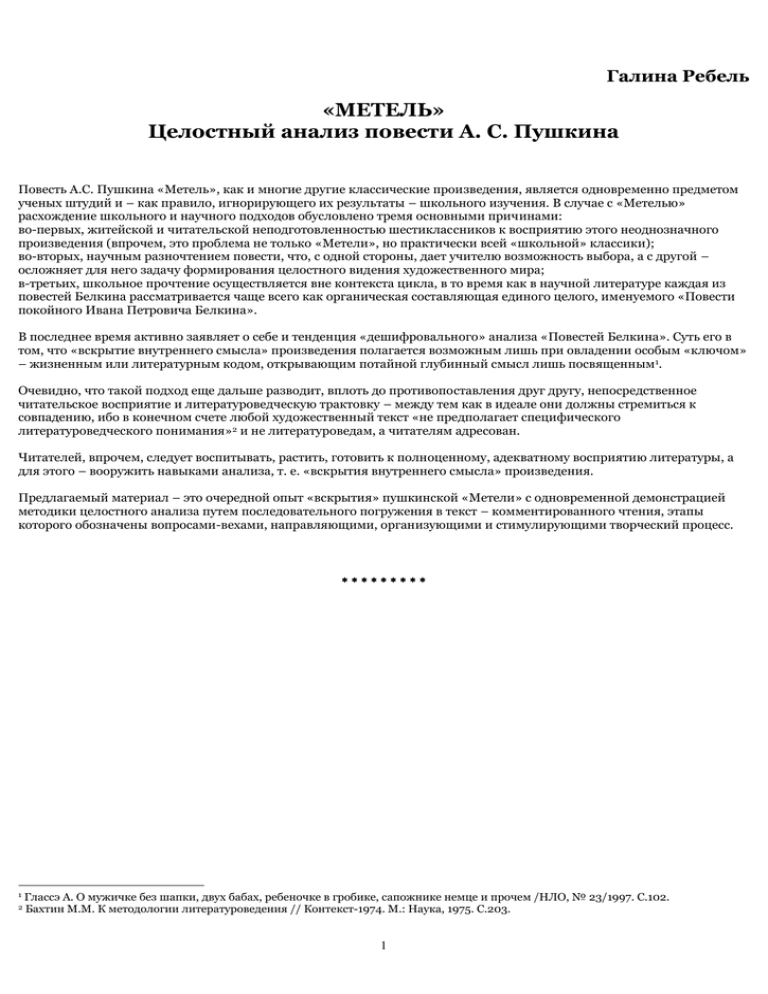
Галина Ребель «МЕТЕЛЬ» Целостный анализ повести А. С. Пушкина Повесть А.С. Пушкина «Метель», как и многие другие классические произведения, является одновременно предметом ученых штудий и – как правило, игнорирующего их результаты – школьного изучения. В случае с «Метелью» расхождение школьного и научного подходов обусловлено тремя основными причинами: во-первых, житейской и читательской неподготовленностью шестиклассников к восприятию этого неоднозначного произведения (впрочем, это проблема не только «Метели», но практически всей «школьной» классики); во-вторых, научным разночтением повести, что, с одной стороны, дает учителю возможность выбора, а с другой – осложняет для него задачу формирования целостного видения художественного мира; в-третьих, школьное прочтение осуществляется вне контекста цикла, в то время как в научной литературе каждая из повестей Белкина рассматривается чаще всего как органическая составляющая единого целого, именуемого «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». В последнее время активно заявляет о себе и тенденция «дешифровального» анализа «Повестей Белкина». Суть его в том, что «вскрытие внутреннего смысла» произведения полагается возможным лишь при овладении особым «ключом» – жизненным или литературным кодом, открывающим потайной глубинный смысл лишь посвященным1. Очевидно, что такой подход еще дальше разводит, вплоть до противопоставления друг другу, непосредственное читательское восприятие и литературоведческую трактовку – между тем как в идеале они должны стремиться к совпадению, ибо в конечном счете любой художественный текст «не предполагает специфического литературоведческого понимания»2 и не литературоведам, а читателям адресован. Читателей, впрочем, следует воспитывать, растить, готовить к полноценному, адекватному восприятию литературы, а для этого – вооружить навыками анализа, т. е. «вскрытия внутреннего смысла» произведения. Предлагаемый материал – это очередной опыт «вскрытия» пушкинской «Метели» с одновременной демонстрацией методики целостного анализа путем последовательного погружения в текст – комментированного чтения, этапы которого обозначены вопросами-вехами, направляющими, организующими и стимулирующими творческий процесс. 1 2 Глассэ А. О мужичке без шапки, двух бабах, ребеночке в гробике, сапожнике немце и прочем /НЛО, № 23/1997. С.102. Бахтин М.М. К методологии литературоведения // Контекст-1974. М.: Наука, 1975. С.203. 1 И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет. А.С. Пушкин Невластны мы в самих себе И, в молодые наши леты, Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе. Е.А. Баратынский Вхождение в мир художественного произведения, первое приобщение к нему начинается с названия – «визитной карточки», «вывески» текста. Название создает предварительное впечатление о произведении, настраивает читателя на определенный лад, задает эмоциональный тон, подталкивает работу воображения. Порой оно обнимает собою текст, формулирует его тему, идею. В других случаях оно знак, ярлык, констатация запечатленного явления или предъявление главного героя. Так или иначе, мы, вольно или невольно, сознательно или подсознательно, ориентируемся на название в процессе чтения, соотносим с ним разворачивающуюся перед нами картину и обязательно возвращаемся к нему в итоге, заново осмысляя его в контексте художественного целого, а это целое, в свою очередь, полнее и глубже уясняем с его помощью, поверяем им. Как воздействует на читателя название повести «Метель»? Что оно обещает? Самое естественное, буквальное, лежащее на поверхности предположение – картина зимней непогоды: снег, ветер, разбушевавшаяся стихия. Но, поскольку главным предметом художественного изображения всегда, о чем бы ни шла речь, является человек, естественно спроецировать смятение в природе на смятение в душе и /или/ судьбе героя, на неожиданный и резкий – стихийный – поворот в его жизни. Название «Метель» порождает тревожное ожидание какого-то потрясения, перелома, предвкушение динамичного, острого развития сюжета, «метельности», т.е. взвихренности, неожиданности, круговерти событий, драматического их развития. При этом ожидаемый драматизм совсем не обязательно чреват трагедией: метель – это тревога, смятение, сумятица, путаница, но далеко не всегда крушение, катастрофа, хотя и такой вариант не исключен. Возможен и другой сюжетный ход: взвихренности, тревожности и непредсказуемости внешних обстоятельств противостоит устойчивость, стабильность (социальная, нравственно-психологическая) героя, что, в свою очередь, может быть следствием полярных причин – косности или, напротив, стойкости и верности себе. Так или иначе, очевидно, что название пушкинской повести интригует и сулит увлекательный сюжет. Это впечатление подтверждается и закрепляется эпиграфом. На что настраивает эпиграф? Прежде всего, эпиграф (фрагмент поэмы В.А. Жуковского «Светлана») задает стремительный темп. Он подхватывает заявленную в названии «метельную» тему и настраивает на романтический лад. Динамизм создается стремительностью движения, запечатленного в первой строке («Кони мчатся по буграм») и подхваченного и усиленного обилием последующих глагольных конструкций («топчут* снег глубокий», «снег валит клоками», «черный вран, свистя крылом, вьется», «вещий стон гласит печаль», «кони ... смотрят», «вздымая гривы») и безглагольных, но выражающих движение лексических единиц («Вдруг метелица кругом», «кони торопливы»). При этом интенсивность движения, напряженная подвижность всей картины имеет не однонаправленный, линейный, а вихревой, смятенный характер. Первоначальное целеустремленное одоление пространства («Кони мчатся по буграм») вскоре дезориентировано появлением божьего храма «в сторонке», затем прервано, смято, сбито с курса «метелицей», неожиданно комкающей пространство («вдруг метелица кругом») и застилающей путь («снег валит клоками»); и, в конце концов, стремительное целенаправленное движение переходит в тревожное ожидание неведомого, предчувствие беды («Черный вран, свистя крылом, Вьется над санями; Вещий стон гласит печаль») и напряженную устремленность навстречу этому неведомому («Кони торопливы Чутко смотрят в темну даль, Воздымая гривы»). Судьбоносная значимость происходящего подчеркнута образом божьего храма – знака не только пространственного, но и жизненного пути, ибо с ним неразрывно связаны главные события человеческой жизни – рождение, бракосочетание и ее неизбежный конец – смерть. Таким образом, эпиграф подтверждает драматические упования читателя, порожденные названием, задает энергичный тон, создает тревожное настроение и обещает романтическое развитие сюжета. Как соотносятся между собой эпиграф и начало рассказа? Соотношение это, пожалуй, точнее всего определить как резкую смену планов, при которой содержательный сдвиг сопровождается кардинальным изменением стиля и интонации повествования. * Здесь и далее курсив мой – Г.Р. 2 Вместо романтической приподнятости и таинственности – эпическое спокойствие и достоверность. Вместо взволнованного и напряженного настоящего времени – уравновешенное и размеренное прошедшее. Вместо условносимволических знаков бытия (божий храм, метелица, темна даль) – пространственно-временная конкретика: «В конце 1811 года», «в своем поместье Ненарадове». Вместо ожидаемого романтического героя – никак на эту роль не подходящий «добрый Гаврила Гаврилович Р**», который «славился во всей округе гостеприимством и радушием». Наконец, вместо интригующей завязки – однообразная обыденность, рутинное барское существование: «соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть» в карты и поглазеть на богатую невесту. Вряд ли можно согласиться с критиком, который утверждает, что «“Метель” начата как повесть мрачная, с трагическими возможностями, но едва ощутимая авторская ирония сопровождает рассказ» 3. «Метель» начата очень обыденно, спокойно, что являет собой демонстративный контраст с эпиграфом. Что же касается авторской иронии, то, поначалу действительно едва ощутимая, она уже со второго абзаца становится господствующей интонацией первого эпизода и настоятельно подсказывает необходимость постановки следующего вопроса: Кто и как ведет повествование? Иронический потенциал содержится уже в резкой смене характера и способа изображения в начале рассказа относительно эпиграфа. Но на поверхности текста ирония впервые проступает в характеристике Марьи Гавриловны – «стройной, бледной и семнадцатилетней девицы» – за счет неуместного в данном контексте союза и. Здесь, по мнению В. Виноградова, Пушкин использует «принцип неожиданного, субъективно-мотивированного присоединения», восходящий к традициям карамзинской литературы, ориентированной на стиль светской женщины, и сделано это, по мнению Виноградова, для того чтобы обнаружить в повествовании голос и позицию девицы К.И.Т., со слов которой якобы и была записана Иваном Петровичем Белкиным вся история4. Однако «неправильный» союз и в данном случае характеризует прежде всего не субъекта, а объекта речи – саму Марью Гавриловну, семнадцатилетие которой является не только относительной (констатирующей возраст), но и качественной характеристикой. В этом «...и семнадцатилетняя», нарочито уравненном с определениями «стройная, бледная», акцентировано то особое, рубежное состояние, когда детство уже кончилось, но все еще впереди, когда романтическая бледность есть атрибут возраста, когда возраст определяет душевный настрой и жизненные ориентиры; это состояние еще игривое (возможность выбора делает его таковым) и уже очень серьезное (выбирать приходится всего один из предложенных жизнью вариантов и ошибиться страшно). При этом намекающий союз и характеризует и субъекта речи – рассказчика, который тем самым словно подает знак читателю, приглашая его к взаимодействию, соучастию. Активность рассказчика, выраженность его присутствия в тексте резко возрастает и откровенно окрашивает повествование со второго абзаца. Повествовательное слово обретает двусмысленность, двуголосость (М.Бахтин). С одной стороны, оно направлено на предмет изображения – Марью Гавриловну и Владимира Николаевича. С другой стороны, рассказ о героях изобилует готовыми, заимствованными из сентиментальной литературы книжными формулами («карамзинизмами», как называет их В. Виноградов5), которые характерны для миро- и самовосприятия героев, пребывающих во власти романических речевых и поведенческих стереотипов: «предмет, избранный ею»; «пылал равною страстию»; «клялися друг другу в вечной любви»; «воля жестоких родителей» и т.д. и т.п. Использование многочисленных вводных конструкций усугубляет, усиливает иронический тон: настоятельно подчеркивая закономерность происходящего («следственно», «само по себе разумеется», «что весьма естественно»), рассказчик способом «от противного» акцентируют его игровую природу, вторичность относительно взятого за образец романного оригинала, тем самым порождая сомнения в серьезности романа Марьи Гавриловны и Владимира Николаевича, в глубине и подлинности их чувств. С точки зрения Виноградова, господствующую в тексте иронию «приходится относить не то к Белкину, не то к рассказчице»6, т. е. к номинальным субъектам речи, которые ориентируются на литературный образец – роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Дело, однако, обстоит не совсем так. Литературные штампы, которыми изобилует начало «Метели», как уже говорилось, характеризуют не манеру рассказчика, а жизненный стиль и способ самовыражения самих героев. Рассказ о Марье Гавриловне и Владимире Николаевиче ведется их языком, заимствованным ими из любимых романов и принятым как единственно приличествующий «романической» ситуации. В героев же метит и добродушная ирония рассказчика, который вводными вкраплениями изнутри взрывает стилистическую целостность повествования, помогая осознать манеру изложения не как стиль, а как стилизацию. Не исключено, что здесь содержится иронический намек и на девицу К.И.Т., которая должна была бы именно в таком духе излагать любовную историю, но вряд ли правомерно считать ее главным объектом иронии, тем более приписывать ей повествование – она явно «не тянет» на роль 3 4 5 6 Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.-Л.: Наука, 1966. С.36. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М.: ОГИЗ, 1941. С.546. Виноградов В.В. Указ. изд. С.552. Там же. 3 рассказчика, так умело играющего приемами чужого мышления 7, так артистично владеющего искусством совмещения чужого слова со своим собственным. Подходит ли на роль добродушно-ироничного повествователя Белкин? «Белкинский вопрос» до сих пор остается дискуссионным, и решать его в рамках анализа одной из повестей цикла невозможно, поэтому мы выносим его за скобки данного исследования и будем говорить лишь о том, что очевидно в контексте отдельной повести, ибо она, будучи частью цикла, в то же время является самостоятельным произведением и именно в этом качестве включена в школьную программу. Возвращаясь к рассказчику «Метели», отметим, в дополнение к сказанному ранее, его возрастающую по мере изложения активность. Уже в первой фразе он заявляет о себе: «В конце 1811 года, в эпоху, нам достопамятную...». Это нам – свидетельство личной причастности общей, коллективной судьбе в достопамятную эпоху и, одновременно, личной осведомленности в перипетиях частных судеб, ставших предметом повествования. Показательна формула наши любовники, с которой начинается третий абзац: в отличие от первого нам, которым заявлено субъектное присутствие, местоимение наши уже объединяет субъекта и адресата речи, рассказчика и читателя, становится грамматическим знаком приобщения читателя к художественному миру повести, превращения его в единомышленника, которому внятно и интересно не только то, о чем идет речь, но и то, как эта речь ведется. Повесть Пушкина «сделана» так, что способ рассказывания привлекает не меньше внимания, чем предмет рассказывания, по крайней мере в том первом эпизоде, содержание которого мы рассматриваем. Для удобства работы с текстом (особенно если речь идет о работе в классе) имеет смысл разделить повесть на отдельные эпизоды и условно обозначить каждый из них. Например, так: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Романические мечты и планы юных любовников. Тайные приготовления и побег невесты. Дневные хлопоты и ночные блуждания жениха. Болезнь и выздоровление Марьи Гавриловны. Гибель Владимира Николаевича. Лирическое отступление о победном завершении войны. Новый роман и счастливая развязка. Завершая анализ первого эпизода повести, который мы до сих пор рассматривали главным образом с точки зрения характера повествования, обратимся к тому, что составляет собственно содержание рассказа. Как развивается любовная история на первом своем этапе? По романическому стандарту, о чем свидетельствует смысл вводного слова и место его в предложении: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена». В полном соответствии с романическим сценарием, влюбленная барышня и ее пылающий «равною страстию» избранник не могут просто, тривиально воссоединиться – на роль препятствия в данном случае назначены «жестокие родители». В процессе активной переписки и тайных свиданий, взаимных клятв и сетований на судьбу молодые люди вынашивают план побега с целью тайного венчания. Сценарий предусматривает и последующее примирение с родителями, которые, вопреки своей «жестокости», не могут не растрогаться «героическим постоянством и несчастием любовников» и в конце концов скажут им непременно: «Дети! Придите в наши объятия». Здесь все вызывает улыбку: и наивное следование готовому образцу в проектировании собственной, единственной и неповторимой судьбы; и простодушная уверенность в полной осуществимости задуманного; и искусственная драматизация коллизии – об одном из «жестоких родителей» в начале повествования сказано «добрый Гаврила Гаврилович Р**», на доброте родителей держится во многом весь романический расчет. С ними, конечно, можно было договориться, не прибегая к такому кардинальному средству, как побег, – и доказательства тому есть в повести: испуганные болезнью дочери, они сами предлагают ее в жены Владимиру Николаевичу. Но без «воли жестоких родителей» не получилось бы «как в романе»... А без этого «как» – что остается? Действительно ли любят друг друга Марья Гавриловна и Владимир Николаевич? Или просто играют в любовь? На этот счет существуют разные точки зрения. М.Гершензон усматривал здесь «все признаки сознанием навязанного чувства – и, напротив, ни одного намека на искреннюю, смелую и простую страсть»8. В.Хализев и С.Шешунова, наоборот, считают, что «у героев “Метели” исполнение литературных ролей сопутствует глубоким и серьезным переживаниям»9. См.: Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М.: СП, 1982. С.73. Гершензон М. Мудрость Пушкина. Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С.135. 9 Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С.Пушкина «Повести Белкина». М.: ВШ, 1989. С.12. 7 8 4 Надо сказать, что та «экспозиционная» часть повести, которую мы рассматривали до сих пор, не дает оснований для однозначного ответа, она содержит в себе обе возможности, и первая, «гершензоновская», пожалуй, выражена явственней, хотя не следует торопиться с выводами – ведь «взгляд сквозь призму романов» был естественным для русской барышни ХIХ века взглядом на жизнь, что, по мнению Ю.Лотмана, размышлявшего в этой связи о Татьяне Лариной, отнюдь «не мешало искренности чувств»10. Правда, Марья Гавриловна дана в начале повести в ироническом освещении, но ирония эта относится к форме, а не к сути ее поведения. Саму же героиню мы, в сущности, пока не знаем, как не знаем и ее избранника. Очевидно, что узнавание это должно состояться на стадии исполнения героями задуманного. Как ведут себя герои при осуществлении своих романических планов? Второй эпизод, названный нами «Тайные приготовления и побег невесты», начинается словами «Марья Гавриловна долго колебалась». И это «колебалась», затем «согласилась» поданы, в отличие от предыдущих действий героини, вполне всерьез, как собственные, а не надуманные, присвоенные душевные движения. Заметно меняется и характер повествования: оно становится динамичнее, строже, из речи рассказчика уходят литературные штампы и вводные иронизмы, все внимание сосредоточивается на предмете – процессе подготовки к побегу и самом побеге. Правда, Марья Гавриловна остается во власти романических представлений, что проявляется и в соответствующем слоге ее письма к родителям, и в самом факте написания «длинного письма к одной чувствительной барышне», и в том, что оба послания были запечатаны «тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью», и в тех «ужасных мечтаниях», которые грезились ей всю ночь. (Следует, однако, отметить, что, при всей своей шаблонной эффектности, сновидения Марьи Гавриловны, как и сон Татьяны, являются достаточно точным предчувствием-предвидением того, что случится в реальности.) Ирония явно перестает быть доминирующей интонацией, уступая место сочувствию к героине, которая поставлена перед необходимостью собственной жизнью заполнить книжную схему и которой дается это немалыми душевными усилиями. Именно здесь перед нами впервые приоткрывается подлинная, до сих пор скрывавшаяся под чужими романическими одеждами Маша. Ей по плану полагалось вечером накануне побега удалиться к себе «под предлогом головной боли», но уже утром решительного дня она «встала бледнее обыкновенного и с непритворною головною болью». Расспросы встревоженных родителей «раздирали ее сердце». Мысль о предстоящей разлуке «стесняла ее сердце», «она была чуть жива». Это не поза, не игра – Маша старалась «казаться веселою, и не могла». Естественность поведения героини, искренность ее переживаний не располагают к иронии, лишают иронию почвы – повествование становится серьезнее и сдержанней. Изменение тона проявляется и в том, что церемонно-шутливое «Марья Гавриловна» заменяется на теплое, домашнее, словно от родителей идущее – «Маша». Что открывается нам в Маше через ее естественное, неролевое поведение? Прежде всего то, что она нежная, любящая (и горячо любимая) дочь, которая боится причинить родителям боль, которая не желает разлуки с ними, – и все-таки решается на разлуку. Мы видим, как трудно дается ей исполнение задуманного, но, страдая и заливаясь слезами, она не останавливается на полпути. Так, может быть, под покровом чужих слов и заимствованных поз таится подлинное чувство? Может быть, то, что казалось игрой, есть жизнь? Впрочем, некоторые исследователи видят в повествовании о побеге Марьи Гавриловны из родительского дома детали, которые компрометируют героиню, выдают ее «практическую и прозаическую сущность» 11. Н.Берковский, в частности, уличает ее в том, что она «приготовилась выброситься из бытового, материального мира», но при этом не забыла окутаться шалью, надеть теплый капот и прихватить с собой шкатулку и два узла 12. «В шкатулке и “двух узлах” все дело, – настаивает и Г.Макогоненко. – Никакие романтические мечтания не смогут уничтожить власти воспитания будущей наследницы ненарадовских помещиков»13. И последующий неуспех предприятия, полагает Берковский, – целиком на совести Марьи Гавриловны: «...главным препятствием к возможному счастью прапорщика-романтика была сама же невеста, носительница шалей и капотов»14. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. С.231, 229. Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1830-1933). Л.: ИХЛ, 1974. С.144. 12 Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.-Л.: ГИХЛ, 1962. С.296. 13Макогоненко Г.П. Указ. изд. С. 144.. 14 Берковский Н.Я Указ. изд. С. 296. 10 11 5 Справедливы ли эти обвинения? Они легко опровергаются всем последующим развитием событий: «носительница шалей и капотов» свою часть пути навстречу жениху проделала до конца и не ее вина, что он не оказался вовремя в назначенном месте. Но безосновательность, социальная ангажированность этих обвинений очевидна и в пределах самого эпизода. Героине ставится в вину то, что, как раз напротив, свидетельствует о серьезности ее намерений, о продуманности и взвешенности поступка. «Прозаические» детали подтверждают действительную готовность Маши покинуть родительский дом и связать свою судьбу с Владимиром, они выступают в качестве материального свидетельства серьезности идеальных устремлений. Предусмотрительно взяв с собой все необходимое хотя бы на первое время, Марья Гавриловна тем самым облегчает заботы о себе «бедного» прапорщика, то есть думает не только о красивой романической позе, но и о придающей этой позе жизненную устойчивость практической стороне дела. Правда, шали и капоты действительно вступают в противоречие с «неодолимой силою страсти», но это противоречие стилистическое, и содержит оно не осуждение «расчетливой» героини, а все ту же снисходительную улыбку, которой повествование о «неодолимой силе страсти» сопровождалось изначально. Есть здесь и скрытая (она обнажится дальнейшим ходом событий), грустная усмешка над тщетой человеческих усилий воплотить свои замыслы, предусмотреть и предупредить возможные трудности, вообще – выстроить по своему усмотрению судьбу. Как в рассказе о побеге Марьи Гавриловны начинает звучать тема судьбы? Описание дорожных сборов и прощальных слез венчает фраза, подтверждающая готовность героини кардинально изменить свою жизнь и уверенность ее в том, что все произойдет именно так, как они с Владимиром задумали и спланировали: «Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь...» Следующая после многоточия фраза начинается словами: «На дворе была метель...» Между этими двумя предложениями, не разведенными, как это, на первый взгляд, следовало бы, абзацем, существует какая-то внутренняя тайная связь. Долженствование, обозначенное в первой фразе и точно прописанное во времени («через полчаса», «должна была навсегда»), соседствует с запечатленной во втором предложении стихией, которая не знает ни времени, ни долженствования. В этом соседстве есть потенциальная возможность противопоставления того, что ожидается, – тому, что на самом деле предстоит. Как знак и воплощение неожиданного поворота событий врывается в повесть долгожданная метель. Две символические проекции образа даны в тексте сразу: метель – «печальное предзнаменование»; так воспринимается бушующая за окном непогода романтической барышней (заметим попутно, что это ее не останавливает); метель – «судьба». Когда Маша сошла в сад, «метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу». Но стоило барышне самостоятельно преодолеть первую, самую трудную часть пути, как стихия противодействующая обернулась стихией покровительствующей. Символическую миссию содействия выполняют и лошади, которые «не стояли на месте» в ожидании седоков, едва же барышня уселась, а кучер взял вожжи, – «лошади полетели», т.е. началось то самое, заявленное эпиграфом, судьбоносное движение: метель – нетерпеливые кони – стремительный порыв в неведомое – божий храм. Венчающая эпизод фраза состоит из трех многозначительных частей: первая из них – «Поручив барышню попечению судьбы» – закрепляет параллель «метель – судьба»; вторая – «и искусству Терешки-кучера» – привносит характерную для всей повести ироническую корректировку «высокого штиля» и вместе с тем дает реалистическую гарантию дальнейшего развития событий в означенном направлении; третья – «обратимся к молодому нашему любовнику» – фиксирует смену предмета изображения и подчеркивает активность рассказчика, в данном случае не интонационную, а композиционную, «конструктивную», активность: переход от одного эпизода к другому мотивирован не естественным ходом событий, не сюжетной необходимостью, а «произволом» рассказчика, на глазах у читателя строящего, организующего повествование – «Поручив ... обратимся...» Впрочем, субъектная активность на стыке эпизодов угасает в рамках следующего эпизода, в котором мы впервые видим реального Владимира Николаевича, до сих пор явленного исключительно в романической функции. Каким предстает перед нами Владимир в «своем» эпизоде повести? Как ведет он себя в неожиданных обстоятельствах? Что мешает осуществлению его планов? Проведя весь день в хлопотах, продумав, предусмотрев и обеспечив все необходимое для предстоящего тайного венчания, что говорит о совершенно серьезных намерениях, Владимир, наконец, «…отправился в Жадрино, куда через два часа должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут. Но...» 6 Это но, вынесенное в начало следующего абзаца и тем самым дополнительно усиленное, акцентированное, сигнализирует событийный перелом: «Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел». Сочетание и взаимодействие фраз отсылает к уже читанному: «Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и дурным предзнаменованием». В обоих случаях уверенности человека в точности его расчета противопоставлена непредусмотренная, неуправляемая и непредсказуемая сила – стихия. В случае с Машей противопоставление лишь подразумевается и пока (в рамках эпизода) не срабатывает: все идет по плану. В случае же с Владимиром уже конец фразы, начинавшейся с но, звучит катастрофически: «... он ничего не взвидел». Весь день хлопотавший о том, чтобы все было наилучшим образом устроено, обо всем позаботившийся, все, казалось бы, предусмотревший, герой мгновенно, враз теряет власть над ситуацией. «В одну минуту» исчезает, размывается мутной мглой знакомое пространство, так что не только дороги не видно, но и неба от земли не отличить. Безнадежно выходит из подчинения, своевольно растягивается, дробится, вообще теряет определенность так точно рассчитанное время: «всего двадцать минут» превращаются сначала в «более получаса», к которым добавляется «еще около десяти минут», затем проходит «уже более часа» и в конце концов часы и минуты сливаются в неразложимое единство, в неподвластный герою, чуждый ему поток: «время шло»... Бушующая метель безжалостно поглощает принадлежавшее герою время и корежит знакомое ему пространство: застилает путь, направляет «не в ту сторону», заводит в «незнакомый лес» и успокаивается лишь тогда, когда герой выброшен за пределы «своей» пространственно-временной ниши и «своего», им самим сочиненного жизненного сюжета в чуждый мир, в иное измерение. Для седобородого мужика «верст десяток» до Жадрина – это «недалече»; Владимир же «при сем ответе» хватается за голову; в ответ на просьбу достать лошадей он слышит: «Каки у нас лошади». Здесь нет враждебности («Али ты прозяб? взойди погреться», – предлагает старик, дает в проводники сына) – есть чужесть, иномирность. В этом эпизоде, по справедливому замечанию Берковского, «романтике индивидуальных положений» на мгновение, но очень выразительно и явственно противопоставлен «массовый крестьянский мир» 15. Это раздвигает рамки повествования, вписывает судьбу героя в иной жизненный объем, но этот новый, «объективный», масштаб не осознается самим героем, всецело погруженным в переживание случившегося. Искренность и сила чувств Владимира не вызывает сомнений, переживания его запечатлены тщательно, скрупулезно, с точностью диагноза: «начинал сильно беспокоиться», «с ужасом увидел, что ... заехал в незнакомый лес», «отчаяние овладело им», «слезы брызнули из глаз его», «схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти», «не имел духа отвечать на вопросы», «не говорил уже ни слова». Совершенно очевидно, что субъективной вины героя в случившемся нет, что бесплодные блуждания несчастного прапорщика в ночи – следствие неожиданного и бесцеремонного вмешательства в его жизнь посторонней и враждебной к его планам силы, выступающей в повести в образе метели, но имеющей и еще одно, вспомогательное, воплощение: на службе у этой таинственной силы, несомненно, состоят лошади. Мы помним, как активно содействовали лошади Машиному побегу. А лошадь Владимира сначала «ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму», потом «начинала уставать», потом «чуть ступала»; попав было на гладкую дорогу, «ободрилась», но дорога вела не туда... Осознав это, Владимир «ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира». Одна и та же сила с помощью одних и тех же средств в одном случае подхватывает и мчит навстречу желаемому, в другом – мешает, противодействует, преграждает путь. 15 Берковский Н.Я. Указ. изд. С. 298. 7 Есть ли здесь какая-то закономерность? «В повести Пушкина все делается случаем», – полагает Берковский, трактуя метель как «стихию случая и хаоса» 16. Так же понимает и объясняет миссию метели Н.Гей: «Метель в повести – не что иное, как неразумное и неконтролируемое нагнетание непредвиденных случайностей, обращающих в хаос многие намерения и предприятия людей»17. Есть, несомненно, в случившемся с Владимиром торжество хаоса над самонадеянностью человеческих планов и предположений, но и в самой показательности этого торжества, и помимо нее, в силе сопротивления, оказанного маленькому человеку на его личном пути к личному счастью, есть очевидная заданность, преднамеренность, предопределенность. Примечательно, что испытания бедного прапорщика не исчерпываются ночными блужданиями. Вырвавшись из метельного плена, достигнув, наконец, Жадрина, Владимир уже здесь, на фоне совершенно обыденной, «мирной» действительности получает новый неожиданный удар судьбы: «Какое известие ожидало его!» Этой интригующей фразой завершается самый драматичный, самый «серьезный» эпизод повести, а удивленный и заинтересованный читатель вынужден вновь подчиниться «произволу» рассказчика, который демонстративно не желает до поры до времени раскрывать тайну и направляет повествование в другое русло: «Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается». Разумеется, «возвратимся» и «посмотрим», ибо выбора у нас, читателей, нет, но одновременно зададимся вопросом: Зачем Пушкину понадобился обнаженный «сюжетный шов» 18? Какая художественная нагрузка возложена на композицию повествования? Композиционное своеобразие «Повестей Белкина» стало предметом внимания многих исследователей. «Во всех этих повестях, – писал Б.Эйхенбаум, – интерес сосредоточен не на самых фигурах, а на движении новеллы»; «все дело /.../ в движении, в композиции, в развертывании»19. Об этом же пишут Хализев и Шешунова: «Конфликты строятся главным образом не на традиционных антитезах характеров, не на прямых столкновениях персонажей, а на композиционных (монтажных) сцеплениях сюжетных мотивов и словесных оборотов» 20. Правда, Виноградов считает Пушкина «врагом той романтической манеры /.../ приподнято-риторического и разбросанного» повествования, «когда рассказ распадается на отдельные куски с неожиданными композиционными обрывами, с резкими скачками в изложении событий и с эмоционально-лирическими размышлениями автора»21. Однако именно в такой – занимательной, интригующей – манере написана «Метель». И вряд ли можно свести своеобразие ее сюжетно-композиционной организации к пародированию повествования определенного типа. Думается, что поставленная и решенная художественная задача была глубже и сложнее: неожиданные сюжетные повороты, смены планов позволяли не только поддерживать читательский интерес, что вообще свойственно новелле, в жанре которой работал Пушкин, но и создавать тот сюжетно-композиционный объем, в котором событие теряет однонаправленность, линейность, однозначность и начинает играть разными значениями и смыслами. Читателю не терпится узнать, какое известие ожидало Владимира, а ему предлагают заглянуть к добрым ненарадовским помещикам. Он надеется от них, через них узнать ночную тайну, подсмотреть, «что-то у них делается». А ему, словно в насмешку над «романическими» ожиданиями, бросают обескураживающее «А ничего». Как описано утро в доме ненарадовских помещиков? Выделенное в самостоятельный абзац, тем самым дополнительно акцентированное, усиленное, это «А ничего», с точки зрения В.Гиппиуса, «означает торжество реалистической правды над искусственными сюжетными схемами»22, то есть торжество действительности над оказавшимся бессильным совладать с ней вымыслом. На первый взгляд, это именно так. Рассказ об утре ненарадовских помещиков изобилует обыденными бытовыми подробностями, детально рисует рутинные ежедневные события: «старики проснулись и вышли в гостиную»; «подали самовар»; Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать о Маше; та вернулась с отчетом – все как всегда. Читатель еще лелеет какие-то надежды на драматический поворот (девчонка врет, Маши нет дома, сейчас все вскроется, разразится скандал...), но – «дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой». Берковский Н.Я. Указ. изд. С. 293. Гей Н.К. Проза Пушкина: Поэтика повествования. М.: Наука, 1989. С.59. 18 Лежнев А. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования. Изд.2-е. М.: ИХЛ, 1966. С.181. 19 Эйхенбаум Б. Болдинские побасенки Пушкина // Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М.: СП, 1987. С.344. 20 Хализев В.Е., Шешунова С.В. Указ.изд. С.31. 21 Виноградов В.В. Указ.изд. С.521. 22 Гиппиус В.В. Указ.изд. С.34. 16 17 8 Венчающий сцену диалог, казалось бы, окончательно перечеркивает, сводит на нет ночное приключение: «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша. Но это видимое – дневное – торжество обыденности оказывается непрочным, мнимым, ибо скрывает в себе иную – ночную – возможность: «День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла», да так, что «две недели находилась у края гроба». Здесь уже второй раз в повести звучит тема смерти. Причем если в первом случае, в рассказе о Владимире, слово «смерть» употребляется в составе сравнительного оборота («остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти») и воспринимается фигурально, то в рассказе о болезни Маши проступает буквальный, прямой его смысл: «находилась у края гроба», то есть между жизнью и смертью. Так в контексте демонстративно нероманического повествования подтверждается реальность романического «ночного» сюжета и искренность и сила чувств юной героини. Вот тут-то Машины родители и делают попытку воссоединить страждущих от любви молодых людей. Обескураживающий финал романической затеи ни в коей мере не лежит на их совести. Конфликта отцов и детей здесь нет, и это абсолютно лишает всякой убедительности попытки объяснить жизненный крах Владимира Николаевича социально-бытовыми причинами. «Захудалому прапорщику» Владимиру Николаевичу, по мнению Берковского, «препятствует русский быт./.../ И так как герой “Метели” действует, не имея на то санкций со стороны быта, то быт противоречит ему тайно, глумливо и настойчиво» 23. Вряд ли получится подтвердить эти соображения текстом повести. На самом деле быт в лице добрых ненарадовских помещиков готов был заключить Владимира Николаевича, в соответствии с его сценарием, в свои объятия. Надуманными и несправедливыми выглядят и «социально-бытовые» обвинения в адрес Марьи Гавриловны. «Узлы, капот, шали Марьи Гавриловны, – пишет Берковский, – это самая простая транскрипция “судьбы” Владимира Николаевича, пророчество о том, что умыкание невесты ни к чему доброму не приведет» 24. Вряд ли бедный прапорщик заблудился в метельной ночи потому, что устремившаяся ему навстречу невеста была тепло одета и предусмотрительно прихватила с собой лишнее платье. Объяснение случившегося лежит явно в какой-то иной плоскости. Совершенно очевидно, что ночью произошло нечто непредвиденное и непоправимое, ставшее непреодолимой преградой между вчерашними «любовниками», кардинально изменившее их планы. Но пока, следуя логике самого повествования, зададимся вопросом: Как выходят из таинственного затруднения герои? Первая реакция Маши на ночное приключение была столь острой, что едва не стоила ей жизни. Однако скоро «барышня стала выздоравливать», и, поскольку при этом она «никогда не упоминала о Владимире», читатель догадывается, что речь идет не только о физическом исцелении, но и об изменениях эмоционально-психологического, нравственного характера. На фоне Машиного выздоровления тем острее и болезненнее выглядит реакция на случившееся Владимира Николаевича, который в своем «полусумасшедшем» письме не только отказывается от столь желанного еще недавно счастья, но сам накликает на себя беду: слова о том, что для него теперь «смерть остается единою надеждою», оказываются пророческими. В судьбе героя роковым образом сплелись индивидуальный романтический порыв, безжалостный разгул стихии и поступь национальной истории. Кстати подоспевший 1812 год дал возможность прапорщику красиво, героически уйти со сцены, но неизбежность этого ухода очевидно предопределена не войной, а характером и мироощущением героя: как «приговоренный к смерти», чувствует он себя в метельную ночь, в смерти видит «единую надежду» после ночного крушения, героическая смерть на войне становится логическим итогом его выстроенной по романическому образцу жизни. Б.Эйхенбаум, считавший, что «в “Повестях Белкина” интерес сосредоточен не на самих фигурах, а на движении новеллы», писал, что с «несчастным женихом повесть прощается легко и незаметно» 25. Однако это впечатление возникает, как нам кажется, не из-за приоритетности конструктивных элементов над нравственно-психологическим содержанием образов, а по причине именно нравственно-психологической. Герой упрямо, целенаправленно движется по избранной жизненной траектории, даже ворвавшаяся в его жизнь стихия не властна скорректировать усвоенную им систему ценностей и приоритетов, вывести его за пределы романического мироощущения. Жизнь Владимира Николаевича оказалась равновеликой романическому сюжету. Кончился роман – кончилась жизнь. При этом судьба проявила благосклонность: она позволила бедному прапорщику уйти со сцены, сохранив лицо, она воздала ему должное, окружив на прощанье его образ героическим и трагическим ореолом. А выздоровевшая Марья Гавриловна остается жить. И в этой ее жизни «после романа» есть новые печали (гибель Владимира, смерть отца), есть существенные перемены (получение наследства, переезд из печальной памяти Берковский Н.Я. Указ.изд. С.263,265. Там же. С. 296. 25 Эйхенбаум. Б. Указ. изд. С. 344. 23 24 9 Ненарадова в другое имение), есть новая, но на сей раз невольная роль скорбящей о погибшем воине, а главное, есть сама жизнь – значит, надежда на благие повороты судьбы, в том числе и на новый роман. И повесть легко делится не только на указанные ранее эпизоды, но и на две части, соответствующие двум романам Марьи Гавриловны, а между частями располагается лирическое отступление о победных итогах войны 1812 года. Какова идейно-художественная нагрузка лирического отступления? Какую роль играет история в повести о частной жизни? Действие, как мы помним, начинается «в конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную», а в эпилоге рассказа о любви Марьи Гавриловны и Владимира Николаевича герой погибает на войне, оставив по себе священную память. Этим исчерпан и завершен первый роман Марьи Гавриловны. Именно история, бывшая до этого отдаленным фоном событий частной жизни, ставит в нем последнюю точку. И выходит на первый план, на поверхность сюжета, чтоб дать ему новый толчок-поворот. Исторический эпизод повести представляет собой эмоционально насыщенное лирическое отступление, в котором запечатлен восторг победы, упоение ее славой и торжеством. Патетика этого фрагмента кажется некоторым исследователям стилистически чужеродной остальному повествованию, однако артистизм рассказчика, искусство рассказывания в том и состоит, что предмет разговора определяет не только содержание, но и форму речи. В лирическом отступлении рассказано не об итогах войны 1812 года вообще, а о том, какое впечатление произвели эти итоги на провинциальную Россию, в которой и разворачивается действие повести, – в нем отразился дух и характер коллективного, простодушного, искреннего и сильного переживания великого исторического события. Вряд ли можно согласиться с мнением, что выраженный в лирическом отступлении «восторг имеет весьма отдаленное отношение к сути рассказанной истории» 26. Отношение – самое прямое и непосредственное: именно на дрожжах всеобщего воодушевления, на фоне и в недрах «блистательного времени» восходит новая романическая история – «сюжет Бурмина». Когда первый роман Марьи Гавриловны – «сюжет прапорщика» – оказался исчерпанным, понадобилось резкое расширение жизненного горизонта, чтобы из большого социально-исторического мира зачерпнуть толику его энергии, победного духа – и дать повести частной жизни новое дыхание. Не случайно в лирическом отступлении так настоятельно подчеркивается уникальный творческий потенциал исторического момента, простиравшийся на всех, вплоть до государя: «А для него какая была минута!» (Нет, не «верноподданическое» чувство, как полагают Хализев и Шешунова27, а естественный всплеск надежд на достойное великой победы продолжение, закрепление успеха выражен здесь). Победительным, приподнято-праздничным тоном лирического отступления подготовлен и счастливый поворот в судьбе Марьи Гавриловны. Каким предстает перед читателем новый герой? Есть ли в нем сходство с Владимиром? Как завязывается и развивается новый роман? Чем знаменательно начало решительного объяснения? Какую тайну открывает Бурмин Марье Гавриловне и читателю? Как объясняет он сам свое «метельное» приключение и как оно объективно выглядит в контексте повести? Как по-новому освещается характер и поведение Марьи Гавриловны? Что привело героиню к счастливому финалу? Каков итоговый смысл повести? Явление Бурмина в «замке» Марьи Гавриловны обставлено как событие закономерное, долгожданное и решающее: «все должны были отступить», когда он появился, а сама Марья Гавриловна «очень его отличала». В отличие от Владимира, который был «бедный армейский прапорщик», Бурмин – «раненый гусарский полковник». Мелодическая, структурная идентичность характеристик (два неоднородных определения при определяемом существительном) подчеркивает принципиальное содержательное различие, очевидное преимущество нового героя: полковник – больше, чем прапорщик; гусарский – лучше, чем армейский; раненый – свидетельство личной доблести, подтвержденной Георгием в петлице, и причина «интересной бледности», а бедный – это всего лишь социальный статус, совсем необязательно сопряженный с интересностью. Преимущество Бурмина заключается и в другом: если Владимир во взаимоотношениях с Марьей Гавриловной в начале повести выступает исключительно в ролевой функции героя определенного типа, то Бурмин сразу имеет свое лицо, наделяется не типовыми, а индивидуальными чертами: «очень милый молодой человек», обладающий именно тем умом, который нравится женщинам, – «умом приличия и наблюдения», «нрава тихого и скромного», но с репутацией «ужасного повесы» в прошлом. Возможно, такое более конкретное изображение героя, более пристальное видение его идет от изменившейся и повзрослевшей Марьи Гавриловны, которая научилась воспринимать не только внешние, соответствующие некоему 26 27 Хализев Б.Е., Шешунова С.В. Указ.изд. С.39. Там же. 10 стандарту, но и внутренние, сущностные черты своего избранника. А Марья Гавриловна несомненно повзрослела, изменилась и, сохранив романические пристрастия, научилась не только наблюдать и правильно оценивать ситуацию, но и направлять события в нужное русло. В отношениях с Владимиром она была ведóмой – и им, разрабатывавшим план действий по готовому образцу, и, главное, самим этим образцом, принятым ею как безусловное жизненное руководство. В отношениях с Бурминым она – ведущая, «опытный стратег», чьи «военные действия имели желанный успех». По-прежнему ориентируясь на романический образец, она на сей раз сознательно играет его приемами; слушая долгожданное признание, мгновенно распознает и отмечает про себя заимствованные Бурминым у героя Руссо словесные обороты. Это не вызывает у нее ни недоверия, ни отторжения, потому что она, как и ее новый избранник, не знает другого языка любви. Примечательно, что стиль речи Бурмина, когда он переходит от общих фраз-признаний к изложению «рокового» события, разительно меняется, утрачивает книжную выспренность и обретает сдержанность, лаконизм, точность и простоту. Этот рассказ и становится кульминацией и разгадкой всей истории. Не догадываясь о том, как счастливо для него все обернется, Бурмин сокрушается о своей «непростительной ветрености», преступном легкомыслии, но парадоксальность ситуации в том, что именно ветреность, легкомыслие и беспечность «ужасного повесы» отвечали замыслу судьбы и предопределили эффектный и счастливый романический исход. Будь Бурмин серьезней, рассудительней и ответственней, он вообще не пустился бы в путь, когда «поднялась ужасная метель», в то время как все «советовали... переждать»; он не прислушался бы к зову судьбы («казалось, кто-то меня так и толкал») и уж, конечно, не стал бы под венец с незнакомой девушкой – а значит, все вообще сложилось бы иначе, вернее, ничего бы не было. В чужую метельную круговерть мог попасть именно такой – бездумный, лишенный в тот решающий момент воли и инициативы – человек. Поэтому преувеличенным и даже ложным оказывается обвинительный литературно-критический пафос высказываний об этом герое. «Владимиру и Марье Гавриловне, – пишут, в частности, Хализев и Шешунова, – принесла несчастье не сама по себе внезапно разыгравшаяся стихия /.../: бедой обернулось здесь случайное появление в церкви Бурмина, подшутившего “так жестоко” над незнакомкой. В импульсивной выходке Бурмина, неожиданной для него самого, сказалось своеволие бесшабашного человека, не пожелавшего задуматься о чужих чувствах и судьбах. Лишь по воле случая все кончается хорошо»28. Но ведь в том-то и дело, что Бурмин, сам того не ведая, был слепым орудием в руках случая и никакого своеволия не проявлял – скорее безволие, безмыслие, беспрекословное интуитивное подчинение, точнее даже непротивление стихийному течению событий. Разумеется, субъективная вина здесь есть, и герой ее понимает и признает, с запозданием сокрушаясь о «преступной своей проказе». Но совершенно очевидно, что объективно именно Бурмину надлежало оказаться в нужное время в нужном месте, ибо, как справедливо писал Гершензон, «судьба-метель, точно одной рукой отстраняя Владимира, другою ведет некоего Бурмина навстречу Марьи Гавриловны»29. За что же Бурмин удостаивается такого высокого покровительства? С точки зрения Берковского, «случай, этот бог классической новеллы, в повести Пушкина консервативен. Он поддерживает старое, он язвительно обращается с людьми, которые пытаются внести новшества и рассчитывают на его содействие и союз»30. Такое толкование очевидно упрощает, заземляет повесть, лишает ее поэзии, которую ощущает даже неискушенный читатель, и низводит на уровень забавного анекдота, игриво оправдывающего незыблемый порядок вещей, при котором бедный прапорщик не должен претендовать на богатую невесту. Но это очевидная натяжка: Владимир Николаевич никаких «новшеств» вводить не собирался, на роль социального реформатора, тем более бунтаря, совершенно не претендовал, воссоединившись по романическому образцу со своей возлюбленной, он, как мы помним, намерен был вместе с ней броситься к ногам ее родителей и рассчитывал (вполне обоснованно) на их снисходительность. Так что никакой угрозы консервативному быту бедный, но абсолютно лояльный к нему прапорщик не представлял. Устранение Владимира Николаевича с жизненного пути Марьи Гавриловны произошло по другим причинам. Асоциальное, метафизическое объяснение случившегося с героями повести «Метель» предложил в свое время М.Гершензон: не находя «ни одного намека на искреннюю, смелую и простую страсть» со стороны Марьи Гавриловны к Владимиру Николаевичу, он увидел в перипетиях судьбы героини мудрое и предусмотрительное вмешательство «Власть-имущего», который посылает своего «слугу» – метель, чтобы спасти героиню, готовую «сбиться с пути», от роковой ошибки и направить ее туда, где ждет ее не надуманное, а подлинное чувство. Однако очевидно, что за «литературными» формами отношений Марьи Гавриловны и Владимира Николаевича скрывались искренние и глубокие симпатии, а роман с Бурминым, в свою очередь, разворачивается в тех же Там же. С. 21. Гершензон М.Указ.изд. С.136. 30 Берковский Н.Я.Указ.изд. С.293. 28 29 11 литературных традициях, и тот факт, что именно «Бурмин был ее суженым» «делается совершенно очевидным», по справедливому замечанию В.Узина, лишь в свете благополучного исхода. Но при этом счастливый финал вуалирует «совсем иные возможности», скрадывает глубинный трагический смысл 31. Ведь все происходит совершенно не так, как хотят, предполагают, планируют сами герои. М.Гершензон оптимистически трактует это не так, видя в метели «стихию умную, мудрейшую самого человека». В то время как люди «заблуждаются в своих замыслах и хотениях», «она знает их подлинную, скрытую волю – лучше их самих» и «твердой рукой выводит на правильный путь, куда им, помимо их ведома, и надо было попасть»32. В.Узин, напротив, усматривает трагический подтекст в «Повестях Белкина», таящиеся под их «внешним покровом» «роковые возможности». Поскольку счастливый финал «Метели» не есть следствие субъективных человеческих желаний и усилий, а, напротив, является случайным подарком судьбы, это неизбежно наводит на мысль «о немощи человеческой воли и о непререкаемости судьбы»33. В сущности, Гершензон и Узин не противоречат друг другу: оба они прочли «Метель» как повесть о всевластии судьбы и слепоте, бессилии человека, только один, всецело захваченный обаянием конкретного сюжетного решения, извлек из него обнадеживающий смысл («жизнь-метель редко бывает так добра, но бывает»34), другого заставил содрогнуться скрытый трагический потенциал рассказанной истории: «одна возможность иного решения преисполняет нас ужасом»35. Философское прочтение «Повестей Белкина», в частности «Метели», предложенное Гершензоном и Узиным, несомненно, глубже, точнее и эстетически адекватнее, чем социальное (Берковский, Макогоненко), однако итоговый вывод о бессильной зависимости человека от неподвластных ему стихий нуждается в некоторой корректировке. Ведь из одной и той же ситуации герои выходят по-разному, и это зависит уже не столько от объективных обстоятельств, сколько от субъективных установок. Да, метель спутала все карты, и в результате невероятного стечения обстоятельств Марья Гавриловна была обвенчана со случайным встречным, из метели вынырнувшим и в метели растворившимся, по-видимому, навсегда. Именно это известие «ожидало» опоздавшего к месту событий Владимира. И что же он? Оскорбленный до глубины души, бог весть что предполагая – измену, коварство, легкомыслие, он не делает даже попытки встретиться со вчерашней невестой, объясниться с ней, проститься наконец. Не приходит ему в голову и мысль написать новый сценарий собственной жизни – он видит для себя лишь одну возможность, один вариант, предписанный логикой сентиментального романа: если не счастливая любовь, то смерть. Между тем, объективно положение его значительно лучше, чем ситуация, в которой оказалась Марья Гавриловна. Перед ним, пусть даже обманутым, оскорбленным в лучших чувствах, не закрыта жизненная перспектива, он молод и свободен, а героический 1812 год дает уникальный шанс вырваться за пределы очерченного социальным положением круга и победителем (войны, судьбы, женских сердец) вернуться в мирную жизнь. Но Владимир Николаевич оказывается не в силах творчески осмыслить непредвиденный жизненный поворот, ему недостает самоиронии, смирения, мудрости, инстинкта самосохранения наконец, чтобы довериться жизни и терпеливо ждать своего часа. Жизнь отвергла написанный им сценарий, а он, вместо того чтобы внести в этот сценарий коррективы или вообще переписать его, отвергает саму жизнь. А у Марьи Гавриловны достало физических и нравственных сил, переболев, жить дальше, несмотря на всю безнадежность, безрадостность и бесперспективность положения тайной жены случайного встречного. Более того, ей хватило мужества и достоинства нести свой крест молча, не сетуя, не жалуясь и не ропща. Она сумела придать своей холодности по отношению к многочисленным искателям приличную оправдательную форму, облечь ее в достойные неброские одежды. Несомненно, есть некоторое лукавство в клятве Марьи Гавриловны никогда не расставаться со скорбящей об умершем Гавриле Гавриловиче матери (хотя скорбь Прасковьи Петровны, замечает рассказчик, она «разделяла искренно»), в несколько демонстративной верности памяти погибшего Владимира (ведь после своего выздоровления и до его гибели «она никогда не упоминала» о нем) – но это невинное вынужденное лукавство не противоречит истинным ее чувствам и вполне оправдано сложностью положения. К тому же оно наглядно свидетельствует о том, что, в отличие от Владимира, Марья Гавриловна умеет применяться к реальным жизненным обстоятельствам, соотносить с ними свои романические упования и выбирать оптимальный вариант поведения. Именно эта гибкость, артистизм (способность играть роль, не забывая о том, что это роль, и не теряя голову при неудаче), жизнелюбие и жажда счастья, не утраченная, несмотря на полное отсутствие шансов его обрести, приводят в конечном счете Марью Гавриловну к победе, на которую она и сама не рассчитывала. Может быть, именно потому и приводят, что не рассчитывала. Узин В.С. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Петербург: Аквилон, 1924. С.15-16. Гершензон М. Указ изд. С.134. 33 Узин В.С. Указ.изд. С.17-18,51. 34 Гершензон М. Указ.изд. С.137. 35. Узин В.С. Указ.изд. С.51. 31 32 12 Существует, впрочем, иная точка зрения на этот счет, принадлежащая Г.Макогоненко: «Когда на горизонте Марьи Гавриловны, появился выгодный жених – молодой и богатый полковник Бурмин, о котором вздыхали все маменьки и девицы в округе, практическая и прозаическая Марья Гавриловна умело и ловко повела “военные действия”» 36. Насчет «умело и ловко» спорить не приходится. Что же касается практицизма и прозаизма героини, то вот этого-то как раз не было и быть не могло, ибо она с самого начала своих «военных действий» знала то, в чем в разгар объяснения признается Бурмину: «...Я никогда не могла быть вашею женою...» К чему же тогда эта искусная тактика, этот безупречный расчет, эта изящная провокация? А ни к чему. Нет во всем этом ни малейшего «практического» и «прозаического» смысла. Просто – игра молодых сил, жажда любви, инстинкт жизни, и все это – вопреки, наперекор безжалостной очевидности. Нет, не Бурмину покровительствует метель37 – Бурмин всего лишь безвольное орудие судьбы. Метель покровительствует Марье Гавриловне. За жизненную стойкость, за чуткость женского инстинкта, за не утраченную, вопреки обстоятельствам и наперекор практическому смыслу, надежду судьба дарует Марье Гавриловне не просто встречу с таинственным супругом, что само по себе уже чудо, но – счастье воссоединения с тем, кого она успела «отличить» и полюбить. Эта пушкинская героиня действительно, как отмечали исследователи, принадлежит к «гнезду» Татьяны38, но, наряду со сходством (романические пристрастия, верность долгу) и на фоне его, тем очевидней отличие: Марья Гавриловна, нигде не выходя за рамки дозволенного, не забывая о долге и обязательствах перед Богом, позволяет себе играючи пренебречь предначертанной ей печальной участью. Без этого «ослушания», без сознательного забвения героиней лежащего на ней бремени, без «легкомысленного» уклонения от безоговорочно безрадостного пути, наконец, без энергичной, хотя, казалось бы, совершенно бессмысленной инициативы с ее стороны не было бы, не могло быть благополучной развязки. Вот почему не сводим к однозначно фаталистическому толкованию итоговый смысл повести. С точки зрения Гершензона, Пушкин своей «Метелью», как и «Бесами», утверждает: «Жизнь – метель, снежная буря, заметающая пред путником дороги, сбивающая его с пути: такова жизнь всякого человека. Он – безвольное игралище метели-стихии: думает действовать по личным целям, а в действительности движется ее прихотью»39. Об этом же говорят и эпиграфы, предпосланные нами настоящему исследованию: «от судеб защиты нет» – утверждал Пушкин в другом своем произведении; «невластны мы в самих себе», – вторил ему Баратынский. Но мы воспользовались эпиграфами так же, как это часто делал сам Пушкин: «В пушкинской прозе эпиграф, – пишет С.Г.Бочаров, – это голос из-за границы произведения»; «положение эпиграфа “за текстом”» ставит его в диалогические, даже полемические отношения с текстом, с его помощью создается «широкий контекст», благодаря которому проявляются и уточняются смысловые акценты40. Избранные нами эпиграфы обозначают философский вектор поиска смыслового ядра произведения, но не выражают резюмирующую идею. Как не выражает ее, на наш взгляд, и созвучный им вывод Гершензона. Поведение и судьба главной героини «Метели» – Марьи Гавриловны – лишают этот вывод его обезнадеживающей категоричности и окончательности. Да, жизнь – метель, но человек – не безвольная игрушка в руках судьбы. У него есть шанс, о котором следует помнить, на который следует надеяться даже в самой безнадежной ситуации, – шанс выиграть, вырвать счастливую судьбу у жизненной метельной круговерти. Марья Гавриловна об этом не думала, сознательно на это не рассчитывала, но интуитивно именно этим – жаждой жизни и доверием к ней – руководствовалась, за что и была щедро вознаграждена. «Может быть, писав этот рассказ, Пушкин думал: жизнь-метель редко бывает так добра, но бывает», – так заключает свою статью М.Гершензон. С этим трудно не согласиться, но к этому хочется добавить: может быть, создавая свою повесть, Пушкин думал и о том, как много значит достойное и мужественное поведение человека перед лицом безжалостной судьбы, и о том, что за это редко бывает награда, но бывает... Анализ пушкинской «Метели» свидетельствует о том, что эта легкая и веселая, на первый взгляд, повесть имеет глубокий нравственно-философский подтекст, игнорирование которого существенно искажает ее смысл. Об этом совершенно справедливо в свое время писал все тот же многократно цитированный нами М.Гершензон: «...Кто не догадывается об этом символическом замысле рассказа, должен признать сюжет “Метели” пустым и неправдоподобным анекдотом»41. . Макогоненко Г.П. Указ.изд. С.144-145. См. также: Берковский Н.Я. Указ.изд. С.300. См. об этом: Хализев В.Е., Шешунова С.В. Указ.изд. С.11; Берковский Н.Я. Указ.изд. С. 293, 299. 38 Лежнев А. Указ.изд. С.207. 39 Гершензон М. Указ.изд. С.134. 40 Бочаров С.Г. Указ.изд. С.158,184. 41 Гершензон М. Указ.изд. С.134. 36 37 13 Именно как анекдот воспринял повесть один из ее первых критиков – Ф.Булгарин: «Кто согласится жениться мимоездом, не зная на ком? Как невеста не могла разглядеть жениха под венцом? Как свидетели не узнали? Но таких КАК можно поставить тысячи при чтении “Метели”»42. Нападки и непонимание со стороны своего главного литературного оппонента Пушкин предвидел, недаром, в шутку и всерьез, писал в декабре 1830 года П.А.Плетневу, что печатать свои повести собирается анонимно: «Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает»43. Булгарин ругал за несовпадение с «правдой жизни», как она выглядит в эстетически непричесанном виде. Ругал, не учитывая специфику произведения, его символическое философское содержание и новеллистический жанровый характер. «В отличие от романа, – пишет Ю.М.Лотман, – новелла помещала героев в экстраординарные ситуации, поэтому охотно прибегала к традиционным приемам театральной сюжетики: переодеваниям, подменам персонажей, неузнаваниям… Новеллистический сюжет позволял при помощи необычной, неправдоподобной ситуации “взорвать” бытовое течение жизни и дать возможность персонажам показать себя с позиции их внутренних сущностей, глубоко запрятанных и не могущих проявиться в рутинной обыденности каждодневного существования»44. Пушкин создал поэтически грациозную классическую новеллу, наполнив ее игривую форму глубоким философским смыслом, он обладал уникальным умением гармонически сочетать развлекательное и серьезное начала, не принося одно в жертву другому, а заставляя их служить друг другу. Булгарин оценивал пушкинскую повесть с точки зрения житейского правдоподобия, игнорируя ее эстетическую природу, и отказал ей в художественности на том основании, что в жизни так не бывает. Не менее эстетически сомнительным является подход современной исследовательницы А.Глассэ, которая, напротив, рассматривает «Метель» как отражение совершенно реальных событий, воссозданных «в контексте и средствами романа Руссо» 45. Не говоря уже о бесчисленных натяжках, к которым прибегает исследовательница для доказательства своей версии (между жизненной и вымышленной историями такая колоссальная разница и в частностях, и в главном, что какие-то отдельные совпадения воспринимаются не более чем случайность), зададимся вопросом по существу самого метода: что дает этот «ключ» для понимания произведения? Сама А. Глассэ убеждена: «Вне своеобразного двойного пародийного контекста ирония и скабрезные намеки Пушкина малоощутимы»46. Что касается иронии, то она, как мы выяснили, очевидна и внятна читателю, даже если он не подозревает о наличии реальных прототипов. Более того, ирония по адресу последних вообще не актуальна для современного читателя, и, если бы она действительно носила «ключевой» характер, повесть и в самом деле была бы не более чем литературный анекдот на тему нравов определенной эпохи. Что же касается «скабрезных намеков», то даже с помощью А.Глассэ обнаружить их в «Метели» вряд ли удастся. Громко заявленный ключ ничего не открыл. Рассказанная Пушкиным история настолько больше, значительнее, глубже, сложнее, чем жизненный протосюжет, предлагаемый А.Глассэ, что знакомство с последним ничего не прибавляет к нашему пониманию пушкинской повести, разве только дает представление о той реальной атмосфере, которая окружала Пушкина, питала его воображение, и позволяет понять, как велико расстояние между жизненным сырьем и произведением художника. «Метель» не сводима к пародии на реальную жизненную ситуацию. Не сводима она и к литературной пародии, к интертекстуальной «игре с уже существующими художественными решениями»47. «Ключ» к «Метели» искали в «Светлане» Жуковского, в новелле В.Ирвинга «Жених-призрак», в «Новой Элоизе» Руссо»48. В пушкинской повести действительно есть литературные реминисценции и аллюзии, она действительно пародирует стиль сентиментального романа, но при этом «Метель» абсолютно самодостаточна. Все, что необходимо для понимания ее смысла, содержится в ней самой, а чужие мотивы и цитаты «лежат на поверхности текста, подобно тонкому стеклу, которое придает изображению людей и событий особый блеск, а вместе с тем не препятствует взгляду сосредоточиться на картине как таковой. Читатель может игнорировать этот прозрачный слой; может даже не подозревать о его присутствии – и тем не менее получить от рассказанных историй полноценное художественное впечатление»49. Чужое слово используется Пушкиным в «Метели» не для игры с ним самим, как в пародии, а в качестве строительного материала для созидания нового, первозданного художественного мира. Питательной почвой пушкинского произведения становится все, что готова предложить по данной теме действительность, в том числе и литература – как Цит. по кн.: Гиппиус В.В. Указ.изд. С.35. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 т. Т.9. М.: ИХЛ, 1977. С.354. 44 Лотман Ю.М. Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело» //Пушкинский сб. Псков, 1973. С.14. 45 Глассэ А. О мужичке без шапки, двух бабах, ребеночке в гробике, сапожнике немце и прочем /НЛО, № 23/1997. С.94. 46 Там же. 47 Толстая Е. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1680-х - начале 1990-х годов. М.: Радикс, 1994. С.254. 48 См. указ. работы Виноградова, Берковского, А.Глассэ, а также ст. Телетовой Н.К. «Повести Белкина» Пушкина и поэтика романтического // Русская литература. Историко-литературный журнал. 1994. № 3. 49 Хализев В.Е. Указ.изд. С.44. 42 43 14 явление действительности и как один из определяющих характер действительности факторов. В этом – одно из проявлений пушкинского универсализма. Универсализм Пушкина сказался и в умении органически сочетать в своем творчестве выразительные возможности разных художественных методов. По какому ведомству зачислить «Метель»? Что это – реализм? романтизм? сентиментализм? «Метель» включает в свою художественную круговерть все три метода, которые здесь диалогически взаимодействуют друг с другом. На первый взгляд, романтический пафос эпиграфа опровергается подчеркнуто обыденным, реалистическим началом повествования, в контексте которого иронически пародируются сентиментальные романические штампы, но в недрах реалистического рассказа вызревает и развивается романтическая тема метели и, вместо запланированной, разыгрывается еще более неожиданная, «красивая» романическая история. Во взаимодействии эпиграфа и основного текста можно усмотреть принцип обратного отражения. В подтексте романтично напряженного, загадочно-возвышенного эпиграфа кроется венчающая поэму «Светлана» авторская улыбка: Улыбнись, моя краса, На мою балладу; В ней большие чудеса, Очень мало складу. На поверхности пушкинского повествования господствует лукаво-добродушная ирония, в то время как итоговый смысл повести оказывается философски глубоким, романтически возвышенным. Так же неоднозначно, диалектично задействована в повести Пушкина и сентименталистская традиция: она и пародируется, и, одновременно, используется по своему прямому назначению – для создания эмоционально насыщенной атмосферы. Именно художественная отзывчивость, восприимчивость, «всеядность», наглядно предъявленные в «Метели», позволили Пушкину стать «чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, всё претворяя в красоту и гармонию»50. Не побоялся Пушкин прибегнуть в «Повестях Белкина» и к «“игрушечным развязкам” (Ахматова) безвыходных, казалось бы, ситуаций»51. Нет, это не восторженная девица К.И.Т., не наивно-простодушный Белкин, а сам Пушкин ведет нас по краю бездны, над которой беспечно-самонадеянно резвятся его простодушные герои, дает почувствовать зловещее дыхание этой бездны, осознать трагический контраст между ее безмерностью и ограниченностью человеческих возможностей – и все-таки в итоге выводит к свету и теплу, внушает мужество жить. Финальная идиллия «Метели» лишь на поверхности – дань определенной литературной традиции и соответствующим ей вкусам восторженных девиц. По существу же, это мужественное авторское жизнеутверждение – это такая идиллия, на которую, по справедливому замечанию А.Дружинина, «надо иметь больше сил, чем на драму в мизантропическом вкусе» 52. Григорьев Аполлон. Литературная критика. М.:ИХЛ, 1967. С.190. Гуревич А.М. Указ.изд. С.156. 52 Дружинин А.В. А.С. Пушкин и последнее издание его сочинений // Дружинин А.В. Литературная критика. М., 1983. С.60. 50 51 15