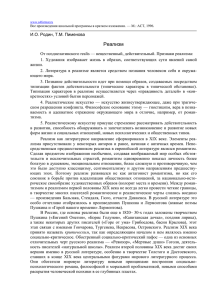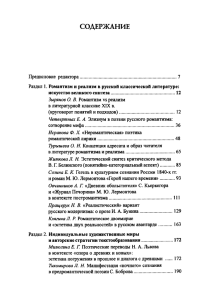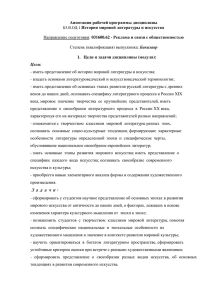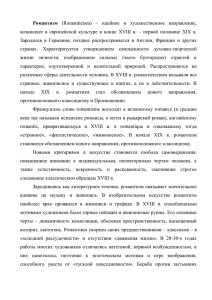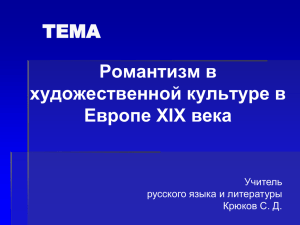учебно-методическое пособие для студентов заочного
advertisement
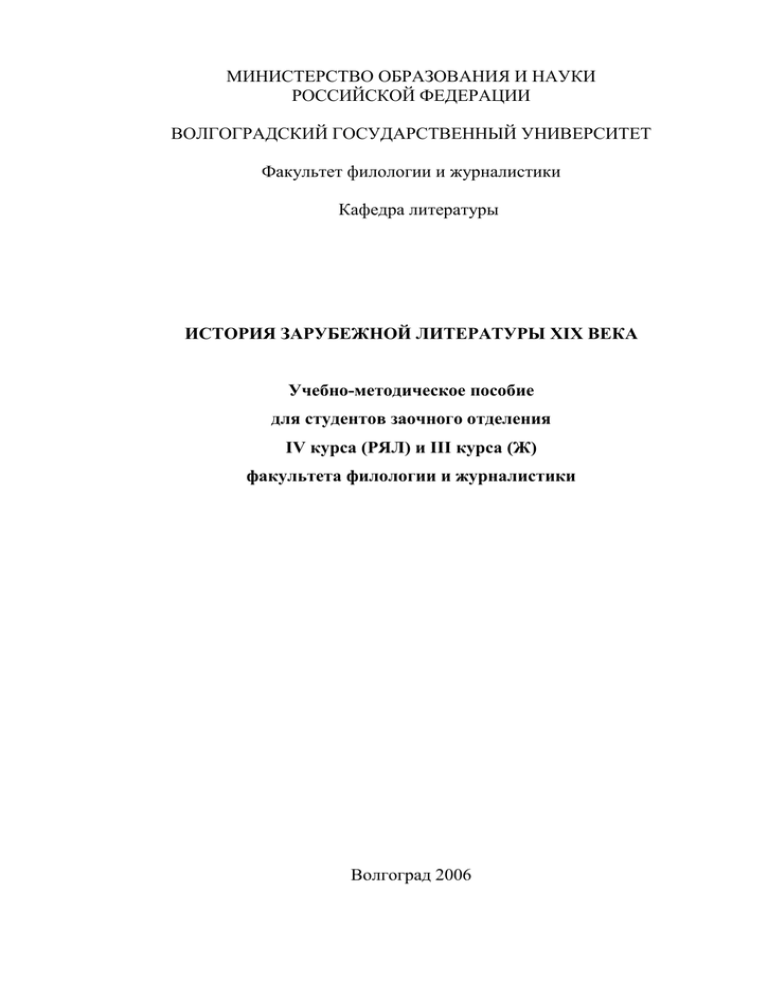
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет филологии и журналистики Кафедра литературы ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения IV курса (РЯЛ) и III курса (Ж) факультета филологии и журналистики Волгоград 2006 ББК 83.3(0)4я73 Н30 Рецензент д-р филол. наук, проф. кафедры литературы ВолГУ В.А. Пестерев Печатается по решению ученого совета Факультета филологии и журналистики (протокол № от 22.12.2006 г.) Нартыев, Н.Н. История зарубежной литературы XIX века [Текст]: Учебнометодическое пособие для студентов заочного отделения IV курса (РЯЛ) и III курса (Ж) факультета филологии и журналистики / Н.Н. Нартыев; ВолГУ, Фак. филологии и журналистики, Каф. литературы. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – 200 с. Работа содержит основные учебные материалы и методические рекомендации по курсу «История зарубежной литературы XIX века», составленные в соответствии с учебной программой и с учетом специфики заочного обучения. Пособие включает раздел «Приложения», в который входят фрагменты важнейших теоретико-эстетических трудов эпохи. Пособие предназначено для студентов филологических специальностей, а также для учителей и учащихся школ. ББК 83.3(0)4я73 Счастлив, кто мудрость обрел и мир не спешит переделать, Кто от себя самого мудрость извечную ждет. Новалис ВВЕДЕНИЕ Девятнадцатый век в истории западноевропейской литературы начинается с романтизма, формирование которого происходит в условиях сосуществования и полемики с просветительством, а также в принципиальном противостоянии нормативной эстетике, господствовавшей в искусстве со времен классицизма. Временные рамки бытования романтизма в большинстве стран Западной Европы – 90-е годы XVIII – и первая треть XIX веков и, соответственно, реализм приходится на период 30–60-х годов XIX века. Границы всего литературного столетия по установившейся традиции определяются двумя эпохальными событиями – Первой французской буржуазной революцией (1789 г.) и Парижской коммуной (1871 г.). Правда, не все национальные литературы органично вписываются в столь жесткую схему, а потому внесение некоторых корректив неизбежно. Предлагаемое пособие охватывает зарубежную литературу именно от 1789 до 1871 года, что предусматривает рассмотрение не только романтизма и реализма, но и других – близких, но не тождественных им – явлений словесного искусства. В пособие включен разнообразный материал, необходимый для успешного освоения дисциплины. Учитывается и специфика формы заочного обучения: несовпадение (в сравнении с учебным процессом на стационаре) объема аудиторной и самостоятельной работы, различное соотношение обязательного и факультативного материала и др. Безусловно, это требует дополнительного «документационного» обеспечения преподавания зарубежной литературы XIX века на ОЗО. Цель преподавания дисциплины. Выявление своеобразия литературной эпохи в контексте важнейших событий общественно-политического и научно-культурного характера. Зарубежная литература XIX века освещается и изучается как литературный процесс и одновременно как часть общекультурного развития человеческой цивилизации. Освещение материала (в частности, понятий «романтизм» и «реализм») производится с точки зрения современной научной мысли. Задачи изучения дисциплины. В процессе изучения данного периода истории зарубежной литературы студент должен овладеть конкретным историко-литературным и теоретическим материалом; научиться анализировать художественные произведения из списка обязательных текстов с учетом их значения как в творчестве отдельного писателя, так и в литературной жизни эпохи в целом. Структура материала пособия студентами. соответствует Назовем лишь последовательности основные ее изучения компоненты. Приведенный в самом начале учебно-тематический план позволяет понять логику дисциплины, порядок проведения аудиторных занятий. В учебнотематическом плане выделяются основные аспекты изучаемого материала. Затем дается список рекомендуемой литературы, в который входят: перечень художественных текстов; хрестоматий; сборников и антологий; теоретикоэстетических работ, словарей и энциклопедий. Подраздел «Литература по курсу» включает в себя основную литературу (наиболее значимые и современные учебники) и дополнительную (литературоведческие работы по отдельным периодам, авторам, проблемам). Перечень дополнительной литературы – самая объемная и, на наш взгляд, особо Представляется актуальная важным часть списка познакомить рекомендуемой студентов с литературы. имеющимися исследованиями по истории зарубежной литературы XIX века, и в первую очередь с теми, что признаны классическими, а также с новейшими научными исследованиями – отечественными и переводными. Кроме того, дополнительная литература призвана помочь студенту в выполнении письменной контрольной работы и в подготовке к практическим занятиям1. Учебное пособие ставит своей целью скоординировать самостоятельную работу студентов заочного отделения, сделать ее более целенаправленной и результативной. По этой причине весь учебный материал структурируется, литературного процесса: с выделением западноевропейская «ключевых» литература моментов XIX века («романтизм», «реализм», их специфические проявления и «переплетения» в национальных литературах; «парнасская» школа и др.); американская литература XIX века (ранний романтизм, Романтический Ренессанс). Раздел «Приложения» [№№ 1–5] включен в пособие также функционально: на основе его материалов студенты-заочники могут ознакомиться с важнейшими памятниками эстетической мысли XIX века, что позволит им более уверенно ориентироваться в эстетическом и художественном «многоголосии» эпохи. «Приложения» предусматривают рассмотрение наиболее значительных историко-литературных аспектов: «спор классицистов и романтиков», «устное народное поэтическое творчество и литература романтизма», «мифология в романтической структуре», «романтизм», «реализм», «проблема искусства и современной действительности», «межлитературные связи и контакты», «национальное своеобразие и уникальность» и др. Таким образом, пособие подразумевает полный охват материала – от знакомства с художественными текстами и основной учебной литературой до освоения историко-литературных и теоретических понятий. Для самоконтроля даются вопросы по всему курсу, которые положены в основу экзаменационных билетов. 1 Студенты, склонные к исследовательской работе, могут выбрать спецвопрос и выполнить его в письменной форме. По действующей балльно-рейтинговой системе успешное выполнение спецвопроса приравнивается к экзаменационной оценке «хорошо». *** Изучаемый период – это прежде всего век романтизма и реализма. Обе художественные системы (литературные направления, творческие методы) имеют длительную и весьма поучительную историю изучения. Остановимся лишь на некоторых, наиболее характерных представлениях об этих культурных феноменах. В советскую эпоху нередко можно было встретить грубые, вульгарные оценки творчества писателей-романтиков2. В настоящее время наука о литературе стремительно деидеологизируется, что обеспечивает «новое» – на прочных и серьезных методологических основаниях – прочтение зарубежной литературы XIX века. Одно из таких оснований содержит, в частности, исследование Д.В. Затонского, где утверждается: при обращении к истории европейской литературы приходится иметь дело и «с сочинениями политически не-ангажированными, сложными, двойственными, к тому же по большей части иронически несовершенства бытия» (Затонский Д.В. констатирующими глобальные Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств (От сочинений Умберто Эко до пророка Екклесиаста). Харьков; М., 2000. С. 111). По точному наблюдению ученого «особенно любопытна в этом аспекте последующая судьба романтического искусства первой трети XIX века. Добрых полтора века спустя оно претерпело решительнейшую переоценку. Бесспорные некогда «властители дум» вроде Байрона, Шелли, Мюссе, Гюго, даже Гейне как бы отошли в хрестоматийную полутень, а на просцениум как-то бесшумно вышли братья Шлегели, Тик, Новалис, Колридж, Вордсворт, По, Мелвилл [выделено нами – Н.Н.]. При этом нечто вроде «демаркационной линии» пролегло (самопроизвольно, по крайней мере, не вполне осознанно) через отношения помянутых поэтов с Французской революцией 1789 г.: кто до конца принимал ее вместе со всей пролитой 2 См., например, работу А.Д. Чегодаева «Наследники мятежной вольности». М., 1989. кровью и учиненным насилием, тот и отошел в тень или “полутень”» (там же). *** Романтизм, как известно, являлся реакцией на Французскую революцию 1789 года и ее исторические последствия. В связи с чем большинство романтиков ощутили себя пасынками эпохи, которая отняла у них великую поэтическую мечту. Соответственно, собственно- романтическое чувство – это чувство утраты. Однако это чувство не тотально и не фатально, хотя бы ввиду индифферентного отношения ряда художников к указанному историческому событию. «В центре мировосприятия романтиков – новое “чувство жизни”, связанное с глубоким и острым восприятием бесконечного (природного и божественного) начала во всем конечном (социальном и личностном). Это мироощущение, имевшее и индивидуальную, и социальную природу (отношение к Французской революции как к духовному перевороту) и связанное с многовековыми традициями мировой философии и, религии и литературы, было устремлено к идее полноты времен, к “золотому веку”, к нравственному и природному совершенству»3. Диалектичность романтизма – не направления, а мощного духовноинтеллектуального движения в европейской и американской культуре конца XVIII – первой половины XIX века – заключается в том, что он «противопоставил механистической концепции мира, созданной наукой Нового времени и принятой Просвещением, образ исторически становящегося мира-организма; открыл в человеке новые измерения, связанные с бессознательным, воображением, сном». Благодаря романтизму была подорвана «вера Просвещения в силу разума и одновременно – в господство случая». – «Романтизм показал, что в мире-организме, пронизанном бесконечными соответствиями и аналогиями, не царствует 3 См.: История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е.М. Апенко. М., 2001. С. 8. случай, а над человеком, отданным на произвол иррациональных стихий, не властвует разум»4. В основе романтического мироощущения лежит «романтическое двоемирие» – ощущение действительностью. глубокого «Представление разрыва о между идеалом преходящем и характере действительности сыграло решающую роль в становлении принципа романтического историзма. Преодоление разрыва идеала и действительности возможно в искусстве, что определяет его особую роль в сознании романтиков. Именно в этом романтизм приобретает универсализм, позволяющий соединять самое обыденное, конкретное с отвлеченными идеалами»5. Универсальными ценностями в жизни и творчестве романтиков становятся свобода и любовь. Свобода, провозглашенная Французской революцией как высший идеал, но не реализованная в социальном и политическом плане, развивается в сфере духовности и художественного творчества. Чувство любви также понимается преимущественно в духовной плоскости. Познание и раскрытие сущности феномена человеческой личности в романтическом искусстве происходит и через разработку проблемы природы. Практическое решение романтиками проблемы «личность и общество», шире – «личность и внеположенная ей действительность», повлекло расширение арсенала художественных средств искусства. В частности, писателям-романтикам принадлежит заслуга создания многих новых жанров, преимущественно субъективно-философской направленности: психологическая повесть (Шатобриан), романтический фрагмент (Новалис), исторический роман (В. Скотт, Виньи), роман-исповедь (Мюссе), лироэпическая поэма (лейкисты, Байрон, Шелли, Виньи), лирическое стихотворение, романтическая драма (Гюго). С другой стороны, «в результате романтического открытия синтетизма как универсального 4 5 Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стб. 893–894. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003. С. 259. единства всех видов художественного творчества, происходит активная жанровая интеграция»6. Названная выше категориальная особенность романтизма – двоемирие на разных этапах романтического движения имеет различную реализацию (отчетливее всего это прослеживается в немецком романтизме): «вера романтиков первого этапа в неограниченные возможности творческой личности сменяется ощущением полной незащищенности, раскола мира на несоединимые части, которое раскрывается как трагическое двоемирие»7. Как литературное направление романтизм формируется на рубеже XVIII – XIX вв., «с публикацией «Сердечных излияний монаха, любящего искусство» (1797) В.Г. Вакенродера, «Лирических баллад» С.Т. Колриджа и У. Вордсворта (1798), «Странствий Франца Штернбальда» Л. Тика (1798), сборника фрагментов Новалиса «Цветочная пыльца» (1798), повести «Атала» Ф.Р. де Шатобриана (1801). Начавшись почти одновременно в Германии, Англии и Франции, романтическое движение постепенно охватывало и другие страны <…>»8. Между тем европейский романтизм в разных странах имеет свою специфику – от хронологии до природы творчества и особенностей поэтики. Принято считать, что немецкий романтизм тяготеет к философским спекуляциям, поиску надмирного, трансцендентного (Новалис, Ф. и А. Шлегели); французский романтизм отличает не только принципиальное противостояние классицизму, но и психологический аналитизм (Шатобриан, Ж. де Сталь, Э. де Сенанкур); в свою очередь английский романтизм – так же, как и немецкий, – нацелен на трансцендентное и потустороннее, правда, реализация происходит иначе: не столько в философских построениях и мистическом визионерстве (красноречивое исключение – творчество У. Блейка), сколько в непосредственном соприкосновении с природой, воспоминаниях детства (Колридж, Вордсворт). Однако и эти представления Зарубежная литература XIX века: Практикум / Отв. ред. В.А. Луков. М., 2002. С. 12. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США): Практикум. М., 2003. С. 5. 8 Литературная энциклопедия терминов и понятий… Стб. 894. 6 7 лишь приблизительно передают сложный и неоднозначный художественный мир европейского романтизма (не случайно, в связи с масштабностью личности и творчества Дж. Байрона и Э.Т.А. Гофмана некоторые исследователи предлагали даже выделять «байроническую» и «гофмановскую» ветви романтизма)9. Рассмотренные выше параметры романтического искусства суммарно передает следующее определение: «Романтизм сочетает в себе высокую духовность, философскую глубину, эмоциональную насыщенность, сложный сюжет, особый интерес к природе и прежде всего убежденность в неисчерпаемых возможностях человеческой личности»10. *** Отдельного разговора требует романтизм в литературе США. В Новом свете эпоха романтизма – нечто совершенно уникальное. О своеобразии эстетики и художественной практики американского романтизма писали и продолжают писать крупнейшие отечественные исследователи. Приведем несколько фрагментов из работы А.М. Зверева: – «В США эпоха романтизма характеризуется несколькими существенными особенностями, которые всего заметнее при сопоставлении с европейским романтическим наследием. Эти особенности выражены достаточно рельефно и слишком укоренены в национальном художественном опыте, чтобы преуменьшать их важность при оценке американского романтизма как культурного феномена»; – «И в самом деле, история американского романтизма содержит примеры неподражаемой новизны, когда затруднительным становится поиск хотя бы приблизительных параллелей в литературе, да и в интеллектуальной жизни по другую сторону Атлантики. При внешней схожести философских устремлений и эстетических установок о подражании говорить не См.: Наливайко Д. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982. № 11. С. 156–194. См. также: Неупокоева И.Г. О типах романтической литературы // Неизученные страницы европейского романтизма. М., 1975. С. 3–22. 10 Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм / Под ред. Г.Н. Храповицкой. М., 2002. С. 6. 9 приходится» (Зверев А.М. Американский романтизм // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 33; 34). При изучении американского романтизма непростым вопросом является его периодизация. На наш взгляд, наиболее убедительной выглядит точка зрения А.Н. Николюкина: «Литературное направление романтизма возникло в Соединенных Штатах в результате американской революции и последующей эпохи развития национального сознания. В истории американского романтизма можно различить три основных периода. Последняя четверть XVIII в. – это период, характерная особенность которого состоит в сложном переплетении просветительских и раннеромантических тенденций. <…> Именно в эти годы стало складываться национальное своеобразие американской литературы, получившее дальнейшее развитие в XIX в. <…> Новый подъем романтической литературы в стране наблюдается в 20–30-е годы XIX в., когда американский романтизм выходит на международную арену»; «Литература 20–30-х годов – это второй период американского романтизма, когда писатели США смогли воспользоваться опытом не только национальной литературы, но и европейского романтизма. Последний, третий период относится к 40–50-м годам и подводит к эпохе Гражданской войны; это наиболее трагический и противоречивый этап развития» (Николюкин А.Н. Романтизм и реализм в современном литературоведении США // Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы. М., 1984. С. 314; 315). *** «Реализм» в современной науке, как это ни может показаться странным (на самом деле, лишь на первый взгляд) также вызывает споры. Проблема заключена и в восприятии термина, и в понимании самой сути явления. Новейший авторитетный справочник предлагает следующее определение: «РЕАЛИЗМ (позднелат. realis – вещественный, действительный) – один из основных художественно-творческих принципов (методов) литературы и искусства 19–20 вв., осознававшийся как воспроизведение подлинной сущности первичной реальности, общества и человеческой личности»11 [выделено нами. – Н.Н.]. Между тем термин «реализм» действительно не стал общепризнанным. К примеру, польские литературоведы соответствующую литературу определяют термином «позитивизм». В литературоведении США писателейреалистов традиционно называют «натуралистами». Так же воспринимают указанную проблему и многие американские писатели, в частности – драматург Ю. О’ Нил, который, иронизируя, писал о том, что мечтает найти человека, «способного натурализмом». определить Сомнения в различие между правомочности реализмом понятия и «реализм» высказываются и в отечественной науке. С другой стороны, у многих ученых-литературоведов совершенно справедливо возникают вопросы к тем теоретикам, что излишне прямолинейно понимают и истолковывают понятие «реализм в литературе». Еще в начале 1920-х годов Р. Якобсон справедливо указывал, что и «классики», и «сентименталисты», и «отчасти романтики», а позже – «в значительной провозглашали степени модернисты» верность и др. действительности, – «не максимум раз настойчиво правдоподобия, словом, реализм – основным лозунгом своей художественной программы» (Якобсон Р.О. О художественном реализме // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 77). Не берясь в данной работе решить перманентно актуализируемый «спор о реализме», мы предлагаем применительно к зарубежной литературе XIX века придерживаться термина «классический реализм». В прежнее время широко распространен был другой термин – «критический реализм», который в современной науке воспринимается излишне идеологизированным. Действительно, этот термин небезупречен: во-первых, позитивная сторона, утверждающий аспект как бы «отодвигаются» в 11 Литературная энциклопедия терминов и понятий… Стб. 858. сторону; во-вторых, акцентируемая конкретно-историческая значимость произведения, его связь с социальными задачами момента, объективно «способствует» оставлению в тени философского содержания и общечеловеческого значения шедевров реалистического искусства. Важно понимать, что проблема терминологическая в некоторой степени порождена проблемным генезисом реализма, непростым его становлением и функционированием как литературного направления. Разобраться в существе реалистического метода изображения в словесности XIX века, полагаем, поможет следующее глубокое замечание В.Е. Хализева: «Сущность классического реализма прошлого века – не в социальнокритическом пафосе, хотя он и играл немалую роль, а прежде всего в широком освоении живых связей человека с его близким окружением: «микросредой» в ее специфичности национальной, эпохальной, сословной, сугубо местной и т.п. Реализм (в отличие от романтизма с его мощной «байронической ветвью») склонен не к возвышению и идеализации героя, отчужденного от реальности, отпавшего от мира и ему надменно противостоящего, сколько к критике (и весьма суровой) уединенности его сознания. Действительность осознавалась писателями-реалистами как властно требующая от человека ответственной причастности ей» (Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. С. 362–363). *** Необходимо осознавать также и не единовременность возникновения (а значит, и бытования) понятия и термина «реализм». Представление о реализме и его основных характеристиках было уже в 20-е годы XIX века, а термина «реализм» – не существовало. Именно поэтому основоположники французского реализма – Стендаль12 и Бальзак называли себя «романтиками». Исследователь М.К. Клеман указывает: «С конца сороковых По мнению В.М. Толмачева, «так называемый реализм Стендаля – не что иное, как влиятельная версия романтизма. Причем Стендаль на слове «романтизм», вкладывая в него оригинальный смысл, последовательно настаивает». См.: Толмачев В.М. Где искать XIX век? // «Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001. С. 150. 12 годов начинается период ожесточенных споров о реалистическом искусстве, в пылу которых разрабатывается новая литературная теория»; появляются «романы Шанфлёри, Флобера, позднее братьев Гонкур, показывающие жизнеспособность нового направления в искусстве. В эти же годы творчество Бальзака осмысляется как реалистическое, а произведения Стендаля, проходившие почти незамеченными при их появлении, приобретают большую популярность. Бальзак и Стендаль объявляются учителями и предшественниками реалистов» (Клеман М.К. Проблема реализма у французских романистов // Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935. С. 8). Хотя писатели-реалисты первой половины XIX в. и не причисляли себя к единому направлению, однако это не означает, будто такого направления не существовало. В 10–20-е годы оно уже созревало в недрах романтического движения, в 30–40-е годы заявило о себе в разных странах Европы как о заметном явлении. К 40-м годам реализм – это уже самостоятельное и значительное направление в европейских литературах. В словесной культуре США реализм формируется лишь к концу столетия (М. Твен, У.Д. Хоуэлс, Г. Джеймс). Для большинства исследователей «предполагает художественный представление о очевидно, историзм действительности как что (воплощенное закономерно, «реализм в образах поступательно развивающейся и о связи времен в их качественных различиях) и художественный детерминизм (обоснование того, что происходит в произведении, непосредственно выводимое из показанных, социально-исторических так или иначе обстоятельств, затронутых либо подразумеваемых). Художественный детерминизм – это не просто наличие типических характеров и обстоятельств, а их типическая связь. <…> Различные виды историзма и детерминизма, их взаимодействие, их направленность на более или менее широкий объект позволяют разрабатывать типологию реализма как метода, основного содержательного принципа, а не только как направления – по неким другим признакам: тематическим, идеологическим, стилистическим»13 [выделено нами. – Н.Н.]. Таким образом, из всех известных истолкований «реализма» как эстетической категории приемлемым следует признать следующее: «…реализм – категория историческая, обозначающая художественную систему или направление, возникающая на определенной стадии эволюции искусства и имеющая более или менее четкие хронологические границы»14. Реализм – специфическая и целостная система, «чьей двигательной пружиной является человек, исторически, социально, биологически детерминированный. Эта система предполагает отказ от разделения действительности на сферы высокого и низкого; предполагает единство действительности и своего рода равноправие ее явлений, потенциальную возможность для каждого из них стать эстетической ценностью… Такова картина мира осознавшего себя реализма. Но интерес к реальному, под разными именами и обличьями, проходит сквозь европейскую культуру с разными ее стилями» (Гинзбург Л. Литература в поисках реальности // Вопросы литературы. 1986. № 2. С. 100). Как методологическое указание предлагаем еще одну глубоко осмысленную точку зрения: «Реализм вообще не есть простое и прямое усвоение действительности. Искусство реализма создает эстетическую реальность, своим генезисом органически связанную с действительностью и выражающую ее суть как в жизнеподобных, так и не совпадающих с жизнеподобием, условных формах, оно свободно в использовании художественных средств, избираемых для достижения эстетического эффекта» (Сучков Б. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. М., 1973. С. 494–495)15. Литературная энциклопедия… Стб. 862. История западноевропейской литературы XIX века / Под ред. Т.В. Соколовой. М., 2003. С. 144. 15 Небезынтересными и полезными для уяснения существующей проблематики в вопросе «реализм в словесном искусстве XIX века» следует признать две современные работы: «Где искать XIX век?» В.М. Толмачёва и «Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века» Т.Д. Венедиктовой (См.: Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001). Обращение к указанным источникам – факультативно, по желанию студентов. 13 14 *** При всей важности доведения до обучаемой аудитории результатов наиболее показательных исследований – в аспекте терминологии и методологии, нельзя забывать, что главный предмет преподаваемого историко-литературного курса – это художественное творчество зарубежных писателей XIX века, его аналитическое «прочтение» и осмысление; поэтому студентам чрезвычайно важно уяснить для себя понятия «романтизм» и «реализм», особенности мировоззрения и эстетические воззрения писателей этих направлений. Студенты должны знать о неоднородности литературной практики романтизма и реализма, хотя наблюдаются общие типологические черты, которые проявляют себя в мироощущении, эстетике, поэтике художественного творчества. Также необходимо учитывать, что великие писатели (Гейне, Гюго, Диккенс, Уитмен и др.) не остаются в границах одного направления, а значит и поэтики. Для романтиков характерно стремление к идеальному, в связи с чем – они живописуют мир прошлого или проецируют условное настоящее, а иногда не менее условное будущее. И то и другое порождено романтическим неприятием реальной действительности. Писатели-реалисты (и романтики с отчетливо политизированным сознанием), напротив, сосредоточены – прямо или косвенно – на художественном исследовании современности, производимом под критическим углом; особую актуальность для них представляют социальные проблемы. В целом правомерно говорить о субъективизме романтизма и об объективной тенденции в искусстве реализма. Различия между романтическими и реалистическими произведениями обнаруживают себя на разных уровнях: 1) тип героя и фон, на котором он действует; 2) характер конфликта; 3) особенности сюжета и композиции; 4) жанровые предпочтения и жанровые новообразования; 5) соотношение правды и вымысла; 6) природа вымысла и формы условного; 7) своеобразие условной формы (фантастика, гипербола, гротеск); 8) образная и мотивная парадигма; 9) своеобразие психологизма; 10) пафос и стиль (романтическая ирония / реалистическая социально-окрашенная ирония) и др. В рамки вводной статьи раскрытие различий двух поэтик и их иллюстрация примерами из конкретных художественных произведений – не входит. В необходимой мере это будет сделано при чтении лекционного курса и на практических занятиях16. Студентам, в свою очередь, рекомендуется обратиться к следующим источникам, основные положения которых (1-2 работы по романтизму и реализму) – после прочтения и осмысления – необходимо законспектировать: Берковский Н.Я. Романтизм // КЛЭ. М., 1971. Т. 6. Стб. 374; Венедиктова Т.Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001. С. 186–220; Волков И.Ф. Романтизм как творческий метод // Проблемы романтизма: Сб. науч. тр. М., 1971.; Кедрова М.М. Принципы художественного воздействия и восприятия в творческих системах романтизма и реализма // Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1978. С. 71–85; Грехнев В.А. Романтическая ирония и абсолют // Сюжет и время: Сб. науч. тр. Коломна, 1991. С. 23–27; Европейский романтизм / Отв. ред. И. Неупокоева, И. Шетер. М., 1973. (ст. И. Неупокоевой, А. Елистратовой, К. Хорват.); Затонский Д.В. Европейский реализм XIX века. Киев, 1984; Затонский Д.В. Реализм // История всемирной литературы: В 8 т. М., 1989. Т. 6. С. 27–35; Проблемы романтизма: Сб. статей. М., 1971. Вып. 2. (ст. Н.Я. Берковского, И.Ф. Волкова, И.Е. Верцмана); Романтизм: два века осмысления. Мат-лы междунар. науч. конф. / Отв. ред. В.И. Грешных. Калининград, 2003; Сучков Б.Л. Исторические судьбы реализма. М., 1970; Темница и свобода в художественном мире романтизма. М., 2002; Тертерян И.А. Романтизм // История всемирной литературы: В 8 т. М., 1989. Т. 6. С. 16–27. 16 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 I. Западноевропейская литература XIX века. 1. Введение. Зарубежная литература XIX века (2/1)2. Особенности общественно-политической и литературной жизни в XIX веке. Проблемы периодизации литературы XIX века, основные этапы ее развития в разных регионах. Романтизм как метод, направление, художественный стиль. 2. Немецкий романтизм (2/2). Особенности и периодизация немецкого романтизма. Йенская школа романтизма. Теория нового искусства (Ф. Шлегель, Новалис). Художественная практика Новалиса. Основные мотивы, особенности цикла «Гимны к ночи». Роман «Генрих фон Офтердинген»: романтическая версия «романа воспитания». Своеобразие и функция сказочного начала в творчестве Л. Тика. Гейдельбергский кружок. Эстетическая концепция романтиков-гейдельбергцев. «Волшебный рог мальчика» А. фон Арнима и К. Брентано: тематический состав и принципы организации. Творчество Ф. Гёльдерлина. Античность, природа, любовь – воплощение романтического идеала автора. Особенности повествования. 3. Творчество Э.Т.А. Гофмана (2/1). Эволюция мировоззрения и творческого метода. Тема музыки в творчестве писателя («Кавалер Глюк», «Дон Жуан»). Особенности новеллистики Э.Т.А. Гофмана, специфика жанра сказки («Золотой горшок». «Крошка Цахес», «Песочный человек»). «Житейские воззрения кота Мурра»: проблематика и жанровое своеобразие (многоплановость повествования, особенности композиции, романтическая ирония, синтетизм). Гофман в России. 4. Французский романтизм (2/2). Особенности романтизма во Франции, его периодизация. Художественноэстетическое новаторство Ф.Р. де Шатобриана («Атала», «Рене»). Литературная и эстетическая деятельность Ж. де Сталь. Теория романтического искусства В. Гюго и ее воплощение в драматургии и романной прозе писателя. Своеобразие французской романтической лирики (А. де Ламартин, А. де Виньи, В. Гюго). 5. Английский романтизм (2/2). Периодизация и особенности английского романтизма. «Озерная школа»: эстетика и художественная практика. Сборник «Лирические баллады» и его роль в становлении эстетики английского романтизма. Натурфилософия лирики У. Вордсворта. Тема самопознания личности в поэме Вордсворта «Прелюдия». Мистико-аллегорический аспект поэзии С.Т. Колриджа, многозначность ________ 1 2 План составлен в соответствии с «Программами курса “История зарубежной литературы”» (Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001). Первая цифра – количество часов, отведенных, согласно учебному плану, на лекции для студентов отделения РЯЛ, вторая – лекционные часы у студентов-журналистов. трактовки образов поэта («Сказание о старом мореходе», «Кристабель», «Кубла хан»). Творчество Р. Саути. 6. Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли (2/2). I. Периодизация творчества Дж.Г. Байрона. Особенности поэтического мышления поэта, специфика его мировидения. Идейно-художественное своеобразие поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». «Восточные поэмы» Байрона: специфика изображения человеческого характера, принципы композиционного построения, особенности стиля. Эволюция «байронического» героя: тоскующий скиталец («Паломничество ЧайльдГарольда»), наполеонствующий разбойник («Корсар», «Лара»), бунтарьбогоборец («Манфред», «Каин»). Художественные искания Байрона в поэме «Дон Жуан». II. Философские и эстетические взгляды П.Б. Шелли. Лирическое творчество Шелли как воплощение духовно-нравственных исканий эпохи. Художественная тематика и проблематика поэм «Восстание Ислама» и «Освобожденный Прометей» 7. Американский романтизм (2/2) Специфика и периодизация романтизма в США. Особенности эстетики раннего романтизма в новеллистике В. Ирвинга и романах Ф. Купера. Своеобразие творческого метода Э.А. По-новеллиста (интерес к исключительному, необычному; фантастика, переплетение трагического комического, пародия, гротеск). Новеллистика и романное творчество Н. Готорна. Трансцендентализм (Р.У. Эмерсон, Г.Д. Торо). Философская символика и смысловая многоуровневость романа Г. Мелвилла «Моби Дик». 8. Классический реализм в зарубежной литературе XIX века (2/1). Формирование парадигмы классического реализма во второй трети XIX века. Политические, социальные, научные факторы, повлиявшие на оформление реализма как художественного метода. Этапы становления реализма в европейской литературе XIX столетия. Принципы типизации и историзм классического реализма. Мимесис и проблемы реалистической поэтики. Взаимосвязь реализма и романтизма. 9. Французский роман XIX столетия (3/3). Мировоззрение, эстетические взгляды крупнейших прозаиков эпохи (Ф. Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер). I.Творчество Ф. Стендаля. Три версии романа воспитания («Красное и черное», «Люсьен Левен», «Пармская обитель»): художественная проблематика, характерология. Мастерство психологического анализа Стендаля. II.Творчество О. де Бальзака. Периодизация творчества писателя. Замысел и история воплощения «Человеческой комедии». Принципы познания и изображения Бальзаком современной действительности: индуктивное восхождение от описания социальных явлений к причинам и началам вещей. «Гобсек», «Отец Горио», «Евгения Гранде»: проблематика и поэтика. Тема жизненных разочарований в романе «Утраченные иллюзии». III.Творчество Г. Флобера. Философские и эстетические воззрения Флобера. «Объективная манера» писателя – новый этап в эволюции техники повествования и художественного психологизма. Роман «Госпожа Бовари»: особенности проблематики и поэтики. «Саламбо» как исторический роман. 10. Английский роман XIX столетия (3/3). I. Ч. Диккенс – крупнейший представитель английского классического реализма. Периодизация творчества. Ранние произведения. («Очерки Боза», «Записки Пиквикского клуба»). Диккенс – юморист. Роман «Домби и сын», его значение в творческом развитии Диккенса – сатирика и обличителя английской буржуазии. Соотношение сатиры и юмора в его творчестве. Зрелое творчество Диккенса. Социальные романы начала 50-х годов («Холодный дом», «Тяжелые времена»). Характер реализма позднего Диккенса («Большие надежды»). Гуманизм Диккенса. II. Творчество У.М. Теккерея. Формирование реализма в ранних произведениях Теккерея. «Книга снобов» – сатира на английское буржуазноаристократическое общество. Роман «Ярмарка тщеславия» как этапное произведение в творческой эволюции Теккерея. Социальная и нравственная проблематика романа. Особенности художественной типизации. Авторская точка зрения, поведение автора-кукольника, режиссера, участника событий. Роман «Генри Эсмонд» в контексте развития английского исторического романа. 11. Поэзия Ш. Бодлера (2/1). Эстетические взгляды и художественное творчество поэта. Сборник «Цветы зла». Отражение в нем дуализма мировосприятия Бодлера («сплин» и «идеал»). Основные мотивы и образы, своеобразие поэтики сборника. Место Бодлера в развитии поэтического искусства XIX и XX веков. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ Новалис. Генрих фон Офтердинген. Гимны к ночи. Тик Л. Белокурый Экберт. Шамиссо А. фон. Удивительная история Петера Шлемиля. Арним А. фон, Брентано К. Волшебный рог мальчика. Гёльдерлин Ф. Лирика. Гиперион. Клейст Г. фон. Михаэль Кольхаас. Разбитый кувшин. Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес. Кавалер Глюк. Дон Жуан (две новеллы по выбору). Житейские воззрения кота Мурра. 8. Гейне Г. Книга песен. Романцеро. Германия. Зимняя сказка. 9. Вордсворт У. Лирика. 10.Колридж С.Т. Сказание о старом мореходе. Лирика. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11.Саути Р. Лирика. 12.Байрон Дж.Г. Лирика. Паломничество Чайльд-Гарольда. Гяур или Корсар. Дон Жуан. 13.Шелли П.Б. Лирика. Освобожденный Прометей. 14.Скотт В. Роб Рой. Айвенго. Квентин Дорвард (один роман по выбору). 15.Диккенс Ч. Записки Пиквикского клуба. Домби и сын. Дэвид Копперфильд. Большие надежды (два романа по выбору). 16.Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия. 17.Бронте Ш. Джейн Эйр. 18.Бронте Э. Грозовой перевал. 19.Элиот Дж. Мельница на Флоссе или Миддлмарч. 20.Троллоп Э. Барчестерские башни. 21.Шатобриан Ф.Р. де. Рене. 22.Ламартин А. де. Лирика. 23.Виньи А. де. Лирика. Сен-Мар или Неволя или величие солдата. 24.Гюго В. Лирика. Рюи Блаз. Собор Парижской богоматери или Отверженные. 25.Бальзак О. де. Шагреневая кожа. Неведомый шедевр. Гобсек. Отец Горио. Евгения Гранде (два произведения по выбору). Утраченные иллюзии. 26.Стендаль Ф. Красное и черное. Пармская обитель (один роман по выбору). 27.Мериме П. Матео Фальконе. Таманго. Двойная ошибка. Коломба (две новеллы по выбору). Хроника времен Карла IX. 28.Санд Ж. Индиана или Консуэло. 29.Флобер Г. Госпожа Бовари. 30.Бодлер Ш. Цветы зла. 31.Ирвинг В. Сонная лощина. Рип Ван Винкль. 32.Купер Ф. Последний из могикан. 33.Готорн Н. Алая буква. 34.По Э.А. Лирика. Новеллы (три новеллы по выбору). 35.Мелвилл Г. Моби Дик. 36.Уитмен У. Листья травы. ХРЕСТОМАТИИ 1. Дьяконова Н.Я., Амелина Т.А. Хрестоматия по английской литературе XIX века. Л., 1978. 2. Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Хрестоматия историколитературных материалов. М., 1990. 3. Зарубежная литература. XIX век. Романтизм. Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1976. 4. Зарубежная литература XIX в. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 1979. 5. Зарубежная литература XIX века. Ч. I (Эпоха романтизма): Хрестоматия / Сост. Н.А. Корзина. Тверь, 1994. 6. Зарубежная литература XIX века. Реализм. Хрестоматия историколитературных материалов. М., 1990. 7. Хрестоматия американской литературы (на англ. яз.). СПб., 1997. 8. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века / Сост. А. Аникста. М., 1955. СБОРНИКИ И АНТОЛОГИИ 1. Американская новелла: В 2 т. / Сост. и вступ. статья А.И. Старцева. М., 1958. Т. 1. С. 231–679. 2. Американская новелла XIX века. М., 1946. 3. Американская поэзия в русских переводах XIX–XX вв. М., 1983. 4. Английская поэзия в русских переводах XIV–XIX веков / Сост., послесл. М.П. Алексеева. М., 1981. 5. Английские и шотландские баллады в переводе С. Маршака. М., 1973. 6. Английский сонет XVI–XIX веков. М., 1990. 7. Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Л. Лозинского / Предисл. Е. Эткинда. М., 1974. 8. Бальмонт К. Золотая россыпь. Избранные переводы / Сост. и вступ. статья А.Д. Романенко. М., 1990. 9. «Британской музы небылицы…» Из поэзии Англии и Шотландии в переводах Юрия Левина / Предисл. А.В. Федорова. СПб., 1996. 10.Васильева Л.Н. Зеркало. Книга переводов. М., 1985. 11.Воздушный корабль. Литературные баллады. М., 1986. 12.Волшебный лес. Стихи зарубежных поэтов в переводе В. Левика / Предисл. Б. Слуцкого. М., 1974. 13.Волшебный рог мальчика. Из немецкой народной поэзии / Пер. и предисл. Л. Гинзбурга. М., 1971. 14.Германский Орфей. Поэты Германии и Австрии XVIII–XX вв. / Пер. и вступ. ст. Г.И. Ратгауза. М., 1993. 15.Гусманов И.Г. Лирика английского романтизма. Переводы и комментарии. Орел, 1995. 16.Дерево свободы. Английская романтическая поэзия в переводах Игн. Ивановского. Л., 1962. 17.Европейская поэзия XIX века. М., 1977 (БВЛ). 18.Жизнь льется через край. Сказки и истории немецких романтиков / Вступ. ст. Г. Ратгауза. М., 1991. 19.Жилище славных муз. Париж в литературных произведениях XIV–XX вв. М., 1989. 20.Западная поэзия конца XVIII – начала XIX века. М., 1999. 21.Западноевропейская лирика / Вступ. ст. Н. Рыковой. Л., 1974. 22.Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова / Сост. С.И. Гиндина. М., 1994. 23.Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского: В 2 т. / Сост. А.А. Гугнина. М., 1985. 24.Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака / Послесл. Л.М. Аринштейна. М., 1990. 25.Зарубежная поэзия в русских переводах. От Ломоносова до наших дней. М., 1968. 26.Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах. 1812–1970 / Предисл. Г.И. Ратгауза. М., 1974. 27.Золотой диск. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ивана Бунина / Предисл. Н.М. Любимова. М., 1975. 28.Золотой мираж. Американская новелла XIX–XX вв. / Послесл. М.П. Тугушевой. Благовещенск, 1983. 29.Их немецкой поэзии. Век X – век XX / Пер. Л. Гинзбурга. Предисл. С. Ошерова. М., 1979. 30.Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. М., 1979. 31.Искусство и художник в зарубежной новелле XIX в. Л., 1985. 32.Круг земной. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Шервинского. М., 1985. 33.Кузнецов Ю.П. Пересаженные цветы. Избранные переводы. М., 1990. 34.Левик В. Избранные переводы: В 2 т. / Предисл. Л. Озерова. М., 1977. 35.Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания / Вступ. ст. А.А. Урбана. Л., 1989. 36.Маршак С. Я. Избранные переводы / Вступ. ст. Л. Гинзбурга. М., 1978. 37.На дальнем горизонте. Стихи и драмы зарубежных поэтов в переводе А.А. Блока / Сост. и предисл. Д. Самойлова. М., 1970. 38.Немецкая комедия первой половины XIX века. М., 1986. 39.Немецкая поэзия XIX века / Предисл. А.С. Дмитриева. М., 1984. 40.Немецкая романтическая повесть: В 2 т. М.; Л., 1935. 41.Немецкая романтическая сказка / Сост. А. Карельского. М., 1980. 42.Немецкие баллады / Предисл. И.М. Фрадкина. М., 1958. 43.Немецкие волшебно-сатирические сказки / Статья А.А. Морозова. Л., 1972 (ЛП). 44.Новеллы о любви / Вступ. статья В.Г. Бабенко. Свердловск, 1991. 45.Париж изменчивый и вечный / Вступ. статья В. Балахонова. Л., 1990. 46.Песнь любви. Лирика зарубежных поэтов. М., 1981. 47.Подольская Г.Г. Фантазии. Стихотворения оригинальные и переводы. Астрахань, 1995. 48.Почти как в жизни. Английская сказочная повесть и литературная сказка / Сост. и вступ. ст. Ю.И. Кагарлицкого. М., 1987. 49.Поэзия английского романтизма XIX века / Вступ. статья Д. Урнова. М., 1975 (БВЛ). 50.Поэзия Европы: В 3 т. М., 1977–1979. Т. 1, 2. 51.Поэзия немецких романтиков / Сост. и предисловие А.В. Михайлова. М., 1985. 52.Поэзия революции 1848 года в Германии / Сост. и предисл. В.П. Матвеевой. М., 1958. 53.Поэзия США / Сост. вступ. статья А.М. Зверева. М., 1982. 54.Поэзия Франции. Век XIX / Сост. и вступ. статья С.И. Великовского. М., 1985. 59.Поэзия французской революции 1848 г. Антология / Пер. В. Дмитриева. Вступ. статья Ю. Данилина. М., 1948. 60.Прекрасное пленяет навсегда. Из английской поэзии XVIII–XIX веков / Предисловие А.В. Парина. М., 1988. 61.Рог. Из французской лирики в переводе Ю.Б. Корнеева. Л., 1989. 62.«Свободной музы приношенье...» Европейская романтическая поэма / Сост. и предисл. А. Карельского. М., 1988. 63.Сказки английских писателей / Сост. А.В. Слобожан. Л., 1986. 64.Сказки немецких писателей / Сост. А.К. Славинской. Л., 1989. 65.Созвучия. Стихи зарубежных поэтов в переводе Иннокентия Анненского и Федора Сологуба / Предисловие А.В. Федорова. М., 1979. 66.Средоточие времен. Стихи зарубежных поэтов в переводе Всеволода Рождественского. М., 1979. 67.Трилистник. Стихи зарубежных поэтов в переводах Н. Заболоцкого, М. Исаковского, К. Симонова. М., 1971. 68.Французская новелла. Воронеж, 1989. 69.Французская новелла XIX века: В 2 т. М.–Л., 1959. 70.Французская новелла: В 2 т. М., 1981. Т. 1. 71.Французская поэзия. Ростов н/Д., 1996. 72.Французская романтическая повесть / Вступ. статья Л. Гинзбург. Л., 1982. 73.Французские повести и рассказы XIX века / Предисловие М. Трескунова. М., 1989. 74.Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв. М., 1973. 75.Эолова арфа. Антология баллады / Сост. и предисл. А.А. Гугнина. М., 1989. ТЕОРЕТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 1. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. 2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. / Под ред. Г.К. Косикова. М., 1987. 3. Зарубежные писатели: Библиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. М., 1996–1997. 4. Зарубежные писатели о литературе и искусстве. Английская литература / Под ред. Н.П. Михальской. М., 1980. 5. Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. 6. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Под ред. А.А. Суркова (Тт. 1–8). М., 1962–1978. 7. Литературная теория немецкого романтизма / Под ред. ---- Л., 1934. 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. 9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980. 10.Литературные манифесты французских реалистов / Под ред. М.К. Клемана. Л., 1935. 11.Литературный энциклопедический словарь / Под ред. П.А. Николаева, В.М. Кожевникова. М., 1987. 12.Мифологический словарь. М., 1992. 13.Писатели Англии о литературе XIX – XX вв. / Предисловие А.А. Аникста. М., 1981. 14.Писатели США о литературе. Сб. статей. М., 1974. 15.Писатели США о литературе: В 2 т. / Вступ. статья А.Н. Николюкина. М., 1982. 16.Писатели Франции о литературе. Сб. статей / Сост. и предисловие Т. Балашовой и Ф. Наркирьера. М., 1978. 17.Реализм. Материалы и документы (к учебнику). М., 1991. 18.Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997. 19.«Свобода угнетать…» Писатели Англии о США. Художественная публицистика. М., 1986. 20.Сделать прекрасным наш день. Публицистика американского романтизма. М., 1990. 21.Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 1996. 22.Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999. 23.Эстетика американского романтизма / Сост. А.Н. Николюкина. М., 1977. 24.Эстетика немецких романтиков / Сост. А.В. Михайлова. М., 1987. 26.Эстетика раннего французского романтизма / Сост. и вступ. статья В.А. Мильчиной. М., 1982. ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ Основная 1. Храповицкая Г. Н., Солодуб Ю. П. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский реализм (1830–1860-е гг.). М., 2005. 2. Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. История зарубежной литературы XIX в.: Западноевропейская реалистическая проза. М., 2004. 3. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия / Под ред. Л. В. Сидорченко, И. И. Буровой. СПб., 2004. 4. История западноевропейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, Бельгия / Под ред. Т. В. Соколовой. 2-е изд. М., 2003. 5. Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм / Под ред. Г. Н. Храповицкой. М., 2002. 6. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е. М. Апенко. М., 2001. 7. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н. А. Соловьевой. 2-е изд. М., 1999. 8. История зарубежной литературы XIX века: В 2-х частях. Ч. 1. / Под ред. Н. П. Михальской. М., 1991. 9. История зарубежной литературы XIX века: В 2-х частях / Под ред. А. С. Дмитриева. М., 1983. 10. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я. Н. Засурского и С. В. Тураева. М., 1982. 11. Елизарова М. Е. и др. История зарубежной литературы XIX века. М., 1972. 12. Лапидус Н. И., Малюкович С. Д. Литература XIX века / Под ред. Я. Н. Засурского. Минск, 1992. 13. Луков В. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003 (Раздел «Литература XIX века»). Дополнительная 1. Аверинцев С.С. Поэзия Клеменса Брентано // Брентано К. Избранное. М., 1985. 2. Аверинцев С.С. Поэзия Клеменса Брентано // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. 3. Авессаломова Г.С. Легенда в творчестве Мериме 20–30-х годов и «Венера Илльская» // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков Ленинградского ин-та усовершенствования врачей. Л., 1970. Вып. 85. 4. Аветисян В.А. Гете и Байрон (в связи с концепцией мировой литературы) // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. Том 45. 1986. № 5. 5. Авраменко Е.И. Образ эпохи в «Истории Генри Эсмонда» и «Четырех Георгах»: жанрово-стилевые взаимодействия в романе и очерке Теккерея / Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX – XX вв. Пермь, 1992. 6. Алексеев М.П. Английская литература. Очерки и исследования. Л., 1991. 7. Алексеев М.П. Из истории английской литературы. М.; Л., 1960. 8. Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. 9. Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи конца XVIII – начала XIX века. Л., 1982. 10. Аллен Г. Эдгар По. М., 1992. 11. Алякринский О.А. Функция имени (наименования) в новеллистике Эдгара Аллана По // Некоторые филологические аспекты современной американистики. М., 1978. 12. Алякринский О.А. Эпос частной судьбы // Вопросы литературы. 1987. № 12. С. 130– 159. 13. Анастасьев Н. Американцы. М., 2002. 14. Английская литература: От «Беовульфа» до наших дней. К столетию со дня рождения Е.И. Клименко. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Е. М. Апенко, Л. В. Сидорченко. СПб., 2002. 15. Андреев Л.Г. В бесспорном спорное // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001. 16. Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. М., 1967. 17. Андреев Л.Г. «Что делать» Анри Бейля // Stendal. Lucien Leuwen. Moscoy, 1984. 18. Андреев Л.Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К. История французской литературы. М., 1987. 19. Андреева Ю.А. Место Джордж Элиот в развитии английского романа второй половины XIX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: Изд-во МГУ, 1974. 20. Андрие Р. Стендаль, или бал-маскарад. М., 1985. 21. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1985. 22. Аникин Г.В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века. М., 1986. 23. Аникст А.А. Байрон-драматург // Байрон Дж.Г. Пьесы. М., 1959. 24. Аникст А.А. О жизни и творчестве Жермены де Сталь // Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями / Пер. с франц. М., 1989. С. 7–34. 25. Аникст А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. Эпоха романтизма. М., 1980. 26. Аникст А. «Тяжелые времена»: Послесловие // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1965. Т. 19. 27. Анисимов И.И. Классическое наследство и современность. М., 1960. 28. Анисимов И.И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана. Статьи, очерки, портреты. М., 1977. 29. Анненский И. Гейне прикованный. Гейне и его «Романцеро»; Генрих Гейне и мы (1856–1906) // Анненский И. Книги отражений. М., 1979. 30. Арагон Л. Гюго – поэт-реалист // Арагон Л. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. 31. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989. 32. Ауэрбах Э.В особняке де Ла-Молей // Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе: Пер. с нем. М.; СПб., 2000 (Гл. XVIII). 33. Афонина О., Рогов В., Дьяконова Н. Примечания // Байрон Д. Г. Паломничество Чайльд Гарольда. Дон Жуан. М., 1972. 34. Ахматова А.А. «Адольф» Констана в творчестве Пушкина // Временник пушкинской комиссии № 1. М.; Л., 1936. 35. Балашов Н.И. Брентано и «Волшебный рог мальчика» // История немецкой литературы. М., 1966. Т. 3. 36. Балашов Н.И. Легенда и правда о Бодлере // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1970. С. 233– 288. 37. Балашов Н.И. Предисловие // Леконт де Лиль Ш. Из четырех книг. М., 1960. 38. Бальзак в воспоминаниях современников. М., 1986. 39. Бальмонт К. Гений открытия // По Э.А. Собрание сочинений в четырех томах. М., 1993. Т. 1. 40. Бальмонт К. Романтики: Призрак меж людей // Бальмонт К. Избранное. М., 1990. 41. Барановская Е.П. «Золотой горшок» Э. Т. А. Гофмана в контексте платоновского мифа // Английский вестник. Вып. 3. Омск, 1995. 42. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 43. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994 (гл. «Эмили Бронтэ», «Бодлер», «Блейк»). 44. Бахмутский В.О пространстве и времени во французском реалистическом романе XIX века (Бальзак и Флобер) // Проблемы времени в искусстве и кинематограф / Всесоюзный институт кинематографии. Труды ВГИК. Вып. 4. М., 1972. С. 43–66. 45. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970. 46. Белоусов Р.С. Из родословной героев книг. М., 1974. 47. Белый Андрей. Шарль Бодлер // Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. М., 1994. Т. 2. С. 227–233. 48. Бельский А.А. Английский роман 1800–1810 гг. Пермь, 1968. 49. Бельский А.А. Английский роман 1820-х годов. Пермь, 1975. 50. Бельский А.А. «История Генри Эсмонда» У.М. Теккерея как исторический роман // Учен. зап. Перм. ун-та. 1960. Т. 13. Вып. 4. 51. Бельский А.А. О некоторых особенностях реализма У.М. Теккерея в романе «Ярмарка тщеславия» (в связи со становлением социального романа на Западе) // Учен. зап. Мичурин. пед. ин-та. 1958. Вып. 3. 52. Беляева Т.Н. Сотворение «Гипериона» // Гельдерлин Ф. «Гиперион». Стихи. Письма… М., 1988. 53. Бент М.И. Немецкая романтическая новелла: Генезис, эволюция, типология. Иркутск, 1987. 54. Бент М.И. Поздняя новеллистика Людвига Тика. Проблема метода и жанра // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 49. 1990. № 4. 55. Бентли Э. Жизнь драмы / Пер. с англ. Послесловие Д. Урнова. М., 1978. 56. Бердяев Н.А. Я и мир объектов // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. 57. Берковский Н. Лирика Байрона // Байрон Д. Лирика. М.; Л., 1967. 58. Берковский Н.Я. Романтизм // КЛЭ. М., 1971. Т. 6. Стб. 374. 59. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. 60. Берковский Н.Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб., 2002. 61. Бернацкая В. Чародей из Саннисайда // Ирвинг В. Альгамбра. Новеллы. М., 1989. 62. Бетц А. Обаяние смутьяна: Гейневские штудии: эстетика и политика / Пер. с нем. М., 2003. 63. Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. 64. Блисковский З.Д. Муки заголовка. М., 1981. 65. Блудова В.В. В эстетическом ракурсе. Заметки о созвучии идей Шеллинга поискам современной эстетики // Социальная теория и современность. М., 1996. Вып. 21. 66. Боброва М.Н. Дж.Ф. Купер. Саратов, 1967. 67. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1975. 68. Бодлер Ш. Жизнь и творчество Эдгара По // Бодлер Ш. Искусственный рай. Клуб любителей гашиша. М., 1997. 69. Бодлер Ш. Об искусстве / Сост. Ю.Н. Стефанова, А.Д. Чегодаева. М., 1986. 70. Борхес Х.Л. Эдгар Аллан По // Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2: Новые расследования: Произведения 1942–1969 годов. СПб., 2000. 71. Ботникова А. Комментарии // Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений в 6 т. Т. 2. М., 1994. 72. Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж, 2004. 73. Ботникова А.Б. Принципы и формы литературных взаимодействий (Э. Т. А. Гофман и В.Ф. Одоевский) // Поэтика литературы и фольклора. Воронеж, 1979. 74. Ботникова А.Б. Страница русской гофманианы (Э.Т.А. Гофман и М.Ю. Лермонтов) // Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982. 75. Ботникова А.В. Творческий путь Шамиссо. М., 1955. 76. Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература (Первая половина XIX в.): К проблеме русско-немецких литературных связей. Воронеж, 1977. 77. Ботникова А.Б. Функция фантастики в произведениях немецких романтиков // Проблемы художественного метода. / Уч. зап. Латв. ГУ. Т. 125. Рига, 1970. 78. Бочоришвили Н.К. «Страшные» и «смешные» рассказы Эдгара Аллана По // Некоторые филологические аспекты современной американистики. М., 1978. 79. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1988. 80. Брукс В.В. Писатель и американская жизнь: В 2 т. М., 1967. Т. 1. 81. Бур М., Иррлиц Г. Притязание разума. Из истории немецкой классической философии и литературы / Пер. с нем. М., 1978. 82. Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. М., 1994. 83. Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. М., 1977. 84. Валери П. Искушение (святого) Флобера // Валери П. Об искусстве. М., 1993. 85. Валери П. Положение Бодлера // Валери П. Об искусстве: Сборник. М., 1993. 86. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М., 1966. 87. Васкиневич А.И. Символ в творчестве гейдельбергских романтиков: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2000. 88. Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. Саратов, 1984. 89. Вейдле В. Три предсмертья: Стендаль, Гейне, Бодлер // Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001. 90. Вейман Р. История литературы и мифологии. М., 1975. 91. Великий романтик. Байрон и мировая литература. М., 1991. 92. Великовский С. Вехи и мастера французской поэзии XIX века // Поэзия Франции. Век XIX. М., 1985. 93. Великовский С. Поэты французских революций. 1789–1848 г.г. М., 1963. 94. Великовский С. Этьен де Сенанкур и его «Оберман» // Сенанкур Э. де. Оберман. М., 1963. 95. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. А.А. Франковского. СПб., 1994. 96. Венедиктова Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена. М., 1982. 97. Венедиктова Т.Д. Поэтическое искусство США: Современность и традиция. М., 1988. 98. Венедиктова Т.Д. Разговор по-американски: дискурс торга в литературной традиции США. М., 2003. 99. Венедиктова Т.Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001. 100. Взаимодействие национальных литератур и культур. Смоленск, 1995. 101. Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983. 102. Виноградов А.К. Стендаль. М., 1960. 103. Винтерих Дж. Приключения знаменитых книг / Пер. с англ. Предисловие Д. Урнова. М., 1979. 104. Виппер Ю.Б. Новеллы Проспера Мериме // Prosper Mérimée. Nouvelles. М., 1976. 105. Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и истории: (О западноевропейской литературе XVI – первой половины XIX в.). М., 1990. 106. Виткоп-Менардо Г. Э.Т.А. Гофман, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск, 1999. 107. Влодавская И.А. Роман Ч. Диккенса «Большие надежды» и жанровые традиции // Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX– XX вв. Пермь, 1988. 108. В мире Э.Т.А. Гофмана: Сб. статей / Под ред. В.И. Грешных. Калининград. Вып. 1. 1994. 109. Волков И.Ф. Романтизм как творческий метод // Проблемы романтизма: Сб. науч. тр. М., 1971. 110. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1978. 111. Володина И.П. И др. История итальянской литературы XIX – XX веков. М., 1990. 112. Вопросы романтического миропонимания, метода, жанра и стиля. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. Калинин, 1986. Вопросы творческой истории литературного произведения. Сб. статей / Отв. ред. Б.Г. Реизов. Л., 1964. Вулис А. Литературные зеркала. М., 1991. Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия. М., 1967. Вюрмсер А. Не посмотреть ли на известное по-новому? / Пер. с франц. Вступ. статья И.А. Лилеевой. М., 1975. Габитова Р.М. «Универсальная» герменевтика Фридриха Шлейермахера // Герменевтика: история и современность. М., 1985. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. М., 1978. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. Гаджиев А.А. Романтизм и реализм. Теория литературнохудожественных типов творчества. Баку, 1972. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. Галенко С.П. Идея трансцендентализма в западноевропейской философии // Историко-философский ежегодник – 92. М., 1993. Галинская И.Л. От трансцендентализма Фихте к романтизму Шеллинга и Шлейермахера (Сводный реферат) // Современные зарубежные исследования немецкой классической философии. М., 1989. Вып. 3. Гарин И.И. Пророки и поэты: В 2 т. М., 1992. Т. 1. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1994. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. М., 1988. Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 4. Гениева Е.Ю. Чарльз Диккенс: Великая тайна. – М., 1993. Гербстман А.И. Оноре Бальзак. Л., 1972. Герцык Е.К. Избранные главы из эссе «Эдгар По» // Новое литературное обозрение. № 52 (2001). Гиждеу С.П. Лирика Генриха Гейне. М., 1983. Гинзбург Л.В. Над строкой перевода. Статьи разных лет. М., 1981. Гинзбург Л. О романтизме // Французская романтическая повесть. Л., 1982. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1977. Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982. Гинзбург Ю.А. Ш. Леконт де Лиль // Poetes francais. XIX–XX siecles. Anthologie. М., 1982. Голосовкер Э.Я. Логика мифа. М., 1987. Голосовкер Я.Э. Эмпедокл: философ, врач, чародей // Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. Киев, 1994. Гофман Э.Т.А. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. / Сост. К. Гюнцеля. Пер. с нем. М., 1987. Гражданская З.Т. От Шекспира до Шоу. Английские писатели XVI–XX веков. Кн. Для учащихся. М., 1992. Грехнев В.А. Романтическая ирония и абсолют // Сюжет и время: Сб. науч. тр. Коломна, 1991. С. 23–27. Грешных В.И. (Ред.) В мире Э. Т. А. Гофмана. Калининград, 1994. Грешных В.И. В мире немецкого романтизма: Ф. Шлегель, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне. Калининград, 1995. Грешных В.И. Мистерия духа. Художественная проза немецких романтиков. Калининград, 2001. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. Л., 1991. Гриб В.Р. Статьи о Бальзаке // Гриб В.Р. Избранные работы. М., 1956. С. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 153–257. Гринцер П.А. Две эпохи романа. М., 1980. Грифцов Б. Как работал Бальзак. М., 1958. Грифцов Б.А. Психология писателя. М., 1988. Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел. Ростов-на-Дону, 1998. Гроссман Д.Д. Эдгар Аллан По в России: легенда и литературное влияние. СПб., 1998. Гугнин А.А. «Серапионовы братья» в контексте двух столетий // Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья. М., 1994. Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. СПб., 2000. Гуляев Н.А. и др. История немецкой литературы. М., 1975. Гумилев Н. Поэзия Бодлера // Гумилев Н. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. Гумилев Н. Поэма о старом моряке С.Т. Колриджа // Гумилев Н. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. Гуревич А.М. Романтика // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. Гуревич Л. Загадки Бальзака // Бальзак О. де. Серафита. М., 1996. Гусманов И.Г. Лирика английского романтизма. В. Блэйк, В. Вордсворт, С.Т. Колридж, Т. Мур, Д.Г. Байрон, Д. Китс. Переводы и комментарии. Орел, 1995. Гюнцель К. Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. М., 1987. Давыдов Ю.Н. Искусство и элита. М., 1966. Дайчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. М., 1987. Далин В.М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981. Данилевский Р.Ю. Людвиг Тик и русский романтизм // Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975. Данилин Ю.И. Беранже и его песни: Критико-биографический очерк. М., 1973. Даниэль С.М. От средних веков к новому времени: медитативная функция изображения // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа. М., 1980. Дейч А.И. Судьбы поэтов (Гельдерлин, Клейст, Гейне). М., 1987. Декс П. Семь веков романа / Пер. с франц. М., 1962. Демидова О.Р. Шарлотта Бронте, Элизабет Гаскелл, Джордж Элиот в России (1850–1870-е годы: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Ленинград: Изд-во ЛГПИ, 1990. Демичев А.В. Дискурсы смерти. Введение в философскую танатологию. СПб., 1997. Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Вестник МГУ. Сер. «Филология». М., 1995. № 5. Де Санктис Ф. История итальянской литературы: В 2 т. / Пер. с итальян. М., 1963–1964. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах [1911] // Культурология. XX век: Антология / Сост. С.Я. Левит. М., 1995. Дмитриев А.С. Вакенродер и ранние немецкие романтики // Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. М., 1977. Дмитриев А.С. Генрих Гейне. М., 1967. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. Дмитриев А.С. Немецкая поэзия XIX века // Немецкая поэзия XIX века. М., 1984. Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975. Днепров В. Проблемы реализма. М., 1961. Доброхотов А. Ночные бдения Гофмана // Гофман Э.Т.А. Эликсиры сатаны. Ночные рассказы. М., 1992. Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. Долинин А. Комментарии // Готорн Н. Избранные произведения в двух томах. Л., 1982. Т. 2. Дубашинский И.А. Поэма Байрона «Дон Жуан». М., 1976. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978. Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания. Л., 1974. Дьяконова Н.Я. Байрон: опыт психологического портрета // Великий романтик. Байрон и мировая литература. М., 1991. Дьяконова Н.Я. Из истории английской литературы. Статьи разных лет / Сост. А.А. Чамеев. СПб., 2001. Дьяконова Н.Я. Китс и его современники. М., 1973. Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. М., 1975. Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. Л., 1970. Дьяконова Н.Я., Чамеев А.А. Шелли. СПб., 1994. Дьяконова Н.Я. Три века английской поэзии. СПб., 1969. Дьяконова Н.Я. Три века английской прозы. СПб., 1967. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979. Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976. Европейский реализм XIX века. Линии и лики. Киев, 1984. Европейский романтизм / Отв. Ред. И. Неупокоева, И. Шетер. М., 1973. (ст. И. Неупокоевой, А. Елистратовой, К. Хорват.) Егунова Н.А. Теккерей в полемике с Диккенсом // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Заруб. лит. 1959. Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. Сб. научн. работ. Л., 1973–1977. Вып. 1–3. Елистратова А.А. Байрон. М., 1956. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960. Елистратова А.А. Поэмы и лирика Колриджа // Колридж С. Т. Стихи. М., 1974. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981. Жирмунский В.М. Литературные течения как явление международное. Л., 1967. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. М., 1996. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы / Вступит. статья М. Тронской. Л., 1972. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман XX века. Киев, 1988. Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. Забабурова Н.В. Стендаль и проблемы психологического анализа. Ростов- на-Д., 1982. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. Забабурова Н.В. Французский психологический роман (Эпоха Просвещения и Романтизм). Ростов-на-Дону, 1992. Заборов П.Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века // Ранние романтические веяния. Л., 1972. Засурский Я.Н. Жизнь и творчество У. Уитмена. М., 1955. Затонский Д.В. Европейский реализм XIX века. Киев, 1984. Затонский Д.В. Искусство романа и XX век. М., 1973. Зверев А. Американский романтизм. // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 33–58. Зверев А. «Беде и злу противоборство…» // Байрон Д.Г. На перепутьях бытия… Письма. Воспоминания. Отклики. М., 1989. Зверев А. Вашингтон Ирвинг // Ирвинг В. Новеллы. М., 1987. Зверев А. Жизнь и поэзия Блейка // Блейк В. Стихи. М., 1978. Зверев А. Звезды падучей пламень: Жизнь и поэзия Байрона. М., 1988. Зверев А. М. Эмили Дикинсон и проблемы позднего американского романтизма // Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М., 1982. С. 266–309. Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. М., 1999. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры: неприродность, множественность и относительность в литературе. М., 2002. Злобин Г. Эдгар По – романтик и рационалист // По Э. Стихотворения. Проза. М., 1976. С. 5–29. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М., 1992. Золотых И.Г. Теофиль Готье – новеллист // Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. Вып. 6. М., 1981. С. 49–61. Зыкова Е. Певец Озерного края // Вордсворт У. Избранная лирика. М., 2001. Иванов Вяч. Байронизм как событие в жизни русского духа // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. Иванько С. Фенимор Купер. М., 1990 (ЖЗЛ). Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. М., 1974. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший». Английский роман XIX века в его современном звучании. 2-е изд., доп. М., 1990. Ивашева В.В. Из истории западноевропейских литератур XIX века. М., 1955. Ивашева В.В. Творчество Диккенса. М., 1954. Ивашева В.В. Теккерей – сатирик. М., 1958. Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер: Из истории реализма во Франции. М., 1955. Из истории литературных связей XIX века. М., 1962. Ингарден Р. О различном понимании правдивости («истинности») в произведении искусства // Очерки по философии литературы. Благовещенск, 1999. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. Историческая поэтика новеллы. 1990. История американской литературы: В 2 т. / Под ред. Н.И. Самохвалова. М., 1971. Т. 1. История английской литературы. М., 1955. Т. 2. Вып. 2. История всемирной литературы: В 9 т. М., 1989. Т. 6; М., 1990. Т. 7. История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX–XX вв. Ч. 2 / 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. Под ред. Г.Н. Бояджиева. М., 1972. История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. История немецкой литературы: В 3 т. / Колл. авт. под рук. К. Бетхера и Г. Ю. Геердтса при участии Р. Гойкенкампа. М., 1986. Т. 2. История французской литературы: В 4 т. М., 1956. Т. 2. Кагарлицкий Ю.И. Байрон. М., 1984. Кайзер Г. Генрих Гейне как лирический поэт // Немецкая литература между романтизмом и реализмом. 1830–1870: Тесты и интерпретации. М., 2003. Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. М., 1998. Карельский А.В. Модернизм XX века и романтическая традиция // Вопросы литературы. 1992. Вып. 2. Карельский А.В. От героя к человеку // Вопросы литературы. 1983. № 9. Карельский А.В. От героя к человеку. Два века западноевропейской литературы. М., 1990. Карельский А.В. О творчестве Генриха фон Клейста (1777–1811) // Клейст Г. фон. Избранное. М., 1977. Карельский А.В. Повесть романтической души // Deutsche romantische Novelle. М., 1977. Карельский А. Революция социальная и революция романтическая // Вопросы литературы. 1992. Вып. 2. Карельский А. Сказки и правда Гофмана // Гофман Э.Т.А. Новеллы. М., 1991. Карельский А.В. Фридрих Геббель // Геббель Ф. Избранное: В 2 т. М., 1978. Т. 1. Карельский А.В. Эрнст Теодор Амадей Гофман // Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 1. Карлейль Т. Французская революция: История. М., 1991. Катарский И.М. Диккенс в России: Середина XIX века. М., 1966. Катарский И.М. Чарльз Диккенс. М., 1960. Каули М. Готорн в уединении // Каули М. Дом со многими окнами. М., 1973. Кашкин И.А. Эмили Дикинсон // Кашкин И.А. Для читателясовременника. М., 1968. С. 177–191. Кессиди Ф. Миф в его отношении к познанию, религии и художественному творчеству // Вопросы философии. 1966. № 6. Кеттл А. Введение в историю английского романа / Пер. с англ. Предисловие В. Ивашевой. М., 1966. Кирнозе З.И. Страницы французской классики. Кн. Для учащихся. М., 1992. Клименко Е.И. Английская литература первой половины XIX века. Очерк развития. Л., 1971. Клименко Е.И. Творчество Роберта Браунинга. Л., 1967. Ковалев Ю.В. Искусство новеллы и новелла об искусстве в XIX веке // Искусство и художник в зарубежной новелле XIX века / Сост. И.С. Ковалева. Л., 1985. Ковалев Ю.В. Легенды и реальность // Натаниел Готорн. Дом о семи фронтонах. Новеллы. Л., 1975. Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л., 1972. Ковалев Ю.В.. Молодая Америка. Л., 1971. Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л., 1974. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. Козлова Н. П. Творчество Беранже. М., 1973. Кольридж С.-Т. Избранные труды. М., 1987. Компаньон А. Демон теории. М., 2001. Кондратьев Ю. А. Байрон. М., 1973. Кондратьев Ю.М. Главные особенности эстетической позиции Джордж Элиот как отражение общих тенденций в развитии реалистического романа второй половины XIX века // Зарубежная литература: Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1966. № 245. Кондратьев Ю.М. Из истории развития реалистического романа в Англии второй половины XIX века (Дж. Элиот, Мередит, Батлер, Харди): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: МГПИ, 1967. Копелев Л. Поэт с берегов Рейна. Жизнь и страдания Генриха Гейне. М., 2003. Корман Б.О. Лирика и реализм. Иркутск, 1986. Корман Б.О. Творческий метод и субъектная организация произведения // Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. Кемерово, 1979. Корнилова Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма. М., 2001. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. М., 1993. Косиков Г.К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» // Готье Т. Эмали и камеи. М., 1989. Косиков Г.К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // Бодлер Ш. Цветы Зла. Стихотворения в прозе. М., 1993. Корнилова Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма. М., 2001. Кривушина Е.С. Французская литература XVII–XX веков: поэтика текста. Иваново, 2002. Кривушина Е.С. Художественное время / пространство в романах В. Гюго // Проблемы стиля в зарубежной литературе XIX – XX веков. Ульяновск, 1983. Кривцун О.А. Художественные эпохи в культуре Нового времени: единство дискретности и континуэта // Искусство Нового времени: Опыт культурологического анализа. СПб., 2000. Кружков Г. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания. М., 2001. Кузьмин Б.А. Жанр лиро-эпической поэмы Байрона // Кузьмин Б.А. О Голдсмите, о Байроне, о Блоке…; Статьи о литературе. М., 1977. Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). М., 1977. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. М., 1970. Ладария М.Г. И.С. Тургенев и классики французской литературы. Сухуми, 1970. Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981. Лазарева Т.Г. Фольклорные традиции в английской литературе эпохи романтизма. Курган, 2001. Левик В. «Есть красота у нас, что древним неизвестна» // Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. С. 5–16. Леви-Стросс К. Структура и форма / Семиотика. М., 1983. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней. Из истории немецкой литературы. Кн. Для учащихся. М., 1987. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. Лейтес Н.С. Роман как художественная система. Пермь, 1985. Литературная история Соединенных Штатов Америки. М., 1977. Т. 1; М., 1978. Т. 2. Литературная теория немецкого романтизма. Документы / Под ред. Н.Я. Берковского. Л., 1934. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. Лотман Ю.М. Несколько слов к проблеме «Стендаль и Стерн» // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. Лотман Ю.М. Феномен культуры // Труды по знаковым системам. 10: Семиотика культуры: Уч. зап. Тартусского гос. ун-та. Тарту, 1978. Вып. 463. Лугайс А.Л. Проблемы натурализма в английской прозе второй половины XIX века (Дж. Элиот, Дж. Мур, Дж. Гиссинг, А. Моррисон): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: Изд-во МГУ, 1991. Лугайс А.Л. Проблемы реализма и натурализма в творчестве Джордж Элиот (Ранний период. 1851–1861). Таллин, 1987. Лукач Г. К истории реализма. М., 1939. Лукач Д. Теория романа / Пер. Г. Бергельсона // Новое литературное обозрение. М., 1994. № 9. Луков В.А. Изучение системы жанров в творчестве зарубежных писателей: Проспер Мериме. М., 1983. Луков В.А. Французская драматургия (предромантизм, романтическое движение). М., 1984. Львова М.Л. Роберт Саути – автор биографической прозы // Стилистическая категоризация и текст. М., 1997. Майер П. Фантастическое в повседневном: «Невский проспект» Гоголя и «Приключение в ночь под Новый год» Гофмана // Поэтика русской литературы. М., 2001. Мандельштам О. Девятнадцатый век // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 195–201. Манн Ю.В. О гротеске в литературе. М., 1966. Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969. Маркович Е. Адельберт Шамиссо // Шамиссо А. Избранное. М., 1974. Марчанд Л. Лорд Байрон. Заложник страсти / Пер. с англ. М., 2002. Махов А.Е. Ранний романтизм в поисках музыки. М., 1993. Медянцев И.П. Английская сатира XIX века. Ярославль, 1974. Между классицизмом и романтизмом. Спор о драме в период первой империи. Л., 1972. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. Мендельсон М.О. Вступительная статья // Уолт Уитмен. Листья травы. М., 1982. Мендельсон М.О. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1969. Мережковский Д.С. Флобер // Мережковский Д.С. Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. М., 1991. С. 47–57. Мешкова И.В. Творчество Виктора Гюго. Саратов, 1971. Микушевич В. Тайнопись Новалиса // Новалис. Гимн к ночи. М., 1996. Минина Т.Н. Роман «Девяносто третий год». Проблемы революции в творчестве Виктора Гюго. Л., 1978. Миримский И. Статьи о классиках. М., 1966. Михайлов А.В. Лики культуры. М., 1997. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. Михайлов А.В. О Людвиге Тике // Тик Л. Странствия Франца Штернбальда. М., 1987. Михайлов А.Д. Проблемы философской лирики // Михайлов А.Д. Обратный перевод. М., 2000. Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков / Сост., пер. и коммент. А.В. Михайлова. М., 1987. С. 7–43. Михайлов А.В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. М., 1997. Михайлов Ал.В., Попов Ю.Н. Примечания к «Разговору о поэзии» Шлегеля // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Михайлов А.Д. Проспер Мериме в своих письмах // Мериме П. Письма к незнакомке. М., 1991. Михальская Н.П. Диккенс в России // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 10 т. М., 1987. Т. 10. Михальская Н.П. История одной карьеры // Теккерей У. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим. М., 1992. Михальская Н.П. Нравственно-эстетический идеал и система авторских оценок в романе Диккенса «Домби и сын» // Филологические науки. 1978. № 5. Михальская Н.П. Образ России в английской литературе XII–XIX вв. М., 1996. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс: Биография писателя. М., 1989. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс: Книга для учащихся. М., 1987. Мицкевич Б.П. Шарль де Костер и становление реализма в бельгийской литературе. М., 1960. Морозов А.А. Немецкая волшебно-сатирическая сказка // Немецкие волшебно-сатирические сказки. Л., 1972. Морозова Т.П. Американская мечта и русская идея // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 89–104. Мортон А. От Мэлори до Элиота. М., 1970. Моруа А. Жорж Санд. М., 1988. Моруа А. Литературные портреты. Ростов-на-Дону, 1997. Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1971. Моруа А. От Монтеня до Арагона. М., 1983. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., 1987. Мосешвили Г. «Я в трауре смеюсь…» (Шарль Бодлер: человек и легенда) // Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М., 1997. Мошкина Н.В. У. Блейк // Западная поэзия конца XVIII – начала XIX века. М., 1999. Музыкальная эстетика Германии XIX в. М., 1981. Муравьева Н.И. Беранже. М., 1965. Муравьева Н.И. Гюго. М., 1961. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998 («Чарлз Диккенс», «Гюстав Флобер»). Небольсин С. Поэзия прошлого века // Европейская поэзия XIX века. М., 1977. Неизученные страницы европейского романтизма. М., 1975. Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М., 1975. Некрасова Е.А. Творчество Блейка. М., 1962. Нерсесова М.А. Творчество Чарльза Диккенса. М., 1957. Нерсесова М.А. «Холодный дом» Диккенса. М., 1971. Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма первой половины 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. XIX века. М., 1971. Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли. М., 1959. Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты. М., 1983. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. Николюкин А.Н. Бунт и кротость // Натаниел Готорн. Гарриет БичерСтоу. М., 1990. Николюкин А.Н. Взаимодействие литератур России и США. М., 1987. Николюкин А.Н. Жизнь и творчество Э.А. По // По Э. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 693–728. Николюкин А.Н. Литературные связи России и США. М., 1981. Нольман М.Л. Координаты бодлеровского стиля. (Стихотворение «L’amor du mesonge» // Стилистические проблемы французской литературы. Л., 1974. С. 165–174. Нольман М.Л. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. М., 1979. Нордау М. Бальзак // Нордау М. Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. А.В. Перелыгиной. М., 1995. Нордау М. Парнасцы и демонисты (Катюль Мендес, Бодлер) // Нордау М. Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. Р.И. Сементковского. М., 1995. Нордау М. Прерафаэлиты (Рескин, Россетти, Суинберн, Моррис) // Нордау М. Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. Р.И. Сементковского. М., 1995. Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути. М., 1961. Обломиевский Д.Д. Литература французской революции. 1789–1794 г.г. М., 1964. Обломиевский Д. Французский романтизм. М., 194(7)7. Орлова Р.Д. Хижина, устоявшая столетие. М., 1975. Оруэлл Дж. Диккенс // Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. Пермь, 1992. Осипова Э.Ф. Генри Торо: Очерк творчества. Л., 1985. Осипова Э.Ф. Рассказ Эдгара По «Лигейя» (проблемы интерпретации) // Филологические науки. 1990. № 4. От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. От романтизма к реализму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1978. Пави П. Словарь театра. М., 1991. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли: В 3 т. М., 1962. Т. 1. Пастернак Б. Генрих Клейст // Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., 1990. Пастернак Б. Г. фон Клейст. Об аскетике в культуре // Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., 1990. Песис Б.А. От XIX к XX веку. Традиция и новаторство во французской литературе / Вступит. статья Т. Балашовой. М., 1979. Пигулевский В.О., Мирская Л.А. Символ и ирония: Опыт характеристики романтического миросозерцания. Кишинев, 1990. С. 9– 38. Пирсон Х. Диккенс / Пер. с англ. М. Кан. М., 2002. Пирсон Х. Вальтер Скотт и его мир. М., 1980. Писатели Англии о литературе: Сб. ст. М., 1981. Писатели США. Краткие творческие биографии / Под ред. Я.Н. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. М., 1990. Писатели США о литературе: В 2 т. / Сост. А.Н. Николюкин. М., 1982. Т. 1.Писатели Франции / Сост. Е.Г. Эткинда. М., 1964. Плавскин З.И. Испанская литература XVIII – середины XIX века. М., 1978. Плавскин З.И. Испанская литература XIX – XX веков. М., 1982. Подгаецкая И.Ю. Соотношение «народного» и «национального» (Беранже, Гюго) // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития XIX века. М., 1977. Покровский Н.Е. Генри Торо. М., 1983. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX в. М., 1970. Польско-русские литературные связи. Сб. статей. М., 1970. Попов П. Состав и генезис «Философии искусства» Шеллинга // Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966. Поспелов Г.Н. Теория литературы. М., 1988. Потапова З.М. Русско-итальянские литературные связи: Вторая половина XIX века. М., 1973. Потанина Н.Л. «Большие надежды» Чарльза Диккенса: проблема преступности // Художественное произведение в литературном процессе (на материале литературы Англии). М., 1985. Потанина Н.Л. Игровое начало в художественном мире Чарлза Диккенса. Тамбов, 1998. Потанина Н.Л. К вопросу о своеобразии творческого метода позднего Диккенса (роман «Большие надежды») // Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. М., 1983. Потапова З.М. Русско-итальянские литературные связи. Вторая половина XIX в. М., 1973. Прево Ж. Стендаль / Пер. с франц. Л., 1960. Приключения, фантастика, детектив: феномен беллетристики. Кн. для учителя. Воронеж, 1996. Приходько И.С. К проблеме выражения авторской личности в сборнике Ш. Бодлера «Цветы зла» // Проблемы личности автора в художественном произведении на материале западноевропейской литературы. Владимир, 1982. С. 109–123. Проблемы романтизма: Сб. статей. М., 1971. Вып. 2. (ст. Н.Я. Берковского, И.Ф. Волкова, И.Е. Верцмана.) Пронин В. «Стихи, достойные запрета…» Судьба поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка». М., 1986. Проскурнин Б.М. «Паллизеровские» романы Энтони Троллопа (1860– 70-е годы). Метод и жанр: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1982. Проскурнин Б.М., Хьюитт К. Роман Джордж Элиот «Мельница на Флоссе»: контекст. Эстетика. Поэтика. Пермь, 2004. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. Французские реалисты. Пермь, 1993. Прошкина Е.П. О внутреннем монологе в романе Чарльза Диккенса // Вестник Ленингр. ун-та. Ист., яз., лит. 1977. № 2. Вып. 1. Пруст М. Против Сент-Бева: Статьи и эссе / Пер. с франц. Т.В. Чугуновой. М., 1999. Пузиков А. Гюстав Флобер // Флобер Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 2004. Т. 1. Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1976. Пузиков А.И. Пять портретов: (Бальзак. Флобер. Доде. Мопассан. Золя). М., 1972. Пузиков А. Рыцари истины: Портреты французских писателей. М., 1986. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. Путеводитель по английской литературе / Под ред. М. Дрэббл, Д. Стрингер. Пер. с англ. М., 2003. Пучкова Г.А. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: Учеб. пособие. Арзамас, 2003. Путыкевич Л.К. Литературно-критические статьи Дж. Элиот 1850-х годов // Эстетические позиции и творческий метод писателя: Сб. статей / М.: Моск. обл. пед. ин-т, 1973. Разумовская Л.В., Витт В.В. и др. История польской литературы: В 2 т. М., 1968–1969. Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы. Сборник статей / Отв. ред. М.П. Алексеев. Л., 1972. Ранний буржуазный реализм. Л., 1936. Рассказов Ю.С. Ламартин // Западная поэзия конца XVIII – начала XIX века. М., 1999. Резник Р.А. «Философские этюды» Бальзака. Саратов, 1983. Реизов Б.Г. Бальзак. Сб. ст. Л., 1960. Реизов Б.Г. Военные повести Альфреда де Виньи // Виньи А. де. Неволя и величие солдата. Л., 1968. Реизов Б.Г. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1973. Реизов Б.Г. Стендаль: Годы ученья. Л., 1968. Реизов Б.Г. Стендаль: Художественное творчество. Л., 1978. Реизов Б.Г. Стендаль. Философия истории. Политика. Эстетика. Л., 1974. Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л., 1965. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977. Рейман П. Основные течения в немецкой литературе: 1750–1848. / Пер. с нем. Предисловие А.С. Дмитриева. М., 1959. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. Роллан Р. Старый Орфей // Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. М., 1958. Т. 14. Романтизм: два века осмысления. Мат-лы междунар. науч. конф. / Отв. ред. В.И. Грешных. Калининград, 2003. Романтизм. Открытия и традиции. Сб. науч. тр. / Под ред. И.В. Карташовой, Калинин, 1988. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность: Сб. ст. М., 1982. Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788–1824. Л.; М., 1961. Ронгонен Л.И. Генри У. Лонгфелло и его поэма «Песнь о Гайавате». М., 1982. Россия, Запад, Восток. Встречное течение. (К столетию со дня рождения акад. М.П. Алексеева). СПб., 1996. Рудницкий М. Комментарии // Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. М., 1979. Т. 1. Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966. Рымарь Н.Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990. Рымарь Н.Т. Этико-эстетическая задача и особенности поэтики реалистического романа XX века на Западе // Проблемы метода и поэтики в зарубежных литературах XIX–XX веков: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1985. Самарин Р.М. Китс // История английской литературы. Т. 2. Вып. 1. М., 1953. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. Самарин Р.М. Национально-освободительное движение 1807–1813 гг. и немецкая литература // История немецкой литературы. Т. 3. М., 1966. Самарин Р.М. «Этот честный метод» (К истории реализма в западноевропейских литературах). М., 1974. Самохвалов Н. Возникновение критического реализма в литературе США. Краснодар, 1969. Сартр Ж.П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993. Сартр Ж.-П. Идиот в семье. Гюстав Флобер с 1821 до 1857 года. СПб., 1998. Сафрански Р. Гофман. М., 2005 (ЖЗЛ). Сафронова Н.В. Гюго. Биография писателя. М., 1989. Сахаров В.И. Байрон и русские романтики // Великий романтик. Байрон и мировая литература. М., 1991. Свердлов М.И. Идея детства. Предпосылки поэтического открытия // Англистика. Сб. статей и материалов по литературе и культуре Великобритании. Вып. 2. М., 1996. Селитрина Т.Л. К вопросу о литературно-эстетических взглядах Дж. Элиот // Литературные связи и традиции: Сб. статей / Горький: Горьковский ун-т, 1974. Вып. 4. Селитрина Т.Л. Общественно-политические взгляды Дж. Элиот // Писатель и время: Сб. статей / Ульяновск: Ульян. Гос. пед. ин-т, 1975. Селитрина Т.Л. Своеобразие реализма Дж. Элиот (роман «Мидлмарч») // Из истории английского реализма в литературе Англии: Межвуз. сб. науч. трудов / Пермь: Пермский ун-т, 1980. Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970. Serta romantica: Межвуз. сб. СПб., 2001. Сильман Т.И. Диккенс: Очерки творчества. Л., 1970. Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. Е.А. Сергеевой. М., 2003 (ЖЗЛ). Скаддер Т. Генри Дэвид Торо // Литературная история Соединенных штатов Америки. М., 1977. Т. 1. Сказкин С. Предисловие // Виньи А. Сен-Мар. Заговор во времена Людовика XIII. М., 1964. Сноу Ч.П. Творчество Троллопа // Сноу Ч.П. Портреты и размышления. М., 1985. Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэла Россетти в контексте «средневекового возрождения» в викторианской Англии. М., 1995. Соколова Т.В. Июльская революция и французская литература (1830–1831 годы). Л., 1973. Соколова Т.В. Философская поэзия А. де Виньи. Л., 1981. Соловьев А.Э. Романтическая концепция иронии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Соловьева Н.А. Английский предромантизм и формирование романтического метода. М., 1983. Соловьева Н.А. Русский человек и англичанка на rendez-vou (И.С. Тургенев и Дж. Элиот) // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 1994. № 6. Соловьева Н.А. У истоков английского романтизма. М., 1988. Стадников Г.В. Генрих Гейне. М., 1984. Старицына З.А. Беранже в русской литературе. М., 1980. Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры: В 2 т. М., 2002. Т. 1. Стеценко Е.А. Литература Гражданской войны // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 59–77. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. Столбов В. Теофиль Готье. Очерк жизни и творчества // Готье Теофиль. Избранные произведения: В 2 т. М., 1972. Т. 1. Сучков Б.Л. Исторические судьбы реализма. М., 1970. Тайна Чарльза Диккенса: Библиографические разыскания. М., 1990. Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века. М., 1997. Тарковский А. Гофманиана // Искусство кино. 1976. № 8. Теккерей в воспоминаниях современников / Сост. Е. Гениева. М., 1990. Темница и свобода в художественном мире романтизма. М., 2002. Тертерян И.А. Романтизм // История всемирной литературы: В 8 т. М., 1989. Т. 6. Тимашева О.В. Стендаль (200 лет со дня рождения). М., 1983. Типология стилевого развития XIX века. Сб. статей. М., 1977. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983. Толмачев В.М. Где искать XIX век? // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001. Толмачев В.М. От романтизма к романтизму. М., 1997. Толмачев М.В. Свидетель века В. Гюго // Гюго В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 1. С. 3–52. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. Топоров В.Н. Об «эктропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве) // От мифа к литературе. Сб. в честь 75-летия Е.М. Мелетинского. М., 1993. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. Трапезникова Н.С. Романтизм Жорж Санд: Проблема взаимосвязи романтизма и реализма во французской литературе XIX века. Казань, 1976. Трескунов М. Альфред де Мюссе // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. Трескунов М.С. Жорж Санд: Критико-биографический очерк. Л., 1976. Трескунов М.С. Творчество Гюго: Очерк творчества. М., 1961 (Л., 1964). Тугушева М.П. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». М., 1985. Тугушева М. «Сие сотворивший» Э. По // Тугушева М. Под знаменем четырех. М., 1991. С. 13–73. Тугушева М. Чарльз Диккенс: Очерк жизни и творчества. М., 1979. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму: Трансформация героя и изменение жанровых структур в западноевропейской литературе конца XIX – начала XX в. М., 1983. Тураев С.В. Революция во Франции и немецкая литература. М., 1997. Тураев С., Чавчанидзе Дж. Изучение зарубежной литературы в школе. М., 1982. Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987. Уайльд О. Евангелие от Уолта Уитмена // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. / Пер. с англ. М., 1993. Т. 2. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса / Пер. с англ. Р. Померанцевой и В. Харитонова. М., 1975. Уильям Мейкпис Теккерей: Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания / Сост. Е.Ю. Гениева. М., 1989. Уильямс С.Т. Джеймс Фенимор Купер // Литературная история Соединенных Штатов Америки: В 3 т. М., 1977. Т. 1. Уильямс С.Т. Вашингтон Ирвинг // Литературная история Соединенных 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. Штатов Америки: В 3 т. М., 1977. Т. 1 Уильямс С.Т. Первый классик американской литературы // Ирвинг В. Собр. соч.: В 5 т. М., 2002. Т. 1. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986. Федоров А.А. Зарубежная литература XIX–XX веков. Эстетика и художественное творчество. М., 1989. Федоров Ф.П. Романтизм и бидермайер // Russian Literature. Amsterdam, 1995. V. 38. P. 241. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. Федоров Ф.П. Циклизация в творчестве Э.-Т. Гофмана // Контекст – 2003. Литературно-теоретические исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Федоров Ф.П. Человек в романтической литературе. Рига, 1987. Федоров Ф.П. Эстетические взгляды Гофмана. Рига, 1972. Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма. Статьи: В 2 т. / Сост. С. Лейбович. М., 1984. Форстер М. Записки викторианского джентльмена / Пер. с англ. М., 1985. Франс А. Гюстав Флобер // Франс А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 92– 100. Фрейд З. Толкование сновидений. М., 1999. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. Фрестье Ж. Проспер Мериме. М., 1987. Фрид Я. Гюстав Флобер // Флобер Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. Фрид Я.В. Стендаль: Очерк жизни и творчества. М., 1967. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб., 2003. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978. Ханмурзаев К.Г. Жанровое своеобразие романа Гельдерлина «Гиперион» // Известия АН СССР. Сер. литературы и яз. Т. 49. 1990. № 4. Ханмурзаев К.Г. Немецкий романтический роман. Махачкала, 1998. Хейзинга Й. Homo ludens // Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. Херрманн Х.П. Драма Фридриха Геббеля «Мария Магдалина» // Немецкая литература между романтизмом и реализмом. 1830–1870. СПб., 2003. Хорев А.В. Леконт де Лиль и французские романтические поэты середины XIX века. М., 1989. Хохулина Л.Н. Роль детали в произведениях Тургенева и Флобера // Вопросы русской литературы. Львов, 1972. Храповицкая Г.Н. Пейзаж в литературе и живописи немецкого романтизма // Филологические науки. 1997. № 4. Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. М., 1978. Художественное мышление в литературе XIX–XX веков: Сб. статей. / Отв. ред. В.И. Грешных. Калининград, 1992. Художественный мир Э.Т.А. Гофана: Сб. статей / Под ред. И.Ф. Бэлзы. М., 1982. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. Цвейг С. Бальзак. М., 1962. Цвейг Ст. Чарльз Диккенс // Цвейг Ст. Собр. соч.: В 7 т. М., 1963. Т. 6. Цыбенко Е.З. Из истории польско-русских литературных связей XIX–XX вв. М., 1978. Чавчанидзе Д.Л. Романтизм и Средневековье: вариант диалога художественных эпох // Науч. доклады филол. фак-та МГУ. Вып. 1. М., 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 1996. Чавчанидзе Д.Л. «Романтическая ирония» в творчестве Э.Т.А. Гофмана // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1967. Вып. 280. Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М., 1997. Чавчанидзе Д.Л. Художественный образ Э.Т.А. Гофмана («Фантазии в манере Калло») // Вопросы зарубежной литературы. М., 1968. Ученые записки № 304. МГПИ. Чамеев А.А. Мильтон в творчестве Байрона // Великий романтик Байрон и мировая литература. М., 1991. Чегодаев А.Д. Наследники мятежной вольности. М., 1989. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18–20 вв. М., 1968. Чередниченко В.И. Лирика Эдгара Аллана По // По Эдгар Аллан. Эссе. Материалы. Исследования. Краснодар, 1995. Вып. 1. Черневич М.Н. Жизнь и творчество Жермены де Сталь // Сталь Ж. де. Коринна. М., 1969. Черневич М.Н. и др. История французской литературы. М., 1965. Чернец Л.В. «Как слово наше отзовется…» Судьбы литературных произведений. М., 1995. Чернуха И.Я. Элементы организации художественного прозаического текста. Воронеж, 1984. Честертон Г.К. Чарльз Диккенс / Пер. с англ. Н. Трауберг. М., 1982. Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975. Чичерин А.В. Произведения О. Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии». М., 1982. Чуковский К.И. Мой Уитмен. М., 1966. Шайтанов И.О. Байрон // Зарубежные писатели: Библиографический словарь. М., 1997. Шафаренко И.Я. Шарль Сент-Бев и его литературный дневник // СентБев Ш. Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма. Л., 1986. Швейбельман Н.Ф. «Поэтика блужданий» во французской литературе XIX века. М., 2003. Швинглхурст Э. Прерафаэлиты. М., 1995. Шейкер В.Н. Исторический роман Джеймса Фенимора Купера. Иваново, 1980. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. М., 1987. Т. 1. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. Шиллер Ф.П. Г. Гейне. М., 1962. Шлегель Ф. Письмо о романе // Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. Э. По, Г. Мелвилл, Д. Гарднер. М., 1995. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории / Пер. К.А. Свасьяна. М., 1993. Т. 1. Шрейдер Н.С. Три романа-исповеди: их авторы и герои // Шатобриан. Рене. Б. Констан. Адольф. А. де Мюссе. Исповедь сына века. М., 1973. Штейн А. На вершинах мировой литературы. М., 1988. Штейн А.Л. Лекции по испанской литературе эпохи просвещения и романтизма. М., 1975. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. Шумкова Т.Л. Зарубежная литература XIX века. Романтизм. М., 2002. Щепотьев С.И. Краткий конспект истории английской литературы и литературы США. СПб., 2003. Элиот Т.С. Байрон // Элиот Т.С. Назначение поэзии. М., 1997. Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской Литературы. Сб. статей / Под ред. М.П. Алексеева. Л., 1975 (ст. Ю.Д. Левина, Р.Ю. Данилевской, П.Р. Заборова). Эпштейн М. О стилевых началах реализма: Поэтика Стендаля и Бальзака // Вопросы литературы. 1977. № 8. Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков. М., 1988. Эсалнек А.Я. Типология романа (теоретический и историколитературный аспекты). М., 1991. Эстетика и творчество русских и зарубежных романтиков. Сб. науч. тр. / Под ред. Н.А. Гуляева. Калинин, 1983. Эти загадочные англичанки…: Пер. с англ. / Сост. и предисл. Е.Ю. Гениевой. М., 2002. Эткинд Е.Г. О внешнем и внутреннем пространстве в поэзии Бодлера // Стилистические проблемы французской литературы. Л., 1974. С. 189– 208. Эткинд Е. Справки о французских поэтах // Французские стихи в переводах русских поэтов XIX – XX вв. М., 1969. Якобсон Р. О художественном реализме // Якобсон Р. Работы по поэтике М., 1987. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1976. Яшенькина Р.Ф. Становление историзма в западноевропейской литературе XIX века. Учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 1978. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 1. Горелик Л.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу зарубежной литературы XIX века (романтизм). Ворошиловград, 1981. 2. Зарубежная литература XIX века: Практикум / Отв. редактор В.А. Луков. М., 2002. 3. Кирнозе З.И., Пронин В.Н. Практикум по истории французской литературы. М., 1965. 4. Кирнозе З.И., Фомин С.М., Зусман В.Г., Наумова О.А., Бронич М.К. Всемирная литература. Программа: Учебно-методические материалы. Н. Новгород, 2003 (Раздел VII). 5. Ковалева О.В., Шахова Л.Г. Зарубежная литература XIX века. Романтизм. М., 2005. 6. Непомнящая Л.Г. Темы контрольных работ по зарубежной литературе XIX века. М., 1977. 7. Панкова Е.С. Зарубежная литература XIX века. Материалы к вузовскому изучению дисциплины. В помощь студенту-филологу. Орел, 1999. 8. Практические занятия по литературе. Методическое пособие. М., 1972. 9. Соловьева Н.А. История зарубежной литературы XIX века. В 2-х ч. Методические указания. М., 1984. 10. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США): Практикум. М., 2003. 11. Черноземова Е.Н. Практикум по истории английской литературы. Планы. Разработки. Материалы. Задания. М., 2000. 12. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм. М., 2002. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ1 Аболиционизм, автор и читатель и структура романа, авторский герой, авторская позиция, авторский психологизм, аллегоризм в реалистическом романе, аллегория, аллюзия, амбивалентность, аналогия, антигерой (герой-авантюрист), байронизм, баллада, антитеза, «башня арабеска, из архетип, слоновой архитектоника, кости», бидермайер, бинарность, «бинарность» психологизма, визионерство, викторианство, внутренний монолог, внутренняя речь, восточная поэма, всеведающий автор и особенности повествования, «всеведущий автор» и повествователь, вставное повествование, Гейдельбергский романтизм, гипербола, гротеск и фарс в романе, двойничество, деромантизация и дегероизация романа, дегероизация, деромантизация, прозаизация человека и мира в литературе, диалог с психологизированным подтекстом, драматизация романа (сценизация и театрализация в романе), духовные стихи, игра, йенские романтики, имперсональное изображение (повествование), «Искусство для искусства», историзм и социальность реализма, канон, комико-сатирический эпос (комическая эпопея), конфликт в социальнопроблемном романе (“condition-of-England novel”), концепция общества как живого, противоречивого и саморазвивающегося организма и полицентрическая структура романа, литературная сказка, масочность, «местный колорит» и историзм, «местный колорит» как принцип романтической типизации, метафизическая поэзия, «мировая скорбь», мистификация литературная, мистическое, моносюжетный и полисюжетный роман, натуралистическое и импрессионистическое в литературе, натуралистические тенденции, несобственно-прямая речь, новелла как вид «малой прозы», общий и крупный повествовательные планы, объективное и субъективное в литературном произведении, ода, озёрная школа, «Парнас», параллелизм, песня, положительный герой, «поэзия отрицательных величин» как принцип реалистической типизации характера, поэтика, правдоподобие и правдивость в реализме, принцип системности (полнота, организация, иерархия взаимодействия элементов, структура), принцип «точка зрения», протагонист и антагонист в романе, психологический анализ (прямой и косвенный психологический анализ), психологизированные обстоятельства, психологизм и психологический анализ в произведениях, (психологизированная критический, деталь), реалистический «психологический реализм тип и классический, реалистический поток» реализм характер, романтизм, роман (роман-автобиография, роман байронический, роман без героя, роман в письмах, роман в стихах, роман викторианский, роман воспитания, роман исторический, роман карьеры, роман морской, роман нравоописательный, роман о художнике, роман панорамный (романобозрение), роман-пикареска, роман политический, роман приключенческий, роман сатирический, роман семейный, социально-бытовой, роман социальнопсихологический, роман социальный), роман – эпос нового времени, романная структура (герой, семья, автор) и постижение структуры общества, романтическая гротеск, ирония, романтический романтические фрагмент, тенденции, романтический романтический эскапизм, романтическое двоемирие, сатира, сатирическая ирония, сатирическая типизация, символ, собирательность социальной сатиры, собирательный образ, сонет, соотношение идеала и действительности в реализме, социальная типизация, социально-бытовой аналитизм, социальнопсихологический детерминизм, социальный аналитизм, социальный реализм и социальный анализ в литературе, стилизация, типизация и индивидуализация образа человека, стиль литературного произведения, трансцендентализм, фантастика, физиологический очерк, «формула» реалистической типизации, фронтир, характер и обстоятельства, характер и среда в литературном произведении, характер и характерология, характер повествования, характерология образа, художественный историзм, художественный мир литературного произведения, художественный психологизм (интроспекция и ретроспекция), художественный психологизм и психологический анализ, чартистская литература, швабские романтики, элегия, эпическая поэма, эстетика реализма, эстетический идеал, юмор. ___________ 1 Знание указанных понятий будет определяться после ответа на вопросы экзаменационного билета. Особое внимание необходимо уделить выделенным понятиям. 2 Рекомендуемые справочные издания: 1. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М., 1974. 2. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Гл. ред. А.А. Сурков. М., 1962–1978. 3. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. П.А. Николаева, В.М. Кожевникова. М., 1987. 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 ПОЭМА ДЖ. Г. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА» План 1. История создания поэмы Дж.Г. Байрона «Паломничество ЧайльдГарольда». 2. Проблема свободы в творчестве Байрона и ее воплощение в поэме. 3. Жанровые особенности поэмы как лиро-эпического произведения (соотношение эпического и лирического пластов повествования; мотив путешествия – организующее начало в свободной романтической композиции поэмы, роль пейзажных зарисовок в структуре поэмы). 4. «Байронический герой», его черты, отражение в его образе типических умонастроений эпохи. Автор и герой. 5. «Байронизм» и творчество русских поэтов XIX века. Литература 1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1985. 2. Афонина О., Рогов В., Дьяконова Н. Примечания // Байрон Д.Г. Паломничество Чайльд Гарольда. Дон Жуан. М., 1972. 3. Берковский Н.Я. Байрон // Берковский Н.Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. М., СПб., 2002. Лекции 14–16. 4. Великий романтик. Байрон и мировая литература. М., 1991. 5. Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел. Ростов-на-Дону, 1998. 6. Дубашинский И.А. Поэма Дж.Г. Байрона «Паломничество ЧайльдГарольда». Рига, 1975. 7. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. М., 1978. 8. Елистратова А.А. Байрон. М., 1956. 9. Зверев А.М. Звезды падучей пламень: Жизнь и поэзия Байрона. М., 1988. 10.Жирмунский В.М. Байрон и мировая литература. М., 1975. 11.Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. М., 1978. 12.Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981. (Статья о Байроне) 13.Кагарлицкий Ю.И. Байрон. М., 1984. 14.Кондратьев Ю.А. Байрон. М., 1973. 15.Кузьмин Б.А. Жанр лиро-эпической поэмы Байрона // Кузьмин Б.А. О Голдсмите, о Байроне, о Блоке: Статьи о литературе. М., 1977. 16.Кургинян М.С. Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. М., 1958. 17.Марчанд Л. Лорд Байрон. Заложник страсти / Пер. с англ. М., 2002. 18.Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788–1824. Л., М., 1961. 19.Урнов Д.М. Байрон // История всемирной литературы. Т. 6. М., 1989. 20.Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе (Германия, Англия, Франция, США). Практикум. М., 2003. (Тема 3. Байрон и Пушкин – контактные и типологические связи). 21.Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. / Под ред. Г.Н. Храповицкой. М., 2002. 22.Шайтанов И.О. Байрон // Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. М., 2003. Т. 1. 23.Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм. М., 2002. 24.Элиот Т.С. Байрон // Элиот Т.С. Назначение поэзии. М., 1997. 25.Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. М., 1975. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 ПОВЕСТЬ О. де БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» План 1. Эстетические принципы творчества О. де Бальзака («Предисловие к «Человеческой комедии») и их художественное воплощение в повести «Гобсек». 2. Образ Гобсека как олицетворение власти «золотого тельца» в современном обществе. 3. Принципы и приемы создания образа главного героя (портретная характеристика; восприятие Гобсека другими персонажами; самораскрытие героя в речи, его духовная «эволюция»; описание окружающей обстановки; синтез романтического и реалистического в образе героя). 4. Образы персонажей второго плана, принципы их создания. Связь с главным героем. 5. Особенности сюжетно-композиционной организации повести. 6. «Гобсек» Бальзака и классический реализм XIX века. Литература 1. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970. 2. Вруман И.Е. Проблемы художественного познания. М., 1967. Глава «Эстетика Бальзака». 3. Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия. М., 1967. 4. Гербстман А.И. Оноре Бальзак. Л., 1972. 5. Гриб В.Р. Статьи о Бальзаке // Гриб В.Р. Избранные работы. М., 1956. С. 153–257. 6. Грифцов Б. Как работал Бальзак. М., 1958. 7. Затонский Д.В. Бальзак // История всемирной литературы. М.. 1989. 8. Ионкис Г.Э. Оноре Бальзак. М., 1988. 9. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. М., 1970. 10.Моруа А. Литературные портреты. М., 1970. 11.Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., 1967. 12.Нордау М. Бальзак // Нордау М. Вырождение. Современные французы / Пер. с нем. А.В. Перелыгиной. М., 1995. 13.Обломиевский Д.Д. Бальзак: этапы творческого пути. М., 1961. 14.Пузиков А.И. Пять портретов: (Бальзак. Флобер. Доде. Мопассан. Золя). М., 1972. 15.Реизов Б.Г. Бальзак. Л., 1960. 16.Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. Е.А. Сергеевой. М., 2003 (ЖЗЛ). 17.Храповицкая Г.Н. Бальзак // Зарубежные писатели: Библиографический словарь: В 2 т. / Под ред. Н.П. Михальской. М., 2003. Т. 1. 18.Цвейг С. Бальзак. М., 1962. 19.Чичерин А.В. Произведения Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии». М., 1982. МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ IV курс РЯЛ, ОЗО III курс Ж, ОЗО I. Темы контрольных работ 1. Идейное и художественное новаторство Дж.Г. Байрона в лирике. 2. Проблема личности и общества в «Восточных поэмах» Дж.Г. Байрона. 3. Художественное своеобразие исторической прозы В. Скотта (на примере одного из романов). 4. Двоемирие и принципы его воплощения в новелле Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес». 5. Роль романтической иронии в романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». 6. Эстетические принципы В. Гюго и их воплощение в драме «Рюи Блаз». 7. Особенности психологизма в романе Ф. Стендаля «Красное и черное». 8. Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» как образец «объективного искусства» писателя. 9. Реально-достоверные и условные формы изображения в романе Ч. Диккенса «Домби и сын». 10. Образ автора и формы воплощения авторского «я» в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». II. Источники17 Тексты 1. Байрон Дж.Г. Стихотворения // Байрон Дж.Г. Стихотворения. Поэмы. Критическую литературу по творчеству писателей, включенных в темплан контрольных работ, студенты могут самостоятельно выбрать из списка дополнительной литературы по курсу (см.: С. 13–32). 17 Драматургия. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 2. Байрон Дж.Г. Поэмы 1813–1816 гг. [«Гяур» / Пер. С. Ильина; «Корсар» / Пер. Г. Шенгели] // Байрон Дж.Г. Указ. изд. 3. Скотт В. Квентин Дорвард / Пер. Е. Танка, М. Шишмаревой // Скотт В. Квентин Дорвард: Исторический роман. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Уникум, 2003. 4. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер / Пер. А. Морозова // Гофман Э.Т.А. Новеллы. М.: Художественная литература, 1978. 5. Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра / Пер. Д. Каравкиной, В. Гриба под ред. В. Розанова; Стихи в пер. И. Снеговой // Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. М.: Художественная литература, 1990. 6. Гюго В. Рюи Блаз / Пер. Т. Щепкиной-Куперник // Гюго В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.-Л.: ГИХЛ, 1952. 7. Стендаль Ф. Красное и черное / Пер. Н. Любимова. М.: Художественная литература, 1987. 8. Флобер Г. Госпожа Бовари / Пер. Н. Любимова // Флобер Г. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. 9. Диккенс Ч. Торговый дом Домби и сын / Пер. А.В. Кривцовой // Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1988. 10. Теккерей У. Ярмарка тщеславия / Пер. М. Дьяконова // Теккерей У. Ярмарка тщеславия: Роман без героя. М.: Художественная литература, 1983. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 1. Общая характеристика и периодизация литературы XIX века. Романтизм как метод, направление и стиль. Поэтика романтического творчества. 2. Йенская школа романтизма в Германии. Разработка теории нового искусства А. и Ф. Шлегелями, Новалисом. Воплощение романтического идеала в художественном творчестве йенцев. 3. Творчество Ф. Гёльдерлина (лирика, роман «Гиперион»): основные мотивы и образы. 4. Гейдельбергский кружок немецких романтиков. Эстетическая программа гейдельбергской школы романтизма. Художественное своеобразие сборника народных песен «Волшебный рог мальчика». 5. Драматургия и проза Г. фон Клейста: проблематика, особенности поэтики. 6. Творческий путь Э.Т.А. Гофмана. Многообразие мотивов и тем в прозе писателя, особенности поэтики его произведений. 7. Своеобразие жанра литературной сказки в творчестве Э.Т.А. Гофмана. Образ мира и романтического героя, функции гротеска и фантастики в новеллах писателя. 8. Роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (проблематика, особенности композиции). «Поэтика необычайного» в романе. 9. Творчество А. фон Шамиссо. Реальное и фантастическое в его художественной системе. «Удивительная история Петера Шлемиля»: специфика жанра и композиции. 10.Лирическое «я» и формы его воплощения в «Книге песен» Г. Гейне. Основные темы и проблемы позднего творчества Гейне. 11.Английский романтизм: пути становления и национальное своеобразие. Эстетические идеи и художественное творчество поэтов «Озерной школы». 12.Творческий путь Дж.Г. Байрона. Особенности его романтизма. Ведущие темы и поэтика лирических произведений Байрона. 13.Своеобразие жанра лиро-эпической поэмы Дж.Г. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Образ романтического героя. Тематика и проблематика поэмы. 14.«Восточные» поэмы Дж.Г. Байрона: основной конфликт, специфика изображения человеческого характера. 15.Художественные искания Дж.Г. Байрона в романе «Дон-Жуан». Новые тенденции в творчестве Байрона последнего периода. 16.Идейно-художественное своеобразие лирики П.Б. Шелли. Проблема революции в творчестве Шелли («Освобожденный Прометей»). 17.Принцип историзма в творчестве В. Скотта. Особенности жанра исторического романа, синтез романтического и реалистического в прозе писателя. 18.Романтизм во Франции. Особенности и периодизация французского романтического движения. Эстетика раннего французского романтизма (Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь). 19.Французский романтизм в годы Реставрации. Мотивы и образы поэзия А. де Ламартина и А. де Виньи. Исторический роман А. де Виньи «СенМар». 20.Творчество В. Гюго. Художественное новаторство его лирики. Драматургия Гюго и реформа французского театра. 21.Творческая эволюция В. Гюго-романиста. Проблематика и поэтика романа Гюго «Собор Парижской богоматери». 22.Творчество Ж. Санд. Идейно-художественные особенности романов писательницы. 23.Эстетические воззрения, литературное творчество поэтов «Парнаса» (Т. Готье, Ш. Леконт де Лиль). 24.Поэтический сборник Ш. Бодлера «Цветы зла»: лирические мотивы и образы. Новаторский характер поэзии Бодлера. 25.Романтизм в литературе США: пути развития, национальное своеобразие, эстетика. 26.Новеллистика В. Ирвинга: жанровые особенности и национальная специфика. 27. Художественное своеобразие жанра романтического исторического романа в творчестве Ф. Купера (пенталогия о Кожаном Чулке). Проблема положительного героя и ее воплощение в произведениях писателя. 28.Поэтическое и прозаическое творчество Э.А. По. Поэтика его новеллистики. 29. Книга стихов У. Уитмена «Листья травы»: особенности тематики и проблематики. Художественное новаторство поэзии У. Уитмена. 30.Творчество Н. Готорна. Сюжет и композиция, жанровое своеобразие романа Готорна «Алая буква». 31.Роман Г. Мелвилла «Моби Дик»: основной конфликт, философская символика и притчевые черты в романе. 32.Реализм XIX века: пути становления и развития. Эстетика и поэтика реалистического творчества. 33.Своеобразие художественного метода О. де Бальзака. «Человеческая комедия»: замысел и история воплощения. 34.Философская и эстетическая проблематика в творчестве О. де Бальзака («Шагреневая кожа», «Неведомый шедевр»). 35.Повесть О. де Бальзака «Гобсек», романы «Евгения Гранде» и «Отец Горио»: проблематика и поэтика. Критические аспекты изображения действительности в произведениях О. де Бальзака. 36.Художественное воплощение проблемы молодого человека в прозе О. де Бальзака. Роман «Утраченные иллюзии»: основные темы, мотивы и образы. 37.Творческий путь Ф. Стендаля. Специфика реализма писателя. Особенности художественной характерологии, формы психологического анализа в его произведениях. 38.Итальянская тема в творчестве Ф. Стендаля. Сюжетно-композиционная организация романа «Пармская обитель». Итальянское и общеевропейское в проблематике произведения. 39.Роман Ф. Стендаля «Красное и черное». Проблема положительного героя, принципы и приемы изображения человеческого характера, особенности психологизма в романе. 40.Творческий путь Г. Флобера. Философские и эстетические взгляды писателя. Особенности стиля его произведений. 41.Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари». Основная проблематика. Сюжет и композиция романа. 42.П. Мериме. Его место в развитии реализма во французской литературе. Художественное своеобразие ранних произведений писателя («Театр Клары Гасуль», «Гюзла»). 43.Жанровые особенности новеллистики П. Мериме («Матео Фальконе», «Таманго», «Двойная ошибка», «Коломба»). Синтез романтических и реалистических форм в малой прозе писателя. Художественная характерология. 44.Исторические произведения П. Мериме («Хроника времен Карла IX», «Жакерия»): проблематика, особенности поэтики. 45.Ч. Диккенс. Периодизация творчества. Жанровая эволюция романной прозы писателя («Записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Большие надежды»). Своеобразие художественного метода писателя. 46.Раннее творчество Ч. Диккенса: основные темы и мотивы. Диккенсюморист («Записки Пиквикского клуба»). 47.Роман Ч. Диккенса «Домби и сын». Социальная и этическая проблематика произведения. Особенности психологизма в романе. 48.Поздние произведения Ч. Диккенса: проблематика, своеобразие художественной манеры писателя. Сюжет, композиция, система образов романа «Большие надежды». Гуманистические аспекты изображения современной действительности в позднем творчестве писателя. 49.Эстетические воззрения и творческий путь У. Теккерея. Художественное своеобразие его произведений. 50.Роман У. Теккерея «Ярмарка Тщеславия». Социальные и политические проблемы в романе. Особенности художественного воплощения авторской позиции. 51.Обновление «викторианской» прозы в английском реалистическом романе 60-70-х годов (Дж. Элиот, Э. Троллоп). 52.Романное творчество Шарлотты и Эмилии Бронте. Жанровое своеобразие их произведений. ПРИЛОЖЕНИЯ РОМАНТИЗМ ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Фридрих Шлегель О ЗНАЧЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ ГРЕКОВ И РИМЛЯН2 Древняя история необходима для объяснения современности, <…> но недопустимо останавливаться на каком-либо звене бесконечной цепи <…> <…> Духу нашего времени подобает отчитаться <…> перед современностью, посовещавшись с прошлым и будущим, с тем чтобы свободно из самих себя определить законы и цели своих действий <…> <…> Некоторые писатели и мыслители видят в своем веке не что иное, как руины утраченной гуманности, и <…> их жизнь является лишь элегией на гробнице прошлого <…> К экзамену студент должен уметь разбираться в своеобразии эстетики романтизма. Фрагменты этого и всех следующих эстетических работ «Приложения I» даны по изданию: Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М.: Наука, 1980. 1 2 <…> Недостойно современного человека жить, как попрошайка на подаяние предшествующего века <…> Необходимо не искусственное подражание внешним формам, а усвоение духа, истинного, прекрасного и доброго в любви, взглядах и поступках, усвоение свободы <…>. ОБ ИЗУЧЕНИИ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ <…> Законченная история греческой поэзии <…> является одновременно и существенной предпосылкой для совершенствования художественного вкуса немцев <…> (47). Не каждое поэтическое проявление стремления к бесконечному сентиментально: но только такое, которое связано с размышлением о соотношении идеального и реального <…> Но интересное в поэзии всегда имеет лишь временную силу, как и деспотическое правительство <…> Прекрасной заслугой современной поэзии является то, что многое доброе и великое, которое недооценивалось, вытеснялось, отвергалось в конституциях, в обществе, школьной премудрости, находило у нее то защиту и убежище, то заботу и родину. Сюда, как в единственное чистое место греховного столетия, сложили немногие благородные люди, словно на алтарь человечества, цветы своей возвышенной жизни, лучшее из всего, что они сделали, мыслили, чем наслаждались и к чему стремились. Но не являются ли так же часто и даже чаще правда и нравственность главной целью этих поэтов, чем красота? (48). <…> «Гамлета» так часто недооценивают, что хвалят его за частности <…> В шекспировской драме связь так проста и ясна, что ее смысл открыт и очевиден сам по себе. Но часто основа связи так глубоко скрыта, узы невидимы, отношения тонки, что она не поддается критическому анализу, когда недостает такта, когда привносят / ложные ожидания или исходят из ошибочных положений. В «Гамлете» все отдельные части развиваются с необходимостью из всеобщего центра и снова сходятся к нему. В этом шедевре художественной мудрости нет ничего чуждого, излишнего или случайного. Центр целого – в характере героя. Через чудесную ситуацию все силы его благородной натуры концентрируются в разуме, но деятельное начало совершенно уничтожено. Его душа разрывается, словно на дыбе, в разные стороны, распадается и переходит в богатство бесполезного разума, который подавляет героя еще мучительнее, чем все окружавшие его. Кажется, не существует более совершенного изображения безысходной дисгармонии, которая и является собственно предметом философской трагедии, нет более ничего равного столь безграничному разладу думающей и деятельной силы, чем характер Гамлета. Всеобщее впечатление от этой трагедии – максимум отчаяния. Все впечатления, по отдельности казавшиеся большими и важными, исчезли как тривиальные перед тем, что предстает здесь как последний и единственный результат всего бытия и мышления перед вечным колоссальным диссонансом, который бесконечно разделяет человечество и судьбу <…> Шекспир среди всех художников является тем, кто наиболее совершенно и точно характеризовал дух современной поэзии. В нем соединились чарующие цветы романтической фантазии, гигантское величие готского героического времени с тончайшими чертами современного общения, с глубочайшей и богатейшей поэтической философией. Его можно без преувеличения назвать вершиной современной поэзии <...> Итак, избыток индивидуального сам ведет к объективному, интересное – предпосылка прекрасного, и конечной целью современной поэзии может быть не что иное, как высшая красота, максимум объективного эстетического совершенства <…> Поэзия Гете – утренняя заря истинного искусства и чистой красоты <…> (49). ОПЫТ О ПОНЯТИИ РЕСПУБЛИКАНИЗМА <...> Абсолютный деспотизм – даже не мнимое государство, это антигосударство. Это несравненно большее политическое зло, чем даже анархия <…> ИЗ «КРИТИЧЕСКИХ (ЛИКЕЙСКИХ) ФРАГМЕНТОВ» 7. Мой опыт об изучении греческой поэзии есть манерный гимн в прозе объективному в поэзии. Самым плохим в них является абсолютная недостаточность нужной иронии и лучшим – уверенность, что поэзия достойна бесконечно многого <…> 9. В остроумии выражается дух общения или же фрагментарная гениальность. / 12. Тому, что принято называть философией искусства, обычно недостает одного из двух: либо философии, либо искусства. 42. Философия есть истинная родина иронии, которую можно было бы определить, как прекрасное в сфере логического: ибо везде, где в устных и письменных беседах не вполне систематически предаются философии, там следует создавать иронию и требовать ее. <…> Одна лишь поэзия также и в этом отношении способна подняться до уровня философии, и при этом она основывается не только на отдельных иронических эпизодах, как это делает риторика. Существуют древние и новые произведения, во всей своей сути проникнутые духом иронии. В них живет дух подлинной трансцендентальной буффонады. Внутри них царит настроение, которое с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство, и добродетель, и гениальность <…> 48. Ирония есть форма парадоксального. Парадоксально все, что одновременно хорошее и значительное. 55. Истинно свободный и образованный человек должен уметь настроиться по желанию философски или филологически, критически или поэтически, исторически или риторически, на античный или современный лад, совершенно произвольно, подобно тому как настраивают инструмент, в любое время и на любой тон (52). 65. Поэзия есть не что иное, как республиканская речь, речь, которая является сама для себя законом и в самой себе заключает свою цель, все ее составные части являются свободными гражданами и имеют право голоса. <…> 78. Иные превосходные романы являются компендиумом, энциклопедией духовной жизни гениального индивидуума; произведения другого рода, но сходные с ними в этом отношении, как «Натан», тоже приобретают характер романа. И так же каждый человек, который образован и образовывает себя, в душе своей хранит роман. Но вовсе не нужно, чтобы он высказал его и написал. 93. В древних видят завершенную букву всей поэзии – в новом предугадывают становящийся дух (53). О ФИЛОСОФИИ Хотя то, что называют обычно религией, кажется мне чудеснейшим, величайшим феноменом, в строгом смысле я могу признать религией только то, когда божественно думают, и творят, и живут, когда полны бога <…> Я считаю, что основой популярности Фихте является идея сближения философии с гуманностью в истинном и большом смысле этого слова, где оно напоминает, что человек живет среди людей, и дух человека, так далеко распространяясь, все-таки в конце должен снова вернуться на родину <…> (55). ИЗ «АТЕНЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ» 108. <…> Прекрасно то, что одновременно красиво и благородно. 116. Романтическая поэзия – это прогрессивная универсальная поэзия. <…> Только романтическая поэзия, подобно эпосу, может быть зеркалом всего окружающего мира, отражением эпохи <…> (56). 125. Возможно, начнется совершенно новая эпоха в развитии наук и искусств, если совместное философствование и совместное поэтическое творчество станут настолько всеобщими и глубокими, что уже не будет редкостью, когда дополняющие друг друга натуры начнут создавать коллективные произведения (57). 168. Какого рода философия выпадает на долю поэта? Это – творческая философия, исходящая из идеи свободы и веры в нее и показывающая, что человеческий дух диктует свои законы всему сущему и что мир есть произведение его искусства. 216. Французская революция, «Наукоучение» Фихте и «Мейстер» Гете обозначают величайшие тенденции нашего времени. Кто противится этому сопоставлению, кто не считает важной революцию, не протекающую громогласно и в материальных формах, тот не поднялся еще до широкого кругозора всеобщей истории <…> (57). 406. Если каждый бесконечный индивидуум есть бог, то имеется столько богов, сколько идеалов. Отношение истинного художника и истинного человека к идеалу религиозно. Тот, для кого это внутреннее богослужение является целью и занятием всей жизни, – жрец, и им может и должен стать каждый. 412. Идеалы, которые считаются недостижимыми, не идеалы, а математические фантомы чисто механического мышления <…> (58). О «МЕЙСТЕРЕ» ГЕТЕ Роман нужно относить к самым высоким понятиям, и рассматривать, но не так, как это делают обычно, с точки зрения общественной жизни, то есть как роман, где лица и обстоятельства являются последней целью <…> Роман нарушает обычные представления о единстве и взаимосвязи так же часто, как и выполняет их (59). ИДЕИ 15. Любое понятие о боге есть пустая болтовня. Но идея божества есть идея всех идей. 29. Свободен человек, когда он создает бога и благодаря этому становится бессмертным. 46. Поэзия и философия есть <…> различные сферы, различные формы или факторы религии. Лишь попытавшись их действительно объединить, Вы получите не что иное, как религию (60). 47. Бог есть все абсолютно Изначальное и Высшее, следовательно, сам индивидуум в высшей потенции. Но не являются ли также индивидами природа и мир? 69. Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса. 83. Только посредством любви и через осознание любви человек становится человеком. 137. Молитва философов – теория, чистое, вдумчивое, спокойное и светлое созерцание божественного в тихом уединении. Идеал тому – Спиноза. 150. Универсум нельзя ни объяснить, ни постичь, но лишь открыть и созерцать <…> (61). ЭПОХИ РАЗВИТИЯ ПОЭЗИИ Французский классицизм является только ложным слепком древних, древнеобразным подражанием без внутренней любви. <…> Немцы <…> следуют образцам, которые дал Гете: они исследуют первоначальные формы искусства, возвращаются к истокам своего языка и поэтического творчества, возрождают древнюю силу, освобождают высокий дух, который невидимый дремлет в документах отечественной старины – от песен о Нибелунгах до Флеминга и Веккерлина (62). РЕЧЬ О МИФОЛОГИИ <…> В нашей поэзии отсутствует то средоточие поэтического искусства, которое было у древних, – мифология, и все существенное, в чем современное поэтическое искусство уступает античности, можно объединить в словах: мы не имеем мифологии. Но <…> мы близки к тому, чтобы ее создать <…> Древняя мифология <…> примыкает к живому чувственному миру и воспроизводит часть его, новая должна быть выделена в противоположность этому из внутренних глубин духа <…> В мифологическом мышлении идейная образность субстанционально воплощена в самих вещах и от них неотделима <…> <…> Мифология и поэзия едины и неразрывны (63). Все священные игры искусства суть не что иное, как отдаленное воспроизведение бесконечной игры мироздания, этого произведения искусства, находящегося в вечном становлении (64). ПИСЬМО О РОМАНЕ <…> Романтическим является то, что представляет сентиментальное содержание в фантастической форме. Сентиментальное то, что нас волнует, что пробуждает в нас эмоции, но не чувственные, а духовные. Истоком и душой всех этих порывов является любовь, и дух любви должен всюду незримо витать в романтической поэзии. Только фантазия может постичь загадку этой любви и как загадку изобразить. И это необъяснимое есть источник фантастического, воплощенного в поэтическом образе <…> Древняя поэзия примыкает к мифологии, романтическая поэзия, напротив, полностью покоится на исторических основах <…> Но я прошу Вас не думать так, что для меня полностью тождественны понятия «романтическое» и «современное» <…> Если Вы хотите сделать различие совсем ясным, то читайте, если угодно, «Эмилию Галотти», которая очень современна, но ни в малейшей мере не романтична <…> Я нахожу романтическое у старших современников, у Шекспира, Сервантеса, в итальянской поэзии, в тех веках рыцарей, любви и сказок, откуда произошли сами слово и дело (64). <…> Истинная история должна романтического произведения <…> (65). лежать в основе каждого ФРАГМЕНТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ПОЭЗИИ (Из литературных записных книжек) 32. Три господствующих жанра: трагедия у греков, сатира у римлян, роман у новых народов. 134. Для меня важно не какое-то отдельное произведение Гете, а он сам во всей его целостности. 203. Гете не современен, а прогрессивен. 581. Произведения, родственные роману, – философские диалоги, описания путешествий, письма. 586. Все произведения должны стать романами, вся проза – романтической. 828. В романе должно объективироваться все объективное; это заблуждение, что роман – субъективный жанр (65). 1090. Каждое поэтическое произведение – само по себе отдельный жанр (66). ИЗ «ФИЛОСОФСКИХ ЛЕКЦИЙ» Свобода – это независимость от всех земных стимулов и движений, в нравственном господстве над собой, в подчинении всей деятельности и всех сил божественному закону. <…> Религия – все оживляющая мировая душа, форма поведения, четвертый необходимый элемент философии, морали и поэзии, который подобен огню <…> Представьте свободу религии, и начнется новое человечество (66). ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ <…> Истинный поэт, искусство которого в том и состоит, что он / умеет считавшееся самым обыкновенным и повседневным представить совершенно новым и преображенным в поэтическом свете, вкладывая в него высшее значение и <…> угадывая в нем глубочайший смысл <…> Непрямое изложение действительности и настоящего времени позволяет искусству изображать вечное, всегда и везде прекрасное, значительное и всеобщее. <…> <…> Более романтическим поэтом был Кальдерон, поскольку он по преимуществу поэт христианский, величайший из всех христианских стихотворцев <…> <…> Картина света, которую представляет нам Шекспир, совершенно верна, без лести и украшения, так, что ее нельзя превзойти в истине и верности <…> При всем том у Шекспира повсюду пробивается и мысль о первоначальном величии и возвышенности человека <…> (67). Новалис ФРАГМЕНТЫ Поэзия на деле есть абсолютно-реальное. Это средоточие моей философии. Чем больше поэзии, тем ближе к действительности. Поэзия – героиня философии. Философия поднимает поэзию до значения основного принципа. Она помогает нам познать ценность поэзии. Философия есть теория поэзии. Она показывает нам, что есть поэзия, – поэзия есть все и вся. Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого Чувство поэзии имеет много общего с чувством мистического. Это чувство особенного, личностного, неизведанного, сокровенного, должного раскрыться, необходимо-случайного. Оно представляет непредставимое, зрит незримое, чувствует неощутимое и т. д. (94). Чувство поэзии в близком родстве с чувством пророческим и с религиозным чувством провиденья вообще. Поэт упорядочивает, связывает, выбирает, измышляет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не иначе. Только индивидуум индивидуально. интересен, отсюда все классическое не Совершенная вещь говорит не только о себе, она говорит о целом мире, родственном ей. Над каждою совершенной вещью носится как бы покрывало вечной девы, и от легчайшего прикосновения оно превращается в магический туман, из которого для провидца возникает образ облачной колесницы (95). Истинный поэт всеведущ; он действительно вселенная в малом преломления. Сфера поэта есть мир, собранный в фокус современности. Пусть замыслы и их выполнение будут поэтическими – в этом и заключается природа поэта. Либо природа должна нести в себе идею, либо душа должна нести в себе природу. И закон этот пусть будет действителен и в целом и в частях (96). Искусство приятным образом делать вещи странными, делать их чужими и в то же время знакомыми и притягательными – в этом и состоит романтическая поэтика. Нигде, однако, более явственно, чем в музыке, не обнаруживается, что именно дух делает поэтическими предметы, изменения материала и что прекрасное, предмет искусства, не дается нам и не находится уже готовым в явлениях (97). Поэзия в строгом смысле слова кажется почти промежуточным искусством между живописью и музыкой (98). Истинная сказка должна быть одновременно пророческим изображением, идеальным изображением, абсолютно необходимым изображением. Истинно сказочный поэт есть провидец будущего. Поэзия есть изображение души, настроенности внутреннего мира в его совокупности (99). Роман должен быть сплошной поэзией. Роман – это есть история в свободной форме, как бы мифология истории (100). Вольтер – один из величайших отрицательных поэтов, которые когдалибо существовали. Его Кандид – это его Одиссея. Жаль, что мир его заключался в парижском будуаре. Отличайся он меньшим личным и национальным тщеславием, он был бы чем-либо значительно большим (104). <…> Мы мечтаем о путешествии во вселенную: но разве не заключена вселенная внутри нас? Мы не знаем глубин нашего духа. Именно туда ведет таинственный путь. В нас самих или нигде заключается вечность с ее мирами, прошлое и будущее. Внешний мир – это мир теней, он бросает свою тень в царство света. Поэзия – явление сугубо индивидуальное, и поэтому ее невозможно ни описать, ни дать ей определение. Смерть – это романтизированный принцип нашей жизни. Смерть – это жизнь после смерти. Жизнь усиливается посредством смерти (106). Самым чудесным и вечным феноменом является [наше] собственное бытие. Величайшей тайной для человека является он сам. Ничто другое не является столь достижимым для духа, как бесконечное. Мне кажется, что состояние своей души я наилучшим образом могу выразить в сказке. Все является сказкой (107). Уильям Вордсворт ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЛИРИЧЕСКИМ БАЛЛАДАМ» Я не берусь с точностью определить характер обещания, каковое Автору, пишущему в стихах, следует дать читателям наших дней: но многим, несомненно, покажется, что я не выполнил обязательств, которые добровольно взял на себя. Те, кто привык к витиеватости и бессодержательности языка многих современных писателей, <…> часто будут испытывать странное и неловкое чувство: они будут искать поэзию и неизбежно зададутся вопросом, по какому правилу этикета эти строки могут претендовать на такое звание. Итак, главная задача этих Стихотворений состояла в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным языком, и в то же время расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде (262). Ибо истинная поэзия представляет собой стихийное излияние сильных чувств; и, хотя это верно, все хоть сколько-нибудь стоящие стихотворения на любую возможную тему писали только люди, которые, будучи наделены более, чем обычной природной чувствительностью, в то же время долго и глубоко размышляли (263). Как сказано, каждое из этих стихотворений преследует определенную цель. Необходимо также упомянуть другую черту, отличающую эти стихотворения от основного потока поэзии наших дней; она заключается в том, что выраженное здесь чувство придает значительность действию и обстоятельствам, а не наоборот (264). Читатель почти не встретит в книге персонификации абстрактных идей, она полностью отвергнута как прием, обычно используемый, чтобы придать стилю возвышенность и поднять его над стилем прозы (265). Как мне известно, Аристотель сказал, что поэзия – самый философский вид литературного творчества; так оно и есть: ее предмет – истина, не индивидуальная, не частная, но всеобщая и действенная; не зависящая от стороннего подтверждения, но прямо проникающая в сердце вместе с чувством; (269). На этом знании, которым наделен всякий человек, и на этих симпатиях, из которых мы, учась лишь в школе повседневной жизни, черпаем радость, поэт главным образом и сосредоточивает свое внимание. Он считает, что человек и природа в главном согласны между собой, а человеческий ум – естественное зеркало самых прекрасных и интересных свойств природы. <…> Поэзия является духом и квинтэссенцией познания. <…> Вопреки различию почвы и климата, языка и нравов, законов и обычаев, вопреки всему, что постепенно ушло или было насильно выброшено из памяти, поэт связует с помощью чувства и знания огромную человеческую империю, охватывающую всю землю и все времена (270). Поэзия – начало и венец всякого знания, она так же бессмертна, как человеческое сердце (271). Если автор внушил нам уважение к своему таланту каким-либо одним произведением, то следует помнить, что, возможно, и в тех случаях, когда мы остались недовольны, он все же не написал плохую или нелепую вещь (277). Сэмюэл Тейлор Колридж ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ» ГЛАВА XIII. О ВООБРАЖЕНИИ <…> Я разграничиваю Воображение на первичное и вторичное. Первичное Воображение является животворной силой и важнейшим органом человеческого Восприятия, повторением в сознании смертного вечного процесса созидания, происходящего в бессмертном я существую. Вторичное Воображение, представляющееся мне эхом первого, неразрывно связано с осмысленной волей, оставаясь, однако, в своих проявлениях тождественным первичному и отличаясь от него только степенью и образом действия. Разлагая, распыляя, рассеивая, оно пересоздает мир; даже в том случае, когда это кажется невозможным, оно до конца стремится к обобщению и совершенству. Воображение прежде всего жизнедеятельно, тогда как все предметы (будучи всего-навсего предметами) прежде всего неподвижны и мертвы. В распоряжении Фантазии, напротив, только и остаются что заданные и очерченные границы. Фантазия есть, в сущности, функция Памяти, правда, не подчиняющаяся законам времени и пространства, а связанная и управляемая волей, ее эмпирическим механизмом, который мы именуем Выбором. Питаться же Фантазии приходится, как и обычной памяти, тем, что вырабатывается в готовом виде ассоциациями <…> (279). ГЛАВА XIV Возникла мысль (не помню уже, у кого из нас) создать цикл из стихотворений двоякого рода. В одних события и лица были бы, пускай отчасти, фантастическими, и искусство заключалось бы в том, чтобы достоверностью драматических переживаний вызвать в читателе такой же естественный отклик, какой вызвали бы подобные ситуации, будь они реальны. В данном случае реальными их сочли бы те, у кого когда-либо возникала иллюзия столкновения со сверхъестественными обстоятельствами. Темы для другой группы стихотворений были бы заимствованы из окружающей жизни; характеры и сюжеты ничем не отличались бы от тех, что обнаруживает при случае пытливое и чувствительное сердце в любом селении и его окрестностях. Эта идея легла в основу замысла «Лирических баллад». Было решено, что я возьмусь за персонажи и характеры сверхъестественные или во всяком случае романтические с таким, однако, расчетом, чтобы эти тени, отбрасываемые воображением, вызывали в душе живой интерес, а некоторое подобие реальности на какое-то мгновение порождало в нас желание поверить в них, в чем и состоит поэтическая правда. В свою очередь, мистер Вордсворт должен был избрать своим предметом и заставить блеснуть новизной вещи повседневные и вызвать чувства, аналогичные восприятию сверхъестественного, пробуждая разум от летаргии привычных представлений и являя ему красоту и удивительность окружающего нас мира, это неисчерпаемое богатство, которое из-за лежащей на нем пелены привычности и человеческого эгоцентризма наши глаза не видят, уши не слышат, сердца не чувствуют и не понимают. Исходя из поставленной задачи, я написал «Сказание о старом мореходе» и отредактировал, в числе прочего, «Смуглую леди» и «Кристабель», в которой мне предстояло довести свой замысел до большего совершенства по сравнению с первым вариантом (280). <…> я нахожу целесообразным пояснить раз и навсегда, в чем наши взгляды совпадают и в чем я придерживаюсь совершенно иного мнения. Но чтобы быть до конца понятым, мне придется в двух словах высказать предварительно свои соображения, во-первых, относительно Стиха и, вовторых, Поэзии как таковой, ее характера и сути (281). <…> окончательное определение может быть сформулировано следующим образом: поэтическим является такое сочинение, которое в противоположность научным трудам своим непосредственным объектом избирает наслаждение, а не истину; от прочих же трудов (с коими его роднит общий объект) его отличает свойство вызывать восхищение целым, аналогичное тому удовольствию, какое доставляет каждая часть в отдельности. <…> Но если говорить о дефиниции истинного поэтического творения, я готов утверждать, что таковым будет лишь то, в котором части взаимно дополняют и поясняют одна другую, а вместе они делают замысел метрически организованного произведения органическим и способствуют его осуществлению. <…> Нужно, чтобы читателя влекло вперед не только привычное любопытство и вовсе не жгучее нетерпение поскорей добраться до развязки, а причудливая игра ума, захваченного самим путешествием (283). Идеальный поэт приводит в трепет человеческую душу, идеальные порывы которой подчиняются друг другу в зависимости от их достоинства и благородства. Обладая необычной магической силой, которая лишь одна вправе называться воображением, поэт создает атмосферу гармонии, в коей соединяются и как бы сливаются дух и разум (284). И последнее: здравый смысл – плоть поэтического гения, Фантазия – его одежды, движение – способ его существования, а Воображение – его душа, которая присутствует везде и во всем и творит из всего многообразия одно прекрасное и исполненное смысла целое (285). ГЛАВА XVII Говоря о своем несогласии с рядом положений теории мистера Вордсворта, я исхожу из того, что он, если я его правильно понял, призывает к тому, чтобы поэты черпали выражения для подлинно высокого слога, за редкими исключениями, из живого языка тех, кто нас окружает, языка, к коему люди прибегают в разговоре под воздействием непосредственных переживаний. Мое первое возражение состоит в том, что при любой трактовке это правило справедливо в отношении лишь некоторых видов поэзии (286). Сам я двумя решающими условиями поэтического творчества считаю, во-первых, независимость, / помогающую человеку смотреть сверху вниз не на то, чтобы отказываться от самой необходимости трудиться, <….>, а только на то, чтобы прислуживать и заниматься поденщиной, умножая блага других; и, во-вторых, сопутствующее ей, пусть не всестороннее, но основательное и благочестивое воспитание <…>. <…> Я полностью разделяю принцип Аристотеля, что поэзия в основе своей идеальна; что она избегает всего случайного, отсеивая его; что все индивидуализированное, отражающее общественное положение человека, его характер или род занятий, передает в ней некое распространенное явление, так что герои поэзии должны быть наделены универсальными чертами, общими для этого круга: не такими, какими какая-нибудь одаренная личность могла бы обладать, но такими, какие априори должны быть присущи ей как данной личности (287). Нет ничего ценнее для мыслящего человека, нежели факты, ибо они ведут к выявлению глубинного закона, который лежит в основе бытия всего живого, будучи всенепременным условием существования, и овладевая которым мы утверждаем свое достоинство и свое могущество. Никак не могу согласиться также с утверждением, что описание тех предметов, с коими деревенскому жителю ежечасно приходится сталкиваться, составляет лучшие образцы нашего языка. <…> Лучшая часть человеческого языка, в точном значении этого слова, формируется размышлениями о плодах зрелого ума. Ее создают те, что закрепляют устойчивые символические обозначения за скрытыми действиями, за явлениями и фантазиями, которым, как правило, нет места в сознании людей необразованных (289). Я думаю так: настоящий поэт, обращающийся к алогичному языку или стилю, годящемуся разве только на то, чтобы вызывать у читателя сомнительного свойства мимолетную радость удивления, в основе которой новизна для новизны, поступается языком безумцев и гордецов во имя языка здравого смысла и естественного чувства, а вовсе не ради деревенского говора <…> (290). ГЛАВА XVIII Метр как таковой призван всего лишь заострять внимание, отсюда возникает вопрос: почему внимание следует заострять именно таким способом? Тут дело не только в приятном звучании метра, ибо мы / уже показали, что это его качество переменчиво, так как зависит от уместности тех мыслей и выражений, которые облекаются в метрическую форму. Я не могу себе помыслить иного рационального объяснения, кроме следующего: мы прибегаем к метру потому, что собираемся говорить языком, отличным от языка прозы. А если такой язык не найден, то, как бы любопытны ни казались выводы, кои философский ум извлечет из рассуждений и ситуаций, встреченных им в стихотворении, сам метр превратится в бесполезный придаток <…>. <…> …поэзия принадлежит к подражательным видам искусства, а подражание, в отличие от копирования, состоит в том, чтобы передать то же самое принципиально иначе либо иное – принципиально так же (293). ИЗ ЛЕКЦИИ VIII Самое лестное, что можно сказать о поэзии, – это приравнять силу ее воздействия к воздействию религии при всем различии (если можно говорить о различиях там, где отсутствует разграничение) последствий, каковые последняя оказывает на человечество. Порою мне кажется, что религия (я не имею в виду какие-то сокровенные моменты, лишь то общее, что роднит ее с поэзией) является поэзией человечества, ведь и та и другая призваны: 1. Обобщить понятия, не давать людям ограничивать себя некой одной или главным образом этой узкой сферой деятельности, некими личными обстоятельствами. Связывая людей запутаннейшими отношениями, они делают человека причастным к целому роду, после чего уже невозможно помыслить о своем будущем или настоящем, не принимая при этом во внимание своих собратьев. 2. И поэзия и религия отделяют от нас объект нашего пристального внимания и тем самым не только будят наше воображение, но, что важнее, раскрепощают нас, ибо нет презреннее раба, чем раб / собственных ощущений, раб, ум и воображение которого не в силах увести его дальше протянутой руки или брошенного взгляда. 3. Больше всего их роднит то, что как поэзия так и религия преследуют цель (в английском языке трудно подыскать подходящее слово) улучшения нашей природы путем открытия бесконечной перспективы для совершенствования и заостряют на ней наше внимание. Они словно просят нас, сидящих в темноте каждый перед своим очагом, взглянуть на горные вершины и, споря с мраком, возвестить тот единственный свет, общий для всех, при котором помыслы одного будут направлены к общему благу и всякий человек станет тебе ближе, чем брат (297). АЛЛЕГОРИЯ Уберите в сравнении связку, и вы получите метафору… Притча – это более сжатая и простая аллегория, это – один смысл; все прочее, не входящее в первое понятие, называется аллегорией (297). Таким образом, аллегорическое сочинение можно определить как использование некоего круга персонажей и образов, реализующих себя в соответствующем действии и обстоятельствах, с целью изложения в опосредованном виде каких-то моральных категорий или умозрительных представлений, не являющихся сами по себе продуктами чувств, или какихлибо иных образов, лиц, действий, судеб и обстоятельств таким образом, чтобы глаз или воображение все время видели черты различия, а ум угадывал черты сходства; и все это, в конечном счете, должно так переплестись, что все части составят единое целое (298). Франсуа Рене де Шатобриан ПРЕДИСЛОВИЕ К «АТАЛА» Однако я не во всем уступил моим критикам. Одни из них утверждали, что некоторые чувства, высказанные отцом Обри, способны повергнуть человека в отчаяние. Вот, например, отрывок, вызвавший особое возмущение (мы ведь стали теперь так чувствительны!): «Что я говорю! О суета сует! Зачем говорю я о силе дружеских привязанностей в этом мире! Вы хотите, дочь моя, знать им подлинную цену? Если бы человек мог вернуться на землю несколько лет спустя после своей смерти, я сомневаюсь, что его с радостью встретили бы те, кто проливал о нем самые горькие слезы: ведь так легко завязываются новые связи, возникают новые привычки, настолько непостоянство присуще человеческой природе и так мало места занимаем мы в сердцах наших друзей». И дело не в том, что в этом чувстве тяжело признаться, но в том, что оно, увы, основано на нашем общем опыте. <…> Не говоря о мертвых, которых почти и не вспоминают, сколько живых, вернувшись к своим семьям, встретили там лишь забвение, досаду и отвращение! Впрочем, с какой целью говорит об этом отец Обри? Разве не для того, чтобы Атала не жалела о жизни, которой добровольно лишила себя и к которой тщетно хотела бы вернуться? Разве не совершает миссионер акт человеколюбия по отношению к этой несчастной, преувеличивая горести, [ожидающие ее в этой] жизни? Впрочем, нет необходимости прибегать к этому объяснению. Отец Обри, к сожалению, ничего не преувеличивает. И если не следует клеветать на человеческую природу, то и бесполезно изображать ее лучшей, чем она есть на самом деле (397). Ничто не мешает считать «Атала» жалкой выдумкой; но я осмеливаюсь утверждать, что американская природа изображена там с величайшей точностью (398). «Рене», напечатанный вместе с «Атала», впервые выходит отдельным изданием. Я не знаю, будут ли многочисленные читатели по-прежнему предпочитать его «Атала». Он является естественным продолжением последней, хотя и отличается от нее стилем и настроением. В нем описаны те же места и те же действующие лица, но здесь царят иные нравы, иной строй мыслей и чувств (399). ОТРЫВОК ИЗ «ГЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА» Но в то же время <…> эта зыбкость чувств, вызываемая меланхолией, вновь ее порождает, ибо меланхолия – это плод страстей, бесцельно кипящих в одиноком сердце (400). Итак, в этом произведении мы преследовали двойную цель: показать, как дух христианства изменил искусство, мораль, характер и даже страсти современных народов, и показать ту мудрую предусмотрительность, которая заложена во всех христианских институтах; история Рене также служит этой двойной цели». ОТРЫВОК ИЗ «ЗАЩИТЫ “ГЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА”» Быть может, некоторые читатели никогда не заглянули бы в «Гений христианства», если бы не искали там «Рене» и «Атала» (401). Автор осуждает также одну из слабостей молодых людей своего времени, непосредственно ведущую к самоубийству. Ж.-Ж. Руссо первый бросил семя этих гибельных и разрушительных мечтаний. <…> Автор «Гения христианства» был вынужден ввести в рамки своей апологии несколько выдуманных картин, чтобы разоблачить эту новую разновидность порока и описать губительные последствия чрезмерной любви к одиночеству. <…> Но с разрушением монастырей и ростом неверия следует ожидать, что возрастет (как это случилось в Англии) число этих своего рода отшельников в миру, одновременно склонных к философии и исполненных страстей, которые, не будучи способны ни отказаться от пороков своего времени, ни полюбить его, будут считать человеконенавистничество проявлением возвышенности духа, откажутся от выполнения своего долга и перед Богом, и перед людьми, питая себя в уединении самыми бесплодными химерами и все более погружаясь в гордыню мизантропии, которая приведет их к безумию или к смерти. <…> Действительно безумные мечтания Рене порождают болезнь, а его сумасбродства доводят ее до апогея: своими мечтаниями он вносит смятение в душу слабой женщины, а затем, пытаясь покончить счеты с жизнью, он вынуждает эту несчастную присоединиться к нему; так он сам является причиной несчастья, а вина влечет за собой наказание (402). Элемент ужасного и таинственного, преобладающий в истории Рене, горестно сжимает сердце, не вызывая в нем, однако, греховного волнения. Не следует забывать, что Рене ждет жалкий конец, а Амели умирает счастливая и умиротворенная. Так подлинный виновник наказан, в то время как его слишком слабой жертве дано извлечь из самой глубины своих страданий несказанную радость. Впрочем, речь отца Суэля не оставляет никаких сомнений в нравственных и религиозных целях истории Рене» (403). Виктор Гюго ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ДРАМЕ «КРОМВЕЛЬ» <…> Пора пришла. Для мира и для поэзии наступает новая эпоха. В сердце древнего общества проникает спиритуалистическая религия, вытесняя собою грубое, поверхностное язычество; она убивает его и в этот труп одряхлевшей цивилизации закладывает зародыш новой цивилизации. Эта религия объемлет все, ибо она истинна; между своей догмой и своим культом она поселяет мораль. И прежде всего, как самую первую свою истину, она внушает человеку, что перед ним – две жизни, одна – преходящая, другая – бессмертная; одна – земная, другая – небесная. <…> В этот период <…> вместе с христианством и через его посредство в душу народов проникало новое чувство, незнакомое древним и особенно развившееся у современных народов, чувство, которое, больше, чем серьезность, и меньше, чем печаль, – меланхолия (447). Перед лицом великих превратностей, человек, углубляясь в себя, почувствовал жалость к человечеству, стал размышлять о горькой насмешке жизни. Это чувство, которое для язычника Катона означало отчаяние, христианство превратило в меланхолию. В то же время зарождался дух исследования и любознательности. <…> И вот перед нами – новая религия и новое общество; на этой двойной основе должна была возникнуть новая поэзия. <…> Христианство приводит поэзию к правде. Подобно ему, новая муза будет смотреть на вещи более возвышенным и свободным взором. Она почувствует, что не все в этом мире прекрасно с человеческой точки зрения, что уродливое существует в нем рядом с прекрасным, безобразное – рядом с красивым, гротескное – с возвышенным, зло – с добром, мрак – со светом (448). Вот начало, чуждое античности, вот новый элемент, вошедший в поэзию; и так же как всякое новое явление в организме изменяет весь организм целиком, в искусстве развивается новая форма. Это элемент – гротеск. Это форма – комедия. <…> мы здесь указали на характерную особенность, на основное различие, противопоставляющее, по нашему мнению, современное искусство искусству античному, нынешнюю форму форме мертвой, или, пользуясь терминами, менее ясными, но более популярными, литературу романтическую литературе классической <...> В мировоззрении новых народов гротеск, напротив, играет огромную роль. Он встречается повсюду; с одной стороны, он создает уродливое и ужасное, с другой – комическое и шутовское. Вокруг религии он порождает тысячу своеобразных суеверий, вокруг поэзии – тысячу живописных образов (449). Та всеобщая красота, которую античность торжественно распространяла на все, не лишена была однообразия; одно и то же постоянно повторяющееся впечатление в конце концов утомляет. Возвышенное, следуя за возвышенным, едва ли может составить контраст, а между тем отдыхать надо от всего, даже от прекрасного. Напротив, гротескное есть как бы передышка, мерка для сравнения, исходная точка, от которой поднимаешься к прекрасному с более свежим и бодрым чувством <...>. Мы будем также правы, сказав, что соседство с безобразным в наше время сделало возвышенное более чистым, более величественным, словом, более возвышенным, чем античная красота; так и должно быть <…> (450). Бесспорно, что в эпоху, на которой мы остановились, преобладание гротеска над возвышенным в литературе ясно заметно. Но это лихорадка реакции, жажда новизны, которая скоро проходит; это первая волна, постепенно спадающая. <…> Мы подошли к вершине поэзии нового времени. Шекспир – это драма; а драма, сплавляющая в одном дыхании гротескное и возвышенное, ужасное и шутовское, трагедию и комедию, – такая драма является созданием, типичным для третьей эпохи поэзии, для современной литературы <…> Драма заключает в себе всю поэзию целиком. Ода и эпопея содержат в себе лишь зародыши драмы, между тем как в драме они обе содержатся в развитии; она вобрала в себя их сущность (451). Наша эпоха, по преимуществу драматическая, тем самым в высшей степени лирична. Ведь между началом и концом есть много сходного. <…> То же самое можно сказать и о лирической поэзии. Сияющая, мечтательная на заре народов, она вновь предстает в пору их упадка мрачной и задумчивой. <…> Ода нового времени все также вдохновенна, но она уже утратила свое неведение. Она больше размышляет, чем созерцает; ее мечтательность – меланхолия. По ее родовым мукам видно, что она вступила в союз с драмой <…> Поэзия, рожденная христианством, поэзия нашего времени есть, следовательно, драма; особенность драмы – это ее реальность; реальность возникает из вполне естественного соединения двух форм: возвышенного и гротескного, сочетающихся в драме так же, как они сочетаются в жизни и в творении, ибо истинная поэзия, поэзия целостная, заключается в гармонии противоположностей. И, наконец, – пора уже сказать об этом громко, тем более что исключения здесь особенно подтверждают правило, – все, что есть в природе, есть и в искусстве <…> (452). <…> Шекспир, этот бог сцены, в котором соединились, словно в триединстве, три великих и самых характерных гения нашего театра: Корнель, Мольер, Бомарше. Мы видим, как быстро рушится произвольное деление жанров перед доводами разума и вкуса. Столь же легко можно было бы разрушить и ложное правило о двух единствах. Мы говорим о двух, а не о трех единствах, так как единство действия, или целого, – а только оно является истинным и обоснованным, – давно уже всеми признано. <…> Итак, скажем смело: время настало! И странно было бы, если бы в нашу эпоху, когда свобода проникает всюду, подобно свету, она не проникла бы в область, которая по природе своей свободнее всего на свете, – в область мысли. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! (453). Итак, поэт – подчеркиваем это – должен советоваться только с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа. <…> Поэт должен особенно остерегаться прямого подражания кому бы то ни было – Шекспиру или Мольеру, Шиллеру или Корнелю <...> (454). Итак, природа! Природа и истина! Новое направление, нисколько не разрушая искусства, хочет лишь построить его заново, более прочно и на лучшем основании (454). <…> драма должна быть концентрирующим зеркалом, зеркалом, которое не ослабляет цветных лучей, но, напротив, собирает и конденсирует их, превращая мерцание в свет, а свет – в пламя. Только в этом случае драма может быть признана искусством (455). ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. В чем заключается существо проблематики, затрагиваемой в текстах ПРИЛОЖЕНИЯ 1? Выявите дискуссионные моменты полемики вокруг романтизма. Чья точка зрения вам представляется наиболее убедительной и обоснованной? 2. Оказали ли эти работы влияние на формирование и развитие эстетики европейского романтизма XIX века? Если оказали, то в чем именно это влияние выразилось? ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Фридрих фон Гарденберг (Новалис) ВЕРА И ЛЮБОВЬ, ИЛИ КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА ПРЕДИСЛОВИЕ 2 Многие полагали – о предметах деликатных во избежание злоупотреблений следует вести ученый разговор, например писать о них на латыни. Стоит попробовать, нельзя ли на самом обыкновенном, общепринятом языке говорить так, что понимал тебя лишь тот, кому надо. Всякая подлинная тайна сама по себе исключает непосвященных. Кто же понимает, тот по справедливости и должен считаться посвященным. 3 Мистическая речь – еще один стимул для мысли. Все истинное исконно. Прелесть новизны – лишь в варьировании выражения. Чем контрастнее являющийся облик, тем радостнее узнавание (44). 4 Все фрагменты, включенные в это приложение, цитируются по изданию: Эстетика немецких романтиков / Сост., пер. с нем. и коммент. А.В. Михайлова. М., 1986, с указанием страницы в скобках. 1 Что любишь, то повсюду находишь и повсюду видишь похожее. Чем сильнее любишь, тем шире, тем многообразнее мир сходств. <…>. 5 Но откуда же эти серьезные, мистико-политические философемы? Вдохновенный – вот кто во всех своих проявлениях выражает высшую жизнь; оттого-то он и философствует, причем живее обычного, поэтичнее. Глубокий тон тоже неотмыслим от симфонии его органов и энергий. Но разве не выигрывает всеобщее благодаря индивидуальным, а индивидуальное – благодаря всеобщим отношениям? 6 Пусть стрекозы летят – невинные странницы в мире Вслед за Двойною звездой дар небесный несут [1.] Цветущая страна – художественное творение более достойное королей, нежели парк. Англичане придумали разбивать парки со вкусом. А немецким изобретением могла бы стать страна, доставляющая удовлетворение уму и сердцу; ее изобретатель был бы королем среди изобретателей (45). [7.] Зловонные испарения в моральном мире – не то что в природе. Одни уносятся ввысь, другие держатся поверхности. Для обитателей вершин лучшее средство от ядов – цветы и солнце. Однако цветы и солнце редко встретишь вместе на высоте. Теперь же на одной из величайших моральных вершин, какие только есть на земле, можно наслаждаться чистейшим воздухом и видеть, как цветет на солнце лилия (46). [9.] Истинная королевская чета – то же самое для человека в целом, что конституция – для одного лишь рассудка. К конституции можно питать ровно такой интерес, что и к букве. Если только знак – не прекрасный образ и не песнь, то быть приверженным знаку – самая извращенная из склонностей. Что такое закон, если не волеизъявление всеми любимой и достойной всяческого уважения личности? Разве не нуждается мистический суверен в символе, как всякая идея, а какой же символ достойнее и уместнее, если не пользующийся любовью превосходный человек? Краткость выражения чегонибудь / да стоит, а разве человек – не более краткое и прекрасное выражение духа, чем целая коллегия? В ком жив дух, того не сковывают различия и ограничения; они, напротив, возбуждают его энергию. Только бездуховный чувствует гнет и препоны. Кстати, король по рождению лучше короля провозглашенного. И самый лучший из людей не перенесет подобного возвышения, не переменившись внутренне. <…>. [10.] Пусть будет по-вашему – пусть наступила пора букв. Не самая большая похвала эпохе, если она так далеко от природы, так нечувствительна к семейной жизни, так не склонна к этой самой прекрасной, поэтичной форме общественности. Как удивились бы наши космополиты, если бы вдруг наступил вечный мир и они увидели, что человечество достигло высшей своей организации – и живет при монархическом строе? К тому времени будет развеяна по ветру бумажная пыль, которой в наши дни тщатся склеивать человечество, дух изгонит призраков духовности в обличье букв, вылетающих кусками из-под перьев и типографских станков, и все люди сольются воедино, словно чета любящих (47). [13.] Большой недостаток наших государств – их почти не замечаешь. Нужно, чтобы государство было зримо во всем, чтобы каждый был отмечен как его гражданин. <…>. [14.] Самый целесообразный для правителя способ сохранить государство в нынешние времена – это придавать ему наивозможно индивидуальный облик (48). [16.] Придет время, и наступит оно скоро, когда всеобщим убеждением станет: король немыслим без республики, республика – без короля, так что король и республика нерасторжимы, как тело и душа, и король без республики, республика без короля – пустые слова. Вот почему одновременно с возникновением подлинной республики всегда появляется и король, а вместе с подлинным королем возникала и республика. Подлинный король будет республикой, подлинная республика будет королем (49). [21.] <…> Хотя правительству и не следует вмешиваться в частную жизнь людей, ему надлежит строжайше расследовать каждую жалобу, каждый скандал, рассматривать любое прошение обесчещенного существа. Кому же защищать оскорбленное / достоинство женщины, как не королеве? <…> Общение с королевой уже само по себе было бы почетным отличием, оно непременно вновь настроило бы общественное мнение в нравственном духе, а ведь общественное мнение – это в конце концов самое могучее средство исцеления и воспитания нравов. [22.] От настроения умов в обществе зависит, как поведет себя государство. Облагораживать умы – единственный базис подлинной реформы государства. Король и королева могут и должны быть принципом общественного умонастроения. <…> (51). [29.] Ничего нет утешительнее, как говорить о своих желаниях, когда они исполнились (53). [30.] <…> Растет культура, множатся потребности, стоимость средств, необходимых для их удовлетворения, возрастает тем более, что мораль все более отстает от всех этих ухищрений роскоши, от утонченности жизненных удобств и наслаждений. Чувственность вдруг завоевала для себя широчайшие просторы. Пока люди развивали свою природу однобоко, пока они развивали свою природу однобоко, пока они развивали свою природу однобоко, пока они занимались многообразной деятельностью и предавались любезному их сердцу самодовольству, все иное казалось им неприглядным, мелким, далеким. Они думали, что вступили на правый путь своего предназначения, думали, что должны положить на него все силы. Так грубая корысть сделалась страстью, а ее принципы представились итогом величайшего разумения; вот отчего эта страсть столь опасна, непреодолима. <…> Бескорыстная любовь в сердце, принципы ее в голове – вот единственно прочный фундамент подлинного, нерасторжимого союза, а государственный союз чем не брак? (54). [32.] Что должно быть на сердце у короля, как не забота о том, чтобы, насколько то возможно, быть человеком многосторонним, осведомленным, разбираться во всем и не ведать предрассудков. <…> (55). [33.] Истинный государь – художник из художников; он директор художников. Каждому следовало бы быть художником. Все может становиться художеством. Материал государя – художники; его воля – резец скульптора; он воспитывает художников, назначает и наставляет их, потому что один он видит картину в целом, с правильной точки зрения, потому что лишь для него одного всецело реальна великая идея, подлежащая претворению в действительность соединенной энергией сил и идей. <…> (56). Йозеф Гёррес, Клеменс Брентано. ДИСКУССИЯ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ Йозеф Гёррес АФОРИЗМЫ ОБ ИСКУССТВЕ В КАЧЕСТВЕ ВВЕДЕНИЯ К ПОСЛЕДУЮЩИМ АФОРИЗМАМ ОБ ОРГАНОНОМИИ, ФИЗИКЕ, ПСИХОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ ПРЕДИСЛОВИЕ В хаосе битвы отражается мир; на заре своего бытия мир, лишь борясь, пробился к бытию, события, словно искры, разлетаются от трения, производимого беспрестанным противоборством сил, какое заключил мир в свои просторы; <…>. Стяжение и растяжение – биение пульса природы, природа сильна и крепка, пока пульс бьется; <…> (58). Так это в неодушевленной, так и в живой природе. Идея политической свободы явилась в наши дни среди людей, и луч ее зажег души всех. Одни присягнули на верность абсолютному, другие – относительному. Атлеты политического идеализма боролись с атлетами реализма, и свидетелем их борьбы был амфитеатр половины мира. Много людских жизней унесла буря, много, много тысяч людей погибло, оказавшись зажатыми между двумя исполинами. И судьба вырвала из толпы одного и подняла его над полями сражений, и ему удалось смирить сражавшихся, и утихли распри; однако свобода – а уж / думали, что навсегда привязали ее к себе, – исчезла в бесконечном. То, что мы видели в политике, не повторяется ли во всех науках и искусствах? Не везде ли происходит все та же борьба абсолютного и относительного, трансцендентализма и эмпиризма, якобинства и роялизма? <…> В антропологии борются сторонники причинной зависимости, полагающие, что события направляются человечеством, и фаталисты, препоручающие их одной слепой судьбе. Итак, великий раскол проходит через все начинания людей; повсюду один и тот же антагонизм между идеалистами, исходящими из центра и следующими по всем направлениям ко всем предметам знания, и реалистами, которые стремятся к центру от всех бессчетных точек опыта. Однако должно ли быть так, чтобы раскол, делящий надвое и искусство, и науку, и самую жизнь, ссорил самих людей, обращая их в непримиримых врагов? Нет ли иных пружин, способных нести их вперед к далекой цели, помимо отвратительных страстей? Нужно ли непременно выбирать, кто молот, а кто наковальня? <…> (59). Так не может ли быть, что и во всех прочих человеческих начинаниях отыщется нечто третье, – что находится перед человечеством на огромном удалении, скрыто, к чему стремятся все, хотя и из противоположных концов, и в чем все соединятся по внутренней склонности своей, обнаружив при том, что все противоположности до конца слиты? В расколе полов это третье – любовь, в науке и искусстве – идеал; идеал должен парить над головами тех, кто борется за познание и красоту, все должны устремиться взором к этой светлой звезде, а тогда все, пусть то будут даже антиподы, будут увлечены к ней, как общему для всех средоточию. <…> Миллионы людей, которые думали, думают, будут думать на земле, не могут быть верны одному принципу, и бесконечность никак не свести в фокус одного тезиса, – каждый пусть идет своим путем, но только все должны признавать сокрытого бога, чтобы не заблудиться в безмерности. Этот бог – идеал, все стороны равно близки к его престолу, пред ним равны все желающие блага, в нем все должны соединиться единой цепью – единство не единообразия, но единосогласия; атеизм искусства и науки – это варварство; пока не слышен благовест мира господня, царит на земле жестокое кулачное право (60). Великая идея вечного мира между государствами – не оказывалась ли она всякий раз, когда пытались воплотить ее в действительность, прекрасным миражем? И однако нельзя отречься от этого образа, нельзя оторвать от него душу; но не менее возвышенна идея вечного мира в красоте и познании, и не может ли быть так, что в этих двух сферах, где голос страстей звучит тише, идея вечного мира способна скорее и полнее воплотиться? (61) А вы, ожесточенные хулители эмпирического познания! Чему, как не эмпирическому миру, обязаны вы своим существованием, что кормит, питает ваши тело, сердце, дух, дабы они не изнемогли, где бы ваш разум нашел точку опоры для рычагов, если бы у вас под ногами исчезла твердая земля? И вы, позорящие философскую спекуляцию как ложное суемудрие! Вы собираетесь изгонять философские тезисы из науки и предаете проклятию все метафизическое; но благодаря чему сами вы получше мха, липнущего к камню и – чисто эмпирически – сосущего влагу, как не благодаря вольности самостоятельного мышления, возвышающего вас над неодушевленной природой, благодаря чему вы еще плаваете по поверхности целого океана опытных наблюдений, а не утонули в нем, как не благодаря той особой внутренней, вольной силе, которая поднимает вашу голову над бездною и позволяет вам видеть и дышать? Пусть же никогда не расстаются эмпирические знания и спекулятивное рассуждение, в этом спасение для человеческого познания, и искусство тоже спасено, если только не оставят друг друга чувство и фантазия. Вот предмет, которому посвящены последующие страницы. <…> (62). Написано в вандемьере X года. Автор В умном созерцании полагает себя абсолютный Ум. Чтобы созерцать абсолютную Природу, ему приходится отождествить ее с собою. Итак, для умного созерцания абсолютная Природа=абсолютному Уму=абсолютному Уму Природы. Абсолютный Ум Природы равен абсолютной деятельности с умной бесконечностью, то есть=0 для сознания (62). Чтобы достичь сознания, нужно ограничить абсолютный Ум Природы, он может ограничить лишь себя сам, / поэтому его абсолютная деятельность должна раздвоиться в себе самой. Благодаря раздвоению Ум Природы конструируется для своего бытия как мира. В конструируемом продукте заключена двойственность, он распадается на внутренний и внешний мир. Следовательно, и в конструирующем начале тоже должна заключаться двойственность. В самом продукте двойственность либо только мнима и одна сфера непосредственно положена в иной, либо же обе сферы независимы во внеположности друг другу, хотя и взаимодействуют друг с другом. Следовательно, и в абсолютной деятельности Ума Природы тоже наличествует либо однородность и раздвоенность в однородном, либо разнородность и раздвоенность в разнородном. В первом случае абсолютная деятельность конструирующей внешний мир Природы равна абсолютной деятельности конструирующего внутренний мир Ума и равна абсолютной деятельности конструирующего мир Ума Природы. Следовательно, абсолютная деятельность Ума Природы должна быть раздвоена. Она раздваивается на абсолютно продуктивную и абсолютно эдуктивную18 деятельность. И, следовательно, есть два пути к конструированию. При раздвоении либо Природа берет на себя абсолютную эдуктивность, а Ум – абсолютную продуктивность; это идеализм. Либо Природа берет на себя абсолютную продуктивность, а Ум – эдуктивность; это реализм. <…> 18 Продукция – создание нового, эдукция – выведение наружу уже наличествовавшего в природе. Ум – позитивное, творческое начало, Природа – негативное, пластичное; первый – носитель всякого развертывания, вторая – носительница всего сдерживающего развертывания, или наоборот (63). Во взаимодействии продуктивной и эдуктивной деятельности Ума и Природы Ум Природы конструирует / себя для своего бытия, и в качестве результата антагонизма выступает либо дух со всеми его силами и способностями, либо природа со всеми ее обликами и силами. Если продуктивен рассуждением. Ум, то эдуктивность Природы становится В противодействовании созерцания и рассуждения возникает как продукт Идея. Бесконечная продуктивность Ума развертывается в бесконечность, но сдерживается эдуктивностью на различных ступенях разворачивания. Отсюда многообразие Идей. <…> Помимо Природы нет Ума, помимо Ума – нет Природы, и однако внешний мир – во внутреннем или внутренний – во внешнем (64). В другом случае абсолютная деятельность Ума Природы распадается на абсолютную деятельность Природы, / конструирующей внешний мир, и абсолютную деятельность Ума, конструирующего внутренний мир. Обе сферы внешнего и внутреннего мира должны взаимно обусловливать друг друга, но конструироваться независимо друг от друга. Конструирующая деятельность как Природы, так и Ума должна, следовательно, раздвоиться в себе самой, она должна распасться на деятельность продуктивную и деятельность эдуктивную. Конструирующая деятельность внутреннего мира раздваивается на созерцание и рассуждение и этим конструируется для длительности во времени. Конструирующая деятельность внешнего мира раздваивается на силу отталкивания и силу притяжения и этим конструируется для бытия в пространстве. Во внутреннем мире заключена вечность, во внешнем – бесконечность, – та и другая во взаимной обусловленности, и однако каждая независима в своей сфере. Конструирующая деятельность внутреннего мира конструирует этот мир в точку бесконечного пространства и во все мгновения вечного мира. Конструирующая деятельность внешнего мира конструирует этот мир во все точки бесконечного пространства и лишь в одно мгновение вечного времени. Благодаря опосредованию в абсолютном внутренний и мир внешний опосредуются. Уме Природы мир Внутренний мир в средоточии универсума обретает глубину. Внешний мир в средоточии бесконечной вечности обретает длительность. Конструирующая деятельность внешнего мира приходит в антагонизм с конструирующей деятельностью внутреннего мира, и в точке их взаимодействия возникает человек как двойной продукт. Сдерживать созерцание рассуждением – значит мыслить, сдерживаемое есть Идея. Сдерживать мышление конструирующей деятельностью внешнего мира – значит чувствовать, сдерживаемая деятельностью внешнего мира в своем развертывании идея называется чувством. Когда продуктивность Ума сдерживается его эдуктивностью, возникает Идея; если она вторично сдерживается деятельностью Природы, возникает чувство (65). Поэтому чувства и называют темными, неразвитыми идеями. В чувстве Идея воплощается, прикасаясь к / материи; чувство – это эфирная оболочка, в какую Ум облекается, чтобы снизойти в Природу. <…> В чувстве Идея – продуктивное, деятельность Природы – эдуктивное начало; следовательно, продукт Ума становится фактором чувства. <…> Ни в каком чувстве продуктивная Идея не бывает развернута до конца, следовательно, всякое чувство есть свернутость бесконечно многих чувств, составленность бесконечно многих факторов. То, что во внешнем мире выступает как тенденция к сцеплению в виде силы тяжести, что во внутреннем мире выступает как тенденция к связыванию в рассудке, то выступает здесь как тенденция к соединению в звенья в виде способности чувствования. <…> Организм духа преломляется в организме Природы, и с точек отражения берет начало способность чувствования со всей ее волшебной игрою красок. Дух в соединении со способностью чувствования есть душа (66). <…> То, что сдерживает продуктивность Природы и конструирует ее в качестве внешнего мира, выступает во всем отдельном как сцепление, в целой же системе – как взаимное тяготение всего сцепляющегося (67). То, что сдерживает продуктивность Ума и конструирует его в качестве внутреннего мира, выступает во всем отдельном как мышление, в рассудке же – как связывание всего мыслимого (68). <…> Дух вкупе со способностью чувствования дает душу, а неорганический мир вкупе с органическим – универсум. Так Природа конструирует себя посредством Ума как универсум, а Ум – посредством Природы как душу; обе сферы проникают друг друга в человеке. В нем неорганическая природа отделяется от органической, и первая изливается во вторую; мир идей отделяется от мира чувств, и первый отсвечивает во второй. Благодаря тому, чтó в нем – организм, человек взаимосвязан с неорганической природой; благодаря тому, чтó в нем – способность чувствования, человек соединяется с миром Ума. Следовательно, благодаря тому и другому опосредуются оба мира. <…> Следовательно, человеческое есть способность чувствования, конструируемая в организме, колеблющаяся между внутренним и внешним миром (69). <…> Рефлексия духа на сдерживаемую внешним миром идею называется представлением. Чувство есть идея, сдержанная внешним миром, представление – та же идея, сдерживаемая рефлектированием духа, следующего задаваемой внешним миром норме. Изначальное созерцание идеи сдерживаемо изначальной и сдерживаемо обусловленной внешним миром рефлексией. Следовательно, представление есть воспроизведение спонтанностью духа, проецируемое в самый дух. чувства Способность представления есть одухотворенная способность чувства – это область промежуточная между духом и чувствованием. Так, следовательно, опосредована взаимосвязь внешнего и внутреннего мира (71). <…> Ум конструирует себя как объект во времени; познание такого конструируемого как объекта есть наука об Уме, философия. Через посредство чувствительности дух обнаруживает противоположное себе – Природу, конструируемую в относительном пространстве как внешний мир (74). <…> Все то, что порождает дух своей внутренней подвижностью, все, что воспринимает он извне, – все это он в свою очередь представляет во внешнем мире, представляет как язык, – чтобы сообщать все родственному себе духу. Если такое представление во внешнем совершается посредством последовательного во времени – таково звучание, – возникает словесный язык; если же посредством протяженного в пространстве – такова фигура, – возникает язык образов. Для производимого внутренним миром самое сообразное – чтобы его представляли в его же форме. Вот почему словесный язык есть невесомое облачение духа, он воспроизводит любые формы и контуры духа, язык – это бренная оболочка бессмертного вéдения. Орган чувства, охватывающий наибольшее число феноменов внешнего мира, – это глаз. Воспринятое им есть образ. Поэтому язык образов наилучшим образом подходит для представления любых явлений внешней природы, с помощью такого языка нам легче всего передавать воспринятое. Любая данная реальность благодаря языку образов совершает первый шаг в своей идеализации (77). <…> Внешний мир сдерживает Идею, и она становится чувством в сфере чувствования; феномен же, возбуждающий нас извне, благодаря реакции духа в душе становится ощущением. Представление Идей, сдержанных и ставших чувством, и феноменов внешнего мира, сделавшихся ощущением, для сообщения этих чувств и ощущений родственным душам есть искусство. В искусстве чувствительность становится чувством, спонтанность – фантазией, ощущение – интуицией, аффект – вдохновением; внешний мир трогает наши чувства, идея вдохновляет фантазию. Художник в своем творении либо представляет Идею, приглушенную и ставшую чувством, и тогда его искусство – это продуктивное искусство. Либо же его представление не отступает от ощущения, какое феномен пробудил в нашем чувстве, и тогда его искусство – это эдуктивное искусство (78). <…> Между противоположностями продуктивного и эдуктивного художественного гения пребывает третье – идеал. В идеале должны соединиться обусловленное и безусловное, цельность и бесконечность, непосредственное чувство и фантазия, собственная творческая сила и восприятие уже сотворенного. Фантазия стремится к бесконечности, она любое содержание расширяет до абсолютной формы, поэтому продукты, создаваемые чисто продуктивным гением, – это лишь форма без содержания. Непосредственное чувство постигает все ограниченное своими пределами, но постигает все, как оно есть, – как лишенную всякого значения рядоположность; фантазия должна придавать значение и форму так воспринятому. Поэтому эдукты, создаваемые чисто эдуктивным гением, – это одно содержание без формы. Поэтому если художник хочет создать нечто реальное, в нем должны соединиться продуктивная и эдуктивная художественные способности (79). <…> В фантазии отдельное сразу же обозначается как целое, оно сразу же идеально; в скудной реальности отдельное приближается к идее лишь в ущерб целому. Превосходное скупо рассеяно по реальности, зато есть немало низменного, что ранит наши чувства. Лишь к чувственному инстинкту низменное ближе, высшее же чувство откликается лишь на совершенное, и дух усваивает себе действительность лишь в том, в чем она превосходна. Лишь в духе материальная, плененная истина возвышается и становится вольным выражением идеального. Индивидуально-превосходное, отобранное открытыми чувствами и благодаря эстетическому синтезированию представленное фантазией в бесконечности идеи – вот что такое идеал. Во всем идеальном материал предоставляет действительность, форму – собственная деятельность художника, и форма и материал должны слиться друг с другом. <…> Все благородное, прекрасное, совершенное, что воспринимает в природе тронутый ею эдуктивный художник, должно еще в сфере чувствования принять в священном восторге предел, жизнь, форму от бесконечности, величия, абсолютности идеи, – тогда вольное взаимодействие сторон родит идеал, и наши чувства и наша фантазия с любовью прильнут к зачатому ими созданию (80). Душа наша раскололась на чувство и фантазию, в идеальном же эта раздвоенность должна стать единством; / в художнике, ваяющем идеальное, фантазия на высшей ступени своей деятельности и непосредственное чувство на высшей ступени своей возбудимости должны породниться, чтобы создать совершенную гармонию (81). <…> Дух стремится к познанию бытия объектов (82). <…> Душа лишь спрашивает о том, чем кажутся нам предметы. Эдуктивное искусство с нежным и тонким чувством снимает это свечение видимости с сáмой поверхности Природы; продуктивное же черпает его из своих глубин, из внутренней полноты изобильной фантазии; в идеальном снятое с поверхности и почерпнутое из глубин стекается, – и перед нашей душой встает образ, и он живет, и он говорит своей поверхностью о своих глубинах, и обращается из глубины к фантазии, и внешней стороной обращается к непосредственному чувству. <…> В языке искусство представляет свое первое пластическое создание; благодаря языку творения духа обретают прочность и бытие для чувства, а все воспринимаемое чувством на долгое время приобретает значение для духа (83). <…> В языке образов глаз дает фигуру со всеми ее формами и очертаниями, дух лишь вкладывает значение, соотнесенность, взаимосвязь во все данное ему. Словесный язык и язык образов – это художественные создания, но еще скованные на низшей ступени, – они способны к высшему развитию. Высшее развитие языка слов дает словесность, а высшее развитие языка образов – изобразительное искусство. Первый шаг к высшему развитию языка слов – это поэзия. <…> В идеальной поэзии материал действительности должен теряться в форме идеи, а материал идеи – в форме действительности (84). <…> Для сентиментального поэта Природа – лишь закосневшая Идея, в голых скалах для него нет ничего приятного, утешительного; только чтобы вид их стал выносим для взгляда, ему приходится золотить вершины гор, проливать мягкое пурпурное сияние на шапку ледников, – иначе они ранят взор своими острыми зубцами. А для наивного поэта в природе есть сердце и любящая душа, и она ласково беседует с теми, кто близок ей. Звезды – глаза, которые смотрят на него с вышины, цветы шепчут ему слова, к которым он прислушивается, для его души ласково журчит ручей, – и поэт с любовью передает нам все, что воспринял с любовью. А поэт идеальный наполняет природу бурной жизнью, – у него эльфы танцуют на поляне в свете Луны, и сильфы летают в закатных лучах, и нимфы водят хороводы в рощах и плавают в реках, и гномы роют сокровища в недрах земли. Обычные люди становятся богами в свете идеала, и точно так же дунет он дыханием всеобщей жизни на мертвые силы природы – и всех, одухотворенных им, поведет за собою в свой мир. Язык перешел в поэзию в сфере чувствования, еще шаг – и поэзия растворится в музыке. <…> Лишь звучащая природа жива для нашей души, природа молчащая – лишь мертвое, лишенное воли вещество. Вечный покой немоты внушает нам такой же страх, что и вечная беспросветная тьма (85). <…> В саду, взращенном Природой, соловей исполняет лишь мелодию, и лишь мелодию слышит тот, кто прислушивается к музыке Природы. Лишь в дворцах, возведенных Культурой, живет гармония, – ее способен воспринять только утончившийся слух (86). <…> Наивный создатель мелодий схватывает летучие звуки Природы, его чувство откликается на ее звучания, и эти звучания еще и спустя века вновь раздаются в его творениях. Плод считанных мгновений трогательного чувства, его пение, обращаясь к нам, вновь поселяет растроганность в наших сердцах. Покидая райские кущи Природы, художник выходит на широкое поле познания, здесь он встречает гармонию, и гармония подводит к нему, по отдельности, добро и зло, консонанс и диссонанс. <…> Лишь человеческий голос дала нам Природа для пения, а теперь искусство выманивает благозвучие и из всего того, чему Природа велела молчать (87). <…> Потому продуктивное искусство звука – музыка, гармония (88). <…> То, что обнаружили мы уже в поэзии, мы находим и в музыке – повсюду все то же раздвоение и все то же стремление к единению раздвоившегося. Итак, лестница риторических искусств конструируется в таком виде: наше знание предстает в прозаической речи; знание, сведенное в сферу чувствования и представленное в слове, дает дидактическую поэзию; к последней примыкает лирическая поэзия – она рисует чувства звуками речи и на самых глубинах теряется в музыке, которая слагает чувства звучаниями. Язык образов – другой рукав потока, каким течет художественная способность души. Язык образов, выводимых из царства иероглифов, холодных, мертвенных, немотствующих, из символов, и развиваемых до живого, полнокровного и красноречивого представления, – объект изобразительного искусства (90). <…> Гений Греции любой аффект окружал покровами мифа, – форма кристаллизовалась вокруг мифа согласно законам притяжения, какие действуют в пластической способности (95). <…> Музыка и поэзия – в детстве они играли вместе и не расставались никогда, лишь впоследствии пути их разошлись, однако им предстоит встретиться в идеальном, когда они достигнут зрелости и совершенства (98). <…> В восприятии широта Природы определяет глубину духа, – в мысли дух, с его глубиной, определяет сам себя. Должно быть такое третье, где восприятие опосредовалось бы идеей, где одно переходило бы в другое; это третье есть созерцание, данное способностью представления (99). Созерцание должно опосредовать восприятие и мышление; следовательно, в нем должно заключаться нечто / бесконечное, абсолютное, безусловное, благодаря чему оно поднимается до своей мысли, и должно заключаться нечто конечное, относительное, обусловленное, благодаря чему оно простирается в сферу восприятия. В созерцании восприятие и идея должны переходить друг в друга, поэтому абсолютное, заключающееся в созерцании, должно быть однородно с относительным, обусловленное, что содержится в восприятии, должно быть способно расшириться до абсолютности, а бесконечное, содержащееся в идее, должно простым своим ограничением давать конечное, содержащееся в восприятии. Следовательно, созерцание должно абстрагировать во внешнем мире то, что в качестве ограниченного дает нам восприятие, притом то, что в доставляемом нам восприятиями соответствует своей однородностью с ними неограниченному, продуцируемому в представлении духом; созерцание снимает с материи самое чистое, самое духовное, что она может предложить нам, все это объединяя с продуктом духа (100). <…> Самое чистое и душевное, что предоставляет нам внешний мир, – это приятная форма и мелодическое движение; то и другое выступает в индивидуализированном виде благодаря органам чувств в ощущении, то и другое выступает в безусловном виде в аффекте благодаря фантазии. Чувство располагает индивидуальное в абсолютном, создавая идеал (103). <…> Гармонически колеблющейся волной, направляемой чувством поэта или музыканта, словно обращается к нам некая более красивая душа, – она говорит в нас и обращается к природе, она говорит в нас и обращается к природе, она говорит в природе и обращается к нам; словно некое особенное, высшее существо сопрягает то, что в нас, и то, что вне нас (104). <…> Эстетический деятель должен подняться над внешней природой и возвысить себя до себя же самого, должен проникнуть в самое средоточие человеческого в себе и отсюда посмотреть на себя как на внешнюю природу, способную принять органическое строение, – запечатлев в своем собственном материале идеал, он должен затем ввести это запечатленное в жизнь (105). <…> Так душа переносит риторическое искусство – из безжизненной атмосферы в собственную грудь; тяга, находившая дотоле выход вовне, оборачивается вовнутрь, к собственному средоточию; душа тут сама себе и пение и среда, в которой распространяется пение; душа формирует себя посредством поэзии и возвышается к идеалу (106). <…> Выше, когда мы развивали художественные идеалы первого и второго порядка, нам еще недоставало идеала третьего, самого высокого порядка – такого, в каком совмещались бы звук и образ. Теперь же мы встречаем и этот высший художественный идеал – он совпадает с конечной целью человечества. Завершение культуры в высшей гуманности – вот высший идеал искусства. <…> Поэтому, для того чтобы вознестись к высшему, искусство должно стать органическим. Человек должен взобраться на величайшую вершину образования и культуры – тогда в нем будет обретена и явлена величайшая красота. Влечение к органическому формированию направляется на собственный дух, собственную душу, собственный организм человека; из этих трех понятий каждое – субъект и каждое – объект для себя самого, каждое – образующее и образуемое, ваяющее и ваяемое, правило и материал (108). <…> Величайшие факторы духа – способность восприятия / и мыслительная сила; величайшие факторы души – восприимчивость и спонтанность, способность ощущения и сила воображения; факторы организма – возбудимость под влиянием внешнего и возбудимость под влиянием внутреннего, способность воспринимать раздражения и мышечная сила. Если предметом влечения к формированию оказывается дух, то такое влечение должно создать полнейшее равновесие между способностью восприятия и мыслительной силой; восприимчивость и деятельность должны поддерживаться на одном уровне, выступать с одинаковой силой; воспринятое и продуманное должны проникать друг друга и сливаться в созерцании, в представлении. Дух стремится достичь очевидности и обрести убеждения; когда активность и пассивность соединяются в нем в степени математической свободы, это значит, что дух образовал себя, достигнув самой высокой истины (109). <…> Сосредоточенность духа, грация души, жизнь организма – словно три гения, которые должны обнять друг друга: тогда три языка пламени над их головами сольются в священный огонь человечества – словно маяк будет светить он нам из неизведанности отдаленнейших веков грядущего (110). <…> Подобно тому как в организме жизненный процесс конструируется как здоровье лишь благодаря гармоническому взаимодействию угнетающих и бодрящих потенций, так и в эстетической сфере чистая культура расцветает в художественном идеале лишь благодаря вольной антагонистической борьбе продуктивного и эдуктивного искусства, а в интеллектуальной сфере чистое органическое строение духа выступает в математическом идеале лишь вследствие вольного противодействия спекулятивной мысли и эмпирического знания (111). <…> …болезнь нашего века – это одностороннее формирование духа для абстрактного созерцания, причем непосредственное чувство красоты и живой жизни притупилось. Человечество должно было последовательно пройти весь этот вьющийся через века цикл, – с тем чтобы в дальнейшем воспитывать себя не в каком-то одном направлении, но охватывать в своем формировании бесконечность по всем измерениям трех своих природ. Помимо художественного идеала, представляемого во внешнем мире, нет и ничего запечатляемого в самом человеке. Но и помимо внутреннего идеала нет ничего, что было бы представляемо во внешнем, помимо внутреннего воспитания и образования нет и внешнего. Поэтому в непрестанном взаимодействии находятся – искусство представления во внешнем и искусство внутреннего формирования, – лишь поддерживая друг друга, они могут существовать, и если нет одного, то немыслимо и другое. Итак, сфера чувствования тяготеет в области эстетической к совершенной красоте, представляемой во внешнем мире; все внутреннее существо души, стремясь к полноте совершенства, склоняется в сторону этого центра тяжести, полагаемого ею вовне, и усиливается перенести его в самое свое средоточие. Душа полагает центр тяжести вовне лишь постольку, поскольку переносит его вовнутрь себя, а переносить может лишь положив его вовне (113). Природа, следуя своего рода предустановленной гармонии, повсеместно берет на себя, в большей или меньшей степени, заботу о таком связывании внешнего и внутреннего, – человеку же остается распознать ее заботливость и примкнуть к ее усилиям, чтобы по неведению или под воздействием страсти не разрушить то, что старательно возводит мать Природа. Негр радуется жизни, живя на болотах, и болезненная тоска овладевает душой жителя Альп, когда отрывают его от родных гор. Точно так же и дух будет тяготеть к внешней истине, и лишь в таком тяготении сложится, соотносясь с истиной во внешнем, внутренняя истинность его существа. Он отталкивается от ложного, стремится в конце концов достичь очевидного и, держась очевидности, обрести высшее свое достоинство. <…> Стремясь к красоте, жизни, истине, человек органически образует себя для гуманности. Человек, индивид стремится к истине, и в таком стремлении все индивиды тяготеют друг к другу, образуя человечество. В духе и в истине, в той мере, в какой истина – благо для человека, заключены первейшие узы, связывающие человека с человеком и образующие единый великий союз людей. В сфере духа витает идеал, какого стремится достичь человек в обществе, – стремясь совместно достичь его, все стремящиеся связывают себя единой цепью совместного – возникает гражданское государство. То, что сопрягает здесь все части в целое, – это не сцепленность индивидуального, а нечто третье, – оно парит над головами всех, – это конечные цели, которые убедили людей выйти из варварского состояния (115). Имущество, собственность представляются ему вторыми и более грубыми покровами, в которых, словно в темнице, затворяет себя человек, и без того вынужденный уже носить тяжелые покровы тела; собственность – железная одежда, в которой быстро угасает внутренняя деятельность человека. Вместо этого он выставляет для всеобщего поклонения нечто высшее, абсолютное, пред чем обращаются в прах кумиры черни, идолы заблуждения. Высшее для него – свобода, отечество (117). Индивид, человек стремится к прекрасному, и в этом стремлении все индивиды тяготеют друг к другу, образуя единое человечество. В прекрасном заключены новые узы, прочно связующие человека с человеком и образующие единый великий союз людей. Пред душой человека носится идеал, какого стремится достичь он и сам по себе и в обществе себе подобных, – стремясь совместно достичь его, стремящиеся связываются, образуя эстетическое государство. Когда красота увлекает людей и связывает их в единое целое, влекомые устанавливают порядок в отношениях друг с другом, и, как правило всего упорядочиваемого, слагается строй добронравия и благопристойности, – в сфере красоты складывается кодекс пристойного, подобающего. Итак, красота в той мере, в какой пристойное совпадает с нею, – вот что возвышается среди общества как законодательная сила (122). Что всемирное тяготение в неорганической природе, то стремление к истине в природе духовной. Подобно тому как все тела во всей обширности универсума тяготеют к идеальному центральному телу, которое ускользает от них в бесконечность и по сравнению с удаленностью которого любое измеримое пространство всего лишь точка, так все умы стремятся к одному и тому же идеальному средоточию: в его сторону бесконечно развертывается созерцание, но не может достичь его и фиксирует его лишь в рефлексии (131). Так, следовательно, и здесь отражаются друг в друге две природы и весь универсум внешнего повторяется в нашем внутреннем мире; мироздание предстает пред нами в человеческом облике, – одно лишь продолжение другого, внешний мир сформован в нас же самих, по образу и подобию божьему (132). Представляющее искусство придает пластический облик тому, что выступает вовне; когда его создание отрывается от нас, оно покоится в себе, в своем собственном существовании, а с нашим собственным бытием сопряжено лишь той связью, какую мы сами вложили в его формы. Формирующее искусство деятельно создает то, что замкнуто в сфере нашей собственной индивидуальности, – под действием такого искусства возвышается до красоты тот мир, который наше самосознание определяет как наш собственный; три природы нашего существа, держащие друг друга в объятиях, – вот предмет устремлений такого искусства (136). В искусстве воспроизведения те два искусства проникают друг в друга и совпадают; художник, зачиная новую жизнь, представляет вовне, его художественное творение находится в неорганическом мире, однако сам артефакт – нечто органическое, второе Я художника, и, подобно тому как по самому своему существу это произведение есть точное запечатление существа самого художника, так во всем его образовании художник по необходимости повторит самого себя. Если художник ваяет представляемое им вовне и, подобно тому как он дал ему и бытие, и материал, и форму, теперь облагораживает его форму своей внутренней силой, – он воспитывает (137). У человека есть душа, требующая пластического образования, есть дух, жаждущий его, и есть организм, который в неменьшей мере притязает на пластическую форму, но есть у человека и безусловная свобода – свобода ставить перед собой цель на любом удалении от себя. Поэтому в деле воспитания человека объединяют свои усилия – внешняя необходимость и внутренняя свобода; первая беспрестанно ограничивает его, вторая отдаляет пределы. Свобода и необходимость проникают друг друга в искусстве, и искусство воспитывает душу (139). Природа могущественно правит непроизвольными движениями тела – тут управительница она одна. <…> Напротив, все произвольные движения приписаны духу, он может направлять их и видоизменять, как только ему заблагорассудится, он может и совсем не двигаться и совершать слишком быстрые движения, – как только будет угодно ему, как только он сам решит. У варваров природа чаще нарушает привилегии духа, тогда произвольные движения становятся непроизвольными, влечения – слепыми, животными инстинктами, а природа погоняет человека плетью, чтобы двигался он скорее, чтобы падал он бездыханным у цели, так и не узнав, какие силы спали в нем и для какого предназначения он был призван в этот мир (141). У человека утонченно развитого дух чаще проникает в сферу природы, непроизвольные движения тоже оказываются в сфере его деятельности и по крайней мере на миг выходят из-под деспотической власти внешнего. <…> …во всем этом сказывается высокая сила собственной воли человека, так что все внешнее склоняется перед нею (142). Идея стремится к бесконечному, Природа – к узко определенному, непрестанный взаимообмен только и приводит к тому, что требования каждого удовлетворяются. Потому-то беспрестанно меняется и обстановка на театре народов – неведомые фигуры, закутанные в плащ, выходят на сцену, выступают из мрака, растут, достигают колоссальных размеров, полмира служит им постаментом, однако долго ли, коротко ли, фатум волшебным жезлом касается чела гиганта, поправшего человечество, и вот под ударами его бича колосс обращается в туман, в испарение, в облако и потоком времен уносится прочь. Постоянно отыскивается наилучшее, а не наилучшее – обречено гибели (142). Какие бы уродливые существа ни выплывали из потоков хаотического движения, сквозь самые искаженные очертания к нам обратится прекрасная форма и подлинный облик идеально преображенным поднимется над руинами уродств (145). Если бы человечество когда-либо достигло совершенства как замкнутый в себе мир, так оно достигло бы наивысшего, его абсолютное счастье было бы заключено в абсолютной свободе, все препятствующее целеустремленности духа было бы отнято у внешней природы, с ее принуждением, и передано в распоряжение человека, с его волей, распри утихли бы, однако не наступило бы ни смерти, ни ленивого покоя (146). Но если лучшее будущее все время ускользает от людей в свою даль, тем ближе к человечеству его былое, тем ощутимее его напор; человек с печалью взирает на прожитые им годы невинности, в этом своем прошлом насаждает Рай, оплакивает утерянный – утерянный оттого, что в своей дерзновенной гордыне возмутился человек против матери Природы и дерзнул сразиться с ее всемогуществом. <…> С печалью в сердце взирают теперь люди на те златые дни, которые, думают они, безвозвратно ушли в прошлое, канули в вечность вместе с прекрасной утренней зарею их бытия, и единственное наслаждение, которому, мнится им, вправе они предаваться в своих скитаниях по пустыням жизни, по каким блуждают они с трепетным страхом в душе, – это воспоминания о своей юности, словно по волшебству возникающие, приятно волнующие душу сны блаженного детства, – сновидения уносят людей прочь от самих себя, подальше от бессердечного настоящего, с его бедами, в куда более прекрасное прошлое. Поэтому искусство, что творит такое волшебство и являет нашим чувствам будто бы существовавшей некогда в самой действительности, но только канувшей в вечность ту цель, которую вечно стремимся мы достичь, – это искусство проистекает из сокровенных глубин человеческой природы, из самых дорогих человеку воспоминаний, из самых прекрасных его надежд. Когда человек утомился в борьбе с природой, влечение к формированию не ослабевает в нем, но творит в нем уже как художественное влечение; а поскольку будущее не дает ему ничего, кроме ничем не заполненных просторов, оно обращается к прошлому и, следуя своему идеалу, создает образы, светлые, улыбающиеся, окруженные мягким блеском, обращающиеся к человеку из глубин прошлого (147). Формируя свою собственную личность, каждый из нас выступает лишь представителем себя самого – и никого более в целом человечестве; актер теряет сам себя, но зато выступает представителем всех тех героев, которых играет на сцене. Протей, он переходит из одной формы в другую, меняет облик и являет нам как тех, кто не родился еще на свет, так и тех, что полночными тенями скользят по могилам былого (153). Пластические создания поэзии трогают наше внутреннее чувство либо беспредельностью и далью, – поэзия исходит из конечного, но лишь благодаря тому, что художник сокрушает все преграды, какими обставлена со всех сторон действительность, эта последняя раздается вширь, обращаясь в артефакт, и тогда художественное творение становится поэмой, созданной продуктивной силой. Либо же поэт поражает наше внутреннее чувство теми самыми образами, которые столько уж раз отражались чувством внешним, – всю внешнюю природу он призывает волшебством в нашу душу и придает ей такую ширь, что она способна объять весь круг волшебных образов; тогда поэма входит в нашу фантазию как созданная эдуктивной силой. Итак, в обоих случаях поэт обращается к нашей фантазии, своими звуками он возбуждает нашу собственную деятельность, так что либо продуктивный дух перелетает через любую преграду, либо же дух эдуктивный, чтя феномены, накапливаемые чувством, составляет в воображении образ внешнего (155). Перед поэтом, работающим для сцены, открыты … два пути, и только от его желания зависит, который из них избрать. Продуктивный комедиограф (156). драматический поэт – трагик, эдуктивный – Трагический поэт и являет нам борьбу бесконечной человеческой силы с бесконечной силой Природы; эта последняя для него либо живая, либо мертвая, либо Провидение, либо Судьба; поэт прослеживает все катастрофы их поединка вплоть до самой последней, когда гибнет, не может не погибнуть сила человека, потому что Природа не может потерпеть поражение, не уничтожив вместе и нас (157). Человек, действующий по собственной воле, – вот объект драматического поэта, однако продуктивный и эдуктивный художники рассматривают его с противоположных точек зрения. Для одного из них человек всечасно памятует о своем высоком достоинстве, гордо сознает свою собственную силу и возмущается против чуждых сил, жертвуя жизнью ради сохранения своей свободы, а для другого человек давно уже отказался от бесполезной борьбы, отказался от свободы, чтобы обеспечить свое существование, присягнул на верность внешней природе и признал ее власть над собой. Но признать над собой права природы – значит одновременно подписать акт отречения от всех принадлежащих человеку по рождению прав и привилегий; присягая силам царства теней, человек отрекается от свободы, приносит в жертву ужасным божествам свое человеческое достоинство, только чтобы они позволили ему жить и наслаждаться жизнью. Природа, победительница, не отказывает ему ни в покойной жизни, ни в наслаждениях и требует взамен лишь одного – чтобы он сделался существом пассивным, но зато она отняла у него самое ценное – мужскую силу, теперь он платит ей дань, она захватила самые прекрасные и духовные его владения и одарила своего вассала земными благами. Дух продался дьяволу <…> (159). Когда трагический герой взрывается перед нами словно вулкан, мы внутренне содрогаемся и замираем; смеясь, мы внутренне освобождаемся, когда комический герой, съеживаясь, с треском исчезает перед нами, обратившись в точку; в обоих случаях мы можем и проливать слезы. Трагическая сцена возвышается перед нами, и мы с священным благоговейным трепетом взираем на фигуры, проходящие по ней, а комическая сцена опущена до того, что зритель с насмешкой, сверху вниз смотрит на людей, занятых на ней своими мелкими делишками (163). Должно быть и то третье, что не бодрит и не угнетает, но лишь хранит имеющееся, то третье, которое, если уж в органическом складе человека обретена какая-либо точка гармонии, не сдвигает ее ни в сторону гиперстении, подобно трагедии, ни в сторону астении, подобно комедии, а хранит неизменное, чисто стеническое здоровье человека (164). Такое третье – идеал, раздражение сливается в нем с реакцией на раздражение, трагедия и комедия переходят друг в друга; такой идеал – высшая драма, превосходящая и трагедию и комедию. Герой, какого представляет нам высшая драма, и не гигант, дерзновенно и самонадеянно вознамерившийся раздавить сам внешний мир, и не пигмей, который в объективном мире пугается собственной тени и дрожа забивается в угол, когда воздействует на него внешний мир; такой герой – человек в высшем смысле этого слова, – сознавая свои границы, он не пытается дерзновенно творить невозможное, но не робеет и не отчаивается перед достижимым (165). В драме природа и человеческая воля должны объединиться в тесный союз, ощущение и аффект – слиться в чувстве, и в чувстве должно вызревать решение, получающее материал благодаря непосредственным органам чувств, а форму – благодаря фантазии (166). Отношения духа и природы складываются у трагика так, что это напоминает отношения между мужем и женой у некоторых варварских племен: муж горд, надменен, жена унижена, служит вьючным животным и, как рабыня, лежит у ног мужа; у комедиографа природа находится в том отношении к духу, что у иных негритянских племен женщина – амазонка, управляющая решительно всем, – к мужу, который обязан повиноваться ей как раб. У создателя драмы будет царить то более тонкое отношение между духом и природой, какое известно лишь более развитым индивидам в более развитых нациях; природа была враждебна духу, теперь же стала его возлюбленной, она требует того, чего хочет он сам, его желания совпадают с ее волей, принуждение уже не влечет силой, но оба по доброй воле ведут друг друга, и слушающийся слушается по доброй воле, и повелевающий лишь отражает в себе волю слушающегося, – потому что дух и природа слились воедино и всякое принуждение совершается отныне в таком единстве и через посредство его. Поэтому в идеальной драме герой уже не сражается с неумолимым роком, обретая покой лишь в гибели и уничтожении, как в трагедии; он не стонет под гнетом фатальных обстоятельств, которые давят на него словно кошмар, и не обретает покой лишь в трусливом отступлении и пассивной лености, как в комедии; герой драмы получает покой благодаря упорству и неутомимому движению, лишь в равновесии, любви, симпатии (167). *** Мы подошли теперь к концу нашего исследования, найден высший идеал высшего искусства, и цель достигнута. Над этим идеалом нет уже ничего, и мы можем теперь лишь бросить взгляд назад, стараясь охватить целое единым взором и снять карту местностей, по которым мы прошли. Все единое, что бы ни заключалось в нашем существе, раскалывается на две стороны, и каждая из этих сторон едина лишь в своем противостоянии другой, внутри же себя в свою очередь раздваивается. Первой целью, какую мы ставили перед собой, было продемонстрировать то, что полярность, ветвясь бесконечно, пронизывает все бытие. Высшая полярность, с которой встретились мы прежде всего,– это полярность Ума и Природы; вот два полюса всебытия, вокруг которых вращается весь универсум; для нас в этой полярности заключался исконный раскол, обусловивший все прочие (169). Отдельные замечания Непременный атрибут идеалиста – телескоп, с его помощью он проникает в бесконечность, пучки световых лучей служат ему продолжением зрительных нервов, нежными волоконцами этих щупалец, стекающимися к глазу, а, исходя из глаза, пронизывающими своей незримой тканью просторы универсума, осязает он самые отдаленные миры, словно бы держа их в своих руках, он вовлекает вовнутрь себя самую даль (178). Непременный атрибут реалиста – микроскоп, с помощью которого он получает костлявый остов красоты, раздирая на элементы видимость, которым окружена красота; реально существующее он делит на нити и ниточки, расщепляя их до тех пор, пока все не перемолото в пыль, любая реальная форма погибает в нем, зато он вносит в бесформенное жизнь и пластический облик – тогда, когда оставляет поверхность тела и внедряется в свой внутренний мир, где обнаруживает в целости то, что разрушал снаружи <…>. <…> Посредине между идеалистом и реалистом занимает положенное ему место просто невооруженный глаз человека, постигающий реальность и красоту, какими они являются перед ним, он не блуждает ни в одной из бесконечностей, но пребывает в мире конечном и им довольствуется (179). *** Спящий герой уже не герой, он уже под пятой судьбы, он связанный раб ее. Поэтому сон – это отрицательная жизнь, исполнение всех желаний реалиста; сидеть лучше, чем стоять, спать лучше, чем бодрствовать, а лучше всего – смерть – вот формула этих желаний. Вечно спать и не пробуждаться – состояние мертвой материи; жизнь входит в мертвую материю, когда наступает в ней раскол, когда она пробуждается, когда дитя во чреве матери начинает совершать произвольные движения. А всегда бодрствовать и никогда не спать, чтобы дух царил непрестанно, чтобы в конце концов даже на непроизвольные движения распространил он свою власть и совершенно вытеснил природу,– таково состояние высшей духовности, жизнь, получившая один лишь положительный заряд, исполнение всех желаний идеалиста; формула же такова: действовать лучше, чем бездействовать, бодрствовать лучше, чем спать, а самое лучшее – это бессмертие. Смена сна и бодрствования – борьба внутренней свободы с внешним принуждением, это идеальная жизнь, где то побеждает дух под знаком света и бодрости, то его место блюдет природа, воцаряется темнота и мы предаемся дремоте (180). Вечное бодрствование, бессмертие, вечный сон, уничтожение – все это противоположности, а между ними, посредине, пребывает жизнь, осциллирующая – то движущаяся вперед к одному из начал, то назад к другому (181). *** Гений в искусстве – это продуктивная сила фантазии, внутренняя, движущая, зовущая вперед, вскипающая сила, стремящаяся распространиться вовне, вокруг; вкус – тонкость чувств, пассивно предающихся впечатлениям, потом перебирающих все воспринятое, чтобы отсеять ненужное и с любовью выбрать наилучшее (182). *** Жизнь, любовь, познание – вот три нити, сплетающиеся в ткань нашего существования; организм – это жизнь, искусство – любовь, наука – познание, высшее проявление личности – воспроизведение себе подобных, а смерть приходит, когда разбегается хоровод обнимающих друг друга Харит. Жить, творить, создавать, стремиться, к чувствам, наслаждениям, знаниям, – вот чем должно быть отмечено наше пребывание в самом средоточии вечной природы; чреда бегущих дней нанизывается на нить деятельности, какая не прерывается ни на час. <…> Древо личности должно расти на жирном черноземе жизни тела, чистый воздух чувств должен охватить его со всех сторон и шуметь в его ветвях; ясный свет истины должен проливаться на него, – вот тогда поднимется могучее дерево, и под его сенью мы усладимся цветением жизни. Что пища для тела, то любовь для души, то познание для духа; тело, и душа, и дух погибнут, если иссякнут животворные источники. Поэтому никто да не разрушает священных уз, соединяющих трех сестер, – ведь они гибнут, стоит увянуть одной. Да славится священное искусство! Оно создает мир для души, и в этом мире дышит, живет сердце (201). АФОРИЗМЫ ОБ ОРГАНОНОМИИ Гений по существу своему – господин, но не деспот; рассудок по существу своему послушлив, но не раболепен. Мы все обязаны благодарностью гениям, потому что они на своих крыльях поднимают нас над туманными сферами, но и гении не должны презирать словно бесполезный прах все, что не способно летать в облаках, – для природы поселения инфузорий не менее ценны, нежели государи, плавающие в эфире. Бытие – это трансцендентное уравнение, бесконечно число корней, из которых оно состоит; кто найдет этих корней больше, тот проник глубже других, тот – верховный жрец природы; но и кто найдет всего лишь один, жил не напрасно, и нельзя порочить его память (204). Поэтому будем верны героям искусства и науки, потому что они – прекраснейший цвет человечества, но не потерпим, чтобы в царстве умов утверждало себя феодальное право. Пусть народы чтят гениев, но пусть будут священны для гениев занятия поселянина и горожанина, – нельзя, выезжая из своих высоких замков, позволять себе топтать созданное нешумным усердием. Тогда над неукротимой борьбой, которая увлекает в наши дни человечество, поднимется новое творение – мир знания и культуры; так над бурями, какие приносит с собой поздняя пора зимы, восходит юная весна (205). СПОЛОХИ И ДРУГИЕ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА «АВРОРА» СПОЛОХИ [1.] Характер античного – поэзия, даже в философии; характер современного – философия, даже в поэзии. Простота – это выявление внутренней гармонии такой личности, которая, любовно притягивая и усваивая красоту, содержит свое средоточие в поэтической душе; светлый покой – выражение богатой натуры, упорядочившей себя изнутри – наподобие мелодического пения – и снаружи – наподобие совершенного изваяния – и решительно ничего иного не ищущей в холодных просторах дали и ничего более не жаждущей. Простота и кроткий покой составляют поэтому самое сокровенное существо античного, его лицо (205). Не то личность, заключающая центр тяжести в духе: дух стремится к единству Всего, как душа притягиваема индивидуальным единством, дух стремится проникнуть в сокровенную глубь, объять бесконечность, дальние звезды кивают ему, манят подняться из туманной сферы в чистоту эфира, где заиграют вкруг него звуки и пойдут хороводом краски, но эти звезды, эти идеалы – у них нет параллакса, и жизнь человеческая проходит словно во вращении вокруг Солнца, и ничуть не становятся ближе призывные световые точки, мистические образы дали. Многообразием различного отмечено поэтому время, в которое дух срывается со своего места, далеко этой эпохе до прежней мягкой простоты, ее заместят странная спутанность, острые контрасты, замысловатые искажения; светлый покой древности сделался недосягаем; несдержанное излияние силы, страшное столкновение противоположных тенденций, гонимых друг против друга, – вот чем отмечено будет время, одна за другою силы будут бороться за верховенство и узурпировать власть и терять ее, раздавливаемые совокупным противодействием всех прочих. И это время – наше время, такой характер – характер современности! (206). Но, как миновало прошлое, пройдет и настоящее, природа и дух непрестанно трудятся, все, что мы делаем, все, что создавали древние, – все это покроют потоки нескончаемого времени, и лишь тогда, когда обратятся в развалины все неудачные опыты природы и духа, которым они сумели сохранить жизнь, когда все силы, пройдя сквозь бесконечность, обретут гармоническую меру,– лишь тогда на земле начнется пора подлинно органического творения. Лежа в развалинах, наша литература покажется тогда диковинным явлением, с трудом составят тогда из костей целые скелеты наших мамонтов и напрасно будут озираться среди гармонических существ, стараясь отыскать живой оригинал их,– но только и потомки наши всегда будут чтить священную силу, которая доказывает свою вечность даже и в преходящих созданиях (207). [2.] Так много и так часто говорят об изнеженности Жан-Поля и так много предосудительного находят в его кротких персонажах, – отчего же не бранят воздух, столь разреженный, что решительно невозможно тесать из него твердокаменные плиты? (207). У его персонажей, говорят, слишком большое сходство с автором? В чем, однако, закрепляется индивидуальность поэта, что налагает на его творения печать своеобразия? Изначальный принцип, по которому сложилась его натура, который господствует во всем, что ни создает он, – когда поэт понастоящему поэтически творит, а не просто воспроизводит окружающее, тогда этот принцип поэтически творит в нем, в восторгах гения совершается откровение этого принципа. Бесконечность личности заключается лишь в бесконечности направлений, в которые способна изливаться она из определенной неподвижной точки, и лишь целое поколение людей универсально в подлинном смысле слова и в бесконечности тенденции заключает бесконечность индивидуальностей. <…> Странным образом многие настаивают на том, что прекрасные образы поэзии должны обладать некой общезначимостью по отношению к суждению субъекта, тогда как этого никто не требует даже от той красоты, какая встречается нам в самом действительном мире! (208). Все раздражающие парадоксы, какие поэтический гений, проникнутый своей целью и стремящийся силой отвоевать для себя сферу деятельности, бросает в мир, дабы возбудить сопротивление себе, все, что порой рождено минутной дерзостью, передразниванием грубой черни (ведь чернь запускает толстые пальцы в нежную ткань поэтических образов, играя с ними свои плоские шутки), все это принимают за чистую монету, над всем этим посмеются вдосталь, но с тем чтобы поскорее все забыть; однако все это покоится в памяти и, не успеешь оглянуться, вылезает наружу реминисценциями, – за такими реминисценциями ухаживают тогда словно за ядовитыми растениями, утратившими вследствие культивации вредоносные свойства, и со всем вниманием относятся к ним. Вот почему так мало голосов раздается в защиту Жан-Поля и почему лишь невнятный гул и непонятная молва, разносясь по стране, говорят нам о его гениальности? <…> Ведь Жан-Поль – самый настоящий представитель современности (210). Что возносит писателя над ним же самим, что поднимает эпоху над нею самой, это тенденция к органической, живой универсальности, когда слово становится плотью, а плоть – словом, когда целое заключено в слове и во плоти, – такое устремление должен чтить каждый и великое мерять лишь великою мерой. [3.] И современное уже достаточно старо, чтобы и в нем могло сказаться раздвоение, – современное распадается на современное на современный и на современное на античный лад. Прежние поэты из числа лучших, то есть не те, что черпали свои восторги в пиве, – они в своем самоограничении и задумчивой сосредоточенности, в чувстве меры и непритязательной наивности ближе античности, только что наложило на них свою печать северное небо, да в том неясном тумане, в который вечно погружена их душа, окружающие предметы скорее расплываются, тогда как грек воспроизводил предметы, любовно, но резко проводя их контуры, – как само же небо отчизны. Более новые поэты уже всецело современны, у них задатки – северные, а тенденция, скорее, южная, они философичны, экспансивны, они от этого становятся гражданами мира (211). [4.] Но прежде всего публике следует поразмыслить над тем, что проходить с непомерно умным видом мимо всего превосходного в своем роде – это непростительное бессердечие, каковому по причине его скверности вообще должно быть заказано вступать на священную землю искусства, и что лишенные воображения люди, порой весьма почтенные в своих ремеслах, достойны быть побиваемы бичом остроумия, когда подавляя других своим множеством, берутся громогласно учить всех и полагают, что со своего шестка обозревают целую бесконечность, – бич наглядно докажет им ограниченность их ума. Если педантизм, в котором отсутствует воображение, и призван заниматься искусством, так лишь с одной целью, – сидя взаперти в теориях и компендиях, бдительно следить за тем, как бы не ворвалось к нам варварство; так в странах Востока евнухи охраняют красоту в гаремах – чтобы не вошел туда грех (213). [12.] Античный стиль относится к современному, как платье древних к современному костюму. Одежды древних, спадая вниз широкими складками, объемлют тела крепкие, сильные, прекрасно сложенные; и то же самое слова древних – богатые драпировки мощных, обильных, полнокровных идей: широкими складками спадают в них прекрасные покровы, и сквозь них проглядывает могучая, пылкая внутренняя жизнь, проглядывают прекрасные пропорции природы. У новых язык и платье узки – широкие складки, а с ними спокойное, невозмутимое величие навеки утрачены, и место их заступило элегантное изящество с легким ритмом движения вперед (218). [22.] «Семейство Шроффенштейн» представляется мне трагедией интриги; судьба на этот раз взялась закручивать всякого рода тонкие узлы; пользуясь договором о наследовании, она, словно горный дух, дразнит два рода, ослепляет их, плетет нити раздора, о которые они спотыкаются, и, очевидно, направляет все их движения так, чтобы они истребили друг друга. Пьеса построена с архитектонической правильностью: оба семейства противостоят другу как два ряда колонн, – когда падает колонна в одном ряду, наступает черед соответствующей колонны в другом; умирает сын Руперта, и отец считает, что его убили, умирает сын Сильвестра, и мать думает, что он отравлен; герольда Руперта убивают в замке Сильвестра, зато Иеронима – в замке Руперта; в конце Руперт закалывает Агнесу, дочь Сильвестра, а Сильвестр – Оттокара, сына Руперта, и т. д. (231) Превосходные ситуации распределены по всей пьесе, значительной красотой отмечена сцена свидания Оттокара и Агнесы в пещере, хотя французская критика, несомненно, сочла бы ее крайне нескромной. И лишь кончается драма холодно, судорожно, поспешно, и неприятным диссонансом ложится на душу истерический бред Иоганна, та форма, в которую он облекается. Часто встречаются и отдельные удачные места, например, когда Агнеса говорит в третьем действии: Труд женщинам не страшен. Я часами Обдумывала, как мне сочетать Цветок с цветком, чтоб самый незаметный Красу букета лучше оттенял. Венок – что женщина. Возьми его, И если он тебе доставит радость, То я за труд награждена вполне. [Пер. П. Мелковой] (232) Или когда в другой сцене говорит Оттокар: «Как звать тебя?» – спросил я. Ты сказала: «Еще не окрестили!» И тогда Я зачерпнул в ключе воды проточной И окропил твой лоб и грудь, промолвив: «Ты обликом – живая божья матерь, И я тебя Марией нарекаю». [Пер. П. Мелковой] (233) Время, которому приносят в жертву таких первенцев, окажет себя недостойным их, если не примет их с благодарностью и не понесет юного гения на крылах своих, чтобы, окрепнув, на собственных крыльях вознесся он высоко над своею эпохой (233). [29.] Основатели новых школ в искусстве и науке – люди с тем же складом характера, что основатели монашеских орденов, и судьба их одна. И те и другие – люди восторженные, внутренне убежденные, отмеченные высшей благодатью, пламенным энтузиазмом и преданные духу возвышенного до полной одержимости и до самоуничтожения (247). Всем лучшим людям – место в одной церкви; чтобы объединить их, нет нужды в правилах, догмах, внешних узах, потому что высшее начало над их головами незримо соединяет их. К чему оковы школы? Внутреннее очищение – вот первое и последнее таинство, а внешняя форма пусть остается любой, чтобы напрасно не ограничивать число избранников. И пусть общим делом станет лишь одно – раздувать спящие искорки высшего и поддерживать огонь, если он затухает (248). [30.–31.] Теперь все совсем иначе: мир был простиравшейся в неопределенность безбрежной плоскостью, а теперь стянулся в шар, великие народы поднялись словно мощные горные хребты, строй всякого возносит свою лысину в облака, царское величие сделалось неприступным для народа и со своих высот устремляется взором в необозримую даль, и если внешне мир сжался в одну огромную единую массу, то кругозор внутреннего мира расширился, душа стала трагической, лишь сильные впечатления способны тронуть ее, лишь великим чувствам поддается она; а рассудок стал широк, он волен и не знает узды, деятельный, он без труда облетает весь шар земной, а там, где предел ограничивает поле его деятельности, зримо выступила другая, еще более гордая сила – она носит в себе бесконечность и мечтает о бесконечности иной (249). ДРУГИЕ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА «АВРОРА» [21.] «ГИПЕРИОН» И еще одно произведение постепенно забывается неблагодарным временем, занятым забавами, – это «Гиперион» Гёльдерлина (257). Кого хоть раз в жизни до глубины души возмущала порочность века и подлость выдрессированной человеческой породы, носящей ярмо на шее, кто поражался глубине падения, когда наследники богов пасутся среди животных полевых, обратив лицо свое к земле, всегда к земле, и выщипывая себе самое скудное пропитание, кто когда-либо чувствовал, как гнетет, как давит его душу непостижимое смятение умов, когда весь человеческий род блуждает, колеблясь из стороны в сторону, не находя дороги, словно пораженный куриной слепотой <…>; кто наблюдал, как вслед за тем разгоралось в его душе высокое пламя энтузиазма, кто, полагаясь на бесконечность сил, какую чувствовал в себе, бросался в самый водоворот, чтобы во что бы то ни стало воспротивиться ему, чтобы усмирить бешеную бурю своим живым дыханием, <…> кто чувствовал, что силы, взбешенные его упорством, сжимают вокруг его шеи железные когти, стремясь задушить его, <…> и кто не испытывал такой любви, какая спасла бы его из рук немилосердных, – тот обретет в Гиперионе брата и, обнимая его, с удивлением убедится в том, что держит в руках своих все свое прошлое; вся протекшая и, как полагал он, давно уже отмершая жизнь с какой-то поразительной торжественностью выступит ему навстречу и вернет ему все испытанные уже и, как казалось, давно развеянные по ветру, рассеянные, увядшие чувства, а за это потребует от него все настоящее и все будущее (258). Гиперион и Алабанда – <…> могучие герои, что проходят по земле, пылая гневом, чтобы очистить ее от драконов и кровожадных злодеев зверей; <…> Задуманное ими быстро терпит крах, и подвиг их теряется в песке по вине их соратников, коварных и порочных людей. А Диотима! Цветок небесный, она выросла среди луговых цветов, она должна питаться бальзамом их аромата, чтобы ее земные силы крепли, чтобы дух ее не оторвался от тела; но ее восторгает энтузиазм возлюбленного, и она поднимает голову в высоту эфира и вдыхает ветер неба, – только этот газ, слишком чистый, быстро пожирает ее жизнь, она сгорает, пламя устремляется ввысь, а цветок роняет головку и увядает! Не было любви, которая спасла бы, – страшные когти задушили вас. Гиперион, душа которого полнилась предчувствиями, сам предсказал свою судьбу в таких словах: «Видеть ваших поэтов, живописцев, всех, кто чтит еще гений, любит, лелеет красоту, – это зрелище разрывает мне сердце. Благие, – они в мире живут словно чужестранцы в собственном дому, они подобны страдальцу Улиссу, сидящему на пороге своего дома в рубище нищего, между тем как бесстыдные женихи шумят в зале, вопрошая: «Кто подослал нам нищего бродягу?» Исполненные любви, ума, надежд, возрастают в немецком отечестве ученики Муз, – взгляни на них семью годами позже, и ты увидишь: они бродят по земле безжизненными хладными тенями, они словно почва, которую усыпал враг солью, чтобы никогда не взошло на ней ни былинки, когда же они заговорят, горе тому, кто поймет их! Горе тому, кто и в бурной мощи титанов и в искусстве перевоплощения, достойном Протея, увидит лишь отчаянную борьбу, которую их прекрасный дух, навеки ущербленный, ведет с окружающими его варварами». Сколько сдерживаемой горечи во всей этой поэме, в которой ищет для себя выход глубоко скрытое, гложущее душу возмущение, – оно рано или поздно сломает самые пружины жизни (259). НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ КНИГИ (Предисловие) Сочинения, о которых пойдет у нас речь, захватывают производимым ими воздействием не более не менее, как всю народную, в собственном смысле этого слова, массу. Ни с какой стороны литература никогда не обретала большей широты и столь всеобщего распространения, нежели тогда, когда, вырвавшись из замкнутого круга высших сословий, она проникла к низшим классам, зажила среди них и вместе с народом стала народом – плотью от его плоти, жизнью его жизни (269). Так и составляют они в известном смысле коренную часть нашей литературы, ядро ее своеобразия, глубокий фундамент ее физического бытия <…> (270). Ведь можно думать, что всякому сословию присущ известный идеальный характер, – в высших сословиях этот характер стремится к большему, в народе он, скорее, скрыт во плоти, но все еще совершенен. Телесное здоровье есть нечто столь же завершенное в себе и досточтимое, что и внутренняя гармония духа, – одно всякий раз обусловлено другим (272). Взвесив все, мы уже не сочтем идею народной литературы столь ничтожной и не заслуживающей внимания, как поначалу. После того как мы установили существование внутреннего духа, присущего всем сословиям, <…> нам ближе стала мысль о том, что во всеобщем круговращении идей и самые низшие сферы что-то да значат и что-то да весят и что в обширном государстве литературы тоже есть своя палата общин, в которой заседают непосредственно представители народа. А если действительно существует круг таких сочинений, которые признает и почитает гений перечисленных нами народов, которые санкционирует каждое новое поколение, которые нравятся лучшим, которые не выпускают из рук и которых постоянно требует народная масса, то мы поступим умно, если не станем судить о них пренебрежительно <…> (273). «ВОЛШЕБНЫЙ РОГ МАЛЬЧИКА» Рог мальчика умолк, уносится вдаль звон колоколов, затихли инструменты, и закончился песенный круг; те же, что внимали чудесным звучаниям, сходятся и обсуждают между собой услышанное. Не было новым столь тронувшее их души; старые, полузабытые звуки – словно написанное симпатическими чернилами проявилось перед ними в тепле; словно струя мягкого материнского молока, лились эти песни в ранней жизни, словно чистая и прохладная горная вода из сосцов Земли; повзрослев же, люди сами сварили себе ячменную брагу, да заправили ее горьким хмелем критики – и позабыли о старом свежем напитке. А жестокий шум мира еще прежде заглушил поющие голоса, – лишь отдельные, неясные звоны, неразборчивые, невнятные, доносились до них словно сквозь сон, звуча отголосками эха в глубинах памяти; даже люди, глубоко сроднившиеся с ними, едва в силах были вспомнить прежнее, и ходили между ними, и не узнавали их, и смотрели на них свысока, и пренебрежительно не замечали их. Отрок сказал свое слово, и чары рассеялись, занавес, отделявший детство и зрелость людей, поднялся, – открывшееся темное пространство теперь освещено, и выступили сказочные времена человечества, заполненные самыми разными персонажами (298). Все, что ни делает человек, таково – он дает будущему, берет у прошлого (302). В могильных курганах и по сию пору находят среди костей золотых пчел, и шпоры, и перстни, но только все это распадается в прах, едва соприкоснувшись с лучом света. Лишь отдельные интонации, некоторые основные аккорды древних песнопений живы, и мы утверждаем: в народной поэзии они слышны отчетливее всего. Ведь такая поэзия распространена шире любой иной, и точно так же и во времени достигла она наибольшей глубины – мощным корнем она вертикально уходит вниз, в глубины времени, тогда как благородная поэзия больше расходится своими корешками по горизонтали, под самой поверхностью земли. <…> Пока не было замкнутых поэтических школ, вся народная масса принимала в свою среду поэтов, и они были лишь устами народной поэзии, потом поэты отделились от массы, но все крылатыми посланцами сновали песни поэтов между поэтами и народами, но напоследок школа поэтов вскарабкалась уже в такие выси, что народ по большей части попросту потерял их из виду, но только от этого древние песнопения не умолкли, а, напротив, народ, положившись на себя, пожалуй, еще умножил их число (304). Вместе с модами индивидуальная поэзия высших сословий стала проникать в народ, в пестром хаосе плавают вперемежку оперные арии, баллады, песенки из альманахов, и ничего уже народного, характерного не выделить нам в народном пении, за исключением того, о чем мы говорили, за исключением пережитков древних песнопений. Поэтому издатели «Волшебного рога» и заслужили себе венок из дубовых листьев тем, что сделали для своего народа, – они спасли от гибели то, что можно еще было спасти (306). В истинной, то есть одновременно поэтической, истории вообще не ведется счет ни годам, ни векам, если не было, пока длились они, ни единой минуты вдохновения (308). [II.] Если немцы не хотят, чтобы реальность их существования совершенно уничтожила их внутреннюю поэзию, само ядро их бытия, им надо поступать так, чтобы лучшая часть их натуры постоянно обличала случайно сложившиеся, внешние условия существования, – только тогда они смогут рассчитывать на то, что сумеют оправдаться перед историей, как поступали другие народы, и она простит им их теперешнее отсутствие на исторической сцене. Конечно, поэзией не изгонишь чужую силу, зато благодаря поэзии силе можно противопоставить силу; и в самой большей беде человек еще не погиб, если его душа сохранила способность резонировать, подобно музыкальному инструменту, – деревянная же, не ведающая внутреннего звона натура навеки останется в услужении у насилия, потому что так решила сама природа. Поэтому, если в народе сохранилась такая полнозвучная, звонкая и насыщенная внутренней энергией поэзия, это утешительно; внутреннее качество такой поэзии само свидетельствует о ее правдивости, а что стала она поэзией народной, доказывает, что истина ее сохраняет не только индивидуальное значение для поэта, но что во всей массе народной отыскалась общая черта, слившая в нераздельности поэта и народ (309). О СОЧИНЕНИЯХ ЖАНА ПОЛЯ ФРИДРИХА РИХТЕРА То же, что мы разумеем под хорошим вкусом, есть нечто куда более высокое, чем … эстетическая игра в выискивание бородавок, – это твердый внутренний такт, тонкая, откликающаяся на малейшее прикосновение эссенции нервов, твердое чувство верного, подобающего, прекрасного, не обманывающее никогда, – короче говоря, эстетическая совесть, каковая творит, не ведая правил, и сама же дает себе законы, – точно так, как нравственная совесть непосредственно, не пользуясь никаким каноном, осуществляет начала добродетели, а философская совесть осуществляет истину, не пользуясь никакой логикой. С этой стороны Жан-Поль может померяться с любым, с самым лучшим поэтом, – ни один не превзойдет его в его прекрасной, возвышенной и вдохновенной жизненной грации, не превзойдет в нежности любых звучаний чувства, поднимающихся от земли так, как если бы они были колокольчиками гармоники, – никто не превзойдет его ясных и светлых звучаний, на которые откликаются самые глубокие струны души (338). КЛЕМЕНС БРЕНТАНО ГОДВИ Тот второй, глава восьмая Нас всех тронула песнь Фламетты. Лишь Годви не высказался ясно. Вообще мне показалось, что он словно заключает в себе особый инструмент, а потому всегда одинаково взволнован. Всю свою жизнь он посвятил прекрасному воспоминанию, и если что-то его трогает, так это касается его душевных струн воспоминание; суждения же его всегда здравы и оригинальны. Оригинальность состоит в едином цельном впечатлении души, призвук которого всегда слышится в его суждениях и налагает на них печать его личности (346). [II.] Том первый. Леди Ходфилд – Вердо Зенне Именно индивидуальность и трогает нас так, ибо многообразие связано в ней до полной неузнаваемости и отдельное выступает перед нами куда более колоссальным и странным, и мы волнуемся, ибо видим, что перед нами и с нами живет то самое, благодаря чему мы живы, то, в чем мы живы. Я радуюсь прекрасному дитяти, как радуюсь прекрасному творению искусства, и оба вида красоты взаимосвязаны в моей душе, и я еще более способна радоваться первому виду ее. Чем более завершена в себе выражающаяся в творении отдельная сторона божественного, тем легче, безболезненнее дается взгляду переход от одиночества индивида к полноте жизненных связей, чем прекраснее творение, тем чище, тем совершеннее выставлена в нем, как напоминание, односторонность чувства, позволяющая нам не скорбеть об отсутствии целого (355). Люди, одаренные способностью жить, и я в том числе, вечно сражаются с упорядоченной, правильной жизнью. Они созданы, чтобы просто жить и существовать, не для государства (357). В поэзии творение предоставлено самому себе, и созидающая его сила создает сама себя, ибо поэтическое творение есть вся энергия своего создателя. В ней фантазия жаждет, творение исполнено энергии воображения. Пластическое творение поэзии относится к идеалу, как язык к мышлению, а в живописи – как краски, как облик целого к мысли. Я могу ощущать в себе идеал в предельно сжатой форме, могу предельно расширять, развертывать его в поэзии, ибо слову присущи звучание и цвет, а звучание и цвет обладают обликом, формой (358). ЛЮДВИГ АХИМ ФОН АРНИМ О НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ Я изложу немало наблюдений, относящихся к различным временам, к различным областям; все они свидетельствуют о том, что только народные песни и бывают по-настоящему услышаны, – все же остальное, во все времена, проходит мимо ушей. <…> То, что я называю нашим временем, что во всех нас живет как направляющая нить и не удивляет никого, – это для меня в мире воспоминаний начинается с церковных песнопений, я их давно не слыхал, но не позабыл (377). Теперь же я должен сказать, что эти песни были мне большим подспорьем, противодействовали тогдашней тяге к болезненности, к умиранию <…>, в них было что-то настоящее, как в здоровом смехе от души (378). Что же происходит, что творится?.. Ничего?.. Всегда одно и то же: лукавый тщится уподобить мир себе, все в мире сравнять, все обречь мерзости, разрушить все, что привязывает человека к почве отечества покрепче, нежели огород, где он ковыряется с лопатой в руках. Ведь уже мысль: вот почва, на которой мы плясали, на которой скакали в упоении, радуясь жизни, – ведь сама эта мысль такова, что думающий так будет строить прочно, будет строить вдохновенно для себя и для потомков, а у того, в ком нет такого умения строить, у того нет и отечества (391). <…> вообще к старинным народным книгам до сих пор обращались либо невежественные дельцы, либо правительства, – последние по собственному произволу то препятствовали их распространению, то запрещали их совершенно, так что можно только удивляться тому, что, будь то случайно или по воле судьбы, так много превосходных, чудных произведений напомнили нам в эти дни о том, что значит чувствовать и ведать, предвидеть и мечтать, что такое народная песня и чем она может вновь стать для нас – высшим и единственным сокровищем для всей страны, для города и для села. Ученые ж тем временем засиделись за изучением своего собственного благородного языка, того самого, который своим благородством надолго отдалил от народа все возвышенное и превосходное; когда ученые поймут, что их стремление совершенствовать замкнутый в себе язык расходится с требованиями подлинной культуры, поскольку ведь язык должен оставаться подвижным, текучим, должен приспособляться к мысли, ибо в нем совершается откровение, излияние ее, – когда они поймут это, им придется либо уничтожить свой аристократический язык, либо сделать его достоянием всех; иначе язык вообще не сможет обогащаться, разрастаться – сам по себе, без какой-либо подмоги извне. Из-за этого разделения языков – вследствие невнимания к лучшей, поэтической части нашего народа – нашей стране и недостает народной поэзии в новейшие времена (398). Возможно, когда нам удастся изведать все содержание наших дней, мы вновь обретем народную поэзию, и это побудит нас доискиваться иных, еще живых отзвуков ее; она всегда спускается к нам ступенями единой извечной лестницы, протянувшейся с небес, – ступени ее эпохи, и по ним нисходят ангелы радуги; они приветствуют всех тех, кто раскалывает дни нашей жизни противоречиями, и примиряют их с нашим временем, они своим прикосновением исцеляют великую рану, протянувшуюся через весь мир – рану, из которой слепо и грозно уставились на нас глаза адской бездны (399). Когда же возродится Германия, кто скажет нам? Кто носит ее в сердце, тот ощущает теперь могучее волнение… Как будто тяжелый приступ лихорадки оставил по себе сухость во рту, и нам снится, будто мы сажаем в землю предлинные волосы и они пускают зеленые побеги и образуют над нашей головой беседку, поросшую цветами, и самые красивые из них сменяют еще и еще более красивые, – так в этих песнях приветствуют нас грядущие времена полнокровного здоровья. <…> Однако глубокое почтение, которое наша эпоха питает к искусству, эти поиски вечного, того вечного, что сами же мы и должны будем произвести, – они обещают нам религию будущего, которая утвердится лишь тогда, когда все мы, построившись на отдельных ступенях возвышенного духа, войдем в нее, – и чтобы сама она вознеслась над нами вдохновенным цветком бытия! Благодаря чувству живого искусства в нас все наполняется здоровьем – и все больное, и вся наша неудовлетворенность тем, что у нас есть, и все эти жалобы на несчастливое время. Мы осмысляем все вокруг и замечаем, что столь многое не отринуло бы нас никогда, если бы мы сами не приступали к делу не с того конца, – так, большая часть мира, вся атмосфера чужого могла бы проплыть мимо нас, не будучи для нас ни слишком тяжкой, ни слишком пленительной и не возымев власти над нами, – не будь в нас страха перед ней. Велико искусство забывать – благодаря ему чума чужеродного сойдет с нашей земли: прочь чужеродное в чужом! На нашей земле устанавливается свой климат: прочь же чужеродное в родном! (403). Если простое и легкое искусство достигает столь многого, то отчего же получается так, что тяжелое, нагроможденное – так называемое «искусство» не достигает ровным счетом ничего? Не может достичь и самого малого тот, кто не стремится к величайшему! Кто творит лишь для себя, высокомерно равнодушный к тому, поймут ли его, понесут ли дальше его искусство, тот, конечно, не способен постичь, понять других. Нечего сказать людям и тому, кто прежде всего хотел бы снискать благорасположение суетливого и вздорного племени критиков, пусть он и полнится словами. Эти двое не устоят на ногах, и не потому, что мир скользкий, как лед, а потому, что они пытаются занять место на обледеневших полюсах его… <…> Пусть каждый задумается о своем месте в мире, и непременно окажется, что каждый необходим другому, что каждый существует в своих астральных связях и каждый – художник, которому есть что сообщить людям, ему одному свойственное во всей вселенной. Но особенно благоприятствуют звезды тому, кто без труда и забот подготовляет важнейшую всеобщую деятельность всех, кто не сеет, но жнет и примером своей богоравной жизни питает всех. Такова судьба человека, теснейшим и глубочайшим образом соприкасающегося с народом (405). Тут многим дано такое, что собственной своей силой способны свершить лишь немногие, – воззвать к миру, собрать рассеянный свой народ, разделяемый наречием, предубеждениями, заблуждениями веры, праздными новшествами; с пением пойдет весь народ под его знаменем вперед, и наступят новые времена. Если знамя и не расшито золотом, а может быть, это всего лишь изодранный парус блуждающего по морям аргонавта или отданный в заклад плащ нищего певца, – кто понесет это знамя, пусть не ищет себе награды, и кто последует за ним, лишь исполнит свой долг, ибо все мы ищем высшего, все мы ищем золотое руно, и богатства нашего народа принадлежат всем: все созданное живым искусством души, все сотканное долгим временем, могучими силами, верой и знанием народными, все, что сопровождает народ в радости и в смерти, – песни, легенды, сказания, речения, истории, пророчества, мелодии. Мы все хотим вернуть народу – все то, что, пока катилось время, доказало свою алмазную твердость, все, что со временем не притупилось, а только сгладилось и отражает своей поверхностью игру красок в мире, все, что сложится в монумент великого народа немцев, и будет то и надгробие древнейших эпох, и памятник настоящему, и для грядущего столп на ристалище жизни (406). О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ РОМАНТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЯКОБ ГРИММ МЫСЛИ О ТОМ, КАК СОТНОСЯТСЯ СКАЗАНИЯ С ПОЭЗИЕЙ И ИСТОРИЕЙ В наше время проявилась великая любовь к народным песням; она привлечет внимание и к легендам, которые бродят среди все того же народа, а также сохранились в некоторых всеми позабытых местах. Или даже лучше сказать (поскольку и легенды могли пробудить интерес к песням): все более живое в наши дни осознание подлинной сущности искусства и поэзии не дало пропасть тому самому, что еще совсем недавно почитали презренным, а теперь как раз наступил крайний срок собирать все подобное (407). В сказаниях народ изложил свои верования, какие таит в себе, верования о природе всех вещей, – народ сливает их со своей религией, которая кажется ему непостижимой святыней, дарующей блаженство. Верования и нравы объясняют характер сказания, с которым они точно согласованы, и наоборот; ни в чем между ними нет злополучного зазора (409). ПИСЬМО ЯКОБА ГРИММА КЛЕМЕНСУ БРЕНТАНО Начало марта 1809 года В своем «Волшебном роге» Вы намеревались дать собрание забытых старых песен, чтобы каждый получал от них удовольствие, чтобы каждый мог их петь и читать, – независимо от того, будут то совершенно забытые народные песни или такие, которые еще поются в народе, или иные стихотворения, какие можно найти в старинных книгах. Плохо одно – что ни Вы, ни Арним то ли не договорились друг с другом, то ли просто не сошлись друг с другом в том, как обращаться с такими песнями. Ни в ком из Вас не было должного исторического уважения к этим песням – одним оно присуще, другим нет. Первые полагают, что если спустя значительное время отбрасывать или произвольно менять старинный напев, то этим ущемляются или вовсе уничтожаются права старинных певцов и всех тех столетий, в которые песня жила, – такое ощущение, как мне представляется, все еще не зависит от какого-либо намерения изучать поэзию исторически (412) Другие же полагают, что поэзия – вольная добыча, так что всякий может обновлять ее, чтобы она была понятна не только своему времени, но также соответствовала вкусу и восприятию современности, поэтому можно даже дополнять фрагменты старого, чтобы они не погибли окончательно, а история поэзии, для которой последний прием совершенно не пригоден, пусть уж особо позаботится о своих целях. Я не отрицаю того, что поэзия свободна, но речь о свободе может идти лишь тогда, когда на старинный сюжет создается новая поэзия, а не тогда, когда старина реставрируется холодным умом, все равно, умело или неумело, или переводится частями и тоже холодно. <…> Правда, Арним, как мне кажется, всегда исходит из верного принципа, он влил во многие песни сильный элемент своей поэзии, даже целиком включил собственные произведения, как и Вы в нескольких случаях, против чего я отнюдь не возражаю, потому что все это очень красивые песни. Беда только, что Арним порой работал слишком легкомысленно, вносил поспешные и совсем не нужные перемены, в некоторых же песнях не менял ничего, хотя в них было не меньше оснований для этого, чем в других. А Вы, не будучи расположены к современному, поступали иначе, чем он, и, искусственно дополняя и расширяя песни, подражали в таких изменениях или в новых песнях старине, чтобы все казалось старинным или, вернее, чтобы новое не мешало старому. Непоследовательность обоих авторов, как и многое внешнее, что касается сохранения устаревших слов, диалекта…– не вижу, как можно извинить все это. Второе критическое замечание – это, бесспорно, то, что Вы нигде не разъяснили свой метод и свой взгляд (413). ИЗ ПИСЕМ ЯКОБА И ВИЛЬГЕЛЬМА ГРИММ КАРЛУ ФРИДРИХУ ФОН САВИНЬИ ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ – САВИНЬИ 15 марта 1809 года Мы сейчас заняты большой работой. А именно оба мы сходимся в том, что создать историю поэзии можно лишь тогда, когда через бесконечные разветвления будут возведены к самому их корню те сказания, из которых (с необходимостью) рождается поэзия, когда ясно станет взору, как воды родника, изливаясь, текли бессчетными рукавами по всем странам и расходились по земле. В соответствии с этим поэзию следует изучать так, как изучают теперь мифологию (Крейцер), то есть должно возвращать всякой земле принадлежащее ей и потом смотреть, какие модификации претерпевала поэзия в каждом из народов, где она всякий раз принимала цвет и облик от неба, под которым цвела. Невозможно поверить – если бы не примеры, – какой почти уже вечной жизнью живут многие сказания, они существовали в самые древние времена и, беспрестанно меняя облик и форму, оставались внутри себя прочными, несокрушимыми, – так и шли они вперед чрез все времена (414). ЙОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ Народная песня наделена основным характером лирики вообще; она не представляет факт, а передает впечатления, произведенные на певца предполагаемыми или кратко обрисованными событиями. От лирики как искусства народная песня отличается непосредственностью и кажущейся бессвязностью, – в ней воспринятое чувство не объясняют и не украшают и не рассуждают о нем, а передают неподготовленно, молниеносно, – словно на лету, без всяких переходов народная песня открывает удивительные перспективы, и там, где этого менее всего ждешь. <…> …народная песня в своем неизменно живом развитии – это поэтическая портретная характеристика индивида-нации (443). Значительное число немецких народных песен относится к XV и XVI столетиям, когда самые начала Реформации и войны с турками произвели в народе необычайное движение и вместе с тем более высокое поэтическое настроение. Основное содержание таких песен – природа и любовь. Любовь здесь – не сентиментальная выморочность, она здорова до мозга костей, порой грубовата и хитро-насмешлива, но чаще всего она благочестива, и это всегда верная любовь. <…> В песнях, посвященных природе, к которым мы причисляем бессчетные охотничьи, пастушеские, разбойничьи и путевые песни, нас нередко поражает самое доверительное, какое бывает только у детей, уразумение всей внешней природы, ее символики, глубокое проникновение в таинственный духовный мир животных (444). ФРАНЦ БААДЕР ИЗ ДНЕВНИКОВ 1786 [VI.] 5 ноября Так называемая чувственная, материальная природа есть символ и копия внутренней, духовной природы. (Всякое деяние бога в живой и так называемой неживой природе, в природе и в Библии семантично, символично, есть исполнение и раскрытие предшествующего и зародыш и печать грядущего. Все в этом Всем есть единство и средоточие, все сплетается одно с другим, и все выплетается одно из другого (536). 1787 [I.] 5 июля Взгляни на природу, на великое чувственное всебытие вокруг! Что за дерзновенная поэма, полная единого возвышенного смысла в своем вечно ином и вечно одном и том же откровении! Великая фабула, с каждым убывающим моментом времени приближающаяся к своему единому и столь же прекрасному, сколь изумительному учению морали. Блажен смертный, кому предчувствие уделило некую толику знания того великого смысла и кто принял дар с трепетом и содроганием. Ибо даровано ему созерцать Незримого – в облачении его. С радостью приступает тогда он к постижению правила природы, ибо повсюду, вверху и внизу, видит он, что содействует оно единой цели. Ибо Бог есть истина, и внутреннее познание истины, любовь к истине, наслаждение истиной есть закон природы для человека. Чем иным мог бы быть разум человека, как не восприятием, как не внятием незримых законов, направляющих и упорядочивающих повсеместно земную персть, как не) слышанием голоса бога, звук которого раздается повсюду, как не чтением – как не чтением по складам его иероглифических письмен?.. И человек как таковой не способен делать ничего иного, как поэтически творить! Воспринять великий идеал бога в природе, стремиться к нему чувством, проникать его чувством – и затем на всем существующем вне его, на всяком слове и деле своем ставить печать своего внутреннего идеала, то есть искаженной, ущербной, нечистой копии того первого, воспринятого им идеала (537). ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Каковы основные проблемы, затрагиваемые в эстетических трудах немецких романтиков? Назовите дискуссионные, на ваш взгляд, вопросы в развернувшейся полемике в связи появлением нового – романтического искусства (литературы). 2. В чем выразилось влияние немецкой романтической эстетики на культурную (литературную) жизнь Западной Европы? ПРИЛОЖЕНИЕ 319 Ш.-О. СЕНТ-БЁВ ИЗ РАБОТ РАЗНЫХ ЛЕТ ШАТОБРИАН В ОЦЕНКЕ ОДНОГО ИЗ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ В 1803 г. [Определение «биографического метода»] I В жизни всегда наступает минута, когда нужно – насколько это возможно – избавить окружающих от затруднительной необходимости гадать на наш счет, когда раз и навсегда нужно раскрыться перед ними полностью. II Литература, литературное творение неотличимы или, по крайности, неотделимы для меня от всего остального в человеке, от его натуры; я могу наслаждаться тем или иным произведением, но мне затруднительно судить о нем помимо моего знания о самом человеке; я бы сказал так: каково дерево, таковы и плоды. Вот почему изучение литературы совершенно естественным образом приводит меня к изучению психологии (40). Познать и познать как можно основательней каждого нового человека, в особенности если человек этот – яркая и прославленная личность, – вот насущное дело, которым отнюдь не следует пренебрегать (41). Великого человека можно наверняка узнать, «открыть» (по крайней мере частично) в его родных, особенно в матери <…>, а также в сестрах и братьях и даже в детях. <…> Возьмите, к примеру, сестер. Одна из сестер Шатобриана, о котором у нас речь, обладала, по его собственным словам, воображением, замешенным на глупости, воображением, которое, должно быть, граничило с чистым сумасбродством; в другой, напротив, таилось нечто неземное (Люсиль, Амели из «Рене»); она обладала утонченной восприимчивостью, мягким меланхолическим воображением, которое ничто не могло нарушить или отвлечь; она сошла с ума и покончила с собой. Свойства, соединившиеся и слившиеся в Шатобриане (по крайней мере в его таланте), пребывавшие в Все фрагменты эстетических работ, вошедшие в Приложение 3, приводятся по изд.: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. / Сост. и общ. ред. Г.К. Косикова. М., 1987. 19 своего рода гармоническом равновесии, оказались несоразмерно распределены между его сестрами (42). разъединены и После того как мы собрали все возможные сведения о происхождении, о близких и единокровных родственниках выдающегося писателя, а также познакомились с его образованием и воспитанием, необходимо определить следующее важнейшее обстоятельство, а именно то первое окружение, ту первую группу друзей и современников, в которой он очутился в пору раскрытия, становления и возмужания своего таланта (43). Люди исключительного дарования не нуждаются в группе: они сами представляют собой центр, вокруг которого объединяются все остальные. Однако именно группа, союз, объединение, активный обмен идеями, постоянное соперничество равных, не уступающих друг другу личностей, – вот что позволяет таланту полностью выразиться вовне, до конца развиться и обрести всю свою значительность. <…> Любое сочинение любого автора обретает весь свой исторический и литературный смысл, обнаруживает подлинную меру своей оригинальности, новизны или подражательности лишь тогда, когда оно рассмотрено и изучено указанным образом, то есть полностью, когда оно помещено в соответствующую рамку, окружено обстоятельствами, сопутствовавшими его появлению, так что в этом случае, вынося о нем суждение, мы не подвергаемся риску приписать ему ложные красоты или совершенно невпопад прийти в восхищение, что неизбежно случается, когда мы руководствуемся чистой риторикой (44). Тот, кто открыл для себя известный талант в его позднюю пору, сумел оценить его лишь в период зрелости или таким, каким он явился в своих последних произведениях; кто не познал этот талант в юности, в момент его раскрытия и роста, – тот никогда не сумеет составить полного и подлинного – единственно живого – представления о нем (45). Но важно не только верно постичь талант в ту пору, когда он впервые пробует свои силы, впервые расцветает и, расставшись с отрочеством, является перед нами уже сложившимся и возмужавшим; есть и иная пора, которую не менее важно принять во внимание, – если только мы желаем постигнуть талант во всей его цельности: это время, когда он начинает подгнивать, портиться, слабеть, сворачивать со своего пути. К каким бы осторожным и деликатным выражениям здесь ни прибегать, а подобное происходит почти что со всеми. <…> Существует бесконечное множество способов и подходов, позволяющих познать человека, то есть нечто большее, нежели один только его ум. Пока мы не задались относительно того или иного автора известным числом вопросов и не ответили <…> на них, мы не можем быть уверены, что знаем этого автора всего целиком, даже если кажется, что вопросы эти не имеют никакого отношения к сути его сочинений. – Каковы были его религиозные взгляды? – Какое впечатление производило на него зрелище природы? – Как он относился к женщинам? к деньгам? – Был ли он богат? беден? – Каков был его распорядок? повседневный образ жизни? и т. д. – Наконец, каковы были его пороки или слабости? Ведь они есть у всякого. Любой ответ на эти вопросы небезразличен для оценки автора той или иной книги или же самой книги – если только это не чисто геометрический трактат, и в особенности когда это литературное сочинение, где личность писателя сказывается вся целиком (46). До некоторой степени можно изучать таланты путем изучения их духовных наследников, учеников и подлинных почитателей. Это уже последнее – из доступных и удобных – средство наблюдения. Сродство душ в этом случае обнаруживает и выдает себя совершенно свободно. Гений – это владыка, собирающий вокруг себя своих подданных. Сказанное применимо к Ламартину, Гюго, Мишле, Бальзаку, Мюссе. Восторженные почитатели – это своего рода соучастники гения: в лице своего великого представителя они боготворят самих себя, свои собственные и недостатки. Скажи мне, кто тебе поклоняется и тебя любит, и я скажу, кто ты. Однако необходимо распознать подлинное, естественное окружение всякого знаменитого писателя и уметь отличать это самобытное ядро, отмеченное печатью учителя, от обычной публики, от толпы заурядных поклонников, лишь повторяющих то, что они услышали от соседей (47). Но если справедливо судить о талантливом человеке по его друзьям и подлинным почитателям, то столь же правомерно судить о нем – судить от противного (ибо дело здесь идет о самой настоящей противооценке) – по его врагам, которых он, сам того не желая, восстановил и вооружил против себя; по его противникам и недоброжелателям, по всем тем, кто инстинктивно не может его переносить. Ничто не позволяет лучше очертить границы таланта, определить сферу и область его влияния, нежели точное знание тех пределов, где вспыхивает мятеж против него (48). ТЭН [Границы научной критики] Всякий подлинный поэт неповторим. Приведу … пример этой уникальной неповторимости таланта. Роман «Поль и Виргиния», несомненно, несет на себе следы своей эпохи; но если бы этот роман не был написан, то возник бы повод доказывать – при помощи целого ряда правдоподобных и убедительных аргументов, – что столь целомудренной книге и невозможно было родиться в развращенном XVIII столетии; создать ее мог один только Бернарден де Сен-Пьер (49). Ибо, повторяю, нет ничего более неожиданного, чем талант, и он не был бы талантом, если бы не был неожиданным, единственным среди множества других, единственным среди прочих (50). МЫСЛИ И МАКСИМЫ *** Касательно критики у меня есть два соображения, которые кажутся противоречащими друг другу, но на самом деле таковыми не являются: 1) критик – это человек, который умеет читать и учит этому всех остальных; (50) 2) критика, как я ее понимаю и какой я хотел бы видеть ее на практике, есть неустанное изобретение и неустанное созидание (51). ИЗ «ДНЕВНИКА» *** Что я хотел сделать в критике, так это придать ей обаяния и в то же время больше – по сравнению с прошлым – реалистичности; одним словом, я хотел внести в нее поэзию вкупе с известной долей физиологии (51). Критика для меня – перевоплощение. Я стараюсь раствориться в человеке, облик которого воссоздаю. Я вживаюсь в него, в самый его стиль, я перенимаю его слог и облекаюсь в него <…>. <…> Для меня становится почти невозможным писать о виднейших авторах нашего времени; уже давно я сужу не об их произведениях, а о самой их личности и пытаюсь постичь их последнее слово. Наблюдения такого рода слишком близко затрагивают человека, а потому и не могут быть опубликованы при нашей жизни. Более всего очарования я нахожу в литературе тогда, когда она создана человеком, не подозревающим о том, что он занимается литературой. Критическое дарование перерастает в гениальность, когда – в гуще революций, совершающихся в области вкуса, посреди развалин отживших, рушащихся жанров, посреди новаций, прокладывающих себе дорогу, – требуется ясно, уверенно, без всякого снисхождения выделить в литературе все удачное, все, чему суждена жизнь, и когда требуется понять, настолько ли велика подлинная оригинальность нового произведения, чтобы искупить его недостатки (52). Я. ГРИММ НЕМЕЦКАЯ МИФОЛОГИЯ <…> Скандинавская мифология так же близка нам, как и скандинавские языки. В них долго сохранялись архаические черты, что позволяет глубже познать природу самого немецкого языка. <…> И если бы я в основу исследования положил скандинавскую мифологию во всей ее полноте, то возникла бы опасность недооценки немецкого своеобразия, которое все-таки в значительной степени должно быть объясняемо из самого себя и, хотя часто имеет общее со скандинавским, во многом противостоит ему. Думается, положение вещей таково, что с ростом наших познаний мы движемся навстречу скандинавской границе и наконец достигнем пункта, в котором можно будет проломить стену, – и обе мифологии сольются в одно большое целое. <…> Наши памятники беднее, но древнее, их памятники моложе и чище; смысл всего этого сводится к утверждению двух вещей, а именно: что скандинавская мифология является подлинной, а следовательно, и немецкая также и что немецкая мифология древняя, а следовательно, и скандинавская также (54). Итак, многое из нашей мифологии пропало безвозвратно; теперь я обращаюсь к тем источникам, которые ее сохранили и представляют собой либо записанные произведения, либо воплощают и поныне живущие обычаи и предания. Первые непосредственно простираются в глубь веков, хотя являются обрывочными и фрагментарными; предания, бытующие сегодня в народе, также держатся на нитях, которые в конце концов непосредственно связывают их с древностью. <…> Совершенство языка готов, контуры их героических преданий позволяют догадываться о широчайшем развитии их древних верований, только что уступивших место христианству <…> По истечении нескольких столетий мы видим, как другие наречия, состоящие в родстве с готским, пришли в упадок, и поскольку с момента обращения большинства племен в христианство прошло уже достаточно длительное время, то, естественно, и в языке и в поэзии язычество оказалось оттесненным еще дальше (55). Наряду с тем, что многочисленные письменные памятники содержат в себе отдельные остатки и осколки древней мифологии, их собственное содержание волнует нас потому, что в них сохранилось множество преданий и обычаев, которые в течение длительного времени переходили от отца к сыну. Насколько верно они передавались из поколения в поколение, насколько точно они сохраняли основные сюжетные нити, – это заметили все и постепенно осознали их огромную ценность <…>. Народные предания нужно, однако, воспринимать целомудренным взором. Кто подходит к ним с предвзятостью, перед тем они сворачивают свои лепестки и их глубочайший аромат остается сокрытым. В них обнаруживается такая способность к богатейшему развитию и цветению, что даже фрагменты их, поданные в своем естественном убранстве, приносят истинное наслаждение, но инородные добавления разрушают их и наносят им вред. Тот, кто осмеливается на подобные добавления, чтобы не скомпрометировать себя, должен глубоко чувствовать невинность народной поэзии в целом, подобно тому как тот, кто намеревается придумать одно лишь слово, должен быть посвящен во все тайны языка (56). Из народных преданий совершенно справедливо выделяют сказки, хотя они во многом перекрещиваются между собой. Более свободная и менее скованная, чем легенда, сказка не нуждается в привязке к определенной местности, которая свойственна легендам и преданиям, ограничивая их и в то же время придавая им черту достоверности. Сказка летает, легенда передвигается пешком, стучась в двери дорожным посохом, сказку можно сотворить свободно из одной поэзии, легенда же имеет наполовину историческое обоснование. Отношение сказки к преданию такое же, как отношение предания к истории и, можно было бы добавить, как отношение истории к действительной жизни. <…> Старинный миф до определенной степени объединяет свойства сказки и легенды, ничем не сдерживая свой полет, он в то же время может осесть в той или иной местности. <…> Не народные предания, а сказки заключают в себе множество черт, близких к мифам о богах, и там и здесь часто выступают звери, и мифы переходят в древний животный эпос (57). Ядро всякой мифологии составляют божества: у нас они были почти утрачены, и мы буквально должны были выгребать их из земли. Их следы частично сохранились в дошедшую до нас рунах, которые представляли собой едва ли не пустой звук; частью же, в изменившемся виде, они сохранились в текучем, но более полном народном предании. В последнем сохранилось больше имен богинь, в первых – богов (58). При более пристальном рассмотрении почти все отдельные божества выступают как порождения и расчленения одного-единственного: боги – в качестве неба, богини – в качестве земли, первые – как отцы, вторые – как матери, первые – творя, управляя, руководя, держа в своих руках победу и блаженство, воздух, огонь и воду, богини же – давая пищу, прядя, обрабатывая поле, прекрасные в убранствах, любящие (59). У всех племен немецкого народа обнаруживаются многочисленные диалектные отклонения, которые все в равной степени достойны внимания; так же следует воспринимать и многочисленные расхождения в народных верованиях: здесь трудно лишь объединить отношения в пространстве с отношениями во времени. <…> Кажется, что по самой природе своей каждому народу дано свойство самоограждения и противостояния чуждым воздействиям. Языку, эпосу привольно лишь в родном кругу, и пока они соприкасаются со своими берегами, поток расцвечивает их краски. Из этой сердцевины исходит развитие, исполненное внутренней силы и глубочайших порывов, и в нашем древнейшем языке, поэзии и сказаниях мы едва ли обнаружим чуждые примеси. Но любой поток не только впитывает в себя ручьи, которые с гор и холмов несут ему свежую воду, он и сам в конце концов вливает свои воды в широкое море: народы граничат с народами, дружеское общение, войны и завоевания сплавляют их судьбы воедино. Из этих смешений может возникнуть нечто неожиданное, когда приобретения могут быть не меньше потерь, которые заключаются в подавлении отечественного элемента. Если язык, поэзия и вера наших предков ни в какое время и нигде не могли противиться чужеземному напору, то особо потрясающую перемену они испытали с переходом народа к христианству (60). Наша ученость, изменившая родине, привыкшая к чужеземному блеску и образованности, перегруженная иностранными словами, очень скудно знала свое, отечественное, была готова подчинить мифы нашей древности греческим и римским, как более высоким и более значительным, и отрицала самостоятельность германской поэзии и саги <…>. Наблюдая подобные замечательные соответствия, истоки которых следовало бы искать в глубокой древности, ученые стремились, как бы искусственно все это ни выглядело, во что бы то ни стало найти следы позднейших заимствований и тем отказывали родине во всякой силе и всякой способности созидания (61). Применительно к греческой и римской мифологии мы считаем очевидным, что при всем сходстве они не растворяются одна в другой, и это еще в большей степени применимо к отношению между германской и римской мифологиями, поскольку греческая литература и поэзия несравненно глубже проникла в римскую, чем латинская повлияла на нашу древность (62). Я полагаю, что миф есть общее достояние многих народов и многие его пути нам еще не известны, но миф соответствует глубинной сути народа, чьих богов он соединяет в строгую систему, – так и слово в языке, общее с другими языками, как правило, можно принять во внимание, если отыскивать корни этого языка. Легенда о Телле не основана на конкретном происшествии, но, невыдуманная и непреложная, она заново возродилась на лоне Швейцарии как подлинный миф, чтобы украсить реальное событие, коснувшееся самых глубин народной жизни (64). Следует отнести к древнейшему мотиву нашей мифологии, что бог, а то и два или три бога спускаются с неба на землю – затем, чтобы испытать нравы и поведение людей или в поисках приключений. Это, конечно, нарушает христианскую веру в вездесущего и всезнающего бога. Но все-таки в высшей степени привлекательна выдумка фантазии, благодаря которой живые и неузнанные боги бродят по земле и заходят к смертным (66). Если все эти разъяснения не были напрасны <…>, то теперь, наконец, я могу попытаться ответить также на вопросы об основополагающих чертах германской мифологии, по крайней мере на некоторые из этих вопросов. Если ее сопоставить с другими, кои прошли свой путь от начала до конца, а именно с греческой, с которой у нее есть существенные общие черты, то она уже потому не выдерживает никакого сравнения, что ее развитие было слишком рано прервано и она не сумела достигнуть того, чего могла бы достигнуть. Язык и поэзия были тоже заметно поколеблены и повреждены, однако они продолжали развиваться и могли возродиться снова; языческое же верование было обрублено в корне, и его остатки сохранились лишь в других обличьях. Оно кажется грубым и неотесанным, но в грубости есть своя простота, а в неотесанности – своя чистосердечность. В нашей языческой мифологии живут представления, в которых прежде всего нуждается человеческое сердце, благодаря им оно остается справедливым, сильным и чистым. Высший бог для него – это отец, хороший отец, патриарх, дедушка, который обеспечивает живущим славу и победу, а умирающих принимает в свое жилище. Смерть – это возвращение домой, обратный путь к отцу. Рядом с богом стоит высшая богиня – мать, мудрая и чистая прародительница, бабушка. Бог величествен, богиня сияет красотой, оба не чуждаются людей: он обучает ведению войн и владению оружием, она учит прясть, ткать, жать, от него начинается поэзия, от нее – предание (68). Среди всех форм божества достойнейшей является монотеистическая как наиболее отвечающая разуму. Она же представляется и самой древней, из чьего лона легко было похищено многобожие и возвышенные свойства одного бога сначала утроились, а впоследствии удвенадцатерились. Такого рода отношения наблюдаются во всех мифологиях <…> почти все боги не равны друг другу в ранге и власти, то превосходя, то уступая один другому, так что они, поочередно находясь друг от друга в зависимости, в конечном счете все вместе должны пониматься как расщепление одного-единственного высшего бога. Тем самым и смягчается то предосудительное, что содержит в себе политеизм. Даже в душе язычника с трудом угасало сознание первоначальной соподчиненности и постоянно оставалась способной пробудиться дремлющая вера в высшего бога (69). Я считаю, что в нашем язычестве не было собственно дуализма. Дуализм, как мне представляется, возник позднее политеизма и не как следствие падения, а под воздействием сознательной и, возможно, нравственной рефлексии. Многобожие терпеливо и приветливо: кто видит перед глазами только небо или ад, бога или дьявола, тот любит сверх меры и жестоко ненавидит (70). Приходится слышать всерьез задаваемый вопрос: существовали ли языческие боги на самом деле? Мне страшно отвечать на этот вопрос. Кто верит в доподлинного дьявола и в ад, те готовы приступить к сожжению ведьм, они же всегда близки к тому, чтобы одобрить подобные действия, потому что им мнится, что они укрепят веру в чудеса церкви доказательствами чуда, которое, как им кажется, состоит в победе над ложными богами как над самыми настоящими противниками и поверженными ангелами. Мне хотелось возвысить отечество, потому что я осознал, что его язык, его право и его древность слишком низко ценятся. Одна работа дополняла другую; находя доказательства одного, я мог доказать и другое, что давало основания здесь, то служило подтверждением и в ином. Возможно, мои книги принесут лучшие плоды в спокойное, радостное время, которое наступит; но они должны были бы уже принадлежать и современности, которую я могу представить себе лишь освещенной лучами прошлого, ибо будущее отомстит ей за любую недооценку древности. Подобранные колосья я завещаю тому, кто, стоя на моих плечах, придет после меня во всеоружии для обозрения и жатвы огромного поля. Берлин, 28 апреля 1844 г. (71). ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Каковы способы и подходы, позволяющие раскрыть личностную структуру человека (его ум, душу, характер, взгляды), в том числе – автора и героя литературного произведения, в эстетической концепции Ш.-О. Сент-Бёва? 2. Чем вызвана, по мнению Я. Гримма, необходимость изучения национальной истории культуры – фольклора и мифологии? 3. Какие существенные общие и национальные черты германской мифологии выделяет Я. Гримм? ПРИЛОЖЕНИЕ 420 ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР [ПРОСВЕЩЕНИЕ И СЛОВЕСНОСТЬ В АМЕРИКЕ] Вашингтон Аббату Джиромачи Вы просите меня подробно рассказать о состоянии словесности и искусств в Соединенных Штатах. <…> В отношении нравственного и интеллектуального развития американцы оказались в особом положении, которого не знала никакая другая молодая нация. Американцы всегда имели настоятельную потребность в цивилизации и при этом не испытывали недостатка в средствах удовлетворить ее (68). О положении писателя можно рассказать в немногих словах. Из всех книг, что здесь печатаются и читаются, лишь некоторые написаны в Америке. Бедность отечественными писателями происходит главным образом оттого, что люди еще не завели обычая добывать пропитание умственным трудом. Соединенные Штаты, вероятно, единственное государство, которое имеет свои учреждения, обнаруживает чрезвычайно характерные черты в своей духовной жизни и при этом в области словесности испытывает зависимость от другого народа. Пользуясь одним языком с англичанами, привыкнув ввозить книги из метрополии, американцы и после революции далеко не сразу переменили характер своих занятий и духовных увлечений (73). Совершенно очевидно, что в отношении художественного вкуса и литературных форм словесность английская и американская исходят из общих образцов. Их совместное достояние составляет творчество всех писателей, которые жили до американской революции, и напрасный труд доказывать, что у американцев меньше прав на Мильтона, Шекспира и других старых писателей, чем у англичан. <…> Впрочем, сегодняшнее состояние американской словесности требует более внимательного рассмотрения (74). Все фрагменты эстетических работ, вошедшие в Приложение 4, приводятся по изд.: Эстетика американского романтизма / Сост., коммент. и вступит. статья А.Н. Николюкина. М., 1977. 20 Общественная печать в Америке сдержаннее английской и решительнее французской. Нравственный облик народа, уважение к личности, в известной степени объясняемые более естественным устройством общества, подготовили отличие американской печати от английского журнализма; свобода, непременный спутник безбоязненных дискуссий, мне кажется, отличила ее от французских публикаций (75). Словесности в Соединенных Штатах предстоит одолеть два серьезных препятствия, прежде чем она, выражаясь коммерческим языком, получит ту же стоимость на здешнем рынке, какую имеет у себя английская словесность. Бывает, что гениальное произведение в самом себе имеет сладостную награду, но, мне кажется, талант нуждается в более солидном вознаграждении – в постоянном и неиссякающем денежном притоке. Если здешним писателям не будет в законодательном порядке обеспечено покровительство, то известное время американская литература еще будет страдать от того обстоятельства, что американский книгоиздатель может безвозмездно пользоваться сочинениями английских авторов (78). Вторым препятствием к развитию американской словесности является скудость материалов. Сравнительно с Европой здесь просто неоткуда их взять. Нет летописей, ждущих своего историка; сатирик не видит заблуждений, кроме пошлых и заурядного свойства; драматург не находит достойных наблюдения нравов; писателю романтического склада не оставлены темные предания; на поживу моралиста нет грубых и дерзких нарушений внешних приличий; нет той наигранной несдержанности, что рождает поэзию (79). Я знаю, есть мыслители, которые считают общественное устройство и учреждения этой страны в существе своем чрезвычайно благоприятными для развития словесности. Однако человеку наблюдательному достаточно провести в Соединенных Штатах один месяц, чтобы убедиться в ошибочности этого представления. <…> Самые глубины истории Америки озарены светом истины; здесь рыцарские подвиги смирялись мудростью божеских законов и даже деяния ее мудрецов и героев воспевались языком, быть может, не многим отличавшимся от языка десяти заповедей. Но сколько бы пользы и достоинства ни сообщало это действительной жизни, гений чувствует себя связанным. Справедливо, что в наши дни в Америке появились молодые поэты, которые научились извлекать аромат из полезных, но совсем не пахучих цветов. Правда, они вынуждены были искать вдохновения в общих законах природы и успех посещал их в зависимости от того, насколько смелое употребление находили они универсальным принципам (80). Еще одна отрасль словесности, в отношении поэзии, безусловно, представляющая низший разряд, – это романы. Из всего сказанного вы без труда поймете, что в Соединенных Штатах судьба не балует романиста. По этой же причине, вероятно, еще продолжительное время нельзя ожидать и расцвета драматических талантов. Но при всем том повести и пьесы уже не новость в американской литературе. <…> Один из американских романистов, уберегший свой талант от забот и интересов сегодняшнего общества, прославлен силой и глубиной мысли. Помнится, еще мальчиком я читал одну его книгу («Виланд»), и, мне кажется, гениальность этого писателя безусловно доказывается тем, что среди тысячи похожих картин, составившихся позже, образы этой книги стоят в моей памяти по-прежнему отчетливо и ярко. Писатель этот (Брокден Браун) снискал глубокое уважение своих соотечественников, и эта слава тем более справедлива, что ни в одном из своих сочинений он не польстил национальным предрассудкам (81). О славе Ирвинга вы и сами имеете представление. Этот писатель в замечательной степени обладает качеством (юмором), которого лишены его соотечественники, и в особую честь ему надо поставить то, что свое дарование он развил в век холодный и сдержанный. <…> Американскому беллетристу приходится бороться с трудностями, о которых я имел случай сказать раньше, но ему играет на руку новизна предмета, не лишенная очарования и вызывающая известный интерес. Задумываясь над этим, я прихожу к выводу, что удача или неудача этих романистов прямо зависела от того, насколько осторожно или, напротив, вольно изображали они характерные обычаи своей страны. Я имею в виду только творческую удачу (82). Театр в соединенных Штатах, вне всякого сомнения, английский по своему духу. И пьесы и актеры английские, исключения редки (83). Но наперекор неиссякаемому потоку британских изданий, вопреки всем трудностям, о которых я вел речь, в Соединенных Штатах все увеличивается число оригинальных сочинений. Усилия таланта и ума повергают тысячи препятствий. Я полагаю, что новые книги будут появляться в возрастающем числе и что им суждено оказать могучее влияние на весь образованный мир. Но об этом в другой раз (84). ЭДГАР АЛЛАН ПО ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА Совершенно ясно, что всякий сюжет, достойный так называться, должно тщательно разработать до развязки, прежде нежели браться за перо. Только ни на миг не упуская из виду развязку, мы сможем придать сюжету необходимую последовательность или причинность и заставить события и особенно интонации в любом пункте повествования способствовать развитию замысла. По-моему, в общепринятом способе построения повествования имеется коренная ошибка. Тему дает или история, или какое-то злободневное событие, или в лучшем случае автор сам начинает комбинировать разительные события для того, чтобы составить простую основу своего повествования и желая в целом заполнить описаниями, диалогом или авторскими рассуждениями те пробелы в фактах или действиях, которые могут постоянно бросаться в глаза (110). Я предпочитаю начинать с рассмотрения того, что называю эффектом. Ни на миг не забывая об оригинальности – ибо предает сам себя тот, кто решает отказаться от столь очевидного и легко достижимого средства возбудить интерес, – я прежде всего говорю себе: «Из бесчисленных эффектов или впечатлений, способных воздействовать на сердце, интеллект или (говоря более общо) душу, что именно выберу я в данном случае?» Выбрав, во-первых, новый, а во-вторых, яркий эффект, я соображаю, достижим ли он лучше средствами фабулы или интонации – обыденной ли фабулой и необычайной интонацией, наоборот ли, или же необычайностью и фабулы в интонации; а впоследствии ищу окрест себя или, скорее, внутри себя такого сочетания событий и интонаций, кои наилучшим образом способствовали бы созданию нужного эффекта. <…> С другой стороны, я сознаю, что автор, способный шаг за шагом проследить свой путь к достижению намеченной цели, – явление отнюдь не частое. Как правило, идеи возникают хаотично, подобным же образом их и выполняют и забывают (111). Что до меня, то я не сочувствую подобной скрытности и готов в любую минуту без малейшего труда восстановить в памяти ход написания любого из моих сочинений; и поскольку ценность анализа или реконструкции, мною желаемой, совершенно не зависит от какого-либо реального или воображаемого интереса, заключенного в самой анализируемой вещи, то с моей стороны не будет нарушением приличий продемонстрировать modus operandi [способ действия (латин.)] которым было построено какое угодно из моих собственных произведений. Я выбираю «Ворона» как вещь, наиболее известную. Цель моя – непреложно доказать, что ни один из моментов в его создании не может быть отнесен на счет случайности или интуиции, что работа, ступень за ступенью, шла к завершению с точностью и жесткою последовательностью, с какими решают математические задачи. <…> Прежде всего возникает мысль относительно объема. Если какое-либо литературное произведение не может быть из-за своей длины прочитано за один присест, нам надо будет примириться с необходимостью отказа от крайне важного эффекта, рождаемого единством впечатления; ибо если придется читать в два приема, то вмешиваются будничные дела, и всякое единство сразу гибнет. <…> Нет нужды показывать, что стихотворение является стихотворением постольку, поскольку оно сильно волнует душу, возвышая ее; а все сильные волнения, по необходимости физического порядка, кратковременны (112). В таком случае становится очевидным, что существует известный предел объема всех литературных произведений – возможность прочитать их за один присест – и что если для некоторого разряда прозаических сочинений, таких, как «Робинзон Крузо» (не требующих единства), пределом этим с выгодою можно пренебречь, то в стихах пренебрегать им никак нельзя. В этом пределе из объема стихотворения можно вывести математическую соотнесенность с его достоинствами; иными словами, с волнением или возвышением души, им вызываемым; еще иными словами – со степенью истинно поэтического эффекта, который оно способно оказать. <…> Имея в виду эти соображения, равно как и ту степень взволнованности, которую я счел не выше вкусов публики и не ниже вкусов критики, я сразу же решил, какой объем будет наиболее подходящим для задуманного стихотворения: около ста строк. Его окончательный объем – сто восемь строк. Следующая мысль была о выборе впечатления или эффекта, которого должно достичь; и тут я могу заодно заметить, что в процессе писания я постоянно имел в виду цель сделать эти стихи доступными всем (113). <…> Наслаждение одновременно наиболее полное, наиболее возвышающее и наиболее чистое, – по-моему, то, которое обретают при созерцании прекрасного. И когда говорят о прекрасном, то подразумевают не качество, как обычно предполагается, но эффект; коротко говоря, имеют в виду то полное и чистое возвышение не сердца или интеллекта, но души, о котором я упоминал и которое испытывают в итоге созерцания «прекрасного». Я же определяю прекрасное как область поэзии просто-напросто по очевидному закону искусства, закону, гласящему, что эффекты должны проистекать от непосредственных причин, что цели должно достигать средствами наиболее пригодными для ее достижения, и никто не был еще столь слаб рассудком, дабы отрицать, что упомянутое выше особое возвышение души легче всего достигается при помощи стихов. Если цель – истина или удовлетворение интеллекта, если цель – страсть или волнение сердца, то, хотя цели эти в известной мере и достижимы в поэзии, но с гораздо большею легкостью достижимы они в прозе. Ведь истина требует точности, а страсть – известной неказистости (подлинно страстные натуры поймут меня), что абсолютно враждебно тому прекрасному, которое, как я настаиваю, состоит в волнении или возвышенном наслаждении души. Из всего сказанного здесь отнюдь не следует, будто страсть или даже истина не могут быть привнесены в стихотворение, и привнесены с выгодою, ибо они способны прояснить общий эффект или помочь ему, как диссонансы в музыке, путем контраста; но истинный художник всегда сумеет, во-первых, приглушить их и сделать подчиненными главенствующей цели, а во-вторых, облечь их, елико возможно, в то прекрасное, что образует атмосферу и суть стихов. Итак, считая моей сферой прекрасное, следующий вопрос, которым я задался, относился к интонации, наилучшим образом его выражающей, и весь мой опыт показал мне, что интонация эта – печальная. Прекрасное любого рода в высшем своем выражении неизменно трогает чувствительную душу до слез. Следовательно, меланхолическая интонация – наиболее законная изо всех поэтических интонаций. Определив таким образом объем, сферу и интонацию, я решил путем индукции найти что-нибудь острое в художественном отношении, способное послужить мне ключевой нотой в конструкции стихотворения, какую-нибудь ось, способную вращать все построение. Тщательно перебрав все обычные художественные эффекты или, говоря по-театральному, приемы, я не мог не заметить сразу же, что ни один прием не использовался столь универсально, как прием рефрена (114). Универсальность его применения послужила мне достаточным доказательством его бесспорной ценности и избавила меня от необходимости подвергать его анализу. Однако я рассмотрел его, желая узнать, нельзя ли его усовершенствовать, и скоро убедился, что он пребывает в примитивном состоянии. В обычном применении рефрен или припев не только используют, ограничиваясь лишь лирическими стихами, но и заставляют его воздействовать лишь однообразием и звучания и смысла. Наслаждение, доставляемое им, определяется единственно чувством тождества, повторения. Я решил быть разнообразным и тем повысить эффект, придерживаясь в целом однообразия в звучании и вместе с тем постоянно меняя смысл: иными словами, я решил постоянно производить новый эффект, варьируя применение рефрена, по оставляя сам рефрен в большинстве случаев неизменным. Установив эти пункты, я далее задумался о характере моего рефрена. Поскольку его применение должно постоянно варьироваться, стало ясно, что сам рефрен должен быть краток, иначе возникли бы непреодолимые грузности при частых смысловых вариациях какой-либо длинной фразы. Легкость вариаций, разумеется, была бы обратно пропорциональна длине фразы. Это сразу же навело меня на мысль, что лучшим рефреном будет одно слово. Тогда возник вопрос, что же это за слово. Решение применить рефрен имело своим следствием разбивку стихотворения на строфы, каждая из которых оканчивалась бы рефреном. То, что подобное окончание для силы воздействия должно быть звучным и способным к подчеркиванию и растягиванию, не подлежало сомнению; все эти соображения неизбежно привели меня к долгому «о» как к наиболее звучной гласной в комбинации с «р» как с наиболее сочетаемой согласной. Когда звучание рефрена было подобным образом определено, стало необходимым выбрать слово, заключающее эти звуки, и в то же время как можно более полно соответствующее печали, выбранной мною в качестве определяющей интонации стихотворения. В подобных поисках было бы абсолютно невозможно пропустить слово «nevermore» [Больше никогда (англ.)]. Да это и было первое слово, которое пришло в голову (115). К тому времени я пришел к представлению о Вороне, птице, предвещающей зло, монотонно повторяющей единственное слово «nevermore» в конце каждой строфы стихотворения, написанного в печальной интонации, объемом приблизительно в сто строк. И тут, ни на миг не упуская из виду цели – безупречности или совершенства во всех отношениях, – я спросил себя: «Изо всех печальных предметов какой, в понятиях всего человечества, самый печальный?» «Смерть», – был очевидный ответ. «И когда, – спросил я, – этот наиболее печальный изо всех предметов наиболее поэтичен?» Из того, что я уже довольно подробно объяснял, очевиден и следующий ответ: «Когда он наиболее тесно связан с прекрасным; следовательно, смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете; в равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходят уста ее убитого горем возлюбленного». Теперь мне следовало сочетать две идеи: влюбленного, оплакивающего свою усопшую возлюбленную, и Ворона, постоянно повторяющего слово «nevermore». Мне следовало сочетать их, не забывая о том, что я задумал с каждым разом менять значение произносимого слова; но единственный постижимый способ добиться такого сочетания – представить себе, что Ворон говорит это слово в ответ на вопросы, задаваемые влюбленным. И тут я сразу увидел возможность, дающую достичь эффекта, на который я рассчитывал, то есть эффекта смысловой вариации (116). Я увидел, что могу сделать первый вопрос, задаваемый влюбленным, – первый вопрос, на который Ворон ответит «nevermore», – что я могу сделать этот первый вопрос обыденным, второй – в меньшей степени, третий – еще менее того и так далее, пока наконец в душе влюбленного, с изумлением выведенного из своего первоначального безразличия печальным смыслом самого слова, его частыми повторениями, а также сознанием зловещей репутации птицы, которая это слово произносит, наконец пробуждаются суеверия, и он с одержимостью задает вопросы совсем иного рода – вопросы, ответы на которые он принимает очень близко к сердцу, – задает их наполовину из суеверия, наполовину от того вида отчаяния, что находит усладу в самоистязаниях; задает их не потому, что целиком верит в пророческую или демоническую природу птицы (которая, как подсказывает ему рассудок, просто-напросто повторяет механически зазубренный урок), по потому, что он испытывает исступленное наслаждение, строя вопросы таким образом, чтобы испытать, слыша ожидаемое «nevemore», горе наиболее сладостное, ибо наиболее невыносимое (117). Тут кстати будет сказать несколько слов о стихотворной технике. Моей первой целью, как обычно, была оригинальность. То, до какой степени ею пренебрегают в стихосложении, – одна из самых необъяснимых вещей на свете. Признавая, что метр сам по себе допускает не много вариаций, нельзя не объяснить, что возможные вариации ритмического и строфического характера абсолютно бесконечны; и все же на протяжении веков ни один стихотворец не только не сделал, но, видимо, и не подумал сделать чтонибудь оригинальное. Дело в том, что оригинальность, если не говорить об умах, наделенных весьма необычайным могуществом, отнюдь не является, как предполагают некоторые, плодом порыва или интуиции. Вообще говоря, для того, чтобы ее найти, ее надобно искать, и, хотя оригинальность – положительное достоинство из самых высоких, для ее достижения требуется не столько изобретательность, сколько способность тщательно и настойчиво отвергать нежелаемое. Разумеется, я не претендую ни на какую оригинальность ни в отношении метра, ни в отношении размера «Ворона». Первый – хорей; второй – восьмистопный хорей с женскими и мужскими окончаниями (последние – во второй, четвертой и пятой строках), шестая строка – четырехстопный хорей с мужским окончанием. <…> Так вот, каждая из этих строк, взятая в отдельности, употреблялась и раньше, и та оригинальность, которою обладает «Ворон», заключается в их сочетании, образующем строфу; ничего даже отдаленно напоминающего эту комбинацию ранее не было. Эффекту оригинальности этой комбинации способствуют другие необычные и некоторые совершенно новые эффекты, возникающие из расширенного применения принципов рифмовки и аллитерации (118). Следующий пункт, подлежавший рассмотрению, – условия встречи влюбленного и Ворона, и прежде всего – место действия. В этом смысле естественнее всего представить себе лес или поле, но мне всегда казалось, что замкнутость пространства абсолютно необходима для эффекта изолированного эпизода; это все равно что рама для картины. Подобные границы неоспоримо и властно концентрируют внимание и, разумеется, не должны быть смешиваемы с простым единством места. Тогда я решил поместить влюбленного в его комнату – в покой, освященный для него памятью той, что часто бывала там. Я изобразил комнату богато меблированной – единственно преследуя идеи о прекрасном как исключительной и прямой теме поэзии, которые я выше объяснял. Определив таким образом место действия, я должен был впустить в него и птицу, и мысль о том, что она влетит через окно, была неизбежна. Сначала я заставил влюбленного принять хлопанье птичьих крыльев о ставни за стук в дверь – идея эта родилась от желания увеличить посредством затяжки любопытство читателя, а также от желания ввести побочный эффект, возникающий оттого, что влюбленный распахивает двери, видит, что все темно, и вследствие этого начинает полупредставлять себе, что к нему постучался дух его возлюбленной. Я сделал ночь бурною, во-первых, для обоснования того, что Ворон ищет пристанища, а во-вторых, для контраста с кажущейся безмятежностью внутри покоя. Я усадил птицу на бюст Паллады, также ради контраста между мрамором и оперением – понятно, что на мысль о бюсте навела исключительно птица; выбрал же я бюст именно Паллады, во-первых, как наиболее соответствующий учености влюбленного, а во-вторых, ради звучности самого слова Паллада (119). Какой-то Ворон, механически зазубривший единственное слово «nevermore», улетает от своего хозяина и в бурную полночь пытается проникнуть в окно, где еще горит свет, – в окно комнаты, где находится некто погруженный наполовину в чтение, наполовину – в мечты об умершей любимой женщине. Когда на хлопанье крыльев этот человек распахивает окно, птица влетает внутрь и садится на самое удобное место, находящееся вне прямой досягаемости для этого человека; того забавляет подобный случай и причудливый облик птицы, и он спрашивает, не ожидая ответа, как ее зовут (120). Ворон по своему обыкновению говорит «nevermore», и это слово находит немедленный отзвук в скорбном сердце влюбленного, который, высказывая вслух некоторые мысли, порожденные этим событием, снова поражен тем, что птица повторяет «nevermore». Теперь он догадывается, в чем дело, но движимый, как я ранее объяснил, присущею людям жаждою самоистязания, а отчасти и суеверием, задает птице такие вопросы, которые дадут ему всласть упиться горем при помощи ожидаемого ответа «nevermore». Когда он предается этому самоистязанию до предела, повествование в том, что я назвал его первым и самоочевидным аспектом, достигает естественного завершения, не преступая границ реального. <…> Можно заметить, что слова: «не терзай, не рви мне сердца» образуют первую метафору в стихотворении. Они вместе с ответом «Nevermore» располагают к поискам морали всего, о чем дотоле повествовалось. Читатель начинает рассматривать Ворона как символ, но только в самой последней строке самой последней строфы намерение сделать его символом непрекращающихся и скорбных воспоминаний делается ясным: И сидит, сидит с тех пор он, неподвижный черный Ворон, Над дверьми, на белом бюсте – там сидит он до сих пор, Злыми взорами блистая, – верно, так глядит, мечтая, Демон; тень его густая грузно пала на ковер – И душе из этой тени, что ложится на ковер, Не подняться – nevermore! (121) НОВЕЛЛИСТИКА НАТАНИЕЛА ГОТОРНА В предисловии к моим очеркам о нью-йоркских литераторах, говоря о большом различии между общим признанием наших писателей и мнением о них меньшинства, я говорил о Натаниеле Готорне следующее: «Так, например, м-р Готорн, автор «Дважды рассказанных историй», не находит признания в прессе и у читателей, и если его вообще замечают, то лишь для того, чтобы «кислой похвалою осудить». Я же считаю, что хотя тропа его не широка и его можно обвинить в маньеризме, в том, что у него для всех сюжетов один и тот же тон задумчивых намеков, однако на этой тропе он обнаруживает редкостный талант и не имеет соперников ни в Америке, ни где-либо еще; <…> Действительно, вплоть до самого последнего времени известность автора «Дважды рассказанных историй» не выходила за пределы литературных кругов; и я, кажется, не ошибся, когда привел его в качестве примера раг ехсе11еnсе [По преимуществу (франц.)] американского таланта, который восхваляют в частных беседах и не признают публично. Правда, в последние год-два то один, то другой критик, побуждаемый справедливым негодованием, высказывал писателю горячее одобрение; (122) а после выхода в свет «Легенд старой усадьбы» отзывы в таком же тоне не раз появлялись в наших наиболее солидных журналах. Но до появления «Легенд» я почти не припоминаю рецензий на Готорна. <…> О нем до последнего времени никогда не упоминали при перечислении наших лучших писателей. В таких случаях газетные рецензенты писали: «Разве нет у нас Ирвинга, Купера, Брайента, Полдинга и – Смита?» <…> Но никогда эти риторические вопросы не заканчивались именем Готорна. Такое непризнание его публикой несомненно объясняется главным образом двумя указанными мною причинами – тем, что он не богач и не шарлатан. Впрочем, только этим оно объясняться не может. В немалой степени его надо приписать и характерной особенности творчества м-ра Готорна. С одной стороны, быть особенным значит быть оригинальным, а подлинная оригинальность есть высшее из литературных достоинств. Однако эта подлинная и похвальная оригинальность состоит не в однообразии, а в постоянном своеобразии – своеобразии, рожденном деятельной фантазией или, еще лучше, непрерывно творящим воображением, которое придает свой оттенок и свой характер всему, к чему оно прикасается, а главное, само стремится ко всему прикоснуться (123). Будь м-р Готорн действительно оригинален, это непременно было бы понято читателями. Но дело в том, что он ни в каком смысле не оригинален. Те, кто называет его оригинальным, имеют в виду только, что своей манерой и выбором тем он отличается от всех известных им авторов, в число которых не входит немец Тик, чья манера в некоторых его произведениях абсолютно схожа с обычной манерой Готорна. Между тем ясно, что условием литературной оригинальности является новизна. Условием ее признания читателем является его чувство нового. Все, что доставляет ему новые и приятные ощущения, он считает оригинальным, а всякого, кто доставляет их часто, считает оригинальным писателем. Словом, звание оригинального присуждается писателю по сумме этих ощущений. Однако я должен здесь заметить, что существует предел, за которым новизна перестает быть оригинальностью, если, как мы это делаем, судить об оригинальности по достигаемому эффекту; это – предел, за которым новизна уже не нова, и тут художник, чтобы остаться оригинальным, опускается до банальности. <…> Учитывая все это, мы поймем, что критик (незнакомый с Тиком), прочитав, один рассказ или очерк Готорна, имеет основания считать его оригинальным; но тот тон, манера или выбор сюжета, который вызвал у критика ощущение новизны, если не во втором, то в третьем и во всех следующих рассказах не только не вызовет его, но произведет обратное действие (124). С несколько неопределенным положением, что быть оригинальным значит быть популярным, я мог бы согласиться, если бы принял то определение оригинальности, которое, к моему удивлению, принято многими, имеющими право зваться критиками. В своей любви к словам они ограничили литературную оригинальность философской. Они считают оригинальными в литературе только те сочетания мыслей, событий и тому подобного, которые действительно абсолютно новы. Ясно, однако, что, вопервых, имеет значение только новизна эффекта, а во вторых, – если иметь в виду цель всякого художественного произведения, а именно удовольствие, – для лучшего достижения этого эффекта надо не искать абсолютной новизны сочетаний, а, скорее, избегать ее. <…> Но оригинальность подлинная – верная своей цели – это та, которая проясняет смутные, невольные и невыраженные фантазии людей, заставляет страстно биться их сердца или вызывает к жизни некое всеобщее чувство или инстинкт, только еще зарождавшиеся, и тем самым присоединяет к приятному эффекту кажущейся новизны подлинное эгоистическое удовольствие. <…> Он с радостью ощущает кажущуюся новизну мысли как подлинную, как возникшую только у автора – и у него самого. Ему кажется, что только они двое из всех людей так думают. Только они создали это. Отныне между ними устанавливается связь, которая освещает все дальнейшие страницы книги (125). Существует род сочинений, которые с некоторой натяжкой можно признать низшей ступенью того, что я назвал истинной оригинальностью. Читая их, вы не говорите «Как оригинально!» или «Это пришло в голову только мне и автору»; вы говорите: «Вот нечто очаровательное и совершенно очевидное», а иногда даже: «Вот мысль, которая, кажется, никогда не являлась мне, но наверняка – всем остальным людям». Подобные произведения (также высокого порядка) принято называть «естественными». Они имеют мало внешнего сходства, но большое внутреннее сродство с истинно оригинальными, если даже не являются, как я уже сказал, низшей ступенью этих последних. Среди пишущих на английском языке они лучше всего представлены Аддисоном, Ирвингом и Готорном. «Непринужденность», которая так часто упоминается в качестве их характерной черты, принято считать кажущейся и достигаемой ценою больших трудов. Однако здесь необходима некоторая оговорка. Натуральный стиль труден только для тех, кто и не должен за него браться, – для ненатуральных. Он рождается, когда пишут с сознанием или инстинктивным чувством, что тон, в любой момент и при любой теме, должен быть тот, каким говорит большинство человечества. <…> «Специфичности», или однообразности, или монотонности Готорна независимо от того, в чем эта специфичность состоит, достаточно, чтобы лишить его всех шансов на широкое признание. И уж никак нельзя удивляться отсутствию признания, когда он оказывается однообразен в худшей из всех возможных областей – в той области, которая всего дальше от Природы, а следовательно, от ума, чувств и вкусов широкого читателя. Я имею в виду аллегоричность, которая доминирует в большинстве его сочинений и в какой-то степени присутствует во всех (126). Но явных причин, помешавших популярности м-ра Готорна, недостаточно, чтобы повредить ему в глазах тех немногих, кто посвятил себя книгам. Эти немногие мерят автора иначе, чем читатели: не по тому, что он делает, но в большой степени – и даже главным образом – по тому, какие способности он обнаруживает. В этом смысле Готорн занимает среди американских литераторов место, которое можно сравнить с местом Колриджа в Англии. Эти немногие вследствие известного извращения вкуса, неизбежно вызываемого длительным погружением в книги, не могут считать ошибки ученого человека за ошибки. Эти люди склонны считать неправым скорее читателя, чем образованного писателя (127). Но дело в том, что писатель, стремящийся произвести впечатление на читателей, всегда неправ, когда это ему не удается. Насколько м-р Готорн обращается к читателю, я, разумеется, решать не могу. Его книги содержат много скрытых доказательств того, что они написаны только для себя и друзей. <…> Из всей обширной области прозы новелла предоставляет наибольшие возможности для проявления величайшего таланта. Если бы меня спросили, где гений может с наибольшим успехом приложить свои силы, я без колебаний ответил бы: «в рифмованных стихах, не длиннее того, что можно прочесть за час». Только в этих пределах может существовать высочайшая поэзия. Я обсуждал эту тему не раз и могу здесь только повторить, что слова «длинная поэма» заключают в себе противоречие (128). С другой стороны, слишком короткое стихотворение может производить впечатление живое и сильное, но не глубокое и не длительное. Без сколько-нибудь длительного усилия, без известной его протяженности или повторения редко удается взволновать читателя. Капля должна точить камень. Печать должна неуклонно давить на воск. Беранже сочинял блестящие и острые вещи, затрагивающие душу, но они в большинстве своем чересчур легки, чтобы служить импульсом; они взлетают, как перышки из крыльев фантазии, и от них так же легко отмахиваются. Чрезмерная краткость может выродиться в эпиграмму; однако подлинно непростительным грехом является чрезмерная длина. А если бы мне предложили указать род произведений, который после описанного мною типа стихотворения всего лучше отвечает требованиям гения и всего лучше служит его целям, предоставляет ему наибольшие возможности проявить себя и самую выгодную область для приложения сил, я сразу же назвал бы короткий рассказ в прозе. Мы, разумеется, оставляем в стороне историю, философию и тому подобные вещи (129). Обычный роман не годится по тем же причинам, что и длинная поэма. Поскольку роман нельзя прочесть за один прием, он лишается огромного преимущества целостности. Житейские дела, в промежутках между чтением, меняют или изглаживают впечатления от книги или противостоят им. Достаточно простого перерыва в чтении, чтобы нарушить подлинное единство. В коротком же рассказе автор имеет возможность осуществить свой замысел без помех. В течение часа, пока длится чтение, душа читателя находится во власти автора. Искусный писатель сочинил рассказ. Он не подгоняет мысли под события; тщательно обдумав некий единый эффект, он затем измышляет такие события и их сочетания и повествует о них в таком тоне, чтобы они лучше всего способствовали достижению задуманного эффекта. Если уже первая фраза не содействует этому эффекту, значит, он с самого начала потерпел неудачу. Во всем произведении не должно быть ни одного слова, которое прямо или косвенно не вело бы к единой задуманной цели. Вот так, тщательно и искусно, создается наконец картина, доставляющая тому, кто созерцает ее с таким же умением, чувство наиболее полного удовлетворения. Идея рассказа предстает полностью, ибо ничем не нарушена, – требование непременное, но для романа совершенно недостижимое. В Америке очень мало искусно построенных рассказов – не говоря о других качествах, иногда более важных, чем построение (130). Одним из самых удачных от начала до конца рассказов, какие мне встречались, является «Джек Лонг, или Выстрел в глаз» Чарлза У. Веббера, помощника м-ра Колтона в редакции «Американского обозрения». По искусности построения рассказа Уиллис превосходит всех американских писателей, кроме м-ра Готорна (131). ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП Говоря о поэтическом принципе, я не претендую ни на полноту, ни на глубину. Моей главной целью будет в ходе достаточно произвольных рассуждений о сути того, что мы называем поэзией, предложить вашему вниманию несколько мелких английских или американских стихотворений, наиболее отвечающих моему личному вкусу или оказавших наиболее определенное воздействие на мое воображение. <…> Вряд ли стоит говорить о том, что произведение достойно называться поэтическим постольку, поскольку оно волнует, возвышая душу. Ценность его пропорциональна этому возвышающему волнению. Но все волнения преходящи – таково свойство души. Та степень волнения, которая дает произведению право называться поэтическим, не может постоянно сохраняться в каком-либо сочинении большого объема. Максимум через полчаса волнение ослабевает, иссякает, переходя в нечто противоположное, и тогда поэтическое произведение, по существу, перестает быть таковым (132). Можно надеяться, что в будущем здравый смысл столь возрастет, что о произведении искусства станут судить по впечатлению, им производимому, по эффекту, им достигаемому, а не по времени, потребному для достижения этого эффекта, или по количеству «длительных усилий», необходимых, дабы произвести это впечатление. Дело в том, что прилежание – одно, а дар – совсем другое, и никакие журналы во всем крещеном мире не могут их смешивать. <…> С другой стороны, ясно, что стихотворение может быть и неуместно кратким. Чрезмерная краткость вырождается в голый эпиграмматизм. Очень короткое стихотворение хотя и может быть блестящим или живым, но никогда не произведет глубокого или длительного впечатления. Печать должна равномерно вдавливаться в сургуч. Беранже сочинил бесчисленное количество произведений, острых и затрагивающих душу; но, в общем, их легковесность помешала им глубоко напечатлеться в общественном мнении, и, как многие перышки из крыл фантазии, они бесследно унесены ветром (134). Пока эпическая мания, пока идея о том, что поэтические победы неразрывно связаны с многословием, постепенно угасает во мнении публики благодаря собственной своей нелепости, мы видим, что ее сменяет ересь слишком явно ложная, чтобы ее можно было долго выносить, но которая за краткий срок существования, можно сказать, причинила больше вреда нашей поэзии, нежели все остальные ее враги, вместе взятые. Я разумею ересь, именуемую «дидактизмом». Принято считать молча и вслух, прямо и косвенно, что конечная цель всякой поэзии – истина. Каждое стихотворение, как говорят, должно внедрять в читателя некую мораль, и по морали этой и должно судить о ценности данного произведения. Мы, американцы, особливо покровительствовали этой идее, а мы, бостонцы, развили ее вполне. Мы забрали себе в голову, что написать стихотворение просто ради самого стихотворения, да еще признаться в том, что наша цель такова, значит обнаружить решительное отсутствие в нас истинного поэтического величия и силы; но ведь дело-то в том, что, позволь мы себе заглянуть в глубь души, мы бы немедленно обнаружили, что нет и не может существовать на свете какого-либо произведения более исполненного величия, более благородного и возвышенного, нежели это самое стихотворение, это стихотворение per se, это стихотворение, которое является стихотворением и ничем иным, это стихотворение, написанное ради самого стихотворения (136). Питая к истине столь же глубокое благоговение, как и всякий другой, я все же ограничил бы в какой-то мере способы ее внедрения, Я бы ограничил их ради того, чтобы придать им более силы. Я бы не стал их ослаблять путем рассеивания. Истина предъявляет суровые требования, ей нет дела до миров. Все, без чего в песне никак невозможно обойтись, – именно то, с чем она решительно не имеет ничего общего. Украшать ее цветами и драгоценными каменьями – значит превращать ее всего лишь в вычурный парадокс. Борясь за истину, мы нуждаемся скорее в суровости языка, нежели в его цветистости. Мы должны быть просты, точны, кратки. Мы должны быть холодны, спокойны, бесстрастны. Одним словом, мы должны пребывать в состоянии как можно более противоположном поэтическому (137). Тот, кто просто поет, хотя бы с самым пылким энтузиазмом и с самою живою верностью воображения, о зрелищах, звуках, запахах, красках и чувствах, что наравне со всем человечеством улыбаются и ему, – он, говорю я, еще не доказал прав на свое божественное звание. Вдали есть еще нечто, для него недостижимое. Есть еще у нас жажда вечная, для утоления которой он не показал нам кристальных ключей. Жажда эта принадлежит бессмертию человеческому. Она – и следствие и признак его неувядаемого существования. Она – стремление мотылька к звезде. Это не просто постижение красоты окружающей, но безумный порыв к красоте горней. <…> Стремление постичь неземную красоту, это стремление душ соответственного склада и дало миру все, в чем он когда-либо мог постичь и вместе почувствовать поэтическое. Конечно, поэтическое чувство может развиваться по-разному: в живописи, в скульптуре, в архитектуре, в танце, особенно в музыке, а весьма своеобразно и широко – в декоративном садоводстве. Но наш предмет ограничивается поэтическим чувством в его словесном выражении. И тут позвольте мне вкратце сказать о ритме. Удовольствуясь высказыванием уверенности в том, что музыка в многообразных разновидностях метра, ритма и рифмы столь значительна в поэзии, что отвергать ее всегда неразумно и отказывающийся от столь необходимого подспорья попросту глуп, я не буду останавливаться на утверждении ее абсолютной важности (138). Быть может, именно в музыке душа более всего приближается к той великой цели, к которой, будучи одухотворена поэтическим чувством, она стремится, – к созданию неземной красоты. Да, быть может, эта высокая цель здесь порою и достигается. Часто мы ощущаем с трепетным восторгом, что земная арфа исторгает звуки, ведомые ангелам. И поэтому не может быть сомнения, что союз поэзии с музыкой в общепринятом смысле открывает широчайшее поле для поэтического развития. Старинные барды и миннезингеры обладали преимуществами, которых мы лишены, и когда Томас Мур сам пел свои песни, то законнейшим образом совершенствовал их как стихи. Итак, резюмируем: я бы вкратце определил поэзию слов как созидание прекрасного посредством ритма. Ее единственный судья – вкус. Ее взаимоотношения с интеллектом и совестью имеют лишь второстепенное значение. С долгом или истиной она соприкасается лишь случайно (139). Но я отнюдь не намерен распространяться о достоинствах того, что я вам собираюсь читать. Стихи неизбежно скажут сами за себя. Боккалини в «Вестях с Парнаса» рассказывает, что однажды Зоил преподнес Аполлону весьма едкую критику на весьма достохвальную книгу, после чего бог спросил его, какие у этого произведения есть достоинства. Критик ответствовал, что обращал внимание лишь на ее изъяны. Услышав это, Аполлон вручил ему мешок непровеянной пшеницы, повелев ему отобрать себе в награду всю мякину. Так вот эта притча очень хороша как выпад против критиков, но я отнюдь не уверен, что бог был прав. Я отнюдь не уверен, что в определении истинных границ долга критики не заключена грубейшая ошибка. Достоинство, особенно в стихах, можно принять в качестве аксиомы: оно становится самоочевидным, стоит только прочитать их надлежащим образом. Достоинства стихотворения перестают быть достоинствами, если их надобно доказывать; а говорить слишком подробно о достоинствах какого-либо произведения искусства равносильно признанию, что они не очень велики. Среди «Мелодий» Томаса Мура есть одно весьма выдающееся стихотворение, и кажется весьма странным, что оно не привлекает должного внимания. Я имею в виду строки, начинающиеся словами: «Олень мой, ты ранен!..» Их напряженная энергия ничем не превзойдена даже у Байрона. В двух строках Мура передано душевное движение, заключающее в себе самую суть божественной страсти любви, – душевное движение, которое, быть может, нашло отзвук в наибольшем числе самых страстных сердец человеческих, нежели любое другое душевное движение, когда-либо воплощенное в словах: Олень мой, ты ранен! здесь дом твой, приди, Склонись, отдохни у меня на груди: Тут сердце, что верно тебе, и рука, И улыбка, что скрыть не могли б облака. На то и любовь, что вовек не пройдет, Будь горе иль счастье, позор иль почет! Виновен ты пусть – твой удел разделю, Каков бы ты ни был – тебя я люблю. Ты ангелом звал меня в радостный миг, И все я твой ангел, хоть ужас настиг. Пройду я с тобой испытанье огнем, Спасу, огражу – или вместе умрем! Последнее время стало модным отрицать у Мура воображение, не отказывая ему в прихотливой фантазии; это различие первым определил Колридж, лучше всех других понимавший огромную силу Мура (144). Из Альфреда Теннисона – хотя я со всею искренностью считаю его благороднейшим поэтом изо всех когда-либо существовавших – я успею прочитать лишь очень небольшое стихотворение. Я называю и считаю его благороднейшим из поэтов не потому, что впечатление, им производимое, всегда наиболее глубоко, не потому, что поэтическое волнение, им возбуждаемое, всегда наиболее сильно, но потому, что оно всегда наиболее воздушно, иными словами, наиболее возвышающе и наиболее чисто. Нет поэта менее земного, плотского. Я собираюсь прочитать вам отрывок из его последней большой поэмы «Принцесса»: В чем, в чем причина этих странных слез? Они высокой скорбью рождены, Идут из сердца, застилают взор, Когда смотрю на ширь осенних нив И думаю про канувшие дни. Свежее первого луча, что пал На парус, приносящий к нам друзей, Грустней луча, который обагрил Все милое, идущее ко дну, Грустны и свежи канувшие дни. Грустны и странны, как в предсмертный час Хор полусонных птиц перед зарей, Когда глазам тускнеющим окно Квадратом, все светлея, предстает, Грустны и странны канувшие дни. Вы дороги, как память милых уст Усопшему, лобзаний слаще вы Придуманных, бездонны, как любовь, Как первая любовь, как совесть, злы, О Смерть средь Жизни, канувшие дни. Я попытался, хотя и весьма поверхностным и несовершенным образом, ознакомить вас с моей концепцией поэтического принципа. Я ставил себе целью изложить вам, что, в то время как принцип этот сам по себе выражает человеческую тягу к неземной красоте, проявляется он неизменно в неком возвышающем волнении души, вполне независимом от опьянения сердца, то есть страсти, или удовлетворения разума, то есть истины (150). MARGINALIA21 [ВСТУПЛЕНИЕ] Приобретая книги, я всегда стараюсь подбирать экземпляры с широкими полями; не столько потому, что они мне нравятся, хотя это и красиво само по себе, сколько ради возможности записывать на них подсказанные чтением мысли, свое согласие или несогласие с автором и вообще краткие критические замечания (153). Заметки на полях, которые делаются без всякого намерения запомнить, имеют совершенно иной вид и не только иную цель, а вообще не имеют цели; это-то и придает им ценность. Они рангом выше случайной и несвязной литературной болтовни – последняя нередко состоит в поспешных устных замечаниях «лишь бы что-то сказать»; тогда как marginalia пишутся обдуманно, потому что в них читатель хочет высказать мысль – пусть несерьезную – пусть глупую – пусть банальную – но все-таки мысль, а не просто нечто такое, что могло бы стать ею со временем и при более благоприятных обстоятельствах. Кроме того, в marginalia мы беседуем только сами с собою, а следовательно, свежо, смело, оригинально, непринужденно, не тщеславясь <…> (154). Ограниченность места для этих заметок также составляет скорее преимущество, чем неудобство. Она вынуждает нас (какою бы расплывчатостью мыслей мы втайне ни страдали) к манере Монтескье, Тацита <…> или даже Карлейля – а эту манеру, как мне говорили, не следует смешивать с обыкновенной аффектацией и плохой грамматикой (154). Главной трудностью представлялось перенесение записей с книг – отделение контекста от текста – без ущерба для крайне хрупкого остова понятности, на котором контекст покоился. <…> В конце концов я решил всецело уверовагь в догадливость и 21 Заметки на полях (латин.). воображение читателя – это является общим правилом. Но в некоторых случаях, когда даже вера не смогла бы сдвинуть гору, наилучшим выходом мне показалось так редактировать заметку, чтобы хоть намекнуть, о чем идет речь. Там, где для этого был необходим и самый текст, я мог его процитировать; где нельзя было обойтись без заглавия книги, которая комментировалась, я мог его привести. Словом, подобно герою романа, стоящему перед дилеммой, я постановил «руководиться обстоятельствами» за неимением более надежного руководства. Что касается разнообразия мнений, высказанных в прилагаемом наборе всякой всячины, моего нынешнего согласия с каждым из них – или несогласия с частью их – возможности изменения моих взглядов в некоторых случаях – или неизбежности их изменения во многих случаях, то обо всем этом я не скажу ничего, ибо ничего умного тут не скажешь. Следует только заметить, что если достоинство настоящего каламбура прямо пропорционально его невыносимости, то подлинным смыслом заметок на полях является их бессмысленность. [ТЕННИСОН] Я не уверен, что Теннисон не является величайшим из поэтов. Только неопределенность общепринятого понятия «поэт» мешает мне доказать, что он именно таков (155). Другие поэты создают эффекты, и порою иначе, чем с помощью того, что мы зовем стихами, Теннисон создает именно такие, какие создаются только стихами. У него одного находим мы стихи как таковые. По тому, нравится или не нравится кому-либо «Смерть Артура» или «Энона», я проверял бы наличие у человека чувства идеального. В его произведениях встречаются места, окончательно утверждающие меня в моей давней мысли, что в подлинной ποίηοις [Поэзии (греч.)] непременно присутствует неопределенность. <…> Я знаю, что неопределенность является составной частью подлинной музыки, то есть подлинно музыкального выражения. Придайте ей излишнюю решительность, пронижите каким-либо определенным тоном – и вы тотчас лишите ее присущего ей возвышенного и идеального характера. Вы развеете ее роскошный сон. Вы рассеете таинственную атмосферу, в которой она существует. Вы уничтожите дуновение волшебного (156). Короткие стихотворения Теннисона содержат достаточно мелких погрешностей в ритме, чтобы убедить меня, что он – подобно всем поэтам живущим и умершим – пренебрег специальным изучением принципов стихосложения; с другой стороны, его чувство ритма вообще настолько совершенно, что он, как нынешний виконт Кентербери, словно видит ухом. [ГЕНИЙ И УПОРНЫЙ ТРУД] Гениальных людей гораздо больше, чем полагают. Ведь для того чтобы вполне оценить творение того, кого мы зовем гением, надо обладать такой же гениальностью, какая его создала. Но человек, способный оценить, может быть совершенно неспособен воспроизвести такое же или подобное творение, и только из-за отсутствия того, что можно назвать созидательной способностью – способностью, никак не связанной с тем, что мы условились называть собственно «гениальностью». Разумеется, эта способность в большой мере состоит из умения анализировать, позволяющего художнику полностью увидеть механизм задуманного им эффекта и таким образом по своей воле управлять им и регулировать его; но многое зависит также от качеств чисто нравственных – например, от терпения, умения сосредоточиться, иначе говоря, долго удерживать внимание на одной цели, от уверенности в себе и презрения ко всем мнениям, которые не более чем мнения, но в особенности от энергии и прилежания. Последнее столь важно, что мы вправе усомниться, могло ли обойтись без него хотя бы одно из «гениальных творений»; почти полной несовместимостью этого качества с гениальностью и объясняется главным образом то, что «гениальные творения» немногочисленны, тогда как гениальные люди, как я уже сказал, имеются в изобилии (157). [НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА] В последнее время много говорится о том, что американская литература должна быть национальной; но что такое это национальное в литературе и что мы этим выиграем, так и не выяснено. Чтобы американец ограничивался американскими темами или даже предпочитал их – это требование скорее политическое, чем литературное, и в лучшем случае спорное. <…> В конце концов единственной законной сценой для литературного лицедея является весь мир Но необходимость такого национального духа, который означает защиту нашей литературы, поддержку наших литераторов, соблюдение нашего достоинства и развитие самостоятельности, не подлежит ни малейшему сомнению. Однако именно в этом мы проявляем наибольшую косность. Мы жалуемся на отсутствие международного авторского права, которое дает нашим издателям возможность наводнять нашу страну британскими мнениями в британских книгах; но когда те же самые издатели на собственный страх и риск и даже с явным убытком все-таки издают американскую книгу, мы с презрением от нее отворачиваемся <…>. Не будет ли преувеличением сказать, что для нас мнение Вашингтона Ирвинга, Прескотта, Брайента ничто рядом с мнением любого анонимного младшего помощника редактора «Спектейтора», «Атенеума» или лондонского «Панча»? Нет, это не преувеличение. Это прискорбный и совершенно неоспоримый факт (158). Каждый издатель в нашей стране признает этот факт. Нет на свете более отвратительного зрелища, чем наше подчинение британской критике. Оно отвратительно, во-первых, потому, что подобострастно, раболепно и малодушно, а во-вторых, потому, что крайне неразумно. Мы знаем, что англичане относятся к нам неприязненно, что они не судят об американских книгах беспристрастно, что в тех немногих случаях, когда в отношении американских авторов соблюдались хотя бы простые приличия, это были авторы, которые либо открыто свидетельствовали свое почтение британским порядкам, либо в глубине души были врагами демократии <…>. Если уж иметь национальную литературу, то такую, которая сбросила бы это ярмо (159). Да, мы требуем национального достоинства. Для литературы, как для правительства, мы требуем провозглашения Декларации Независимости. [РИФМА]| Эффект, достигаемый с помощью удачно расположенных рифм, весьма недостаточно изучен. Обычно под «рифмой» разумеют всего лишь звуковое сходство концов стихотворных строчек, и можно только удивляться, как долго люди довольствовались столь ограниченным пониманием (160). Именно в силу условности, а не какой-либо иной и более важной причины, законным местом рифмы стали считать конец строки – и этим, к сожалению, совершенно удовлетворились. Ясно, однако, что следовало учесть многое другое. До тех пор эффект зависел только от ощущения равномерности, а если она иногда слегка нарушалась, это было случайностью, а именно случайностью существования пиндарова стиха. Рифма всегда ожидалась. Когда глаз достигал конца строки, длинной или короткой, ухо ожидало рифмы. Об элементе неожиданности, иначе говоря, оригинальности никто не помышлял. <…>. Уберите этот элемент необычности, неожиданности, новизны, оригинальности – называйте его как угодно – и все волшебство красоты сразу же исчезнет. <…> Рифма достигает совершенства только при сочетании двух элементов: равномерности и неожиданности. Но как зло не может существовать без добра, так неожиданное должно возникать из ожидаемого. Мы не ратуем за полный произвол в рифмовке. Прежде всего необходимы разделенные равным расстоянием и правильно повторяющиеся рифмы, образующие основу, нечто ожидаемое, на фоне которого возникает неожиданное; оно достигается введением новых рифм, но не произвольно, а так, чтобы это было всего неожиданнее (161). NB. Широко распространено мнение, будто рифма в ее нынешнем виде является изобретением нового времени – но возьмите «Облака» Аристофана. Древнееврейский стих, впрочем, не знает рифм – в окончаниях строк, где они всего виднее, мы не находим ничего похожего. [МОГУЩЕСТВО СЛОВ) Кто-то из французов – возможно, Монтень пишет: «Люди уверяют, будто они думают, а я, например, никогда не думаю, разве когда сажусь писать». Именно эта привычка не думать, пока мы не сядем писать, и является причиной появления стольких плохих книг <…>. Как часто мы слышим, что те или иные мысли невыразимы словами! Но я не верю, чтобы хоть одна мысль, достойная этого названия, была недосягаемой для языка слов. Скорее, я склонен считать, что тот, у кого возникает трудность в выражении мысли, либо не обдумал ее, либо не умеет привести в порядок (162). Существуют, правда, грезы необычайной хрупкости, которые не являются мыслями и для которых я пока еще считаю совершенно невозможным подобрать слова. <…> Они кажутся мне порождениями скорее души, чем разума. <…> Такие «грезы» приносят экстаз, настолько же далекий от всех удовольствий как действительности, так и сновидений, насколько Небеса скандинавской мифологии далеки от ее Ада. К этим видениям я питаю благоговейное чувство, несколько умеряющее и как бы успокаивающее экстаз – вследствие убеждения (присутствующего и в самом экстазе), что экстаз этот возносит нас над человеческой природой,– дает заглянуть во внешний мир духа; к этому выводу – если такое слово вообще применимо к мгновенному озарению – я прихожу потому, что в ощущаемом наслаждении нахожу абсолютную новизну. Я говорю абсолютную, ибо в этих грезах – назову их теперь впечатлениями души – нет ничего сколько-нибудь похожего на обычные впечатления. Кажется, будто наши пять чувств вытеснены пятью миллионами других, неведомых смертным. Но такова моя вера в могущество слов, что временами я верю в возможность словесного воплощения даже этих неуловимых грез, которые я только что попытался описать (163). [ХУДОЖНИК И ЕГО МАТЕРИАЛ] Художник принадлежит своему творению, а не творение – художнику». – Новалис. В девяти случаях из десяти попытка извлечь смысл из немецкого афоризма является чистой потерей времени, а вернее, из них всех можно вывести любой смысл. Если цитированная сентенция утверждает, что художник – раб своей темы и должен подчинить ей свои мысли, то я отвергаю идею, исходящую, как мне кажется, от крайне прозаического ума. В руках истинного художника тема, или «творение», – не более чем ком глины, из которого его воля и искусность могут вылепить что угодно (в пределах, допускаемых количеством и сортом глины). Глина эта является рабою художника. Она принадлежит ему. Разумеется, его гений отчетливо проявляется при выборе глины (164). [О ДРАМЕ] Глубина, о которой так много говорится, чаще находится там, где мы ищем истину, чем там, где мы ее находим. Как вывески средней величины лучше отвечают своему назначению, нежели исполинские, так и факт (а в особенности довод) в трех случаях из семи не замечается именно потому, что чересчур очевиден. Увидеть нечто находящееся под самым нашим носом почти невозможно. Я могу ошибаться – вероятно, так оно и есть, – но тем не менее я считаю, что многое из того, что зовется глубокомыслием, впустую потрачено на вечную тему: упадок драматургии. Если бы меня спросили: «В чем причина упадка драмы?» – я ответил бы: «Упадка драмы нет; она просто отстала от всего остального». Драматическое искусство более всех других подражательно по своей сути и потому рождает и поддерживает в своих служителях склонность и способность к подражанию (165). Словом, в драме в сравнении со всем, что претендует на звание искусства, меньше оригинальности, меньше независимости, меньше мысли, меньше доверия к общим принципам, меньше стараний идти в ногу с временем, больше косности, больше консерватизма, больше окостеневших условностей. Этот дух подражания, развившийся из следования старым и потому неуклюжим образцам, не то чтобы вызвал «упадок» драмы, но разрушил ее, не давая ей воспарить. Драма нынче не пользуется поддержкой по той простой причине, что не заслуживает ее. Старые образцы надо сжигать или закапывать. Нам нужно Искусство, как его сейчас начали понимать: а именно вместо нелепых условностей мы требуем принципов, основанных на Природе и здравом смысле. Даже здравый смысл толпы нельзя каждый вечер безнаказанно оскорблять (166). [ГЕНИЙ И МАСТЕРСТВО] Чем больше в произведении совершенств, тем меньше я удивляюсь, находя в нем большие недостатки. Когда говорят, что в книге много погрешностей, этим еще ничего не сказано, и я так и не знаю, отличная это книга или скверная. <…> Дайте гению достаточно серьезную тему, и результатом будет гармония, соразмерность, совершенство, красота – все это в данном случае является синонимами (168). [ШЕЛЛИ] Если когда-либо смертный «живописал свою мысль», это был Шелли. Если когда-либо поэт пел, как поют птицы – искренне, по велению души, с полной непринужденностью – для себя одного, – этим поэтом был автор «Мимозы». Искусства, помимо того что дается гению интуитивно, у него было мало, или он пренебрегал им. Он в самом деле пренебрегал правилами, выводимыми из закона, ибо законом была сама его душа. <…> Ни в одном из его произведений мы не находим полностью разработанной концепции. Вот почему он является самым утомительным из поэтов. Однако он утомляет не тем, что говорит слишком много, но тем, что говорит слишком мало. Кажущаяся пространность выражения одной мысли на деле оказывается плотным сгустком многих мыслей, и именно эта сжатость делает его темным. Для такого, как он, не могло быть речи о подражании. Это было бы совершенно бесцельным, ибо он обращал свою речь лишь к собственному духу, который не понял бы чужого языка. Таким образом, он был глубоко оригинален (169). Но как бы он ни был темен, своеобразен и причудлив, Шелли был лишен аффектации. Он был неизменно искренен. Возникла «школа» если уж употреблять этот нелепый термин школа свод правил – и это из творчества Шелли, не имевшего никаких правил (170). [ИСКУССТВО] Если бы мне предложили очень кратко определить слово «Искусство», я называл бы его «воспроизведением того, что чувства воспринимают в природе сквозь завесу души». Простое подражание, даже самое точное, тому, что есть в Природе, никому не дает права на священное звание Художника. [ГЕНИИ] Иногда, развлечения ради, я старался представить себе судьбу человека, наделенного, а вернее, проклятого разумом, намного превосходящим соплеменников. Конечно, он сознавал бы свое превосходство; и, конечно, не сумел бы [если бы в остальном был подобен другим) скрыть это сознание. Поэтому он всюду создал бы себе врагов. И поскольку его мнения и суждения сильно отличались бы от всех других, его неизбежно сочли бы за безумца. Какое мучительное положение! Ад не выдумал бы горшей муки, чем обвинение в слабоумии, когда твой ум сильнее всех других. Подобным же образом совершенно ясно, что человек великой души, который действительно чувствует там, где остальные только об этом заявляют, неизбежно был бы всюду неверно понят, и побуждения его неверно истолкованы (171). Тема эта поистине мучительная. Что такие личности, высоко подымавшиеся над общим уровнем, существовали, в этом едва ли можно сомневаться, но чтобы найти в истории следы их существования, надо, минуя жизнеописания «праведных и великих», тщательно искать скудные сведения о несчастных, кончивших жизнь в тюрьме, в доме умалишенных или на виселице (172). РАЛФ УОЛДО ЭМЕРСОН ПРИРОДА <…> Наша эпоха обращена к прошлому. Она возводит надгробия над могилами отцов. Она увлечена жизнеописаниями, историей, литературными штудиями. Люди, жившие до нас, видели бога и природу лицом к лицу; мы не смотрим на бога и природу их глазами. Почему же и нам не обрести исконной связи со вселенной? Почему бы и нам не создать поэзию и философию, основывающиеся на вдохновении, а не на традиции, почему бы и нам не постигать веру через откровение, а не через историю религиозных идей прошлого? Если мы можем на какой-то срок отдаться природе, чьи жизненные потоки струятся вокруг нас и сквозь нас, зовя нас даруемой ими силой к действиям, согласным с природой, почему мы должны блуждать среди сухих костей, облекать живых людей, как на маскараде, в выцветшие наряды прошлого? Ведь солнце сияет и сегодня. Поля еще больше изобилуют льном, пастбища шерстью. Появились новые земли, пришли новые люди, возникли новые мысли. Так будем же требовать наших собственных творений, собственных законов и убеждений. Нет у нас решительно никаких вопросов, на которые нельзя было бы найти ответа. Нужно верить в совершенство творения – верить настолько, чтобы не сомневаться: какого бы рода недоумение ни заронил в пашу душу порядок вещей, оно будет им же рассеяно (178). Условия, в которых протекает существование всякого человека, – это символический ответ на те вопросы, которыми он задается. Он обретает этот ответ в своих действиях, в самой жизни, прежде чем постигает его как истину. Точно так же природа в своих устремлениях, в созданных ею формах уже являет свое предназначение. Погрузимся же в исследование величественного, воздушного мира, что столь мирно простерся окрест нас. Спросим себя: какой цели служит природа? <…> С философской точки зрения вселенная состоит из Природы и Души. Отсюда, строго говоря, следует, что все, отделенное от нас, все, обозначаемое в Философии как «не-я», иными словами, как природа, так и искусство, все прочие люди и собственное мое тело должны быть объединены под именем природы (179). ГЛАВА I Чтобы отдаться одиночеству, человеку сталь же необходимо покинуть свою каморку, как и бежать от общества. Я не одинок, пока читаю и пишу, хотя рядом со мною нет никого. Если же человеку хочется остаться одному, пусть он отдастся созерцанию звезд. Лучи, доносящиеся из этих небесных миров, станут преградой между ним и тем, к чему он прикасается. <…> Звезды пробуждают чувство известного к себе почтения: хотя они всегда с нами, они недостижимы. Однако сходные чувства пробуждает и всякое создание природы, если душа открыта его воздействию. На челе природы не бывает написана низость. И мудрейший из людей не проникает в ее тайну, и любознательность его не иссякает, даже когда ему открывается все ее совершенство. Природа никогда не становилась игрушкой для человека, умудренного духом. Цветы, животные, горы запечатлели мудрость самого светлого его часа, точно так же, как они доставляли ему в детстве наслаждение простотой. Когда мы начинаем так говорить о природе, в душе пашей оживают чувства вполне отчетливые и в то же время в высшей степени поэтические. Мы постигаем цельность впечатления, производимого на нас самыми разнообразными явлениями природы. Вот что отличает бревно, поваленное лесорубом, от дерева, воспетого поэтом (180). Говоря откровенно, лишь немногие взрослые люди способны видеть природу. Большинство из них не замечает и солнца. Во всяком случае, взгляд их очень поверхностен. Солнце лишь касается глаз взрослого, но проникает в глаза и в сердце ребенка. Природу любит тот, чьи обращенные вовне и внутрь чувства по-прежнему подлинно соответствуют друг другу; тот, кто и в зрелом возрасте сохранил дух детства. Общение с небом и землею становится его ежедневной пищей. В присутствии природы человеком овладевает первозданное наслаждение, какие бы горести ни выпадали ему в каждодневной жизни (181). Среди дикой природы я нахожу нечто более для себя дорогое и родное, чем на городских и сельских улицах. В спокойном пейзаже, а особенно в далекой черте горизонта человек различает нечто столь же прекрасное, как собственная его природа. Самое же большое наслаждение, доставляемое полями н лесами, – это внушаемая ими мысль о таинственном родстве между человеком и растительным миром. Я не одинок и не брошен всеми. Растения приветствуют меня, и я шлю ответное приветствие. Качаются под ветром деревья – и это картина для меня и новая и привычная. Она поражает меня необычностью, и все же она мне знакома. Словно бы в ту минуту, когда мне казалось, что я решаю правильно и действую обоснованно, мне вдруг открылась мысль более высокая, явилось более достойное чувство. А ведь несомненно, что способность даровать такое наслаждение заключена не в природе, а в человеке или в гармонии природы и человека (182). В своем служении человеку природа – не только материал, но также и процесс, и его результат. Все в природе непрерывно трудится рука об руку для блага человека. Ветер роняет в почву зерно; солнце выпаривает море; ветер доносит пары до поля; лед, скапливающийся на одном конце планеты, делает более обильными дожди на другом; дождь питает растительность; растения кормят животных, и этот нескончаемый круговорот божественной благостыни дает человеку средства к существованию (183). ГЛАВА Ш КРАСОТА Природа удовлетворяет и более высокую потребность человека – любовь к Красоте (184). Но помимо общей утонченности, проникающей природу, глаз находит нечто приятное и почти во всех отдельных формах, чему свидетельством наше нескончаемое подражание некоторым из них – желудю, грозди винограда, сосновой шишке, колосу пшеницы, яйцу, крыльям и строению большинства птиц, когтям льва, змее, бабочке, морским ракушкам, пламени, облакам, почкам, листьям, формам множества деревьев, ну хотя бы пальмы. Чтобы рассмотреть выражения Красоты более последовательно, разделим их на три группы. 1. Прежде всего наслаждением является простое восприятие естественных форм. Человеку столь насущно необходимо воздействие представленных в природе форм и свершающихся в ней действий, что такое воздействие, если взять самые элементарные его проявления, находится гдето на границе между красотой и пользой. Для тела и души, увядших от вредной работы или общения с дурными людьми, природа целительна; она возвращает им утраченный настрой (185). Жители городов полагают, что сельский пейзаж приятен лишь половину года. Я же черпаю для себя наслаждение в изяществе зимней природы и убежден, что она трогает нас не меньше, чем очарования, щедрой рукой высыпаемые летом. Внимательному глазу любой день года откроет свою красоту; глядя на то же самое поле, он всякий час созерцает картину, какой раньше никогда не видел и больше никогда не увидит. Небо меняется каждую минуту, и его радость или печаль запечатлеваются на простершихся под ним равнинах. Зреет на окрестных полях урожай, и от недели к неделе меняется лик земли. Умеющий наблюдать почувствует даже течение дня, отмечая, как приходят одно па смену другому дикие растения на пастбищах и вдоль дорог: это ведь молчаливые часы, посредством которых время подсчитывает отпущенный лету срок (186). Но эта красота Природы, которую все видят и ощущают как красоту, – лишь самая малая часть ее красоты. Прелестные картины дня, росистого утра, радуги, гор, цветущих садов, звезд, лунного света, теней на тихой воде и тому подобного, если слишком за ними охотиться, станут всего лишь прелестными картинками и будут дразнить нас своим неправдоподобием. <…> 2. Для того чтобы красота была совершенной, необходимо присутствие более высокого элемента, иными словами, духовности. Высокая, божественная красота, любить которую можно без слезливости, – та, которая проступает в единстве с человеческой волей. Красота – это печать бога на добродетели. Любой естественный поступок заключает в себе красоту. Любой героический поступок также благороден, он сообщает свое сияние и тому месту, где он был совершен, и тем, кто при нем присутствовал. Великие дела учат нас, что вселенная – собственность каждого живущего в ней индивидуума (187). В уединенных местах, среди грязи, поступок, продиктованный сознанием истины и героизмом, словно бы притягивает к себе и небо и солнце, и они становятся его храмом, его светильником. Природа протягивает руки к человеку и обнимает его, лишь бы его мысли были не менее величественны. Она радостно следует по его стопам, расцвечивая его путь розами и фиалками, и всем, что есть в ней возвышенного и благородного, венчает свое любимое дитя. Пусть только мысли его будут отвечать ее величию, и тогда найдется рама, достойная картины. Человек добродетельный согласуется с ее творениями, и он становится центральной фигурой во всей видимой земной сфере (188). 3. Красоту мира можно воспринимать под еще одним углом зрения, а именно как красоту, ставшую предметом размышления. Все в мире связано не только с добродетелью, но и с мыслью. Разум ищет абсолютную гармонию вещей, какой она родилась в душе всевышнего, отстраняясь от оттенков, вносимых пристрастием. Способность к размышлению и к действию, кажется, следуют друг за другом, и особенное развитие одной из них ведет к особенному развитию другой. <…> Ничто божественное не умирает. Все, что ведет к благу, вечно воспроизводится. Красота Природы преображает самое себя в сознании – и не только для целей бесплодного созерцания, но и для нового творения. На всех людей в той или иной мере производит впечатление внешность мира, некоторых она даже приводит в восторг. Эта любовь к красоте называется Вкусом. Другие наделены этой любовью с таким избытком, что, не удовлетворяясь просто восхищением, они стремятся воплотить его в новых формах. Созидание красоты есть Искусство. Когда является произведение искусства, проливается свет на тайну человечества. Произведение искусства – это абстракция или воплощение мира. Это результат или выражение природы – в миниатюре (189). Отдельно взятый предмет прекрасен лишь в той мере, в какой он дает ощутить эту всеобщую красоту. Поэт, живописец, скульптор, музыкант, архитектор – все они жаждут сосредоточить лучистую красоту мира в чем-то одном и в различных своих созданиях удовлетворить чувство любви к красоте, побуждающее их к творчеству. Вот что такое Искусство – природа, прошедшая сквозь человеческую призму. В Искусстве природа проявляет свою деятельность через волю человека, полного сознания красоты прежде виденных им творений природы. Мир тем самым существует для души, для того, чтобы она могла утолить свою жажду красоты. Это я и называю высшим его назначением. Не следует искать причин, побуждающих душу жаждать красоты; таких причин нельзя назвать. Красота в самом широком, самом глубоком смысле этого понятия является единственным выражением вселенной. Господь всеблаг. Истина, добро, красота – все это лишь различные проявления единого Целого. Но красота в природе не является конечной. Она – вестник внутренней, сокрытой в душе красоты и сама по себе не составляет прочного, внушающего удовлетворения блага. Она должна быть воспринята как часть, но еще не как последнее и высшее выражение конечной причины в Природе. ГЛАВА IV ЯЗЫК Язык – третье полезное приложение, которое Природа создает для человека. Природа – это двигатель мысли, двигатель в первой, второй и третьей степени. 1. Слова суть знаки естественных явлений. 2. Особые естественные явления суть символы особых духовных явлений. 3. Природа – символ духа. 1. Слова суть знаки естественных явлений. Польза естественной истории состоит в том, что она помогает нам в явлениях сверхъестественной истории; польза внешнего творения в том, что оно дает нам язык, выражающий явления и изменения во внутреннем творении. Любое слово, обозначающее феномен нравственной или умственной жизни, если проследить его корни, было произведено от какого-то имеющего материальное выражение явления (190). Чтобы сказать о чувстве, мы пользуемся словом сердце, чтобы передать мысль – словам голова; мысль и чувство – тоже слова, заимствованные из мира чувственно воспринимаемых вещей и ныне обозначающие явление Духовного характера <…> 2. Однако такое происхождение всех слов, передающих явления духовного порядка, – факт, столь знаменательный в истории языка, – это лишь самое малое из того, чем мы обязаны природе. Не одни лишь слова символичны; сами вещи символичны. Любое явление в природе есть символ какого-нибудь явления духовной жизни. Любая ее картина соответствует какому-то состоянию души, и это состояние души может быть выражено лишь посредством этой картины природы, олицетворяющей его. Разъяренный человек это лев, хитрец – лиса, человек твердых взглядов – скала, просвещенный – светоч. Агнец есть невинность, змея представляет предельную злобу, цветы выражают нежное пристрастие. Свет и тьма давно уже представляют для всех нас знание и невежество, а тепло – любовь. Видимое пространство, открывающееся позади нас и перед нами, – это соответственно наш образ памяти и надежды (191). Нетрудно убедиться, что в подобных аналогиях нет ничего случайного или произвольного; они постоянны и проступают во всей природе. Это не грезы немногочисленных поэтов, разбросанных по земле; человек стремится к аналогиям и открывает родственность во всем, что вокруг него. Он помещен в самый центр бытия, и все другие творения устремляют к нему луч родства. И нельзя понять ни человека без этих других творений, ни другие творения без человека. <…> Инстинкты, свойственные муравью, совершенный пустяк, пока дело идет только о муравье; но едва отсюда протянется луч родства к человеку, и в этом крохотном поденщике начнут видеть наставника, маленькое тельце, в котором заключено могучее сердце, как все его привычки, даже та, что он никогда не спит, – ее, говорят, открыли совсем недавно, – преисполняются высоким смыслом (192). В силу того, что в самом главном существует соответствие между видимыми вещами и человеческими мыслями, дикари, располагающие лишь тем, что необходимо, объясняются друг с другом при помощи образов. Чем дальше мы удаляемся в историю, тем живописнее делается язык; достигнув времени его детства, мы видим, что он весь – поэзия; иными словами, все явления духовной жизни выражаются посредством символов, найденных в природе. <…> У народов, давно идущих стезей цивилизации, можно найти сотни писателей, которые на недолгий срок проникаются верой и заставляют других верить, что они видят и говорят вещи истинные, – но сами они не облекли в естественный наряд ни единой мысли, а лишь, не отдавая себе в том отчета, кормились языковыми запасами, созданными лучшими писателями страны, и именно теми, кто больше всего был близок к природе (193). Человек, говорящий серьезно, увидит, проследив процесс своего мышления, что одновременно с каждой мыслью в его сознании более или менее отчетливо возникает материальный образ, дающий этой мысли одеяние. Вот почему настоящая литература и блестящий образец ораторского искусства представляют собой вечные аллегории. <…> 3. Итак, творения природы помогают нам выразить тот или иной смысл (194). Но должен ли язык быть столь велик, чтобы передать всего лишь эти мельчайшие оттенки? <…> Пока мы пользуемся этим великим шифром лишь для того, чтобы облегчить себе мелочи жизни, мы чувствуем, что не нашли такому шифру, достойного его применения и неспособны найти. Мы похожи на путешественников, радующихся пеплу вулкана, потому что в нем можно испечь яйцо. Понимая, что язык всегда готов предоставить одеяние тому, что мы хотим сказать, мы не можем уйти от вопроса: а не имеют ли заключенные в нем образы значения сами по себе? Лишены ли горы, и волны, и небо всякого значения, кроме того, которое мы в них сознательно вкладываем, прибегая к ним как к символам наших мыслей? Слово заключает в себе символ (195). Родство души и материи – не фантазия какого-то поэта, а веление господа, и поэтому оно должно быть понято всеми людьми. Оно может и являться им прямо, и оставаться скрытым от них. <…> Дух словно бы ощущает необходимость проявлять себя в материальных формах; и день и ночь, река и буря, зверь и птица, кислота и щелочь пресуществуют в душе всевышнего как необходимые Идеи и становятся тем, что они есть, благодаря предшествующим их появлению страстям, кипящим в мире духа. Любой Факт – это осуществление цели или конечное усилие духа. Видимое творение есть завершение или внешний облик невидимого мира (196). Основополагающий закон критики гласит: «Любое сочинение должно быть толковано носителем того же духа, как тот, что дал ему рождение». Жизнь в гармонии с природой, любовь к истине и добродетели очистят взор для того, чтобы стал доступен созданный природой текст. Мало-помалу мы можем узнать самый первичный смысл постоянных явлений природы, и тогда мир станет для нас открытой книгой, и любая форма преисполнится скрытой жизни и конечного назначения. Когда мы с той точки зрения, которая была предложена, смотрим на пугающие многообразие и масштаб творений природы, в нас пробуждается внезапно новый интерес, поскольку «любое творение, сели оно правильно увидено, раскрепощает в душе новую способность». То, что было неосознанной истиной, с той минуты, как оно объяснено и с определенностью выражено в творении природы, становится принадлежностью знания – делается еще одним видом оружия в этом могучем арсенале. ГЛАВА V ДИСЦИПЛИНА Установив значение природы, мы немедленно приходим к еще одному заключению: природа – это дисциплина. Такое понимание слова «природа» включает в себя и все предшествующие в качестве своих составных частей. Пространство, время, общество, труд, климат, пища, передвижение, животные, механические подспорья всякий день преподают нам самые ценные для души уроки, значение которых безгранично. Они воспитывают как Понимание, так и Разум. Любое свойство материи – настоящая школа для понимания: и ее стойкая сопротивляемость, и ее облик, и способность к инерции, растяжению, разделению. Понимание добавляет, разделяет, соединяет, измеряет и находит для своей деятельности простор и пишу на этой благодарной почве. А Разум между тем переносит все эти уроки в собственный свой мир мысли, прозревая аналогию, бракосочетающую Материю и Дух. 1. Природа – это наука, способствующая пониманию вопросов, относящихся к духовной истине (197). Точно также Природа создает в нас все качества, присущие мудрости. Она не прощает ни одной ошибки. Ее «да» означает да, а «нет» – нет. <…> Какое спокойствие, какая умиротворенность снисходят на душу, когда она постигает один за другим законы физики! Какие достойные чувства воодушевляют смертного, когда он становится участником совета, на котором представлено все сущее, и знание даст ему почувствовать, какое это счастье – быть! Прозрение облагораживает его. Красота природы сияет в его собственном сердце (199). Природа во всем служит связующим звеном. Она создана для того, чтобы нести службу. Она принимает на себя область человеческих дел столь же покорно, как ослица, на которой ехал Спаситель. Она предлагает человеку все свои царства в качестве сырья, из которого он может изготовить то, что полезно. Человек никогда не устает обрабатывать это сырье. Его трудами мудрые, звонкие слова делаются одухотворенны, утонченностью и нежностью он дает им крылья, делая их ангелами убеждения и повелевания. Его победоносная мысль овладевает одна за другой всеми вещами и подчиняет их себе, пока мир в конечном счете не превращается в осуществленную волю – и не делается двойником человека. 2. Чувственно воспринимаемые предметы согласуются с велениями Разума и отражают сознание. Все вещи наделены моралью и в своих нескончаемых изменениях все более сближаются с явлениями духовного порядка. И поэтому природа чудесна своими формами, красками, движением. <…> Вот почему природа всегда союзница Веры; всю свою пышность, все свое богатство она отдает религиозному чувству. <…> Нравственное настолько проникает природу, самую ее плоть до конечных глубин, что кажется, в этом и состоит цель, во имя которой природа была создана (200). Велением господа всякое осуществление превращается в новое средство. Так, удобство, взятое само по себе, есть нечто низменное и недостойное. Но для души это средство усвоить доктрину Пользы, согласно которой вещь прекрасна лишь до той поры, пока она служит, что для всего сущего важно согласовывать различное и объединять усилия, чтобы добиться осуществления определенной цели. Первое, грубое проявление этой истины – наше неизбежное и столь ненавистное воспитание, преследующее цель познать ценности и потребности, хлеб насущный и пишу духовную. Уже было показано, что все происходящее в природе, представляет собой своего рода нравственное суждение. Нравственный закон находится в центре природы, и его излучения достигают всех уголков ее царства. Он выступает как сущность всякого вещества, всякого отношения, всякого процесса. Все, с чем мы сталкиваемся, назидает нам. <…> Нравственное воздействие природы на любого человека измеряется правдой, которую она ему открыла. Кто способен определить границы такого воздействия? (201) Здесь мы особенно остро ощущаем то единство Природы единство в многообразии, – с которым сталкиваемся повсюду. Во всем своем бесконечном многообразии вещи производят идентичное впечатление. <…> Лист, капля, кристалл, миг времени связаны с целым и вносят свой вклад в совершенство целого. Любая частица – это микрокосм, и она безошибочно свидетельствует о единообразии мира. <…> Любое создание есть лишь модификация другого создания; сходства между ними больше, чем различия, а основной закон, которому они подчиняются, один и тот же. Закон какого-то одного искусства или какой-то одной организации действен во всей природе. И это Единство столь полное, что, как нетрудно увидеть, оно может быть обнаружено и в самых низших областях природы; оно свидетельствует, что исток его – во Всеобщем Духе. Ибо оно проникает в область Мысли. Всякая всеобщая истина, выраженная нами посредством слов, предполагает всякую другую истину(202). Проникающее природу Единство еще более наглядно проступает в действиях. Слова – конечные органы бесконечной души. Они не могут передать всех граней того, что есть истина. Они разбивают истину, разрубают и обедняют ее. Действие – это завершение и наглядное явление мысли. Правильное действие точно бы не оставляет глазу ничего другого для созерцания, и оно связано со всей природой. <…> Слова и действия – не атрибуты грубой природы. Они позволяют нам узнать человека – форму, по сравнению с которой все другие выступают как формы низшие. Когда среди многообразия, его окружающего, является человек, дух отдает ему предпочтение перед всеми (203). И в отрочестве и во взрослой жизни мы связываем свою судьбу с некоторыми друзьями, которые сосуществуют с нашими мыслями и чувствами, как небо, как вода; которые, соответствуя каждый по-своему тому или иному побуждению души, удовлетворяют наши устремления в таком направлении; которых мы по слабости своей уже не можем отдалить от себя на достаточное расстояние, чтобы глаз мог хотя бы изучить их, не говоря уже о том, чтобы исправлять их недостатки. У нас нет иного выбора, кроме любви к ним. Когда длительное общение с другом дало нам образец подлинно достойный и преумножило наше преклонение перед мудростью всевышнего, который послал на нашем пути реального человека, превосходящего наш идеал; когда тот, более того, стал предметом размышления и, хотя его характер сохраняет способность воздействовать на нас помимо нашего сознания, превратился для души в воплощение несомненной и глубокой мудрости это верный знак, что его миссия близится к концу и что очень скоро он незаметно исчезнет из поля нашего зрения. ГЛАВА VI ИДЕАЛЬНОЕ Таким путем передается человеку, этому бессмертному ученику, через каждый воспринимаемый чувствами предмет невыразимый, но вполне явный и практически важный смысл мира. Этой единой цели Науки служит все, что составляет природу. Душе постоянно ведомо благородное сомнение – не является ли такая цель Конечным Назначением вселенной; существует ли природа сама по себе. Достаточным объяснением той Видимости, которую мы называем Миром, служит то, что господь просветит человеческую душу и тем самым сделает ее восприемником определенного количества сообразных ощущений, называемых нами солнцем и луной, мужчиной и женщиной, домом и ремеслом. Поскольку же в высшем смысле я неспособен проверить истинность сообщаемого мне моими чувствами, установить, соответствуют ли впечатления, которые я по ним составляю о различных вещах, самим этим вещам, – какая разница, существует ли Орион в небесных сферах или он лишь нарисован рукой всевышнего на небосводе души? (204) Поскольку взаимоотношения частей и назначение целого остаются теми же самыми, – какая разница, взаимодействуют ли море и суша, вращаются ли и смешиваются ли один с другим миры, которым нет ни числа, ни конца <…>? Обладает ли природа субстанциальным существованием независимо от человека или же она является лишь откровением души, она точно так же останется полезной для меня и точно так же будет вызывать во мне преклонение. <…> Мы созданы не как корабль, чтобы нас мотало по волнам, но как дом, чтобы прочно стоять на земле. И естественное следствие такой нашей организации состоит в том, что, до тех пор пока способность к действию преобладает над способностью к размышлению, мы негодующе восстаем против любого предположения, будто природа менее долговечна или более изменчива, чем дух. <…> Но если мы полностью признаем постоянство законов природы, вопрос об абсолютном ее существовании остается открытым (205). Чувствам, а также пониманию, если оно не обновлено, мы обязаны своего рода инстинктивной верой в абсолютное существование природы. Если так смотреть на дело, человек и природа связаны нерасторжимо. Вещи приобретают конечный смысл и никогда не выступают за пределы отведенной им сферы. Присутствие Разума подрывает эту веру. Первое же усилие мысли не может не привести к ослаблению этого деспотизма чувств, привязывающего нас к природе, точно мы часть ее, и трактующего природу как отчужденную от нас и точно бы отделенную от нас проливом. <…> Когда открывает глаза Разум, эти очертания, эти поверхности сразу же приобретают благородство и выразительность. Они создаются воображением и страстью и в какой-то мере смягчают резкую отделенность предметов друг от друга. Если развивать способность Разума к более глубокому видению, очертания и поверхности становятся прозрачными и более не просматриваются; в них видно теперь назначение, в них проступает дух. Лучшие минуты жизни те, которые сопряжены с восхитительным пробуждением этих высших способностей, с почтительным преклонением природы перед своим божеством (206). Нам открывается, что величие материальных вещей относительно; все сжимается или возрастает, удовлетворяя страсти поэта. Возьмите его сонеты; в них птицы, запахи цветов, их краски – все это тень его возлюбленной; время, отделяющее возлюбленную от него, – это его грудь, подозрение, возбужденное ею, – убор возлюбленной <…>. Страсть поэта – не порождение случая; когда он говорит о ней, она становится все огромнее, охватывая весь город, всю страну: Но нет, мою любовь не создал случай. Ей не сулит судьбы слепая власть Быть жалкою рабой благополучий И жалкой жертвой возмущенья пасть. Ей не страшны уловки и угрозы Тех, кто у счастья час берет в наем. Ее не холит луч, не губят грозы. [В. Шекспир. Сонет 124; Пер. С. Маршака] <…> Преображение, которое претерпевают все явления материального мира, когда их касается страсть поэта – эта выказываемая им способность обращать в ничтожество великое и возвышать малое, – может быть проиллюстрировано бесчисленными примерами из его пьес (208). Умение прозреть реальную родственность событий (иными словами, идеальную их родственность, ибо она одна реальна) дает Поэту возможность свободно обращаться с самыми стеснительными формами и явлениями мира и тем самым утверждать преобладание души. 3. Если поэт оживляет природу своей мыслью, то единственное отличие его от философа состоит в том, что для этой цели он прибегает к Красоте, а философ – к Истине. <…> Подлинный философ и подлинный поэт неразделимы, цель обоих – красота, которая является правдой, и правда, которая является красотой. Разве очарование какого-нибудь определения, принадлежащего Платону или Аристотелю, не в точности такое же, как очарование софокловской Антигоны? В обоих случаях мы сталкиваемся с одним и тем же; природе сообщается духовная жизнь; (209) ГЛАВА VII ДУХ Для правильной теории природы и человека важно, чтобы она заключала в себе нечто прогрессивное. Полезные приложения, которые уже исчерпаны или могут быть исчерпаны, и факты, которые находят завершение, будучи изъясненными, не могут исчерпать собою все истинное, что относится к достойному жилищу, где обитает человек и где все его способности находят подобающее им и неограниченное использование. И все полезные приложения природы допускают возможность объединения их в нечто одно, что придает деятельности человеческой бесконечный размах. Во всех своих царствах, во всех вещах вплоть до самых дальних их пределов это полезное приложение природы сохраняет верность причине, его породившей. Оно всегда говорит о Духе. Оно наводит на мысль об абсолютном. Оно вечно действенно. <…> Об этой не поддающейся выражению сущности, которую мы называем Духом, тот, кто больше всего над ней размышляет, меньше всего говорит. Мы можем предвидеть бога в грубых, так сказать, отдаленных явлениях материального мира; но когда мы пытаемся определить и описать самого его, нам отказывают мысль и язык и мы столь же беспомощны, как слабые умом и дикари. Эта сущность сопротивляется попыткам выразить ее в виде формулировки (213); но если человек почитает ее в своей душе, самой достойной задачей природы становится служить знамением бога. Природа – тот орган, посредством которого всеобщий дух говорит с человеком и стремится вернуть человека обратно к ней (214). Когда же, следуя по незримым стопам мысли, мы начинаем спрашивать себя, откуда появилась природа и чему она служит, из глубин сознания возникает перед нам не одна истина. Мы узнаем, что самое высокое доступно человеческой душе, что страшная всеобщая сущность, которая не является ни мудростью, ни любовью, ни красотой, ни силой, но всем в одном и в полной мере каждым из названного, – это и есть то, ради чего существуют все вещи, и то, благодаря чему они суть; что дух созидает; что по ту сторону природы существует дух и проникает всю природу; единый, а не распадающийся на составные части, он воздействует на нас не извне, то есть не через пространство и время, но изнутри души, или же через нас самих; и поэтому этот дух, являющийся Высшим Бытием, не создаст природу вокруг нас, но являет ее на свет через нас, подобно тому как дерево являет на свет новые ветви и листья через старые поры. Как растение коренится в земле, так и человек – в груди божией; непересыхающие источники питают его, и если у него возникает в том нужда, он черпает отсюда неиссякаемые силы. Кто может поставить пределы возможностям человеческим? Достаточно один раз вдохнуть воздуха высших сфер, получить возможность созерцать справедливость и истину в их абсолютной природе, и мы поймем, что человеку открыт доступ ко всей душе творца, что он и сам творец, если говорить о конечном (215). ГЛАВА VIII ПЕРСПЕКТИВЫ Когда стремятся познать законы мира и облик вещей, самая высокая причина всегда оказывается самой истинной. То, что видится едва ли возможным, выступает как особенно утонченное, смутное и неясное, поскольку в душе оно глубже всего укоренено среди вечных истин (216). Подлинное дерзание не в том, чтобы изучить всех представителей животного царства, но в том, чтобы понять, откуда появилось и чему служит это всепоглощающее единство лика всего сущего, которое навеки все разделяет и классифицирует, стремясь свести самое многообразное к одной форме. Когда я рассматриваю превосходный пейзаж, для моей цели не столь важно назвать, не ошибаясь, все его элементы в их последовательности, сколь понять, почему всякая мысль о многообразии пропадает, едва является это спокойное чувство единства (217). Всякая догадка, всякое прозрение души заслуживают к себе уважения, и мы приучаемся отдавать несовершенным теориям и суждениям, в которых есть проблески истины, предпочтение перед тщательно продуманными системами, не содержащими, однако, ни одного ценного предположения. Мудрый писатель чувствует, что потребности познания и творчества удовлетворяются лучше всего тем, что будет возвещено открытие новых областей мысли; тогда надежда придаст новые силы впавшему в забытье духу (218). Мы не доверяем нашему чувству симпатии к природе и в глубине души отрекаемся от него. Мы то признаем нашу связь с нею, то разрываем ее. <…> Человек – это рухнувшее божество. Когда люди вернутся к невинности, жизнь станет дольше и будет переходить в бессмертие так же незаметно, как мы пробуждаемся ото сна. Но безумие и неистовство будут царить в мире, если теперешняя неорганизованность сохранится еще несколько сотен лет (219). В наше время человек прилагает к природе лишь половину своих сил. Он трудится над освоением мира, руководствуясь только присущим ему пониманием. Он живет в нем и управляет им, исходя из грошовой мудрости; и тот, кто трудится больше других, составляет лишь половину человека; если у него сильные руки и крепкий желудок, то душа его огрубела, и он стал своекорыстным дикарем. Свои отношения с природой, свою власть над ней он осуществляет через понимание. Природа для него как навоз; он использует к своей выгоде огонь, ветер, воду, морской компас; и пар, и уголь, и химическое удобрение; и ставит заплаты на своем теле у дантиста и хирурга. Такое поддержание своей власти побуждает сравнить человека со свергнутым королем, который клочок за клочком покупает принадлежавшие ему земли, вместо того чтобы одним прыжком вновь очутиться на своем троне. <…> Задача возвращения миру его изначальной и вечной красоты разрешается исцелением души. Те руины, та пустота, которые мы обнаруживаем в природе, на самом деле находятся в нашем собственном глазу (220). Когда душа будет готова приняться за изучение, не потребуется искать для него предметов. Неизменное свойство мудрости – умение видеть чудесное в обычном. Что есть день? А год? А лето? А женщина? А ребенок? А сон? Нам в нашей слепоте кажется, что такие вещи не могут волновать. Мы изобретаем притчи, чтобы скрыть непосредственный смысл факта, и, как принято говорить, «подчиняем его высшим духовным законам». Но когда факт рассматривается в свете идеи, блекнет и увядает кричаще яркая притча. Мы созерцаем закон действительный и более высокий. Для мудрых факт является поэтому настоящей поэзией и самой прекрасной из притч. <…> Ты тоже человек. Тебе ведомы мужчина и женщина, и их жизнь в обществе, и нищета, труд, сон, страх, удача. Научись видеть, что ничто из этого не является чем-то чисто внешним, нет, каждое явление уходит корнями в способности и пристрастия души (221). Так мы придем к тому, что будем смотреть на мир новыми глазами. Будет удовлетворена вечная жажда разума узнать, что есть истина, и жажда страсти установить, что благо; нужно только отдаться в руки просвещенной Воли. И тогда будет принято всеми то, что говорил мой поэт: «Природа не представляет собой нечто окаменевшее; она подвижна. Дух изменяет, вылепливает, создает ее. Неподвижность или грубость природы – свидетельство отсутствия духа; для чистого духа она подвижна, изменчива, послушна. Всякий дух строит для себя дом, а за стенами его дома протянулся мир, а дальше простирается небо. Знай же, что мир существует для тебя. <…> И потому строй свой собственный мир. Как только ты подчинишь свою жизнь чистой идее, зародившейся в твоей душе, последняя раскроет свои великие возможности. Возвышение духа повлечет за собой соответствующую революцию в мире вещей. <…> Все, что есть в природе грязного и неприятного, высушит солнце и развеет ветер. Как тают снега и цвет земли вновь делается зеленым, когда с юга возвращается солнце, так и дух разукрашивает все на своем пути и несет с собой красоту, которую встречает, и песню, очаровывающую его; он создаст повсюду прекрасные лица, горячие сердца, породит мудрые речи, героические поступки, пока больше нигде не будет зла (222). ПОЭТ Те, кого почитают верховными судиями вкуса, нередко всего лишь люди, кое-что знающие о прославленных картинах и скульптурах и питающие склонность ко всему изящному; но если вы зададитесь вопросом, так ли прекрасны их душевные качества н поступки, как замечательные произведения искусства, вы увидите, что это люди эгоистичные и отличающиеся грубой чувственностью. Их культура одномерна (302). И даже поэты удовлетворяются тем, что живут такой же жизнью, что и все, а в стихах выражают свои грезы, но меньше всего то, что говорит им их собственный опыт. Однако во всем мире, в любую эпоху подлинные светочи мысли стремились объяснить двойное (а может быть, и более того – стократное, тысячекратное?) значение всякого факта, постигаемого нашими чувствами; я говорю об Орфее, Эмпедокле, Гераклите, Платоне, Плутархе, Данте, Сведенборге, о великих скульпторах, живописцах, поэтах. Ибо сами мы – не то же самое, что стеклянный колпак или подсвечник, мы даже не факелоносцы; мы дети огня, мы созданы из него, из этого божественного огня, который просто претерпел в нас два-три превращения, когда мы меньше всего об этом подозревали. И эта-то тайная истина, что истоки Времени и всех его созданий в сущности своей идеальны и прекрасны, побуждает нас поразмыслить о Поэте, или Служителе Красоты, о его природе и назначении, о материале, которым он пользуется, и о его методах работы, наконец, в целом об искусстве в наше время. Вопрос, которого мы коснулись, очень широк, но мы не случайно выбрали для этого разговора поэта – фигуру достаточно представительную. Среди людей односторонних он воплощает человека цельного и раскрывает перед нами не свое богатство, но общее богатство. <…> Среди своих современников поэт одинок, поскольку он говорит правду и живет своим искусством; но у него есть то утешение, что рано или поздно его труды привлекут всех людей. Ибо все люди жаждут правды и нуждаются в том, чтобы она была выражена. В любви, искусстве, домашних заботах, политике, в трудах и развлечениях мы учимся выражать мучащую нас тайну. Человек лишь наполовину является самим собой, другая его половина – умение выражать себя (303). Всякий человек должен быть художником в такой мере, чтобы уметь передать разговор, который ему случилось вести. Но наш опыт свидетельствует, что, хотя излучения и пульсации достаточно сильны, чтобы их усвоили наши чувства, они недостаточно сильны, чтобы проникнуть в самую сердцевину человека и воспроизвести себя в его речи. Поэт – человек, у которого эти способности усвоения гармонически уравновешены, человек, для которого нет препятствий, который видит то, о чем другие лишь мечтают, и подчиняет это себе, и пропускает сквозь себя все многообразие опыта; он представитель рода человеческого благодаря тому, что в нем всего больше развиты способности воспринимать и передавать другим. <…> Поэт – это говорящий, он дает имена вещам и является посредником красоты. Он суверенен и занимает центральное положение (304). …поэт – не случайный эмиссар на троне, но полноправный властелин. <…> Поэт не ждет, пока явятся герои и мудрецы, которые лучше всех других действуют и думают, но, подобно им, лучше всех других говорит то, что должно быть и обязательно будет высказано; и герои и мудрецы, хотя они тоже выступают главными персонажами в отведенных им областях, по сравнению с поэтом оказываются все же на вторых, подчиненных ролях; они напоминают людей, служащих живописцу моделями и терпеливо дожидающихся в мастерской, пока он закончит работу, или помощников архитектора, которым поручено доставить на место материал для задуманного им здания (305). Отличительное свойство поэта, его удостоверение личности – это умение говорить то, чего никто не предсказал. Он самый искусный и единственно надежный лекарь; он знает и говорит; он один может сообщить новость, ибо он не просто присутствовал при том, что описывает, но был и заинтересованным лицом. Он созерцает идеи и говорит, что необходимо и что случайно. Но мы имеем в виду не людей, одаренных поэтически, прилежных, овладевших всеми стихотворными размерами, а настоящих поэтов. <…> Каждая новая эпоха требует выражения своего опыта, и, видимо, мир во все времена ждет своего поэта (306). Когда является поэт, в этом заинтересованы все, хотя никому не дано знать, в какой степени затронет его судьбу это событие. Мы знаем, что тайна мироздания огромна, но не ведаем, кто или что поможет нам ее разгадать. <…> В так называемой священной истории все свидетельствует о том, что рождение поэта было самым важным из событий. Человек, который еще никогда не обманывался так часто, по-прежнему ждет, что явится брат его и откроет ему глаза на правду, и поддержит его на этой стезе, пока правда не станет его собственной правдой (307). Природа отдаст поэту все ею созданное, чтобы он мог черпать оттуда свои картины и слова (308). Когда какое-то создание природы обратит на себя внимание поэта, это создание приобретает новую ценность, куда большую, чем прежде ему присущая; <…> Символы возможны потому, что сама природа символ – и в целом и в каждом ее проявлении. <…> Мы вдруг обнаруживаем, что оказались в царстве священного, где должны предать забвению критические спекуляции, тщательно обдумывать и почтительно соразмерять каждый наш шаг. Мы оказываемся лицом к лицу с тайной мироздания, мы попали туда, где Бытие переходит в Загадку, а Единство – в Многообразие (309). Все в природе подчинено моральному назначению; и если какое-то явление остается для нас неизведанным и пугающим, оно оказывается таким только потому, что наблюдающий это явление человек еще не развил в себе в достаточной мере тех способностей, которые необходимы, чтобы понять и объяснить его, Следует ли в таком случае удивляться, что, если река, которую нам нужно форсировать, слишком глубока, мы обходим ее стороной и испытываем к ней религиозное предубеждение? Чем прекраснее рассказанная поэтом притча, тем явственнее выступает – и для самого поэта и для всех нас значение здравого смысла; если угодно, всякий человек – поэт в той мере, в какой он восприимчив к этим чарующим таинствам природы, ибо каждому из нас знакомы раздумья, предмет которых – вселенная. Мне кажется, их особая привлекательность заключена в том, что мы имеем дело с символом. <…> Сокрытость, таинственность этой любви побуждает людей любого сословия прибегать к символам, чтобы ее выразить (310). Поэты и философы погружены в царство символов ничуть не больше, чем обычные люди (311). Самый незначительный опыт оказывается достаточным, чтобы сформулировать и выразить мысль. К чему эта погоня за новыми фактами? День и ночь, дом и сад, несколько книг, несколько поступков – вот и все; это даст нам ничуть не меньше, чем если бы мы испробовали все ремесла и перевидали все, что можно увидеть на земле. Мы еще далеко не исчерпали значения тех немногих символов, которыми умеем пользоваться. Может быть, нам удастся в конце концов использовать их с пугающей простотой. Совсем не обязательно, чтобы стихотворение было длинным. Когда-то любое слово было стихотворением. Любое новое отношение, в которое мы вступаем, это и новое слово. <…> Все, что уродливо, видится уродливым лишь благодаря тому, что мы отходим от жизни в боге: а поэт, восстанавливая связь всех вещей с природой, их место в Целом, возвращая природе даже искусственно и в нарушение законов природы созданное, ибо он наделен подлинно глубоким внутренним зрением, – поэт легко преодолевает все, что может внушить отвращение. <…> …поэт ясно видит, что они вливаются в великий Порядок не менее органично, чем улей или геометрически строгий рисунок паутины. Природа незамедлительна подчиняет их своим жизненным потребностям, и катящийся по рельсам поезд дорог ей так, точно она сама создала его вагоны. Кроме того, для просветленного ума безразлично, сколько механических усовершенствований вы предложите ему на рассмотрение (312). Факты духовного характера остаются непоколебимыми, как бы много или мало – частностей ни менялось; это так же верно, как то, что ни одна даже самая могучая гора не может изменить сферическую форму земного шара. <…> Главная ценность всякого нового явления в том, что оно прибавляет еще что-то к великому и постоянному явлению Жизни, которая может сделать ничтожными любое обстоятельство и событие, ибо для нее нет разницы между ожерельем из ракушек на шее индианки и всей коммерцией Соединенных Штатов. И поскольку мир неосознанно ждет слова, поэт тот, кто способен его произнести. Ибо как ни разнообразна жизнь, как ни очаровывает и ни поглощает она нас, как ни осведомлен любой из нас относительно символов, которыми обозначены ее явления, все же мы не можем использовать эти символы действенно. Мы сами символы, и живем окруженные символами; <…> Поэт благодаря способности высшего духовного постижения сообщает символам такую силу, что прежнее их употребление забывается; он дарует зрение и язык всем неживым, молчащим предметам. Он постигает, что мысль независима от символа, что мысль устойчива, а символ случаен и мимолетен. <…> Обладая более глубоким постижением, он стоит ко всем вещам на шаг ближе, чем мы, и наблюдает их цветение и метаморфозы; он видит, что мысль обладает множеством форм, что в форме любого создания заключена сила, заставляющая его стремиться к более высокой форме (313); он следует взглядом за жизнью и использует формы, которые выражают жизнь, и речь его течет вместе с течением природы. <…> Поэты создали все слова; и в силу этого язык представляет собой архив истории и, если читатель еще не догадался об этом сам, – также и гробницу муз. <…> Язык – это ископаемая поэзия. <…> Но поэт дает вещи именно такое, а не иное имя потому, что так он ее видит, потому, что к ней он подошел ближе, чем кто-нибудь еще (314). Поэт тоже отдается своему настроению, и тогда мысль, волновавшая его, находит выражение, alter idem [Второе «я», двойник (латин.)], в совершенно другом образе. Выражение является органично, это новый тип, который приобретают сами вещи, если их освободить. Подобно тому как при свете солнца все предметы оставляют свой отпечаток на сетчатке глаза, они, неся в себе вдохновение, проникающее всю вселенную, стремятся оставить несравненно более тонкий отпечаток своей сущности в сознании. В природе все изменяется, тяготея к высшим органическим формам; предметы же в своей сущности изменяются, тяготея к мелодиям. Во всех вещах есть своя душа, и как форма предмета отражается зрением, так его душа отражается мелодией (316). Глубокое видение, которое проявляется в том, что мы зовем Воображением, – это особенно острое зрение, которому нельзя научиться; оно привилегия интеллекта, умеющего находить то, что необходимо видеть, различающего последовательность и связанность среди предстающих ему форм и делающего эту последовательность ясной для всех. Последовательность вещей не выставляет себя напоказ. Даст ли она все-таки себя обнаружить? Тому, кто будет подглядывать за ней, – никогда; но она откроется человеку влюбленному, поэту, в котором трансцендентно воспроизведена ее собственная природа. Поэт тогда даст всему точные имена, когда божественное сияние, исходящее от всех вещей, проникнет без остатка и его и он будет просто созерцать это сияние. Всякий думающий человек без труда проникнет в эту тайну – что помимо той энергии, которая проявляется в его действиях, помимо разума, который он в себе сознает, в нем откроется и другая энергия, точно бы проявит себя второй разум, если он отдастся природе вещей; что помимо тех сил, которые принадлежат только ему как индивиду, в нем скрывается великая общественная сила и она может оказаться для него бесценной, если он не будет противиться этим неземным токам, даст им войти в него и жить в нем; что он – пленник жизни Вселенной, что его речь – это гром, а его мысль – закон, что его слова понятны повсюду, как речь растений и животных. Поэт знает, что он лишь тогда говорит точно, когда говорит немножко причудливо, когда обращается за словом к «цветку души» – не к разуму, используемому как средство мышления, но к тому разуму, который нельзя для чего бы то ни было использовать, которым управляет течение божественной жизни, или же, как любили выражаться древние, не просто к разуму, но к разуму, настоянному на нектаре (317). Высшее зрение пробуждается в простой и чистой душе, обитающей в мужественном и целомудренном теле. <…> Мильтон говорит, что поэту лирическому дозволено пить и жить в свое удовольствие, но эпический поэт, поющий о богах и о том, как обитают они в душах людей, должен ограничить себя чистой водой из деревянного ковша. Ибо поэзия – не «вино дьявола», но вино бога (318). Так вот поэт призван жить так просто, чтобы у него вызывали восхищение самые обычные вещи. Если он радуется, причиной тому должно быть сияние солнца; если он чувствует вдохновение, его должен внушить воздух, а от глотка воды должна кружиться его голова. Тот дух, который вселяет радость в спокойное сердце, заключен в любом засохшем бугорке пожухлой травы, в любом сосновом пне, торчащем из земли камне, на котором играют лучи несмелого мартовского солнца; он, этот дух, открывается тем, кто привык сносить бедность и лишения и чей вкус прост. Если же помыслами твоими владеют Бостон и Нью-Йорк, все модное и всеми почитаемое, если свои увядшие чувства ты будешь стремиться оживить вином и кофе по-французски, ты никогда не поймешь, какую мудрость источают пустынные сосновые леса. <…> Поэты – это освобождающие боги. Благодаря им люди постигают новый смысл, обнаруживают в окружающем их мире другой мир или даже множество миров; ведь достаточно один раз созерцать превращение, чтобы понять – оно неостановимо (319). Итак, поэты – это освобождающие боги. Английские барды седой древности начертали на щите своей гильдии: «Те, кто свободны повсюду в мире». Поэты свободны и делают свободными других. <…> Мне кажется, в книгах ценно лишь то, что трансцендентно и необычно (320). Судьба несчастного пастуха, попавшего в буран, ослепленного снегом, сбившегося с пути и замерзшего в двух шагах от дома, вот символ человеческой судьбы. Мы умираем от жажды, когда рукой подать до реки правды и жизни. Недостижимость для нас какой бы то ни было мысли, кроме той, что владеет нами в данный миг, поистине поразительна. И не имеет значения, что вам удастся, быть может, подойти к этой иной мысли совсем близко, – когда вы совсем рядом, она вам так же недоступна, как и прежде. Любая мысль это – тюрьма; и как ни мыслить себе Небо – это тоже тюрьма. Вот почему мы чтим поэта, дерзающего и в своих произведениях, и в поступках, и во взглядах, и в образе действий предложить нам новую мысль. Он разбивает наши цепи и дает нам ступить на иную планету. Такое освобождение – заветная мечта всех; способность же дать его, которая требует более глубокой, более смелой мысли, – это испытание разума. И поэтому остаются в памяти все книги, проникнутые вдохновением, книги, поднимающие нас до истины, книги, чьи авторы опираются на природу и делают ее исполнительницей своих замыслов (321). Любой стих, любая фраза, обладающая таким достоинством, сама обеспечит себе бессмертие. Все то, во что верит мир, родилось в душе немногих обладавших воображением людей. Но воображению свойственно быть вечно в движении и никогда не застывать. Поэта не может остановить ни одна цветовая гамма, ни одна форма; он прочитывает их значение, но, разгадав его, он не может остановиться и на этом, он возвращается к этой гамме, к этой форме, чтобы выразить новую мысль. Различие между поэтом и мистиком в том и заключается, что мистик прочно связывает встреченный им символ с одним его истолкованием, и это истолкование верно для данного момента, но быстро устаревает и делается ложным. Ибо все символы подвижны; <…> Мистицизм начинается там, где случайный, индивидуальный символ ошибочно принимают за всеобщий. Для глаз Якоба Бёме лучшей цветовой гаммой было розовеющее от утренней зари небо; оно стало для него воплощением правды и веры, и он считал, что точно таким же оно должно быть для всех (322). Тот поэт, тот будет вызывать в нас чувства любви и страха, кто в причудливой смене нарядов различает твердые основания природы и может сказать о них. Но тщетно жду я того поэта, которого описал. Обращаясь к жизни, мы не проявляем ни достаточной простоты, ни достаточной проницательности; мы не осмеливаемся обстоятельства (323). воспеть нашу эпоху и наши общественные У нас в Америке пока не появилось гения, который не признавал бы чужих взглядов, который понял бы всю ценность несравненных материалов, находящихся в нашем распоряжении, и в варварстве, материализме нашей эпохи различал бы новый карнавал тех самых богов, что приводят нас в восторг у Гомера, в средневековье, в кальвинизме. <…> Плоты, плывущие по нашим рекам, наши трибуны на политических митингах и речи, которые с них произносят, наши рыбные промыслы, наши негры и индейцы, наши корабли, наш отказ признать, что мы кому-нибудь что-нибудь должны, перебранки наших проходимцев, боязливое благодушие наших достопочтенных граждан, промышленность Севера, плантации Юга, леса Запада, где стучат топоры, Орегон и Техас – все это еще не воспето. А ведь Америка – это поэма, которая пишется у нас на глазах; ее необъятный простор поражает воображение: и ей недолго осталось ждать своих певцов. Как мне не удалось найти превосходного сочетания талантов среди моих современников, так утвердить идею поэта мне не поможет периодическое чтение чалмерсовской антологии английских поэтов последних пяти веков (324). Искусство – это тропа от творца к его творению. Такие тропы, или методы, идеальны и вековечны, хотя не многие различают их, и сам художник может не заметить их долгие годы, даже всю свою жизнь, если он не поймет условий творчества. <…> Не ведай сомнений, о поэт, но твори. Скажи всем: «Это во мне, и это выйдет из меня» (325). Стой на этом упрямо и непреклонно, стой, когда голос твой дрогнет и язык запнется, стой, когда тебя будут оплевывать и освистывать, стой и борись, пока наконец ярость не погонит из твоей глубины ту силу мечты, что каждую ночь доказывает тебе: ты принадлежишь одному себе, – ту силу, которая не ведает пределов и ограничений и благодаря которой человек управляет всем потоком энергии. <…> Ты оставишь мир и будешь говорить только с музой. <…> Создателю угодно, чтобы ты отказался от жизни сразу и для себя и для других, от многообразной жизни н удовлетворился тем, что будут говорить о тебе другие. <…> Мир требует самоотречений и послушничества, и ты пройдешь через это таким путем; ты должен надолго стать предметом издевок и поношений. Это колючки, за которыми Пан спрятал самый любимый свой цветок; и тебя будут знать только такие же, как ты, но они утешат тебя самой нежной любовью (326). А твоя награда в том, что идеал будет для тебя реален, что впечатления от мира вокруг хлынут, как обильный, но успокаивающий дождь, и проникнут в самое твое существо, которое ни для кого не уязвимо (327). ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ ГОТОРН И ЕГО «МХИ СТАРОЙ УСАДЬБЫ» Оклеенная обоями комната в прелестном деревенском доме, по самую крышу утонувшем в зелени, – а на милю вокруг ни одного строения, только горы, да разросшиеся леса, да озера, по берегам которых бродят индейцы, – вот, без сомнения, подходящее место, чтобы писать о Готорне. Что-то колдовское заключено в этом северном воздухе; здесь и чувство и долг точно бы повелевают приняться за такую задачу. В этом уединении мыслями моими владеет человек глубокой и благородной натуры. Мощно во мне отзывается его страстный, магический голос; а подчас мне кажется, что я различаю его в мягких трелях гнездящихся по холмам птиц, которые прилетают на лиственницы перед моим окном (376). 3анятно наблюдать, как человек пускается странствовать по сельским дорогам и в то же время способен пройти мимо самого величественного, самого прекрасного пейзажа; а дело в том, что встретившаяся ему живая изгородь настолько похожа на все другие, что и в голову не придет, чтобы за ней мог открыться замечательный вид. Это как раз и приключилось со мною; только волшебный пейзаж скрывался в душе этого Готорна, этого несравненного Повелителя Мхов. Вот уже четыре года, как написал он свою «Старую усадьбу», а я впервые прочел ее всего-то день-два назад. <…> Впрочем, может быть, все это время книга, как вино, делалась год от года лучше и по аромату и по вкусу. Как бы там ни было, это долгое откладывание завершилось минутами счастья (377). Его нежная восторженность захватила меня и пробудила во мне мечты, а когда я закрыл книгу, когда очарование рассеялось, этот маг «отпустил меня на волю и оставил по себе лишь неясные воспоминания, точно он мне пригрезился». А Старая усадьба! Какой причудливый свет заливает ее – лунный свет задумчивости и юмора, удивительный, редкий свет, исходящий от остро чувствующего и не спешащего открыться сердца (378). Никаких плоских шуток, никакого грубоватого юмора, родившегося за обильным обедом и доброй чашей вина, – нет, это юмор столь умный и тонкий, столь возвышенный, столь глубокий, а в то же время столь пленительный, что, скорее всего, он вполне пристал бы и ангелу. В этом юморе – самый дух веселья; трудно вообразить себе нечто более человечное и вместе с тем более достижимое. Сад, окружающий Старую усадьбу, кажется зримым воплощением души, в которой родились его картины. Вот они, погнувшиеся, скрюченные старые деревья, которые «протягивают свои искривленные ветви и настолько завладевают нашим воображением, что мы вспоминаем их так, как вспоминают удачную шутку или чью-то необычную прихоть». А потом, когда мы попали в это царство прихотливых форм и отдались полуденному покою, который дарует нам этот чародей Готорн, как точно передает неслышное проникновение в вашу душу его спелых, как плод, мыслей образ «большого яблока, шлепнувшегося на землю в полдень, когда стоял царственный покой, упавшего, когда не было ни ветерка, – просто потому, что оно достигло совершенной зрелости»! Ибо мысли и грезы этого обворожительного Повелителя Мхов настолько созрели, что на них играет румянец, как на яблоке (379). Его рассказ «Старый торговец яблоками» проникнут духом самой возвышенной печали; о герое сказано, что «детство без переживаний и волнений предопределило его болезненный расцвет, который уже содержал в себе предвестие и зримый образ убогой и вялой старости». Таких точных мазков не подскажет заурядное сердце. Они свидетельствуют о такой глубинной нежности, таком безграничном сочувствии ко всем формам жизни, такой всепроникающей любви, что мы не можем не заключить: в умении художественно выразить все это наш Готорн почти что исключение – во всяком случае, среди современных писателей. Но более того. Такие точные мазки, как нами отмеченные, и многие, многие другие, рассыпанные по всем его страницам, позволяют нам до какой-то степени проникнуть и в хитросплетения и глубины сумевшей найти их души. И мы понимаем, что страдание, которое человеку так или иначе довелось когда-то узнать, только оно дает способность изобразить страдание других. Всюду проступающая готорновская грусть подобна бабьему лету: она заливает весь пейзаж единым мягким светом, но в то же время подчеркивает отличительный оттенок каждого возвышающегося над местностью холма, каждой уходящей к горизонту долины (380). Ведь хотя с внешней стороны душа Готорна как будто залита мягким осенним солнцем, ее другая сторона, подобно находящейся в тени половине шара, окутана мраком, вдесятеро более глубоким, чем такая тень. Однако этот мрак лишь сообщает еще больший смысл всегда приходящей ему на смену заре, вечно пробивающемуся сквозь него и направляющему мир в его кругосветном плавании рассвету (381). Несомненно, однако, что его великая мрачность обретает свою действенность благодаря близости ее к свойственному кальвинизму ощущению врожденной греховности, первородного греха – ощущению, от которого, в какой бы форме оно ни возникало, не может полностью и навсегда избавиться ни один глубоко задумывающийся человек. Ибо случаются настроения, когда невозможно взвесить в уме этот мир и не испытать потребности как-то смягчить неравный итог, бросив на другую чашу весов нечто так или иначе сходное с первородным грехом. И о каких бы событиях ни шла речь, быть может, ни один писатель еще не вкладывал в эту ужасающую мысль такого ужаса, как наш безвредный Готорн. <…> Ему доступны глубины несравненно большие, чем те, каких может достичь обычный критик. Ибо не рассудком должно судить о таком человеке, но сердцем. Величие не откроется, если вы будете постигать его рассудочно; вы не найдете ни намека на него, если оно не будет понято интуицией; нет нужды просеивать руду – сумейте только прикоснуться к ней, и вы увидите, что это золото. Так вот та готорновская мрачность, о которой я говорил, как раз и влечет и околдовывает меня. Невзирая на это, я допускаю, что она развилась в Готорне излишне сильно. Возможно, луч носимого им света падает на нас не всякий раз после того, как мы делаемся свидетелями заключенной в нем тьмы. Но как бы то ни было, именно эта мрачность сообщает ощущение бесконечной недоговоренности самому его фону <…> (382). Если у немногих нашлось время, или терпение, или интерес для того, чтобы постичь духовную правду, запечатленную таким великим гением, как Шекспир, чему же удивляться, что в наш век Натаниел Готорн являет пример человека, почти что полностью непонятого людьми. Быть может, кто-нибудь, погрузившись в уютное кресло и забыв о шуме города за окном или найдя глубоко скрытый среди тихих гор уголок, сумеет понять, что такое Готорн на самом деле. <…> Готорн … напрочь отказался от шумной популярности, которую создают их авторам грубоватый фарс или трагедия с кровопролитием; с него довольно тех скромных благодарных откровений, которые доступны могучему разуму, когда его ничто не тревожит; а этот разум редко делится своими откровениями с миром – только при условии, что такие откровения уже могут прозвучать мощно и одухотворенно, что они заставят чаще биться честное сердце (384). Впрочем, я и не утверждаю, что Натаниел из Салема более велик, чем Вильям с Эвона, или равен ему в величии. Я утверждаю лишь, что различие между этими двумя людьми ни в коем случае нельзя считать неизмеримым. Не столь уж многое потребовалось бы для того, чтобы Натаниел стал вполне вровень с Вильямом. И я утверждаю еще и следующее: даже если Шекспиру пока не было равного, дайте миру время, и можете не сомневаться, что Шекспир будет превзойден – в этом или другом полушарии. Мы не удовлетворимся и тем, что провозгласим современный мир стареющим и дряхлеющим и скажем: то очарование свежести, которым был когда-то наделен мир и которое сделало великих поэтов прошлого такими, какими они теперь кажутся, уже невозвратимо. Это не так. Сегодня мир так же молод, как в тот день, когда он был сотворен, и роса, выпавшая нынче утром на этом лугу в Вермонте, холодит мне ноги так же, как холодила ноги Адаму райская роса. И наши предки не успели еще настолько обыскать Природу, чтобы для нашего поколения не осталось в ней новых тайн и источников очарования. Вовсе нет. Еще не сказана и миллиардная доля того, что нужно сказать, а все, что уже сказано, лишь приумножает пути к тому, что сказать пока еще только суждено. Похоже, что не столько бедность материала, сколько его преизбыток делает современных авторов беспомощными. Так пусть же Америка дорожит своими писателями и осыпает их почестями; да, пусть она одаряет их славой. Не так уж их много, чтобы на них не хватило ее доброго расположения. А поскольку у нее собственные славные сыновья, пусть она прижмет их к груди и не растрачивает пыл своих объятий на чад из чужого дома (386). Пусть собственные ее писатели, говорю я, получат приоритет в признании. <…> И американский гений не нуждается ни в чьем покровительстве, чтобы двигаться вперед. Он создан из вещества столь взрывчатого, что его не удержать никакими тисками – он разнесет их на куски, хотя бы они были сделаны из трижды закаленной стали. Не о благе тех или иных авторов, а о благе нашей страны забочусь я, когда прошу Америку обратить внимание на крепнущие силы ее писателей (387). Но лучше пережить поражение, идя по пути оригинальности, чем преуспеть, следуя стезей подражания. Тот, кто ни разу не изведал поражения, не может быть велик. Поражение – настоящее испытание величия. И когда говорят, что постоянный успех – свидетельство, что человек знает меру своих сил, остается только добавить, что в таком случае он знает, как они невелики. И давайте однажды и навсегда решим для себя: нам не следует возлагать надежды на этих банальных, не лишенных приятности писателей, которые знают меру своих сил. Мы не хотим быть к ним несправедливыми, но ведь это несомненный факт, что они представляют собой лишь еще одно дополнение к Голдсмиту или какому-нибудь иному английскому автору. А нам не нужны американские голдсмиты; о нет, нам не нужны американские мильтоны. Нет ничего более недоброжелательного по отношению к настоящему американскому писателю, как назвать его американским Томпкинсом. Назовите его просто американцем и довольно – ничего более лестного о нем сказать невозможно. Я, однако, не хочу сказать, что всякий американский писатель должен прилагать все силы к тому, чтобы в его писаниях непременно запечатлелся национальный дух; я говорю только, что ни один американский писатель не должен писать как англичанин или как француз; пусть он пишет как человек, и можно не сомневаться, что в таком случае он будет писать как американец (388). А для того, чтобы исправить такое положение необходимо совсем немногое: охотно признавая и ценя все достойное, где бы оно ни было создано, мы должны воздерживаться от непомерного восхваления чужеземных писателей и в то же время по справедливости ценить наших собственных сочинителей, которые того заслуживают, тех, которые во всех вещах различают присутствие ничем не скованного, демократического духа христианства, в наше время ставшего фактически главенствующим началом мира; а в этом мире в наше время главенствуем мы, американцы. Наберемся же смелости предать осуждению всякое подражательство, хотя бы оно дышало, как утро, ароматом утонченности, и содействовать всему оригинальному, пусть оно поначалу будет неказистым и грубоватым, как сучья наших сосен. <…> На наш взгляд, положение с национальной литературой у нас настолько критическое, что поистине нам в каком-то смысле просто необходимо стать задиристыми, иначе время уйдет и превосходство окажется от нас на таком удалении, что едва ли мы сможем с уверенностью ожидать, что оно очутится когда-нибудь на нашей стороне. После всего сказанного, дорогие сограждане, кого в первую очередь мне рекомендовать вам в качестве прекрасного писателя, созданного из той же плоти и крови, что и вы, писателя никому не подражающего и, быть может, по-своему неподражаемого, кого рекомендовать вам, если не Натаниела Готорна? Он принадлежит к новому и гораздо более замечательному поколению ваших писателей. <…> Не уступайте же будущим поколениям приятного долга понять и оценить его по достоинству. Сохраните эту радость для себя, для собственного поколения; а он ощутит тогда в себе благодарные порывы, которые, кто знает, будут, возможно, способствовать расцвету в нем какой-нибудь еще способности и достижениям, которые, на ваш взгляд, могут оказаться еще замечательнее. А одарив своим доверием его, вы одарите им и других, все литературное братство (389). Говоря о Готорне, … я пока что ни словом не обмолвился о его «Дважды рассказанных историях» и «Алой букве». Обе книги превосходны; однако они полны столь многообразных, причудливых и не поддающихся ясному определению красот, что, вне всякого сомнения, у меня недостанет времени перечислить хотя бы половину из них. В этих двух книгах есть коечто такое, что, будь они написаны в Англии столетие назад, Натаниел Готорн явно потеснил бы многих других блестящих авторов, на которых мы почтительно взираем ныне как на авторитеты. Но я удовлетворюсь тем, что оставлю Готорна ему самому, а также потомкам, которые неминуемо его откроют; и какими бы высокими словами я ни характеризовал его, я чувствую, что своими дифирамбами я оказываю больше услуг и больше чести самому себе, чем ему. Ведь, по сути, великое совершенство – само по себе достаточная похвала, а когда начинаешь о нем говорить, то просто находят выход чувства искреннего и благодарного восхищения им и любви; от сердца идущая, непринужденная хвала оставляет по себе на губах приятное воспоминание; и признать достоинство в других – тоже достоинство. Но я еще не сказал всего. Нет человека, который, читая прекрасного писателя и наслаждаясь каждым его нюансом, не испытал бы, закончив книгу, желания представить себе какой-то идеальный образ автора, его души. И если правильно смотреть, почти всегда обнаружится, что автор сам где-то запечатлел для вас свой облик. Поэты (не важно, пишут ли они стихом или прозой), эти живописцы Природы, являются, как и их собратья, прибегающие к кисти, настоящими портретистами, и среди множества образов, которые они должны набросать, отнюдь не обязательно оставляют без внимания свой собственный; во всяком высоком творении они передают и свой облик – без какого бы то ни было тщеславия, хотя, случается, и мелькнет в картине нечто такое, что потребовалась бы не одна страница, чтобы подыскать этому соответствующее определение (390). Двадцать четыре часа прошло с той поры, как я все это написал. Я вновь принимаюсь за перо, едва вернувшись с сеновала; я переполнен крепнущей любовью к Готорну и восхищением перед ним. Сейчас я снова перелистал «Мхи» и всюду находил многое такое, что поначалу ускользнуло от моего внимания. И я даже думаю, что лучше подбирать оставшиеся колосья на ниве, которую сжал он, нежели пожинать урожай с нетронутого поля других. Если уж быть откровенным (хотя, надо полагать, это довольно глупо), хотя я вчера так много написал о «Мхах», я к тому времени еще не дочитал их; однако и по тому, что было прочитано, у меня достало проницательности угадать в книге те высокие достоинства, которые и побудили меня написать то, что вы прочли. На какие же необозримые вершины любви, удивления и восхищения, быть может, еще буду вознесен, когда, вновь и вновь лакомясь этими мхами, я до конца впитаю в себя все их соки! Этого я не в силах себе представить. Но я уже ощущаю, что этот Готорн заронил мне в душу не одно благотворное семя. Чем больше я раздумываю над его книгой, тем более глубокой и всеохватывающей мне она кажется; он все глубже и глубже врастает своими массачусетскими корнями в горячую землю моей южной души (391). Надо сразу же предупредить тех, кого мои бессвязные строки, быть может, побудят все-таки взять в руки «Мхи», что они ни в коем случае не должны обманываться заурядностью заглавий многих рассказов и пренебрегать из-за этого книгой, сочтя ее не стоящей внимания. <…> Дело в том, что, как и многие другие гении, наш Повелитель Мхов находит особое наслаждение в том, чтобы подшутить над миром, а особенно в том, чтобы внушить всем совершенно неправильное представление о себе. <…> Не знаю какие мотивы двигали Готорном, когда он выбирал такие заглавия для своих рассказов, была ли к тому серьезная причина, или ему просто хотелось пошутить; но у меня нет сомнений, что некоторые названия были специально подобраны с расчетом обмануть – и довольно жестоко – тех, кто привык бегло перелистывать книги (392). Кто бы ни стал возражать мне сейчас, когда я пишу это, я чувствую, что мне доверили говорить от своего имени наши потомки, что будущее больше чем просто подтвердит мои слова: человек, который из всех американцев вплоть до настоящего времени выказал в литературе больше всего ума и больше всего сердца, – этот человек зовется Натаниел Готорн. И более того, что бы Натаниел Готорн впоследствии ни написал, в конечном счете именно «Мхи старой усадьбы» будут признаны его шедевром. Ибо в некоторых рассказах этой книги можно различить несомненный, хотя и скрытый знак самого высокого цветения творческих сил их автора (правда, лишь тех сил, которые способны к развитию). Однако я никоим образом не притязаю на лавры пророка. Я молю небо, чтобы Готорн смог в дальнейшем доказать, что мое пророчество не сбылось (395). Еще несколько слов – ведь трудно закончить, когда касаешься бесконечного, а бесконечна любая тема. Найдутся люди, которые сочтут мое непритязательное сочинение совершенно ненужным, поскольку, скажут они, «прошло уже немало лет с тех пор, как мы угадали богатый и редкий дар в том самом Готорне, с которым вы теперь носитесь так, точно вы первым обнаружили этот чистой воды бриллиант в нашей литературе». Но, вполне соглашаясь с этим и, кроме того, приняв во внимание, что книги Готорна разошлись уже в пяти тысячах экземпляров, я спрашиваю: а разве это много? Его книги должны расходиться в сотнях тысяч и читаться миллионами, ими должен восторгаться всякий, кто способен испытать восторг. ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ДОМ О СЕМИ ФРОНТОНАХ» Когда писатель называет свое сочинение Романтическим, едва ли нужно говорить, что он тем самым оставляет себе известную свободу в выборе как манеры, так и материала – свободу, на которую он не стал бы претендовать, если бы заявлял, что пишет Роман. Считается, что этот последний род произведения стремится быть до мельчайших подробностей верным не просто возможному, но наиболее вероятному и обычному из области человеческого опыта. Первый же род – строго подчиняясь в качестве произведения искусства известным законам и ни в коем случае не отступая от правды человеческих чувств – имеет, однако, право представить эту правду при обстоятельствах, в большой степени выбранных писателем или созданных его воображением. Писатель может также, если сочтет нужным, так распорядиться атмосферой произведения, чтобы усилить или, напротив, смягчить свет и углубить тени на картине. Если он мудр, он, конечно, воспользуется указанными привилегиями с большой умеренностью и сделает Чудесное скорее легкой, едва ощутимой приправой, нежели частью самого блюда, подаваемого публике. Впрочем, если он даже и пренебрежет этой предосторожностью, в данном случае это едва ли будет ему вменено в литературное преступление. В настоящем произведении автор решил – с каким успехом, об этом, к счастью, судить не ему – строго придерживаться отведенных границ. Если его повесть подходит под определение Романтической, то лишь как попытка сочетать прошедшее с быстротекущим настоящим (397). Многие писатели придают очень большое значение определенной моральной цели, которую ставят в своих произведениях. Чтобы не отстать от них, автор также запасся моралью – а именно истиной, гласящей, что дурные дела одного поколения остаются жить в последующих и, утратив все связанные с ними временные преимущества, становятся чистым и необоримым злом; и автор был бы чрезвычайно рад, если бы его романтическая повесть смогла убедить человечество – или хотя бы одного человека, – насколько глупо обрушивать на несчастных потомков неправедно добытое золото или земли, калеча их этим и подавляя, пока накопленные богатства не развеются прахом. Но, по правде сказать, воображение автора не столь богато, чтобы он мог льстить себе на этот счет малейшей надеждой. Если романтические повести и учат чему-либо и на что-либо воздействуют, то обычно гораздо более тонким, не столь очевидным способом. Вот почему автор не счел нужным насаживать свою повесть на железный прут морали или на булавку, как накалывают бабочку – лишая ее тем самым жизни и заставляя окоченеть в неестественной и неуклюжей позе. Высокая истина, искусно и тонко вплетаясь в художественный вымысел, освещая его и увенчивая, может, разумеется, украсить его, но она никогда или очень редко бывает более очевидной и правдивой на последней странице, чем на первой (398). Герои повести – хотя они и выдают себя за людей, издавна занимающих известное положение, на самом деле изготовлены самим автором или, во всяком случае, составлены им; их добродетели не могут сколько-нибудь украсить, а их пороки – опорочить почтенный город, жителями которого они себя объявляют. Поэтому автор будет рад, если его книгу – особенно в местности, о которой идет речь, – прочтут только как романтический вымысел, более близкий к облакам в небе, чем к какой-либо части графства Эссекс (399). ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Каковы основные проблемы, затрагиваемые в эстетических трудах американских романтиков? Назовите наиболее дискуссионные, на ваш взгляд, вопросы, волновавшие американских писателей / критиков / теоретиков на разных этапах романтической эпохи в литературе США (Купер, Э. По [«Национальная литература»], Мелвилл [«Готорн и его “Мхи старой усадьбы”»]). 2. В чем суть «философии искусства» и каков «поэтический принцип» Э. По, изложенные писателем в одноименных эстетических работах? 3. Что именно позволяет говорить, по мнению Э. По, о неповторимом своеобразии и новаторстве малой прозы Н. Готорна? Роль и значение принципа единого эффекта в рассказах Готорна (Э. По «Новеллистика Натаниела Готорна»). ПРИЛОЖЕНИЕ 5 РЕАЛИЗМ СТЕНДАЛЬ РАСИН И ШЕКСПИР (1823) Основная идея брошюры [«Расин и Шекспир». – Н.Н.] та же, что и «Истории живописи в Италии»: искусство классицизма не годится для современной Франции. Оно создавалось несколько веков назад для публики, которой уже не существует, в период цивилизации, давно исчезнувшей. Новая драма, чтобы волновать современного читателя, должна отбросить классические правила трех единств (места, времени, действия), благородный язык, александрийский стих, так как он не может приблизиться к обычному разговорному языку и пользоваться словами, без которых нельзя выразить чувства и понятия современного француза. Поэтому Стендаль рекомендовал не брать образцом для подражания Расина и обратиться к Шекспиру. В 1823 году полемика между романтиками и классиками была в полном разгаре, причем те и другие распадались на два политических лагеря – ультрароялистов и либералов. В брошюре Стендаля ярко выражен ЛИБЕРАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ, одинаково враждебный и классицизму и искусству Реставрации. Среди множества полемических выступлений особенно запальчиво звучали выступления против романтизма классика и ультрароялиста, непременного секретаря Французской академии Оже. В 1824 году он произнес в Академии речь, в которой высмеивал романтизм и романтические теории. Стендаль решил возразить ему и написал новую брошюру под названием «Расин и Шекспир, № 2». Брошюра эта вышла в свет в 1825 году. В 1822–1823 годах, в то время, когда Стендаль выступил в парижских журналах на стороне романтизма, это новое направление, в сущности, существовало лишь в теории. Полемика все еще велась вокруг книг мадам де Сталь («О Германии», 1814), А.В. Шлегеля («Курс драматической литературы», фр. перевод, 1814) и Сисмонди («Литература южной Европы», 1813). В образец французам ставили Шекспира и Шиллера, осмеивали напыщенный «благородный стиль» трагедии, ее правила и мифологические сюжеты, но собственных произведений, которые можно было бы признать образцовыми для новой школы, почти не было. Под влиянием «Расина и Шекспира» возникла школа драматургов, следовавших советам Стендаля и писавших прозаические драмы для чтения, так называемые «книжные» драмы. Даже Вальтер Скотт, которого Стендаль считал самым замечательным писателем эпохи и рекомендовал для подражания драматургам, казался ему недостаточно совершенным: английский писатель слишком большое внимание уделял изображению быта и костюмов и недостаточно заботился о психологии своих персонажей; об этом Стендаль писал в статье «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская», вышедшей за несколько месяцев до Июльской революции. Самое важное для Стендаля – внутренний мир его героев, обусловленный их материальным бытием, культурными традициями, национальным характером.) *** Intelligenti pauca – Разумеющему достаточно немногих слов (лат.) ПРЕДИСЛОВИЕ Мы совсем не похожи на тех маркизов в расшитых камзолах и больших черных париках стоимостью в тысячу экю, которые около 1670 года обсуждали пьесы Расина и Мольера. Эти великие люди хотели угодить маркизам и работали для них. Я утверждаю, что отныне нужно писать трагедии для нас, рассуждающих, серьезных и немного завистливых молодых людей года от воплощения божия 1823. Эти трагедии должны писаться прозой (5). Все говорит за то, что мы находимся накануне подобной же революции в поэзии. Пока не наступит день успеха, нас, защитников романтического жанра, будут осыпать бранью. Но когда-нибудь этот великий день наступит, французская молодежь пробудится; эта благородная молодежь будет удивлена тем, что так долго и с таким глубоким убеждением восхваляла такой страшный вздор. ГЛАВА I. НАДО ЛИ СЛЕДОВАТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯМ РАСИНА ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЯМ ШЕКСПИРА, ЧТОБЫ ПИСАТЬ ТРАГЕДИИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ПУБЛИКУ 1823 ГОДА? Какое литературное произведение имело наибольший успех во Франции за последние десять лет? Романы Вальтера Скотта. Что такое романы Вальтера Скотта? Это романтическая трагедия со вставленными в нее длинными описаниями (7). Весь спор между Расином и Шекспиром заключается в вопросе, можно ли, соблюдая два единства: места и времени, – писать пьесы, которые глубоко заинтересовали бы зрителей XIX века, пьесы, которые заставили бы их плакать и трепетать, другими словами, доставили бы им драматическое удовольствие вместо удовольствия эпического, привлекающего нас на пятидесятое представление «Парии» или «Регула». Я утверждаю, что соблюдение этих двух единств: места и времени – привычка чисто французская, привычка, глубоко укоренившаяся, привычка, от которой нам трудно отделаться, так как Париж – салон Европы и задает ей тон; но я утверждаю также, что эти единства отнюдь не обязательны для того, чтобы / вызвать глубокое волнение и создать подлинное драматическое действие. (Далее следует диалог Академика (т.е. классициста) и Романтика) [О ЕДИНСТВЕ ВРЕМЕНИ.] РОМАНТИК. Опыт уже высказался против вас. В Англии в продолжение двух веков, в Германии в течение пятидесяти лет ставят трагедии, действие которых продолжается целые месяцы, и воображение зрителей отлично представляет себе это. АКАДЕМИК. Ну, вы ссылаетесь на иностранцев, да еще на немцев! (10) РОМАНТИК. Договоримся относительно слова иллюзия. Когда мы говорим, что воображение зрителя допускает, будто прошло все то время, которое необходимо для изображаемых на сцене событий, то это не значит, что иллюзия зрителя заставляет его верить, будто время это действительно протекло. Дело в том, что зритель, увлеченный действием, не обращает на это внимания, он совсем не думает о том, сколько прошло времени (11). Театральная иллюзия – это действие человека, верящего в реальность того, что происходит на сцене (12). Эти чудные и столь редкие мгновения полной иллюзии могут случиться лишь в разгаре оживленной сцены, когда реплики актеров мгновенно следуют одна за другой, например, когда Гермиона говорит Оресту, который убил Пирра по ее приказанию: Но кто тебе велел? Так вот я утверждаю, что эти краткие мгновения полной иллюзии чаще встречаются в трагедиях Шекспира, чем в трагедиях Расина. Все удовольствие от трагического зрелища зависит от того, насколько часты эти краткие мгновения иллюзии, и от волнения, в котором они оставляют душу зрителя в промежутках между ними (14). Таким-то образом вопрос о романтизме сводится к своей первоначальной основе. Если вы неискренни, или нечувствительны, или заморожены Лагарпом, вы будете отрицать эти мгновения полной иллюзии. И я признаюсь, что никак не смогу возражать вам. Ваши чувства – это не материальные предметы, чтобы я мог извлечь их из вашего собственного сердца и, показав их вам, опровергнуть вас. АКАДЕМИК. Вот ужасающая темная метафизика; и вы думаете, что таким путем вы убедите нас освистывать Расина? РОМАНТИК. <…> Что же касается Расина, то я очень рад, что вы назвали этого великого человека. Имя его приводят, когда хотят выбранить нас. Но слава его незыблема. Он навсегда останется одним из величайших гениев, вызывающих удивление и восторг людей (15). Расин не допускал, чтобы трагедии можно было писать иначе. Если бы он жил в наше время и дерзнул следовать новым правилам, он написал бы трагедию, во сто раз лучшую, чем «Ифигения» (16). ГЛАВА II. СМЕХ Ах, сударь мой, на что вам нос пономаря? РЕНЬЯР Я думаю, что в Париже за / один только вечер шутят больше, чем во всей Германии за месяц. Что такое смех? Гоббс отвечает: «Эта знакомая всем физическая судорога происходит тогда, когда мы неожиданно замечаем наше превосходство над другим». Комическое должно быть изложено с ясностью, мы должны отчетливо увидеть наше превосходство над другим. Но это превосходство над другим столь ничтожно и так легко разрушается малейшим размышлением, что оно должно быть показано неожиданным для нас образом (18). Вот, следовательно, два условия комического: ясность и неожиданность (19). Но Мольер ниже Аристофана. Комическое подобно музыке: красота его непродолжительна. Комедия Мольера слишком насыщена сатирой, чтобы часто вызывать у меня чувство веселого смеха, если можно так выразиться. Когда я иду развлечься в театр, я хотел бы найти там безудержную фантазию, которая смешила бы меня, как ребенка. Все подданные Людовика XIV, стремясь обладать изяществом и хорошим тоном, старались подражать одному образцу; богом этой религии был сам Людовик XIV. Видя, как сосед ошибается, подражая образцу, смеялись горьким смехом (22). Мольер, человек гениальный, имел несчастье работать для этого общества. Аристофан же хотел смешить общество любезных и легкомысленных людей, которые искали наслаждения на всех путях (23). Что же касается Мольера и его пьес, мне нет дела до того, насколько удачно изображал он хороший тон двора и наглость маркизов. Теперь или нет двора, или я уважаю себя по меньшей мере так же, как люди, которые бывают пи дворе; после биржи, пообедав, я иду в театр для того, чтобы посмеяться, и ничуть не желаю подражать кому бы то ни было. Словом, если кто-нибудь захочет меня рассмешить, несмотря на глубокую серьезность, которую придают мне биржа, политика и ненависть партий, он должен показать мне людей, охваченных страстью и на моих глазах самым забавным образом ошибающихся в выборе пути, который ведет их к счастью (26). ГЛАВА III. ЧТО ТАКОЕ РОМАНТИЗМ Романтизм – это искусство давать народам такие литературные произведения, которые при современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее наслаждение. Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, доставляла наибольшее наслаждение их прадедам (26). которая Я, не колеблясь, утверждаю, что Расин был романтиком: он дал маркизам при дворе Людовика XIV изображение страстей, смягченное модным в то время чрезвычайным достоинством, из-за которого какойнибудь герцог 1670 года даже в минуту самых нежных излияний родительской любви называл своего сына не иначе, как «сударь». Вот почему Пилад из «Андромахи» постоянно называет Ореста «сеньором»; и, однако, какая дружба между Орестом и Пиладом! Шекспир был романтиком, потому что он показал англичанам 1590 года сперва кровавые события гражданских войн, а затем, чтобы дать отдых от этого печального зрелища, множество тонких картин сердечных волнений и нежнейших оттенков страсти (27). Для того, чтобы быть романтиком, необходима отвага, так как здесь нужно рисковать. Осторожный классик, напротив, никогда не выступает вперед без тайной поддержки какого-нибудь стиха из Гомера или философского замечания Цицерона из трактата «De senectute» («О старости»). Мне кажется, что писателю нужно почти столько же храбрости, сколько и воину: первый должен думать о журналистах не больше, чем второй о госпитале. Лорд Байрон, автор нескольких великолепных, но всегда одинаковых героид и многих смертельно скучных трагедий, вовсе не является вождем романтиков. Романтическим в современной трагедии является то, что поэт всегда дает выигрышную роль дьяволу. Нечистый говорит красноречиво, и публика очень любит его. Всем нравится оппозиция (28). Аббат Делиль был в высшей степени романтичен для века Людовика XV. То была поэзия, как раз созданная для народа, который при Фонтенуа, сняв шляпы, говорил английской пехоте: «Господа, стреляйте первыми». Конечно, это очень благородно, но как такие люди имеют дерзость говорить, что они восхищаются Гомером? Древние очень посмеялись бы над нашей честью (30). Общество, в котором до такой степени изменился столь существенный и часто встречающийся его элемент, как глупец, не может более выносить ни комического, ни патетического на старый лад. Раньше каждый хотел рассмешить своего соседа; теперь каждый хочет обмануть его. Романтики никому не советуют непосредственно подражать драмам Шекспира. То, в чем нужно подражать этому великому человеку, – это способ изучения мира, в котором мы живем, и искусство давать своим современникам именно тот жанр трагедии, который им нужен, но требовать которого у них не хватает смелости, так как они загипнотизированы славой великого Расина. По воле случая новая французская трагедия будет очень походить на трагедию Шекспира (31). Расинова трагедия может охватить лишь последние тридцать шесть часов действия, следовательно, изобразить развитие страстей она совершенно не в состоянии (32). РАСИН И ШЕКСПИР – II Ответ на антиромантический манифест, прочитанный г-ном Оже на торжественном заседании французского института Диалог СТАРЕЦ. Продолжаем. ЮНОША. Исследуем. В этом весь девятнадцатый век. К ЧИТАТЕЛЮ Так вот, дерзнув посмеяться над Академией за недобросовестность речи, которую она вложила в уста своего руководителя, я боялся прослыть наглецом. Я не хочу быть одним из тех, кто нападает на нелепости, на которые в обществе порядочных людей принято не обращать никакого внимания (35). ПРЕДИСЛОВИЕ Поведение людей, обычно столь осторожных, могло бы, правда, напомнить знаменитое словцо величайшего из гениев, которых они так смешно хотят почтить своими скучными периодическими речами, но гения, столь вольного в своих порывах, столь мало почтительного к смешному, что в течение целого века Академия отказывалась допустить в свои стены не только его особу, но даже его портрет. Мольер – так как все уже догадались, что речь идет о нем, – устами своего героя сказал ювелиру, который, желая развлечь и вылечить больного, не нашел ничего лучшего, как разложить в его комнате ювелирные изделия: «Вы ювелир, господин Жос». Какой бы классической и не новой ни была эта шутка, но верным средством заставить побить себя камнями было бы напоминание о ней в день, когда голос докладчика пробудил Академию от обычной ее дремоты, назвав роковое слово «романтический» после слов «розмарин» и «романист» (36). ЛАНФРАН, ИЛИ ПОЭТ Комедия в пяти действиях У большинства людей, помимо их сознания, привычка деспотически властвует над воображением. Я мог бы указать на одного великого государя, к тому же очень образованного, которого можно было бы считать совершено свободным от иллюзий чувствительности; этот король не выносит в своем совете министров ни одного достойного человека, если у него не напудрены волосы. Голова без пудры напоминает ему кровавые образы французской революции – первое, что поразило его королевское воображение тридцать один год тому назад. Если бы человек с подстриженными, как у нас, волосами докладывал этому государю проекты, задуманные с глубокомыслием Ришелье или осторожностью Кауница, все внимание государя было бы поглощено отталкивающей прической министра. Я вижу сокровища литературной терпимости в этих словах: привычка деспотически властвует над воображением даже самых просвещенных людей, а через посредство воображения – и над удовольствиями, которые могут доставлять им искусства (56). Верх абсурда и классицизма – это расшитые костюмы в большинстве наших современных комедий. Авторы вполне правы: фальшивые одежды подготавливают к фальшивому диалогу; и так же, как александрийский стих очень удобен для так называемого поэта, лишенного идей, удобен и расшитый костюм для связанности движений и условного изящества бедного, бездарного актера (59). ПИСЬМО III. РОМАНТИК – КЛАССИКУ 26 апреля, 12 часов дня. …романтизм в применении к трагическому жанру – это трагедия в прозе, которая длится несколько месяцев и происходит в разных местах (63). ПИСЬМО V. РОМАНТИК – КЛАССИКУ Париж, 28 апреля 1824 г. Признаюсь, мне хотелось бы увидеть на французской сцене «Смерть герцога Гюиза в Блуа», или «Жанну д’Арк и англичан», или «Убийство на мосту в Монтеро»; эти великие и зловещие картины, извлеченные из наших анналов, вызвали бы отклик во всех французских сердцах и, по мнению романтиков, заинтересовали бы публику больше, чем несчастья Эдипа (66). ЗАЯВЛЕНИЕ Больше, чем кто-либо, я убежден в том, что частная жизнь граждан должна быть ограждена; только при этом условии мы можем стать достойными свободы печати. Я вышел бы далеко за пределы поставленной себе задачи, если бы стал насмехаться над чем-либо, кроме смешных претензий антиромантических риторов. Если бы Академия не сочла возможным осуждать романтизм тоном превосходства и самодовольства, который неприличен при обращении к публике, я бы всегда относился с уважением к этому устарелому учреждению. Я пренебрег всяким остроумием, которым мог бы блеснуть лишь с помощью коварных намеков на события частной жизни, несмотря на то, что я очень в нем нуждался; а между тем говорят, что лучшие образцы остроумия наших академиков представлены только скандальными анекдотами об их предшественниках (97). ВАЛЬТЕР СКОТТ И “ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ” (1830) (Статья «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская»» появилась 19 февраля 1830 года в недавно основанном органе либеральной буржуазии “National”. Статья явно шла вразрез с общепринятыми мнениями, и редакция “National”, предохраняя себя от возможного неудовольствия своих подписчиков, сочла нужным сообщить, что она не разделяет мнений Стендаля. Произведение, которое Стендаль противопоставляет творчеству Вальтера Скотта, – небольшой роман г-жи де Лафайет «Принцесса Клевская», появившийся в 1678 году. Стендаль всегда восхищался тонким искусством, с которым проведен психологический анализ в этом замечательном произведении XVII века.) Эти два имени обозначают два противоположных типа романа. Описывать ли одежду героев, пейзаж, среди которого они находятся, черты их лица? Или лучше описывать страсти и различные чувства, волнующие их души? Мои размышления не будут приняты благосклонно. Огромное количество писателей заинтересовано в том, чтобы превозносить до небес Вальтера Скотта и его манеру. Легче описать одежду и медный ошейник какого-нибудь средневекового раба, чем движения человеческого сердца (316). …бесконечно легче живописно изобразить платье какого-нибудь персонажа, нежели рассказать о том, что он чувствует, и заставить его говорить. Не забудем и другого преимущества школы Вальтера Скотта: описание платья, внешнего вида и положения какого-нибудь персонажа, как бы незначителен он ни был, занимает не меньше двух страниц. Душевные движения, которые так трудно бывает сначала установить, а затем точно, без преувеличений и робости, выразить, занимают едва несколько строк. Откройте наудачу какой-нибудь том «Принцессы Клевской», возьмите из него любые десять страниц и затем сравните их с десятью страницами «Айвенго» или «Квентина Дорварда»: эти последние произведения имеют ценность исторического документа (317). Всякое произведение искусства есть прекрасная ложь; Всякий, кто когда-либо писал, отлично знает это. Нет ничего нелепее совета, который дают люди, / никогда не писавшие: подражайте природе. Ах, черт возьми, я отлично знаю, что надо подражать природе. Но до какого предела? Вот в чем вопрос. Два человека, равно гениальные, – Расин и Шекспир – изобразили: один – Ифигению в то время, когда отец хочет заклать ее в Авлиде, другой – юную Имогену в момент, когда по приказанию мужа, которого она обожает, ее должны зарезать в горах поблизости от Милфордской гавани. Эти великие поэты подражали природе; но один хотел понравиться деревенским дворянам, сохранившим еще грубую и суровую простоту, плод долгих войн Алой и Белой Розы; другой искал одобрения учтивых царедворцев, которые, в соответствии с установленными Лозеном и маркизом де Вардом нравами, хотели понравиться королю и снискать расположение дам. Следовательно, подражать природе – совет, лишенный всякого смысла. До какого предела нужно подражать природе, чтобы понравиться читателю? Вот в чем вопрос. Искусство, следовательно, – только прекрасная ложь; но Вальтер Скотт был слишком большим лжецом. Он больше нравился бы душам возвышенным, суд которых в конце концов всегда остается решающим в литературе, если бы в своем изображении страстей он допускал большее число естественных черт (318). Я скажу больше: персонажам шотландского романиста тем больше недостает смелости и уверенности, чем более возвышенные чувства им приходится выражать. Признаюсь, это больше всего огорчает меня в сэре Вальтере Скотте. В этом сказывается вся опытность старого судьи. Это тот самый человек, который, будучи допущен к столу Георга IV, посетившего Эдинбург, с восторгом выпрашивал бокал, из которого король пил за здоровье своего народа. Сэр Вальтер получил драгоценный кубок и положил его в карман своего сюртука. Но, вернувшись домой, он забыл об этой высокой милости; он бросил свой сюртук, стакан разбился, и он пришел в отчаяние. Понял ли бы это отчаяние смелый старый Корнель или милейший Дюсис? Через сто сорок шесть лет сэр Вальтер Скотт не будет стоять на той высоте, на какой стоит в наших глазах Корнель через сто сорок шесть лет после своей смерти (319). БАЛЬЗАК ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»22 [Первоначально Бальзак предполагал назвать свою эпопею в целом «Социальными этюдами». Бальзак предполагал, что предисловие к «Человеческой комедии» будет написано Жорж Санд. первому изданию Статья Жорж Санд о Бальзаке в то время написана не была. Она появилась лишь после смерти писателя, в 1853 году.] * Малое количество произведений питает большое самолюбие, большая работа внушает скромность. Первоначальная идея «Человеческой комедии» предстала передо мной как некая греза, как один из тех невыполнимых замыслов, которые лелеешь, но не можешь уловить; так насмешливая химера являет свой женский лик, но тотчас же, распахнув крылья, уносится в мир фантастики. Однако и эта химера, как многие другие, воплощается: она повелевает, она наделена неограниченной властью, и приходится ей подчиниться. Идея этого произведения родилась из сравнения человечества с животным миром (37). …Общество подобно Природе. Ведь Общество создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире. Различие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным деятелем, торговцем, моряком, поэтом, бедняком, священником так же значительно, хотя и труднее уловимо, как и то, что отличает друг от друга 22 Бальзак О. де. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1982. С. 37–50. волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу и т.д. Стало быть, существуют и всегда будут существовать виды в человеческом обществе, так же, как и виды животного царства (38). Таким образом, предстояло написать произведение, которое должно было охватить три формы бытия – мужчин, женщин и вещи, то есть людей и материальное воплощение их мышления, – словом изобразить человека и жизнь (39). …вплоть до нашего времени самые знаменитые рассказчики употребляли свое дарование на создание одного или двух типических лиц, на изображение какой-нибудь одной стороны жизни. Вальтер Скотт возвысил роман до степени философии истории, возвысил тот род литературы, который из века в век украшает алмазами бессмертия поэтическую корону тех стран, где процветает искусство слова. Он внес в него дух прошлого, соединил в нем драму, диалог, портрет, пейзаж, описание; он включил туда и невероятное, и истинное, эти элементы эпоса, и подкрепил поэзию непринужденностью самых простых разговоров. Но он не столько придумал определенную систему, сколько нашел собственную манеру в пылу работы или благодаря логике этой работы; он не задумывался над тем, чтобы связать свои повести одну с другой и таким образом создать целую историю, каждая глава которой была бы романом, а каждый роман – эпохой (40). Случай – величайший романист мира; чтобы быть плодовитым, нужно его изучать. Самим историком должно было оказаться французское Общество, мне оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками, – историю нравов. Придерживаясь такого тщательного воспроизведения, писатель мог бы стать более или менее точным, более или менее удачливым, терпеливым или смелым изобразителем человеческих типов, повествователем интимных житейских драм, археологом общественного быта, счетчиком профессий, летописцем добра и зла, но чтобы заслужить похвалы, которых должен добиваться всякий художник, мне нужно было изучить основы или одну общую основу этих социальных явлений, уловить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий. Словом, начав искать, – я не говорю: найдя, – эту основу, этот социальный двигатель, мне следовало поразмыслить о принципах естества и обнаружить, в чем человеческие Общества отдаляются или приближаются к вечному закону, к истине, к красоте (41). Суть писателя, то, что его делает писателем и, не побоюсь этого сказать, делает равным государственному деятелю, а быть может, и выше его, – это определенное / мнение о человеческих делах, полная преданность принципам. Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и наклонностями; Общество отнюдь не портит его, как полагал Руссо, а совершенствует, делает лучшим; но стремление к выгоде, с своей стороны, развивает его дурные склонности. Внимательное рассматривание картины Общества, списанной, так сказать, с живого образца, со всем его добром и злом, учит, что если мысль или страсть, которая вмещает и мысль и чувство, явления социальные, то в то же время они и разрушительны. В этом смысле жизнь социальная походит на жизнь человека (42). Единственно возможная религия – христианство <…>. Христианство создало современные народы, оно их будет хранить. Отсюда же, без сомнения, вытекает необходимость монархического принципа. Католичество и королевская / власть – близнецы (43). Писатели, имеющие какую-нибудь цель, будь то возвращение к идеалам прошлого (именно потому, что эти идеалы вечны), всегда должны расчищать себе почву. А между тем всякий, кто вносит свою часть в царство идей, всякий, кто отмечает какое-либо заблуждение, всякий, кто указывает на нечто дурное, чтобы оно было искоренено, – тот неизменно слывет безнравственным. Если вы правдивы в изображении, если, работая денно и нощно, вы начинаете писать языком небывалым по трудности, тогда вам в лицо бросают упрек в безнравственности. Когда дается точное изображение всего Общества, описываются его великие потрясения, случается, – и это неизбежно, – что произведение открывает больше зла, чем добра, и какая-то часть картины представляет людей порочных; тогда критика начинает вопить о безнравственности, не замечая назидательного примера в другой части, долженствующей создать полную противоположность первой (44). …но, как сказал Наполеон, для монархов и государственных деятелей существуют две морали: большая и малая. Сцены политической жизни основаны на этом прекрасном рассуждении. История не обязана, в отличие от романа, стремиться к высшему идеалу. История есть или должна быть, чем она была, в то время как роман должен быть лучшим миром, сказала г-жа Неккер [Жермена де Сталь, дочь министра Людовика XVI Неккера], одна из самых замечательных женщин последнего времени. Но роман не имел бы никакого значения, если бы при этом возвышенном обмане он не был правдивым в подробностях (45). Страсть – это все человечество. Без нее религия, история, роман, искусство были бы бесполезны. Я не верю в бесконечное совершенствование человеческого Общества, я верю в совершенствование самого человека. Те, кто думает найти у меня намерение рассматривать человека как создание законченное, сильно ошибаются (46). Поняв как следует смысл моего произведения, читатели признают, что я придаю фактам, постоянным, повседневным, тайным или явным, а также событиям личной жизни, их причинам и побудительным началам столько же / значения, сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов (47). Это не малый труд – изобразить две или три тысячи типичных людей определенной эпохи, ибо таково в конечном счете количество типов, представляющих каждое поколение, и «Человеческая комедия» их столько вместит. Отсюда столь естественные, уже известные, разделы моего произведения: Сцены частной жизни, провинциальной, парижской, политической, военной и сельской. По этим шести разделам распределены все / очерки нравов, образующие общую историю Общества, собрание всех событий и деяний, как сказали бы наши предки. К тому же эти шесть разделов соответствуют основным мыслям. Каждый из них имеет свой смысл, свое значение и заключает эпоху человеческой жизни. Сцены частной жизни изображают детство, юность, их заблуждения, в то время как сцены провинциальной жизни – зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие. Затем в сценах парижской жизни дана картина вкусов, пороков и всех необузданных проявлений жизни, вызванных нравами, свойственными столице, где одновременно встречаются крайнее добро и крайнее зло. Мой труд имеет свою географию, так же как и свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты, также он имеет свой гербовник, свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою армию – словом, весь мир. Изобразив в этих трех отделах социальную жизнь, мне оставалось показать жизнь совсем особую, в которой отражаются интересы многих или всех, – жизнь, протекающую, так сказать, вне общих рамок, – отсюда сцены политической жизни. После этой обширной картины Общества надо было еще показать его в состоянии наивысшего напряжения, выступившим из своего обычного состояния – будь то для обороны или для завоевания. Отсюда сцены военной жизни – пока еще наименее полная часть моей работы, но которой будет оставлено место в этом издании, с тем чтобы она вошла в него, когда я ее закончу. Наконец, сцены сельской жизни представляют собой как бы вечер этого длинного дня, если мне позволено назвать так драму социальной жизни. В этом разделе встречаются самые чистые характеры и осуществление великих начал порядка, политики и нравственности (48). Таково основание, полное лиц, полное комедий и трагедий, над которым возвышаются философские этюды, вторая часть работы, где находит свое выражение социальный двигатель всех событий, где изображены разрушительные бури мысли, чувство за чувством. Первое произведение этого раздела – «Шагреневая кожа» – некоторым образом связывает сцены нравов с философскими этюдами кольцом почти восточной фантазии, где сама Жизнь изображена в схватке с Желанием, началом всякой Страсти. Еще выше найдут место аналитические этюды, о которых я ничего не скажу, так как из них напечатан только один: «Физиология брака». Париж, июль 1842 г. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. В чем существо эстетических взглядов Ф. Стендаля и как они отражаются в его художественном творчестве. 2. Какое место занимает проблема личности в творчестве О. де Бальзака и в его эстетической концепции. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ23 1. На материале всех пяти Приложений составьте тезисный план, отражающий основные черты / категории / позиции эстетики романтизма (западноевропейского и американского) и западноевропейского реализма. 2. Что общего и что различного А) в эстетических воззрениях романтиков Западной Европы (Германии, Франции, Англии); Б) в эстетике Выполняется самостоятельно в письменной форме. Предполагается творческое обращение студентов к 1) эстетическим трудам эпохи, 2) к специальной научной литературе, 3) к художественным текстам. За успешное выполнение этой письменной работы (как и спецвопроса), студенты получает экзаменационную оценку «хорошо». 23 западноевропейского и американского романтизма. 3. Определите общее и различное в эстетических воззрениях писателейреалистов Западной Европы (Германии, Франции, Англии). 4. Анализируя основные произведения романтического и реалистического искусства (например: «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, «Крошка Цахес» Э.Т.А. Гофмана, «Сказание о старом мореходе» С.Т. Колриджа, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго, «Рип Ван Винкль» В. Ирвинга»; «Германия. Зимняя сказка» Г. Гейне, «Красное и черное» Ф. Стендаля, «Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Домби и сын» Ч. Диккенса, «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея), выявите отражение в них основных положений эстетики и поэтики А) романтизма; Б) реализма. СПЕЦВОПРОСЫ* Вариант I 1. Тематическое и художественное единство поэтической книги Ш. Бодлера «Цветы зла». 2. Способы типизации в романной прозе Ч. Диккенса («Домби и сын», «Тяжелые времена»). Вариант II 1. Основные мотивы и структура книги «Цветы зла» Ш. Бодлера. 2. Проблема детства в творчестве Ч. Диккенса («Приключения Оливера Твиста», «Большие надежды»). * Работа над спецвопросом (своего рода мини-курсовой) требует от студента приложения значительных усилий и специфических умений. Требования к подготовке и оформлению спецвопроса: работа выполняется письменно – на одной стороне листа: формат бумаги А 4, шрифт 12–14, интервал 1, 5, рамки (поля): верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; объём произвольный (минимум 10-15 страниц); обязателен анализ художественного текста и использование специальной научной литературы (монографий, статей и др.); соблюдать правила оформления цитируемого материала; в конце работы указывается список использованной литературы (необходимо обратить внимание на правильное библиографическое описание). СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..……………………………………………………………3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН… ………………………………18 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………..20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ……………….....…………………..20 ХРЕСТОМАТИИ…………………………………………………….…21 СБОРНИКИ И АНТОЛОГИИ…………………………………………22 ТЕОРЕТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ………………………………………………….….24 ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ……………………………………………25 Основная……………………………………………………………..25 Дополнительная……………………………………………………..26 УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ…………….45 ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ…………….………………………46 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ………… …………..………………….49 МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ…….....……….……….52 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ…………………………………53 ПРИЛОЖЕНИЕ I. ……………………………………………..……….56 ПРИЛОЖЕНИЕ II………………………………………………………77 ПРИЛОЖЕНИЕ III………………………………………...…………...119 ПРИЛОЖЕНИЕ IV……………………………………………………..128 ПРИЛОЖЕНИЕ V……………………………………………………...184 ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ……………………………………………198 СПЕЦВОПРОСЫ………………………………………………………199 СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………...…200