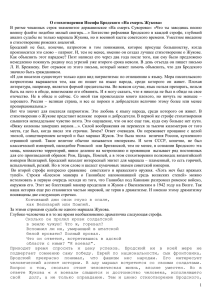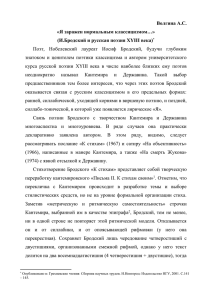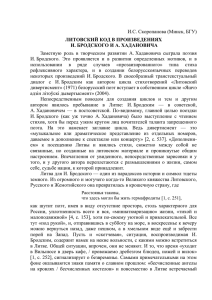Упражнения в фонетике
advertisement

Упражнения в фонетике. К 65-летию Иосифа Бродского Уже давно я обнаружил, что хорошие стихи узнаешь на вкус, что они заключают в себе отнюдь не только платоническое наслаждение прекрасным и возвышенным, но сулят языку и нёбу почти бесстыдные чувственные радости – как лакомый кусок или поцелуй. Позже я нашел это у Мандельштама: Только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык. Да, и у самого Бродского: и без костей язык до внятных звуков лаком Виноградное мясо стиха – это прежде всего русские согласные, умело и точно разбавленные пением гласным. Мандельштам, говоря о вечном русском двуязычии – доставшемся по наследству ученом языке чернецов, церковнославянском, и живом языке мирян, – связывает первый с пропеванием гласных, свирелью и флейтой, а второй – с барабанами согласных, разбуханием «морфологической лавы под смысловой корой». Почему? Потому, наверное, что, где Византия, там эллинизм, где эллинизм, там Гомер, а где Гомер, там женский плач мешается с пеньем муз: MÁnin ¥eide qe¦ | Phlhi£dew 'AcilÁoj «Согласные – семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание – отмиранье чувства согласной. Русский стих насыщен согласными и цокает, и щелкает, и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь литания гласных». О, гласные куда ближе дыханию, ветру («слух чуткий парус напрягает…»), духу, «музыке сфер», их «кристаллическим нотам». Гласные – предмет пневматологии, согласные – мясо, плоть стиха. Да и потом, цоканье, щелканье и посвист – восприятие на слух, стих же необходимо почувствовать, как было сказано, языком, нёбом и губами. Виноградное мясо, строчки с кровью, ростбиф с кровью, … Что ж, поднимай удивленные брови, Ты, горожанин и друг горожан, – Вечные сны, как образчики крови, Переливай из стакана в стакан. Посмотрите, как сладостно русское концевое «т», когда оно умело подготовлено дыханием гласной и становится у нее на пути в закрытом слоге, спирает дыхание. Язык с силой прижимается к тверди зубов, наливается запертым звуком, а затем отваливается как напитавшаяся пиявка, давая выйти остаткам дыхания, совсем потерявшим форму, превратившимся в наш редуцированный и смутный славянский гласный, обозначавшийся некогда «ером», – то ли «о», то ли «ы». Валит снег, не дымят но трубят Трубы кровель, и лица – как пятна, Ирод пьет, бабы прячут ребят… Кто грядет, никому не понятно. Стоит, тем не менее, не позволить пиявке языка расслабленно почить в мягких тканях своего лежбища, и напряжение мягкого нёба и голосовых связок сотворит «ты» вместо бесформенного «тъ». Сам по себе звук «ы» безобразен, он предназначен для рева или воя, потерявшего себя человека, для плача и стона: Я взбиваю подушку мычащим «ты», За морями, которым конца нет и края, В темноте, всем телом твои черты Как безумное зеркало повторяя. Заметьте, что мычащее «мы» и безнадежно тычущееся в непроницаемую твердь зубов «ты», неожиданно дает соткаться из плоти стиха личным местоимениям – «ты» и «мы»; из семени согласных прорастают семы, звук наполняется семантикой. Чудо здесь в том, что разорванное ночным океаном «мы» и недостижимое для голоса-зова «ты», недостижимое для означающего означаемое, зарождаются в ткани стиха как бы сами собой, помимо воли поэта, или падают в нее откуда-то издалека, по-видимому, из гиперурании, из занебесья, которое, по Платону, должно быть хранилищем всех смыслов. Именно это событие околдовывания, обаивания, властного притягивания занебесного смысла плотью звука, событие, которое нельзя измыслить и технологически, инструментально осуществить, «на манер того, как птичку притягивают палочкой, обмазанной клеем», и кажется мне одним из самых существенных в поэзии. Это событие, тем не менее, основано в другом, еще более таинственном. Удивительным образом, в стихотворении с бесстыдной чувственностью языка и гортани неразрывно связано нечто такое, что запредельно всякой чувственности. Но разве не это было сказано только что? Разве не о смысле говорили мы? А после Платона никто уже не удивляется тому, что смысл, idea, внеположны чувству или, по крайней мере, имеют запредельное (по-латыни «трансцендентальное») основание. Но нет, не об этом мне хочется сегодня сказать, в связи с поэзией Бродского. Смысл – не тот, что конструируется при помощи поэтической 2 techne, или вы-ражается, т. е. извлекается языком из некоего тезауруса уже готовых смыслов, – но тот, что зачинается только в поэтическом голосе, «заводится в крови мыслей и слов», в цоканье и посвисте согласных, в ангельском распеве и животном мычании гласных, и существует в них и с ними неслиянно и нераздельно, такой смысл требует особой силы для своего рождения. У меня нет для этой силы иного слова, кроме слова «чувство», но чувство это совсем не чувственно, в том смысле, что мы его не «испытываем» как испытываем желание или отвращение. Язык может изобразить чувство, его великая миметическая сила может даже сотворить чувство ex nihilo, породив со-чувствие. Вот мастерское изображение страсти (Б. Пастернак, «Марбург»): Когда я упал пред тобой, охватив Туман, этот, лед этот, эту поверхность (Как ты хороша!) – этот вихрь духоты… О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут. В нем тоже дрожит, прерывая дыхание, концевое «тъ», но страсть здесь изображена подробно и, так сказать, натурально, как изобразили бы эту сцену актеры старого МХАТа. Совсем по Аристотелю – mimesis praxeos – подражание действию. «Да, поэзия Пастернака прямое токование, (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла…». На такую страсть, как мне представляется, не откликается занебесный смысл, «чтоб, возбудив бескрылое желанье в нас, детях праха, снова улететь». А вот – стихотворение Бродского, которое я уже цитировал. В нем мычащее «ты» уже не обжигает женщине живот («когда я упал пред тобой, обхватив…»). Им давятся, его стремятся запихнуть обратно в гортань, поскольку адресат недостижим и, по сути, уже не важен. Послание из ниоткуда в никуда, мычащее означающее, навсегда с мясом оторванное от денотата. Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, дорогой, любимая, но не важно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но и ничей верный друг вас приветствует с одного из пяти континентов, держащегося на ковбоях; я любил тебя больше, чем ангелов и Самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих; поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, в городке, занесенном снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне – как не сказано ниже по крайней мере – я взбиваю подушку мычащим «ты» 3 за морями, которым конца нет и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. О нечувственном чувстве говорит Кант, когда пытается объяснить, что заставляет каждого из нас иногда поступать вопреки своему желанию или, наоборот, отвращению, когда это странное побуждение не задано чем-то внешним – страхом или стыдом, – но рождается в нас самих. Только чувство способно справиться с чувством. Но это странное чувство, о котором здесь идет речь, нам не дано, его нельзя в себе увидеть, хотя с ним зачастую не справляется сердце. Оно только оставляет след. И этот след – боль, боль отказа, быть может, – отказа от счастья, но не отречения от судьбы, что важнее всего для «впрягшегося в ярмо необходимости». Об этом писал и Бродский: когда его спрашивали, почему он не хочет вернуться в Петербург, он отвечал: «боюсь лишиться судьбы». Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды был распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял зерно, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим легким все звуки, помимо воя; перешел не шепот. Теперь мне сорок. Что сказать о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем чувствую я солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. 24 мая 1980 Чувства в схоластике и философии Нового времени было принято называть аффектами. Но странное чувство, о котором я сейчас пытаюсь сказать, уж никак не аффект, и поэтому Бродский всегда страшился аффектации. Его интонация, может заключать в себе все что угодно – холодность, грубость, скуку, отвращение, – но только никак не назойливую аффектацию. Зависть бывает черной, ярость, вероятно, алой… Когда я думаю об интонации Бродского мне чудится серый цвет – тот, что иногда в тихие 4 осенние деньки сплавляет в единый серый кристалл воду Финского залива и низкое небо ним. Тот, что так хорошо умели изображать «малые голландцы». Он светит над замерзшими за ночь каналами Амстердама, в воздухе вьется редкий снежок, и мальчишки, скользящие по льду на своих страшных, напоминающих остро отточенные мечи коньках, кричат по-голландски: «Зима! Зима!». Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, что всегда набегали по две, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними как мокрый волос, если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, кипящий на керосинке, максимум – крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха. « – А относительно таких вещей, Сократ, которые могли бы показаться даже смешными, как, например, волос, грязь, сор и всякая другая не заслуживающая внимания дрянь, – спрашивает Парменид, – ты тоже недоумеваешь, следует или нет для каждой из них признать идею, отличную от того, к чему прикасаются наши руки? – Вовсе нет, – ответил Сократ, – я полагаю, что такие вещи только таковы, какими мы их видим. Предположить для них существование какойто идеи было бы слишком странно». Нет, нет – в виноградном мясе стиха воплощаются не только платоновы идеи, не только прекрасное само по себе, но мокрый волос или чайник, кипящий на керосинке. Со всем этим atimiotaton (как говорит Платон) происходит странное пресуществление. Эти «самые презренные» вещи не причащаются идеям и ничего не символизируют, но выстраиваются в удивительные серии, удивительные семиотические конфигурации, от которых захватывает дух, как от слепой стены старого питерского дома с замысловатыми разводами от бесконечных дождей и ветров, проносящихся над балтийскими болотами, – то Времени, невидимые прежде, в вещах черты вдруг проступают, и теснится грудь от старческих морщин; но этих линий – их не разгладишь, тающих как иней коснись их чуть. 5 «Остановись мгновенье! Ты не столь / прекрасно, сколько ты неповторимо». Не звон дантовых атлетических дисков, не серебренная труба Катулла… Чайник свистит на керосинке и белье полощется на ветру. Мастер словесности, перерастая свое мастерство, переходит на шепот: Тихотворение мое, мое немое (мое – не моё – А.Ч.) однако тяглое – на страх поводьям, куда пожалуемся на ярмо и кому поведаем, как жизнь проводим? Как поздно за полночь ища глазунию луны за шторами зажженной спичкою, вручную стряхиваем пыль безумия с осколков желтого оскала в писчую. Как эту борзопись, что гуще патоки, там ни размазывай, но с кем в колене и в локте хотя бы преломить, опять таки, ломоть отрезанный, тихотворение? Ах, эта писчая бумага! Ах, эта tabula rasa! В ней-то все и разрешается, она-то долготерпит и милосердствует, она-то все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. К бумаге склоняется поэт, почти обжигаясь ее белизной, тем самым заслоняя ее собой как самой последней стеной, спасая ее от веселой разноцветной пошлости вещей, спасая ее как последнее пространство спасения, пространство, которое нигде и везде. «Идет октябрь, я верю в пустоту. В ней как в аду, но более хреново. И новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово». Ах, язык мой, свистящий и цокающий, лакомый до сласти виноградного мяса стиха, язык мой – трость книжника барзописца, трость и посох путешествующего в беспредельном месте, которое греки называли apeiron, а Бродский – «бумага»: и без костей язык до внятных звуков лаком, судьбу благодарит кириллицыным знаком. На то она судьба, чтоб понимать на всяком наречье. Предо мной – пространство в чистом виде. В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде. В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде. Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох. Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах, эпоха на колесах нас не догонит, босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. Зане не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи мое перо, переводи бумагу. 6 Друзья Бродского, говорят, что он любил покушать. В пьесе «Мрамор» для Туллия и Публия меню составляет компьютер, причем так, что определенное сочетание блюд повторяется один раз в 240 лет. Сами названия блюд многое обещают языку и нёбу. Но, боюсь, несмотря на все это азартное кулинарное сочинительство, всю эту видимость причастности жизненным сокам, виноградной лозе, мясу морских гребешков, и китайским пельменям с каракатицей, душа поэта неизбежно истончается. «Все откололось…/ Время. И судьба. И о судьбе…/ Осталась только память о себе, негромкий голос. Она одна./ И то – как шлак перегоревший, гравий,/ за счет каких-то писем, фотографий, / зеркал, окна, –/ исподтишка…». Пастернак написал: О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью – убивают, Нахлынут горлом и убьют. Мне представляется, что Бродский знал об этом всегда, он знал об этом уже тогда, когда «запив свой завтрак жидким чаем, <…> догонял трамвай, чтобы добавить еще одну вишенку к темной людской грозди, свисавшей с подножки («я трамвайная вишенка страшной поры…») и плыл сквозь акварельный розово-голубой город к конуре-проходной». Вот только эти шекспировские сцены, что у Пастернака, эта арена Колизея – не для него. Строчки с кровью, ростбиф с кровью… Чтобы распробовать русский стих, жало мудрыя змеи, пожалуй, – неподходящее орудие, оно годится для того, чтобы глаголом сердца жечь, а Бродский больше всего боялся стать назойливым, наследить в чужой квартире… Отсюда – азартное кулинарное сочинительство и такой жадный, но вместе с тем нежный, прощальный взгляд, скользящий по бирюзе венецианских каналов. Под этой праздничной поверхностью – слои нечистот, многовековые напластования человеческого Dasein. Они же скрываются за слепыми стенами старых питерских домов, за изнанкой, под подкладкой – затхлые запахи человеческого жития-бытия, о которых писал Рильке. Но стоит этому житию-бытию воспарить в семиотическое пространство, и запахи исчезают, вместо дурно пахнущих напластований – теплая семиотическая зола воспоминаний, остывающая лава буйного фонетического цветения, виноградное мясо стиха. Так что уж, верни мне грешный мой язык и похотливый, и лукавый, шестикрылый серафим Здесь на земле, где я впадал то в истовость, то в ересь, где жил в чужих воспоминаньях греясь, как мышь в золе, где хуже мыши глодал петит родного словаря тебе чужого, где благодаря 7 тебе, я на себчя взираю свыше <…> тебе твой дар я возвращаю – не зарыл, не пропил; и, если бы душа имела профиль, ты б увидал, что и она всего лишь слепок с горестного дара, что более ничем не обладала, что вместе с ним к тебе обращена. Мышь, мышь, глодающая корешки книг, глодающая петит родного словаря – вот тотем поэта. Мыши вокабул питаются памятью и сердцем. «Видно даром не проходит / шевеленье этих губ». … и при слове «грядущее» из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр, дырякой. После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное «до», но ее шуршание. Жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Время стачивает коготок и посох и трость барзописца, как сточило твой каблук. Пространство выносимого существования сокращается как шагреневая кожа, как лакомый круг лунного сыра, от которого все время чтото отщипываешь и стряхиваешь в «писчую». Происходит вытеснение, выталкивание ввысь, ввысь, в ионосферу, в мерзлую белизну чистого листа, которая никогда не перестанет ждать, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут. сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь – словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи, перо. Черней, бумага. 8 Лети, минута. Вот он – последний и вечный приют свободы – бумага, свернувшаяся в трубку гортани, в авлос. …и невдомек, зачем так много черного на белом? Гортань исходит грифелем и мелом, и в ней – комок не слов, не слез, но странной мысли о победе снега – отбросов света, падающих с неба… Когда-то великий голландский поэт Martinus Nijhoff написал стихотворение о пчелах, отправившихся за небесным медом, в занебесье, за небесным звуком, который слаще для языка поэта, чем сладость под языком у возлюбленной. Пчелы подымаются все выше и выше, пока не превращаются в комочки белого снега. Видно, этот снежок вьется над замерзшими каналами Амстердама. Бродский не знал об этом стихотворении, когда в 1973 году писал свой «Осенний крик ястреба». 9