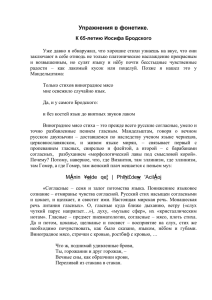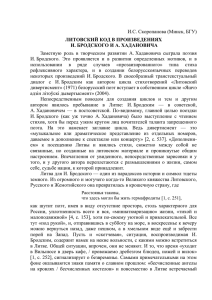Волгина А
advertisement
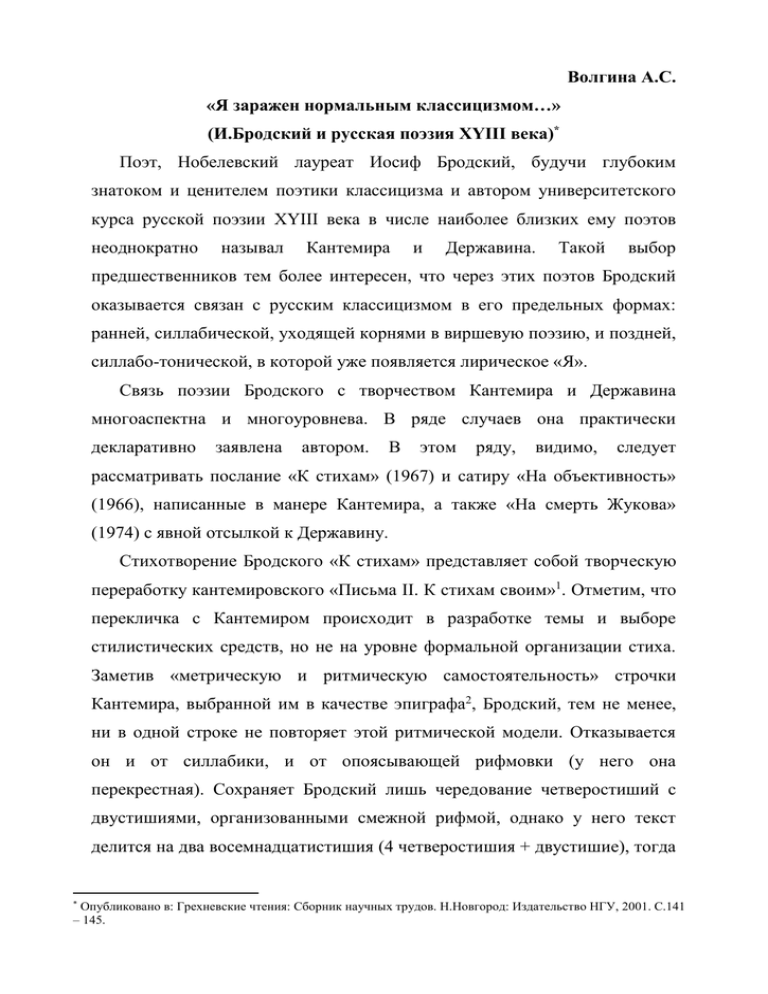
Волгина А.С. «Я заражен нормальным классицизмом…» (И.Бродский и русская поэзия XYIII века)* Поэт, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, будучи глубоким знатоком и ценителем поэтики классицизма и автором университетского курса русской поэзии XYIII века в числе наиболее близких ему поэтов неоднократно называл Кантемира и Державина. Такой выбор предшественников тем более интересен, что через этих поэтов Бродский оказывается связан с русским классицизмом в его предельных формах: ранней, силлабической, уходящей корнями в виршевую поэзию, и поздней, силлабо-тонической, в которой уже появляется лирическое «Я». Связь поэзии Бродского с творчеством Кантемира и Державина многоаспектна и многоуровнева. В ряде случаев она практически декларативно заявлена автором. В этом ряду, видимо, следует рассматривать послание «К стихам» (1967) и сатиру «На объективность» (1966), написанные в манере Кантемира, а также «На смерть Жукова» (1974) с явной отсылкой к Державину. Стихотворение Бродского «К стихам» представляет собой творческую переработку кантемировского «Письма II. К стихам своим»1. Отметим, что перекличка с Кантемиром происходит в разработке темы и выборе стилистических средств, но не на уровне формальной организации стиха. Заметив «метрическую и ритмическую самостоятельность» строчки Кантемира, выбранной им в качестве эпиграфа2, Бродский, тем не менее, ни в одной строке не повторяет этой ритмической модели. Отказывается он и от силлабики, и от опоясывающей рифмовки (у него она перекрестная). Сохраняет Бродский лишь чередование четверостиший с двустишиями, организованными смежной рифмой, однако у него текст делится на два восемнадцатистишия (4 четверостишия + двустишие), тогда Опубликовано в: Грехневские чтения: Сборник научных трудов. Н.Новгород: Издательство НГУ, 2001. С.141 – 145. * как у Кантемира текст монолитен, четверостишия и двустишия постоянно чередуются. На создание «эффекта воскрешения силлабической системы стихосложения»3, в самой конструкции стиха работает только неупорядоченность расположения ударных и безударных слогов в строке. В то же время, имитация стиля Кантемира Бродскому удается блестяще. Он вводит в стихотворение архаичные слова и грамматические формы, постоянно подчеркивая утрированный характер стилизации. Он виртуозно пользуется инверсией и переполняет стих переносами, в обилии которых Кантемир видел следование живой речи и разговорной естественности4. Бродский обыгрывает и характерную для Кантемира осторожность в употреблении тропов с обязательной расшифровкой их в примечаниях5: он предельно упрощает ткань стиха и немедленно поясняет даже простейшие перифразы. М. Крепс отмечает ряд расхождений Бродского с Кантемиром в развертывании темы, в выражении авторской позиции6. Отметим также, что Бродский принципиально иначе оценивает влияние личности поэта на судьбу стихов. Если у Кантемира именно автор навлекает хулу на свои творения, то у Бродского «авторское присутствие» поддерживает стихи на их пути к читателю. Но что особенно интересно, в то время как классицист Кантемир, говорящий от лица объективной истины, относится к стихам, как к неразумным детям, Бродский, с его восприятием языка как Бога, ведущего за собой поэта, и поэзии как высшей формы языка, декларирует превосходство стихов над автором и их независимость от него. Сатира «На объективность» - принципиально иной случай взаимодействия Бродского с традицией Кантемира. На сей раз основной задачей автора становится скрупулезное воспроизведение формы – жанровой и стиховой. Сатира Бродского представляет собой текст сравнительно большого объема; заглавие сформулировано по образцу кантемировских; тема масштабна; в сатиру вовлечены два героя: alter ego автора и персонаж-слушатель, оппонент, носящий условное имя Дамон, взятое из греческой мифологии; композиционной моделью послужила, возможно, сатира Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных», которую Бродский знал наизусть; в качестве аргументации привлекаются библейские сюжеты, приводится притча. Однако, при рассмотрении конкретного наполнения жанровой формы обнаруживается целый ряд явных, намеренных нарушений. Прежде всего, автор избирает предметом сатиры объективность: любой классицист воспринял бы это как кощунство; в ряду условных имен вдруг появляется «Кушнер», который по всем параметрам не был бы допущен в классицистический текст; «притча» состоит из двух строк и вывод из нее парадоксален; на чьей стороне истина непонятно до самого финала, где вместо дидактического вывода – отказ от фундаментальной идеи сатиры как жанра –«хаять глупца» - и растворение alter ego автора в воспетом им пространстве. В то же время форма стихотворения отвечает всем требованиям, которые предъявлял к стиху Кантемир: каждая строка содержит 13 слогов, место цезуры постоянно (причем цезур – две), окончание строки - женское, окончание предцезурных полустиший – мужское, - и более того, все три окончания подчеркнуты смежной рифмовкой. Такой стих, с одной стороны, можно было бы определить как шестистопный дактиль с двумя предцезурными усечениями. С другой стороны, такой ритмический рисунок представляет собой скорее логаэд. И, наконец, он может быть воспринят как образец силлабики с чертами тонической упорядоченности. Последний вариант, учитывая жанр произведения, едва ли не наиболее убедителен. Так Бродский, нарочито расходясь с Кантемиром на уровне содержания, парадоксально сближается с ним на уровне формы, создавая на основе силлабики стиховую конструкцию невероятной сложности. Стихотворение Бродского «На смерть Жукова» Вяч.Вс. Иванов прямо назвал «вариацией» державинского «Снигиря»7. Сравнительному анализу этих стихотворений специально посвящена статья Р.М.Лазарчук8. И на формальном, и на содержательном уровне стихотворения связь с Державиным четко обозначена Бродским и легко угадывается читателем. В ряде произведений Бродского связь с поэзией XYIII века, хотя и не столь очевидна, но не менее прочна. Здесь как пример можно привести стихотворение «К Евгению» из «Мексиканского дивертисмента» (1975). Вынося в заглавие имя реального адресата своего послания - Е.Рейна, Бродский, несомненно, осознавал, что в столь сильной позиции оно будет привлекать ассоциации с образцами русского классицизма, где оно использовалось как условное, что значительно расширяет границы заложенного в текст смысла. Через сатиру «Филарет и Евгений» устанавливается связь с творчеством Кантемира, созвучно которому читается заключительная строфа стихотворения. В контексте кантемировских сатир выявляется редуцированное дидактическое начало послания Бродского. С другой стороны, возникает параллель с «Евгению. Жизнь званская» Державина, причем при сравнении послание Бродского воспринимается как некий минус-вариант державинского, своего рода анти-идиллия (Званка vs Мексика, замкнутый мирок vs странствие, благодарное приятие своего удела vs разочарование). К этой же категории текстов можно отнести «Большую элегию Джону Донну» (1963). Р.Сильвестр отмечает, что в ямбической строке этого «большого стихотворения» «Бродский достигает почти максимально возможной уплотненности ударных слогов».9 Действительно, наряду с ожидаемыми в двухсложном размере пиррихиями (здесь, кстати, довольно немногочисленными) в этом стихе появляются сверхсхемные ударения, причем не только в анакрусе, но и на внутренних позициях. Это напоминает эксперименты русских классицистов (главным образом, Державина) с «трудным» стихом10, прекратившиеся уже в творчестве Карамзина, где «на начальной позиции и количество сверхсхемных ударений и тяжесть их (доля знаменательных слов среди них) остались близки к естественным; зато с внутренних позиций они были изгнаны». Таким образом, обилие спондеев, осмыслявшееся поколением Державина «как знак высокого вдохновенного стиля», в последующую эпоху стало приемом пародирования этого стиля. Бродский использует «трудный» стих в его изначальной функции: «под его пером этот прием превращается в мощный ритмический инструмент, создающий ямбический музыкальный стих при максимально полновесной строке»11. Обращение Бродского при написании «Большой элегии Джону Донну» к державинскому стиху, видимо, не случайно: в ряде интервью Бродский напрямую соотносит Донна с Державиным12. И, возможно, выбирая язык, который «доставил бы удовольствие тени» он, осознанно или неосознанно, обратился к творчеству поэта, чей стиль некоторым образом сходен с донновским. Таким образом, не исключено, что развернутое описание всеобщего сна, сопровождающего смертный сон человека, в «Большой элегии..» восходит к державинскому «Водопаду» (чудотворный сон «седого мужа»). Это сравнение тем более интересно, что «Водопад» связан с оссианической традицией, пришедшей в русскую поэзию из английской. Таким образом, связь творчества Бродского с русской поэзией XYIII в. носит характер не одностороннего восприятия традиции, а творческого диалога. Смело наполняя архаичные жанровые формы событиями и реалиями ХХ века, сталкивая устаревшие слова с современным сленгом Бродский, с одной стороны, сообщает постмодернистский ракурс произведениям классицистов и тем самым выявляет их актуальность по сей день, а с другой стороны, обретает прочную опору для своей поэзии, укореняет свои эксперименты в русской лингво-поэтической традиции. Сравнительный анализ ряда метрических и тематических особенностей указанных текстов, выявление возможных мотивов обращения Бродского к стиху Кантемира проводит М.Крепс в книге: М.Крепс. О поэзии Иосифа Бродского. – Анн Арбор: Ардис, 1984. – С.125 – 129. 2 Там же, с.126. 3 Р.Сильвестр. Остановившийся в пустыне./ Пер. с англ. Л.Штерн // Часть речи: Альманах литературы и искусства. – Нью-Йорк, 1980. - С. 51. 4 Об этом см. И.З.Серман. Русский классицизм (Поэзия. Драма. Сатира). – Л.,1973. – С.183. 5 Там же. 6 М.Крепс. Указ. соч. – С.125 – 129. 7 Вяч.Вс. Иванов. Бродский и метафизическая поэзия // Звезда. – 1997. - №1. – С.196. 8 Р.М. Лазарчук. «На смерть Жукова» И.Бродского и «Снигирь» Державина: проблема традиции //Русская литература. – 1995. - №2. – С.241-247. См. тж.: М.Крепс. Указ. соч. – С.129 – 133. 9 Р.Сильвестр. Указ. соч. - С.47. 10 Сведения об эволюции «трудного» стиха: М.Л.Гаспаров Очерк истории русского стиха. – М., 2000. С.87 - 88. 1 11 12 Р.Сильвестр. Указ. соч. - С.47. И.Бродский. Большая книга интервью. – М., 2000. – С.44, 157.