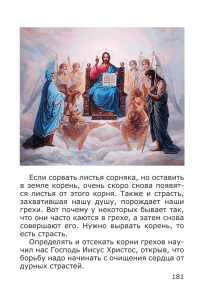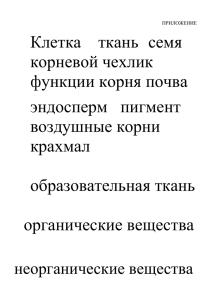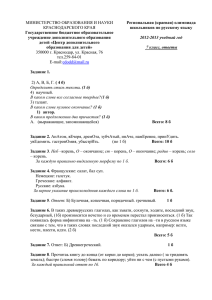Время кольцевать мышей
advertisement
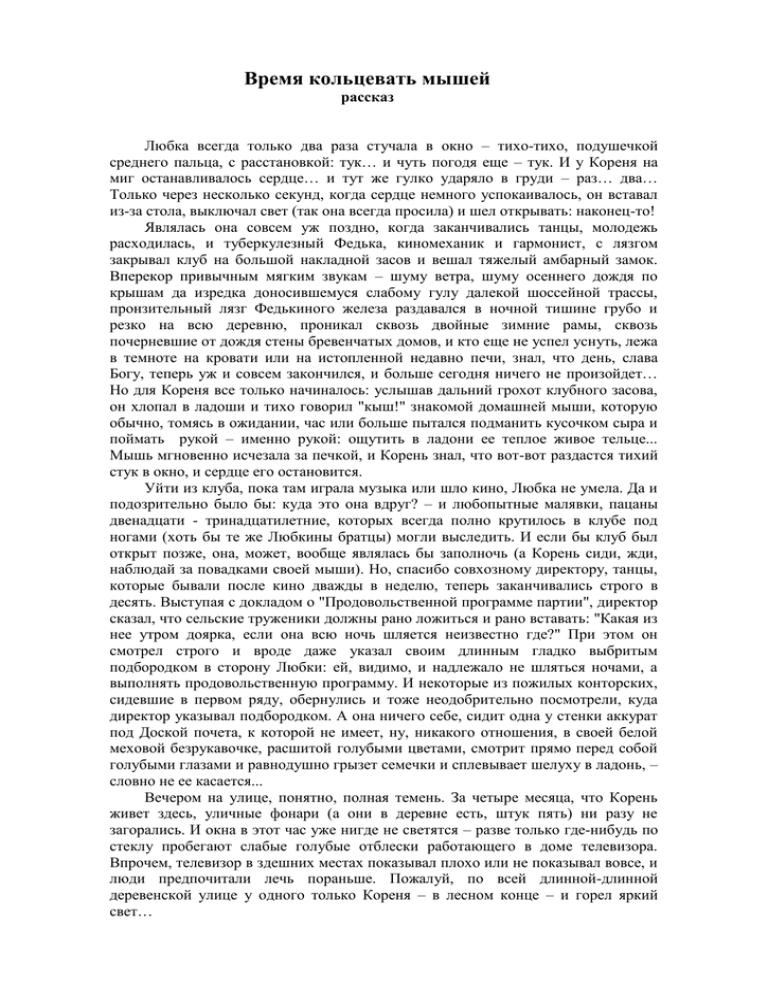
Время кольцевать мышей рассказ Любка всегда только два раза стучала в окно – тихо-тихо, подушечкой среднего пальца, с расстановкой: тук… и чуть погодя еще – тук. И у Кореня на миг останавливалось сердце… и тут же гулко ударяло в груди – раз… два… Только через несколько секунд, когда сердце немного успокаивалось, он вставал из-за стола, выключал свет (так она всегда просила) и шел открывать: наконец-то! Являлась она совсем уж поздно, когда заканчивались танцы, молодежь расходилась, и туберкулезный Федька, киномеханик и гармонист, с лязгом закрывал клуб на большой накладной засов и вешал тяжелый амбарный замок. Вперекор привычным мягким звукам – шуму ветра, шуму осеннего дождя по крышам да изредка доносившемуся слабому гулу далекой шоссейной трассы, пронзительный лязг Федькиного железа раздавался в ночной тишине грубо и резко на всю деревню, проникал сквозь двойные зимние рамы, сквозь почерневшие от дождя стены бревенчатых домов, и кто еще не успел уснуть, лежа в темноте на кровати или на истопленной недавно печи, знал, что день, слава Богу, теперь уж и совсем закончился, и больше сегодня ничего не произойдет… Но для Кореня все только начиналось: услышав дальний грохот клубного засова, он хлопал в ладоши и тихо говорил "кыш!" знакомой домашней мыши, которую обычно, томясь в ожидании, час или больше пытался подманить кусочком сыра и поймать рукой – именно рукой: ощутить в ладони ее теплое живое тельце... Мышь мгновенно исчезала за печкой, и Корень знал, что вот-вот раздастся тихий стук в окно, и сердце его остановится. Уйти из клуба, пока там играла музыка или шло кино, Любка не умела. Да и подозрительно было бы: куда это она вдруг? – и любопытные малявки, пацаны двенадцати - тринадцатилетние, которых всегда полно крутилось в клубе под ногами (хоть бы те же Любкины братцы) могли выследить. И если бы клуб был открыт позже, она, может, вообще являлась бы заполночь (а Корень сиди, жди, наблюдай за повадками своей мыши). Но, спасибо совхозному директору, танцы, которые бывали после кино дважды в неделю, теперь заканчивались строго в десять. Выступая с докладом о "Продовольственной программе партии", директор сказал, что сельские труженики должны рано ложиться и рано вставать: "Какая из нее утром доярка, если она всю ночь шляется неизвестно где?" При этом он смотрел строго и вроде даже указал своим длинным гладко выбритым подбородком в сторону Любки: ей, видимо, и надлежало не шляться ночами, а выполнять продовольственную программу. И некоторые из пожилых конторских, сидевшие в первом ряду, обернулись и тоже неодобрительно посмотрели, куда директор указывал подбородком. А она ничего себе, сидит одна у стенки аккурат под Доской почета, к которой не имеет, ну, никакого отношения, в своей белой меховой безрукавочке, расшитой голубыми цветами, смотрит прямо перед собой голубыми глазами и равнодушно грызет семечки и сплевывает шелуху в ладонь, – словно не ее касается... Вечером на улице, понятно, полная темень. За четыре месяца, что Корень живет здесь, уличные фонари (а они в деревне есть, штук пять) ни разу не загорались. И окна в этот час уже нигде не светятся – разве только где-нибудь по стеклу пробегают слабые голубые отблески работающего в доме телевизора. Впрочем, телевизор в здешних местах показывал плохо или не показывал вовсе, и люди предпочитали лечь пораньше. Пожалуй, по всей длинной-длинной деревенской улице у одного только Кореня – в лесном конце – и горел яркий свет… Однако вскоре после закрытия клуба в противоположном конце зажигались еще три окна, за ними мелькали тени и в доме слышалась гармонь: домой возвращалась Любкина подруга Ксюша Колбаса, местная частушечница и матершинница – всегда с компанией, впятером, вшестером (да еще и пацаны мелкие увяжутся – в дом их, конечно, не пустят, и они будут бегать вокруг, беситься, хохотать, заглядывать в окна). В клубе – до и после кино и во время танцев – Ксюша была занята: в будке киномеханика она торговала самогоном. Человек творческий и предприимчивый, она варила не обычное мутное пойло, но перегоняла самогон с сухими можжевеловыми ягодами, и продукт у нее получался как ни у кого в округе – прозрачный, зеленоватый, легкий, ароматный, пей без закуски или хоть из горла соси – и стаканы не нужны. Даже из соседних районов люди, бывало, заказы делали – к свадьбе там или на поминки. Дальнобойщики специально сворачивали с трассы и грохотали своими огромными тралерами десять верст по плохому проселку, сюда, в Благодатное, за Ксюшиным продуктом… И в клубе в хорошие вечера, по праздникам до двадцати бутылок уходило. "Насаждаем культуру пития", - посмеивался Федька-киномеханик: он был в клубе главным (заведующего сюда то ли не могли найти, то ли не искали) и никого и ничего не боялся: не только потому, что всегда был хорошо пьян, но и потому что был тяжело и, видимо, безнадежно болен. Он часто заходился кашлем, подносил к губам тряпицу, и потом, откашлявшись, долго ее разглядывал и безутешно качал головой. О размахе Ксюшиного самогонного производства районное начальство, конечно, знало. Время от времени, всегда глубокой ночью, в двенадцать или позже, к ее дому подкатывал наряд милиции – двое-трое сержантов, а иногда даже и сам лейтенант Пухов. Штатные борцы с самогоноварением. Не ленились ведь, козлы, протрястись из райцентра тридцать километров по ночной дороге, причем десять почти по бездорожью… Застав здесь Федьку и Ксюшиных подруг, они закрывали дверь на ключ и никого не выпускали. Федьку заставляли играть и читать стихи Есенина, которого он знал от корки до корки. Ксюша развлекала их частушками: "Мой миленок непутевый, сам еловый, х.. дубовый" - ну, и вроде того. Частушек она знала не меньше тысячи. Или сама сочиняла…Но веселья както не получалось, и через некоторое время Федьку и других гостей менты отпускали, сами же оставались до утра: пили на дармовщину без учета. И без учета же употребляли свихнувшуюся на мужиках Ксюшу Колбасу: она хоть была мала росточком, но баба е…, особенно если выпьет, – на всех и по всякому хватало. До полного изнеможения, до потери сознания. Впрочем, если здесь оказывалась Любка или кто еще из более-менее привлекательных девчонок, ее, бывало, тоже оставляли… Любка, однако, в последнее время подругу не посещала. Теперь она работала на ферме и, выходя из клуба, говорила, что ей рано вставать. Она сразу отступала в темноту и, никем не видимая, спокойно шла мимо своего темного дома к лесному концу деревни, где светились и только после ее тихого стука гасли два окна молодого учителя биологии Григория Матвеевича Кореня, которого, уважая его «красный» педвузовский диплом и не по годам солидную ученость, все, даже пожилые учителя, сразу стали уважительно звать просто Матвеичем… Любовь Подзорова не была ни красавицей, ни дурнушкой: правильный овал простенького личика, веснушки, слегка вьющиеся русые волосы, всегда собранные сзади и открывающие аккуратные маленькие уши. Росточка чуть выше среднего. Девятнадцать лет. Ничего бы особенного, если бы… если бы не совершенно чужие на простоватом веснущатом лице удивительные, необыкновенно прекрасные ее глаза. И даже не сами глаза, но проникающий в душу печальный и покорный взгляд ее огромных глубоких серо-голубых глаз. Такими глазами – чистыми и глубокими – глядят с икон святые мученики и мученицы: падай на колени и молись. Корень как в первый раз принял на себя этот взгляд… нет, не на себя, а сразу в себя, в душу, в сознание, в память, - так сразу понял, что без этих глаз жизнь ему невозможна … А ведь был он человеком серьезным, рассудительным. С ранней юности увлекся наукой, и ничто не занимало его так, как расселение и миграция полевых грызунов. В институте у него была подруга – курсом его моложе – интересовалась маршрутами птичьих перелетов. Родственная душа. Они даже встречались – то на квартире у его сокурсника, то на квартире у ее сокурсницы. Но Корень расценивал эту дружбу лишь как поверхностное (хотя и взаимное) сексуальное влечение: изучение полевых мышей (mus agrarius) увлекало его куда больше… Получив диплом, он уже в начале августа отбыл по месту постоянной работы: торопился к началу косовицы и жатвы зерновых – самой благоприятной поры для кольцевания мышей и земляных полевок. Подруга была где-то в отъезде, где-то птиц кольцевала, и он, уезжая, забыл оставить ей свой будущий адрес. Да и Бог с ней совсем… 1 сентября день был по-летнему жарким, но Корень все-таки пришел в школу в костюме и при галстуке: молодой специалист, учитель биологии и классный руководитель шестого класса. Из двадцати его учащихся отсутствовали двое: дочь директора совхоза отбыла с матерью куда-то на курорт – в Болгарию или в Венгрию, – да еще не было по неизвестной причине мальчика Подзорова Виктора. «Неблагополучная семья, - сказала пожилая завуч. – Да что там… просто нет семьи: мать умерла год назад, отец еще раньше – утонул, пьяный на тракторе под лед провалился. Пацанов трое, все слегка дебильные – дети алкоголиков, – и при них одна только старшая сестра в наличии. Да и та недавно из тюрьмы – Подзорова Любовь… Ох, надо бы детей в интернат оформлять, да все у нас руки не доходят… Сходите к ним, конечно… Но, боюсь…» - и добрая женщина, не договорив, вздохнула и устало махнула рукой… Когда Корень с улицы вошел во двор, Любка, подоткнув подол линялой синей юбки, в свободной рубахе без лифчика, стирала, склонившись над жестяным корытом, стоявшим на двух некрашеных табуретках. Рядом гудела допотопная стиральная машина, - черный провод от нее уползал по ступеням крыльца сквозь открытую дверь в дом. На лавке в большом тазу лежала куча какого-то серого и пестро-линялого не то белья, не то тряпья. По забору, прокаливаясь на солнце, было развешано уже стиранное – всё старое, серое или линялое, ношенное-переношенное. Отдельно стоял стул и на спинке – белая меховая безрукавочка, расшитая голубыми цветами… В саду топилась баня, и пацаны, раздетые до трусов, таскали туда воду из колодца… Любка не сразу увидела гостя, - она стояла у корыта чуть боком к Кореню, и он, понимая, что пришел некстати, остановился молча и глаз не мог оторвать от женственной пластики ее движений, от едва заметного колыхания груди у нее под рубахой. Долго стоял, должно быть, целую минуту. «Любка!» - издалека крикнул кто-то из пацанов, и она подняла голову и увидела его – странную фигуру в черном костюме и при голубом галстуке – и спокойно, не смущаясь, медленно распрямилась над корытом и стала снимать мыльную пену с рук: «Вам кого?» Этот образ Любки-хозяйки, обстирывающей после трехмесячного отсутствия своих вконец обовшивевших братьев, еще много раз, снова и снова – порой желанно и радостно, порой навязчиво, с мучительной настойчивостью – возникнет в памяти Кореня. Позже, когда она станет регулярно, два раза в неделю (после танцев по средам и субботам) приходить к нему поздними вечерами, он будет обнимать в темноте не ночную любовницу, чье тело уже тщательно изучено его жадными руками, а эту освещенную ярким летним солнцем юную женщинумечту, которая мягкими движениями сняв с рук радужную мыльную пену, обратила к нему лицо и сначала молча вскрыла его душу глубоким не по-девичьи спокойным свято-страдальческим взглядом и только потом что-то сказала или о чем-то спросила… Он что-то ответил, они о чем-то поговорили, окруженные набежавшими пацанами, – и он ушел. И не сразу сообразил, куда идет – видел перед собой только ее лицо, ее глаза… - Ну, ты, Матвеич, даешь, - на всю улицу заржал учитель физкультуры Золотницкий, когда недели через две, уже в середине сентября, Корень ему, своему соседу, новому другу и собутыльнику, постоянному и терпеливому слушателю увлеченных рассказов о повадках грызунов, тихо сказал, вспоминая свой первосентябрьский визит (они как раз проходили мимо дома Подозоровых), что-то вроде того, что, мол, такую женщину поцеловать – и умереть не жалко. – Нет, ты меня уморил… Умереть намылился… Она же первейшая блядь на все наши три села – на Благодатное, Завидное, Желанное. Кто ее только не харил. И под директором совхоза была – это уж постоянно. И под Какулия, главврачом больницы: этот в дупель бухой сам мне говорил, что у нее такой клитор, что хоть на палец наматывай… Нет, всех не перечислишь: пойди спроси ее подругу Ксюшу Колбасу... Да что говорить, она и в тюрьме успела посидеть, а там, знаешь… Не умирай, Гришаня, - и он по-дружески приобнял Кореня за плечи и притянул к себе, - не умирай, и я приведу ее тебе, как телку на веревочке, если уж она тебе так нужна… Но не советую. По-дружески не советую. С бабами вообще один геморрой. Вот возьмем, к примеру, мою… - и он в который раз стал рассказывать, как в прошлом году в мае, едва дождавшись конца учебного года, от него уехала жена, работавшая здесь учительницей начальных классов. Вместе приехали сюда, прожили два года, и вдруг собрала вещички и – раз, уехала. Без причины. Он был на областных соревнованиях по волейболу. Приехал, а дома – никого. И записка: «Я тебя не люблю»… - Подумай, а ведь я ни в чем ей не отказывал, никогда с ней не спорил и не ругался. И спал с ней вроде регулярно, два раза в неделю. Чего ей еще? Корень слушал его и думал: какая разница, что там было раньше. Важно, что будет теперь и в будущем… И, конечно же, обойдется он без балабола Золотницкого. В конце концов ее действительно привели Кореню и даже привезли и чуть ли не прямо в руки опустили. Но привез ее не болтун Золотницкий, а директор совхоза. В День учителя, 1 октября. Прямо сюда, в школу и привез… Фамилия директора была Месяц и вполне подошла бы ему как прозвище: узким и длинным лицом он напоминал серп луны: наверху над высоким лбом вперед стремился вихор светлых волос, внизу же далеко вперед выдавался длинный узкий подбородок, а рот, чуть приплюснутый нос, щеки несколько запаздывали в глубине лица. Если он поворачивал голову вправо – получался месяц молодой, если влево – старый. Но при всех этих неправильностях в лице его была какая-то привлекательная мужская сила, спокойная уверенность. В районе его считали умницей и среди молодых одним из самых толковых и перспективных. Тем более, что и в области он был на хорошем счету. Здешний секретарь райкома, как говорили, ему покровительствовал и во всем его поддерживал. Один у Месяца был недостаток: время от времени он запивал, загуливал почерному. Причем загуливал с размахом, привлекал кого-нибудь из друзейсобутыльников – то главврача Какулию, то того же физрука Золотницкого, то кого-нибудь из леспромхоза. И обязательно Любку и еще пару каких-нибудь девчонок – совхозных или леспромхозовских. Ну, и доходягу-гармониста Федьку с его гармонью и Есениным. И скрывался со всей компанией на пару дней гденибудь на дальней рыбалке или на глухом лесном кордоне. Во время этих загулов девчонки могли быть любые, но Любка – обязательно. Потому что на самом деле она одна ему и нужна была: «Я только и живу, когда ты на меня смотришь», - говорил он и, бывало, даже плакал пьяными слезами… Все же остальные приглашались для видимости, для наивной маскировки. Но обмануть он никого не мог: о его порочной привязанности знали все – и в совхозе, и в леспромхозе, и в больнице, и в школе, и вообще в районе. Ну, и жена, конечно, знала. Она устраивала ему шумные скандалы с битьем посуды, бегала на реку топиться, много раз ездила в райком жаловаться, писала письма о моральном облике коммуниста-руководителя, грозила и до обкома дойти. Наконец, придумала, как ей поступить: посадить разлучницу в тюрьму. Любка два года назад окончила девять классов и, оставшись сиротой, по протекции жалостливого Месяца получила теплое (теплей в деревне не бывает) место продавщицы в сельпо. И пожалуйста: проработала полгода и в магазине обнаружилась недостача (говорили, директорская жена заплатила кому надо) – и в мае забрали девчонку… Только в конце августа Месяцу не без труда удалось закрыть дело (и тут говорили, что заплатил, и смеялись: любовь и ревность – для семьи штука разорительная ). Но в магазин Любка, понятно, не вернулась, определили ее на ферму подменной дояркой… В очередной раз Месяц загулял 1 октября, как раз накануне того, как жене с дочерью возвращаться с отдыха. В школе праздновали День учителя. И вот в самый разгар праздника, во время учительского застолья он явился уже хорошо пьяный – с тихой Любкой, с громким Золотницким, с кашляющим Федькой. Учительский коллектив к тому моменту уже от души напраздновался: уже за столом хором спели «И снег, и ветер, и звезд ночной полет» и запевали «Цыганочка черноока»… Явлению Месяца все даже обрадовались, от Федьки сразу потребовали, чтобы он играл плясовую – и кто-то тут же пустился вприсядку… Корень сидел в сторонке. Он выпил немного и, было, захмелел, но когда в школьную столовую, где и шумел праздник, ввалился Месяц и с ним – Любка, он вмиг протрезвел. Сердце его гулко застучало в груди. Любку посадили, конечно, не рядом с начальством, но в конце длинного стола – прямо напротив одиноко сидевшего Кореня. Робкий по натуре, Корень вдруг почувствовал себя смелым и свободным. Через стол он протянул левую руку – ладонью вверх, и Любка, словно здороваясь, протянула ему руку, и он ощутил тепло ее нежной маленькой ладошки. В своей белой меховой безрукавочке, расшитой голубыми цветами, она в этот вечер была потрясающе красива. Словно никого не было вокруг, она спокойно и немного печально на одного Кореня смотрела своими бездонными глазами и даже чуть помедлила, прежде чем забрала руку. Он предложил выпить, она покачала головой: «Не пью, – сказала она и виновато улыбнулась. – Вообще не пью»… «Тогда мы пойдем танцевать», - смело сказал Корень и стал подниматься с места… Но в этот момент на плечо ему легла рука сзади подошедшего Золотницкого. «Слушай, друг, тут полный атас! – сказал он тихо, но так, чтобы Любка тоже слышала. – Только что позвонила жена Месяца – приехала из Болгарии. Она на диком взводе и сейчас сюда заявится. Будет страшный скандал. Ты, дорогой мой, будь другом, тихонько, чтобы Месяц не заметил, проводи отсюда Любовь Васильевну. Сейчас ей здесь не место». Корень резко повернулся: он хотел сказать, что Любаша – его гостья и никто не смеет… Но тут он увидел, что Любка густо покраснела, - так, что даже веснушки исчезли, быстро встала и вышла через боковую дверь… Корень догнал ее уже на темной улице и взял за руку. Она остановилась и молча повернулась к нему. «Любаша дорогая, – сказал он спокойно и твердо, – запомните раз и навсегда: пока я с вами, вас никто не обидит. Никто и никогда, - и он повторил это несколько раз, все более и более жестко. – Никто и никогда. Никто и никогда. Ты меня поняла?». Она слушала его и вдруг, так и не сказав ни слова, лицом уткнулась ему в плечо и горько, навзрыд заплакала. Он обнял ее, прижал к себе и стал гладить по голове, по спине: «Ну, ничего… ну, не надо… все будет хорошо… Я с тобой… Я теперь всегда буду с тобой»… Постепенно она успокаивалась и, успокоившись, теснее прижалась к нему и подняла лицо, и он сначала робко поцеловал ее в мокрые глаза и потом – в губы. И она ответила. Тогда он повторил поцелуй – совсем смело, по-мужски. И еще раз, и еще… Они стояли рядом с его домом и целовались – теперь уже по-настоящему, откровенно, до головокружения. «Давай поднимемся по этим ступеням и посмотрим, куда они нас приведут», - сказал он, указывая на крыльцо. «Ни к чему хорошему они нас не приведут», - сказала она, но он взял ее за руку и повел за собой, и она пошла. У него дома они, конечно, сразу, даже не зажигая свет, оказались в постели. От волнения он довольно быстро кончил, но тут же захотел ее снова, и второй акт длился довольно долго. «А ты темпераментный», - сказала она, когда они, утомившись, лежали в темноте рядом. Кровать была узкая, и двоим лежать можно было только на боку, прижавшись друг к другу. «Нет, - сказал он, - я – обыкновенный. Это ты потрясающая женщина, и я хочу тебя снова и снова. Может быть, я тебя люблю? Ну, конечно, люблю. Люблю твои глаза (он поцеловал ее глаза), твою грудь (он положил ладонь ей на грудь), твои руки (поцеловал ладони – одну, другую). У тебя поразительно красивые руки. Руки девочки-царевны». Она засмеялась: «Нашел царевну!...Знаешь, как у доярок руки болят? – сказала она, помолчав. – Сядешь есть, а ложку взять не можешь, пальцы онемели, не слушаются… – она снова помолчала. – Мама от рака умирала и перед смертью кричала: «Отрежьте руки, руки мне отрежьте!» У нее метастазы, боли страшные, но почему-то руки особенно болели, - может, потому что она всю жизнь дояркой… Кричит и кричит, кричит и кричит. Сделаешь укол, немного успокоится… Я бы ее без перерыва на морфии держала, но где возьмешь? Господи, сколько я перед этим Какулией, нашим главврачом, слез пролила – каждую ампулу вымаливала. Полгода, пока мама не умерла, пороги у него обивала». «Я тебя опять хочу, – сказал он. – Я тебя люблю». «Ну, уж сразу и люблю», тихо засмеялась она. «А знаешь, – сказала она, немного помолчав, – у меня давно никого не было». «И больше никогда никого, кроме меня, не будет – так ведь?» Она не ответила… «А директор Месяц?» – спросил он, когда они уже одевались. Она попросила, чтобы он отпустил ее, не провожая: она живет рядом, и не нужно, чтобы их видели вместе… Все-таки он чувствовал некоторую неловкость. Зачем ей нужно было говорить, что давно никого не было. Он ведь не спрашивал. Тем более, что вот он Месяц. «А что Месяц? – она говорила совершенно спокойно, немного утомленно. – Месяц здесь хозяин. Все от него зависят. А мне с тремя малолетками куда деваться?.. Но у нас с ним ничего нет. Дружба такая: он напьется, засыпает и меня за руку держит. «Ты, – говорит, – только смотри на меня. Сиди тут и смотри». Я сижу и смотрю, и ничего ему больше не надо. Его жена потому и злобится, думает, что он со мной всего себя оставляет, а ей не достается. А он ни с ней и ни с кем не может. Должно, потому и пьет». «Когда ты теперь придешь ко мне?» - спросил Корень. «Когда-нибудь», - сказала она. И ушла. В августе, когда Корень только-только приехал и поселился в отведенном ему домишке, здесь было полно мышей. В доме давно никто не жил, и мыши чувствовали себя хозяевами: изгрызенные лоскуты обоев по стенам, изгрызенные книги, оставленные на полке прежними жильцами, мышиный помет на полу, на столе, на лавках. С помощью школьной уборщицы он, конечно, привел дом в порядок: оборвал обои, обмел потолок, вымыл окна, стены, пол, стол и лавки. Но с мышами бороться не стал. Домашняя мышь (mus musculus) – тоже может быть интереснейшим объектом наблюдений: если окольцевать все стадо и потом поставить мышеловки в соседних домах и вообще по селу, можно сделать интересные выводы… Но ничего этого не удалось: мыши вдруг исчезли. В чистом доме он ни разу не услышал ни мышиного писка, ни шороха. И помета нигде не было… Мыши – непредсказуемые, загадочные зверьки. И только уже осенью, когда поздними вечерами по средам и субботам к нему стала приходить Любка, он впервые услышал мышиный писк. Нет, даже не писк: мышь тоненько и довольно мелодично пела – так коротко поет поздним летом птичка малиновка. В те вечера, когда он ждал Любку, свою Любашу, любовь свою, он, конечно, не мог заниматься ничем продуктивно – ни читать, ни к урокам готовиться, ни тетради проверять. Сидел над какой-нибудь раскрытой книгой и ждал, слушая шорох золы, обваливающейся в догорающей печи, или биение собственного сердца. Вот тогда-то он и стал приручать певунью-мышь: рядом со своим стулом поставил вплотную к стене табурет и положил на него кусочек сыра… Мышь – совсем маленькая, может быть, только-только подросший мышонок – пришла к сыру уже во второй вечер, и за три или четыре вечера, проведенные в томительном ожидании свидания, Корень добился, что она совсем перестала бояться его и позволяла даже протянуть руку и пальцем погладить спинку. Потом он стал ловить ее: ему доставляло удовольствие ощущать в руке ее маленькое теплое тельце. Ловил – и отпускал. Но для мыши эта игра, видимо, была страшным потрясением: она тут же скрывалась за печкой и не только не появлялась в этот вечер, но и в следующий сеанс дичилась его, не позволяя даже протянуть руку… Впрочем, потом снова привыкала, и он снова ловил ее. Эти игры с мышью прекратились в конце января, - потому что прекратились свидания с Любкой. Любка исчезла. Троих ее братьев удалось с помощью Месяца устроить в областной интернат. Она поехала отвозить их – и не вернулась. Корень был совершенно растерян. Незадолго перед тем, он сделал ей предложение: «Любаша, – сказал он, когда они, как всегда прижавшись друг к другу, лежали в его тесной постели, – я без тебя жить не могу. Выходи за меня замуж. Если хочешь, мы можем уехать к моим родителям. Мой отец – директор птицефабрики в соседней области. И твоих братьев возьмем с собой». Она погладила его по щеке, поцеловала. Но ничего не ответила. «Мне пора», - сказала она. Оделась и ушла. И больше он ее не видел. Он прождал месяц и пошел к Ксюше Колбасе. Любка всегда говорила о ней как о своей лучшей подруге, – даром, что Ксюша была на десять лет старше Любки… Ксюша теперь работала продавцом в сельпо – на Любкином месте. Она как-то сильно сдала в последнее время, постарела что ли: теперь было видно, что она старше Любки не на десять, а на все двадцать лет… Ее самогонное производство было разгромлено: в район назначили нового начальника милиции, убежденного трезвенника, и тот самолично проехался по самым злостным самогонным точкам и начал, конечно, с известной всему району можжевеловки. Тогда же, в начале зимы, прекратились и танцы в клубе, и Ксюшины посиделки: в залитом дождями, черном, бесснежном декабре похоронили Федькугармониста. Он не успел умереть от туберкулеза – допился до белой горячки и, мучимый тяжелыми галлюцинациями (человек творческий, с воображением), повесился у Ксюши в саду на черной от дождя яблоне. «Ксюша его одного и любила всю жизнь» - сказала тогда Любка, придя к Кореню как раз после похорон и поминок. Впервые от нее пахло вином. «Ты плакала на кладбище?» - спросил Корень. «Нет, – сказала она. – Отмучился, освободился… Я и по маме не плакала…» Тут она помолчала, словно сомневаясь, надо ли говорить что-то еще, но все таки сказала: «И если что, по мне тоже плакать не надо»… В лавке сельпо покупателей не было, и Ксюша позвала Кореня в подсобку и поставила ему стул. «Я бы, Матвеич, давно должна сходить к тебе, но все не собралась, а Любаня просила… Ты хороший мужик, и вся деревня про вас с Любкой, конечно знала, и все за вас радовались – и за тебя, и за нее… Но что поделаешь, она тебя не любит … Так велела и передать: «Я, мол его не люблю»… Тут бы можно тебя и отпустить, потому что сказать больше нечего. Но я за нее хочу оправдаться. Любка не то, что я. Она девчонка серьезная. И я перед ней виновата. Это ведь у меня дома четыре года назад ее, совсем девочку, избил и изнасиловал лейтенант Пухов. А я, можно сказать, попустительствовала и уговорила никому не говорить, – боялась, что разгромят менты мое производство… А потом Пухов всегда требовал, чтобы она была: «Пусть приходит и смотрит на меня», – и я ее звала. Видать, полюбил: вон белую меховую безрукавочку подарил, расшитую голубыми цветами… Ты уж прости ее. Нас, баб, знаешь, кто поймет… Но тебя она не любит, что поделаешь. Она Пухова любит, и ее от него не оторвешь»… «Глупости, - сказал Корень, - передай, что я буду ее ждать. Сколько угодно. Месяц, год, всю жизнь. Она придет»… И он действительно ждал ее до тех пор, пока в апреле не стало всем известно, что жена старшего лейтенанта Пухова, сержант военизированной охраны Пухова О.С., из табельного оружия мужа застрелила его самого и его любовницу Подзорову Л. В. Говорили, что Любка была беременна – на пятом месяце… Ждать стало некого, но Корень все равно ждал. Сидел дома вечерами, ничего не делал – и ждал. Снова стала приходить мышь, и он снова приручил ее – и поймал. Маленький зверек дрожал в кулаке от ужаса. Корень взял со стола приготовленный скальпель, сделал маленький надрез в мышином ушке и закрепил крошечное алюминиевое колечко, но котором было написано «БЮН Москва» Биостанция юных натуралистов. Окольцованную мышь он не стал выпускать в доме, но вышел на крыльцо и выбросил в снег… На следующий день мышь пришла снова, и Корень с удивлением увидел, что в ухе у нее нет колечка. Другая? Однако эта тоже была совсем ручная, и он ее легко поймал. Он что, пока Любку ждал, все мышиное стадо приручил? Так или иначе, но и эту мышку он окольцевал и тоже выбросил в снег… И еще какая-то мышь пела за печкой – как малиновка в кустах поздним летом.