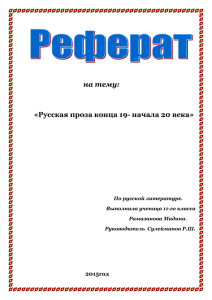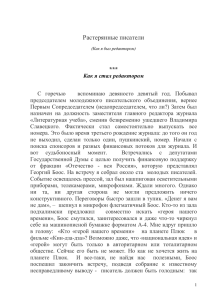страницы из дневника - Институт языков и культур имени Льва Толстого
advertisement
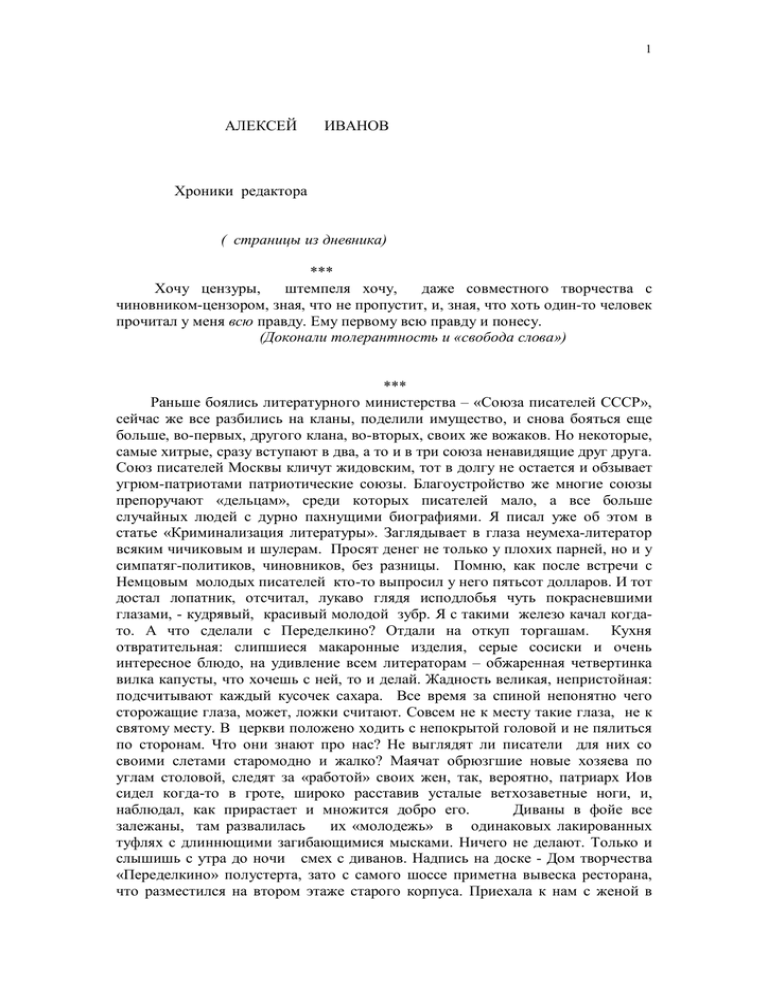
1 АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ Хроники редактора ( страницы из дневника) *** Хочу цензуры, штемпеля хочу, даже совместного творчества с чиновником-цензором, зная, что не пропустит, и, зная, что хоть один-то человек прочитал у меня всю правду. Ему первому всю правду и понесу. (Доконали толерантность и «свобода слова») *** Раньше боялись литературного министерства – «Союза писателей СССР», сейчас же все разбились на кланы, поделили имущество, и снова бояться еще больше, во-первых, другого клана, во-вторых, своих же вожаков. Но некоторые, самые хитрые, сразу вступают в два, а то и в три союза ненавидящие друг друга. Союз писателей Москвы кличут жидовским, тот в долгу не остается и обзывает угрюм-патриотами патриотические союзы. Благоустройство же многие союзы препоручают «дельцам», среди которых писателей мало, а все больше случайных людей с дурно пахнущими биографиями. Я писал уже об этом в статье «Криминализация литературы». Заглядывает в глаза неумеха-литератор всяким чичиковым и шулерам. Просят денег не только у плохих парней, но и у симпатяг-политиков, чиновников, без разницы. Помню, как после встречи с Немцовым молодых писателей кто-то выпросил у него пятьсот долларов. И тот достал лопатник, отсчитал, лукаво глядя исподлобья чуть покрасневшими глазами, - кудрявый, красивый молодой зубр. Я с такими железо качал когдато. А что сделали с Переделкино? Отдали на откуп торгашам. Кухня отвратительная: слипшиеся макаронные изделия, серые сосиски и очень интересное блюдо, на удивление всем литераторам – обжаренная четвертинка вилка капусты, что хочешь с ней, то и делай. Жадность великая, непристойная: подсчитывают каждый кусочек сахара. Все время за спиной непонятно чего сторожащие глаза, может, ложки считают. Совсем не к месту такие глаза, не к святому месту. В церкви положено ходить с непокрытой головой и не пялиться по сторонам. Что они знают про нас? Не выглядят ли писатели для них со своими слетами старомодно и жалко? Маячат обрюзгшие новые хозяева по углам столовой, следят за «работой» своих жен, так, вероятно, патриарх Иов сидел когда-то в гроте, широко расставив усталые ветхозаветные ноги, и, наблюдал, как прирастает и множится добро его. Диваны в фойе все залежаны, там развалилась их «молодежь» в одинаковых лакированных туфлях с длиннющими загибающимися мысками. Ничего не делают. Только и слышишь с утра до ночи смех с диванов. Надпись на доске - Дом творчества «Переделкино» полустерта, зато с самого шоссе приметна вывеска ресторана, что разместился на втором этаже старого корпуса. Приехала к нам с женой в 2 Переделкино Р. – бард, прослезилась и сказала: «Как они могли!» Под «они» подразумевая тех, кто отдал наше Переделкино. *** С горечью вспоминаю девяносто девятый год. Побывал председателем молодежного писательского объединения, вернее Первым Сопредседателем (недопредседатель, что ли?). После смерти Славецкого долго не могли сыскать приемника ему, потом вспомнили, кого он хотел видеть на «своем месте». Я согласился на предложение стать замом главного редактора журнала «Литературная учеба», фактически самостоятельно выпускать все номера. Это было третье рождение журнала: перед этим он год не выходил, сделан только один, пушкинский, номер. Начали с поиска спонсоров и разных финансовых потоков для журнала. И вот судьбоносный момент. Встречались с партией «Единая Россия» с целью получить финансовую поддержку от Бооса. На встречу я нагнал около ста человек молодых писателей. Событие освещалось прессой. Но ни та, ни другая сторона не могли предложить ничего конструктивного. Переговоры быстро зашли в тупик. «Денег я вам не дам», – шепнул в микрофон флегматичный Боос. Кто-то из зала подхалимски предложил совместно искать «героя нашего дня», Боос смутился, заинтересовался и даже что-то чиркнул себе на машинописной бумажке форматом А-4. Я в душе рассмеялся: какой может быть «герой нашего времени» в обществе, где нет национальной идеи. Кто «герой нашего времени» в стране, которую создал Данелия в фильме «Кин-дза-дза». И все-таки, не найдя нас полезными, Боос поспешил закончить встречу, подведя собрание к известному несправедливому выводу - писатель должен быть голодным: так ему лучше, так лучше всем. Что сказать, писательская молодежь перестала быть важным вынашиваемым резервом. Практически мы ее тогда окончательно разогнали, да еще были высмеяны демократической прессой и завистниками, говорили, что мы устроили слет в духе лучших комсомольских традиций, а нарвались на байкера, который не врубился, на фига ему все это надо. В общем, у этого парня я тоже подглядел подвзглядный взгляд. В нем было отчаяние. В юности я с такими много водки выпил на детской площадке под грибком, это очень человеческие парни, он говорит за мотоциклы, за женщин, за любимый дембельский период. Но если ты по дурости спросишь, как он относится к прозе Давенпорта – получишь вот такой взгляд из другого мира . А какое самообладание, ведь не выпустил же из себя стон: «Почему я! Ну почему я должен с этими, как их… разбираться?!» Он моложе меня на год, а какое государственное мышление, а редкая стать, а взгляд хозяина жизни, - уж не прошел ли он, как и все вожаки, Школу Комсомольского Актива? Нет бы улыбнуться друг другу, последний раз повозиться, побороться в траве, поиграть еще раз в зарницу, а не в капитализм, посидеть у костра, - нет, уплывают от нас наши вожаки, и ветер треплет их редеющие волосы. Таким образом, решился краеугольный вопрос: государство не в ответе за литературу. Согласен – если б была идеология, литература стала бы государственным делом, но таковой нет, остались лишь понятия «ни на совесть, а за страх». Теперь каждый писатель уже вовсе и не писатель, он должен «заинтересовать» работодателя. Все пытаются друг друга «заинтересовать»: писатель издателя, издатель чиновника или бандита, тот свою жену, - но что это за интересы? Не человеческие ли так называемые, дающие тираж: человеческий репортаж, человеческий интерес, 3 человеческая литература? Большей частью. Изматывающая ситуация «заинтересовать собой» выравнивает, как стальное правило, оно заставляет играть по-новому, как нам придумали вожаки. *** У каждого должно быть место, чтобы отдышаться, отвыться; если не дом, то хотя бы уголок в квартире, светлый угол; если и такого нет, то хотя бы углом раскрытая книга. Ведь должно же быть что-то предусмотрено, когда отступать некуда. *** Слава, это когда тебе утром звонит твой старый и забытый друг, поздравляет и кричит про что-то, и пытается восстановить отношения, и таких за день должно появится как минимум трое. *** Все-таки настоящий художник работает не для того, чтобы его узнавали на улице, он хочет большего, чтобы его узнавал Бог. *** На выставке «Звезды в защиту животных», где был членом жюри, один многотиражный детский писатель говорил мне надоевшие давно слова, о том, что надо работать на потребителя, равняться на телевидение и т.д. Может, и так, но когда читаешь Стендаля, или Генри Миллера, то через пятьдесят страниц уже видишь мир их глазами, более того – их душой, становишься на время гением, и можешь даже мыслить на любую тему их мыслями. А разве это не ценно, разве это не товар? Такой аттракцион без конца. *** В «Изборнике Вячеслава», литературном словаре, прочитал немного про себя и то направление в литературе, которое я позиционирую – «нерекрутивизм». Все-таки надо было расшифровать для тех, кто не знает, что значит чтение «вслух» главный постулат нерекрутивизма. Это же не то, что сидеть в метро и, как безумный, вслух читать книгу. Прежде всего, это художественное чтение. Чтецами своих произведений были и Пушкин, и Алексей Островский. В двадцатом веке авторское чтение подтолкнуло великих актеров к созданию театра одного актера: Качалов, Яхонтов, позже Журавлев, Яков Смоленский, Андрей Попов. Проза требует воспроизведения человеческим голосом. У прозы человеческий голос, мы об этом забыли, потому и требую я – вслух. Забыли, и поэтому стала страдать сама проза: прочитанная голосом проза это испытание на художественность. Но появилась с нашего разрешения проза «для глаз», читатель выхватывает событийные куски детектива или любовного романа, в этом процессе для него главное адреналин или эротическое возбуждение, такие книги можно читать даже методом быстрого чтения. И не смотря на это такие создания называются и книгами и 4 литературой и художественной прозой, а авторы подобных сочинений получают премии названные в честь писателей, которые были духовидцами и мыслителями. Путаница и невежество. И последнее, чтение вслух формирует у человека любого возраста культурную внутреннюю речь, так как даже думаем мы мыслями с голосом, все мысли с детства в нашей голове имеют голос, а затем в «литературном» возрасте записываются символами. Мы забыли про выражение «культурный человек». Спешащая цивилизация поглотила культуру. Мы торопимся, а чтение не терпит скороговорки. В нашей жизни отсутствует логическое ударение, его очень важно расставить. Все негативные явления нашей жизни во многом являются следствием спешки. Вот такое маленькое слово «вслух», а как много оно означает. *** Будучи заместителем главного редактора, постоянно занимался публицистикой. Надо было готовиться к научным конференциям, писать рецензии на поступившую литературу, раскручивать молодых писателей, вообще как-то выражать свое мнение по многим вопросам литературного процесса. Но это не главное. Я вообще люблю публицистику, особенно памфлет и очерк. Писатель, если он таковым себя ощущает, не может не быть публицистом. В истории вообще не было случаев, кроме Гомера, условно, чтобы видный писатель не выражал своего мнения о жизни и литературе. Блестящими публицистами были Карамзин, Пушкин, Гоголь. Да и как заметному писателю не делать этого. Читатель постоянно хочет продолжить с тобой разговор. Все равно, что любимому актеру ничего не рассказывать о себе, только играть, играть, и в маске проходить мимо всех проявлений жизни. На это был способен только мистер Икс, да и то вымышленный персонаж. Черубина де Габриак – мистификация, молчала, но таковы были правила игры: было бы удивительно, если она вдруг стала высказываться насчет «цеха поэтов» или русско-германских отношений. Агеев тоже мистифицировал. Может мистификация в литературе и есть своеобразный протест против известности, публичности писателя, против того места лидера, которое постоянно навязывает ему гражданское общество. Но мистификаторы Набоков и Волошин все-таки не могли кокетливо долго находиться в засаде и постоянно выступали как публицисты. Не быть писателю публицистом значит, все время находится в камере своего воображения, значит, смотреть одним глазом на свет, когда Бог одарил двумя. Выход же к людям дает воздух человеческого пространства *** Порою, так было со мной всегда, с самого детства, моя страсть, ненависть, любвеобильность, заставляют меня в уме становится то великим архитектором, то диктатором, то женщиной, и я пишу роман в себе, не переводя его на бумагу. Я часами молчу, ни с кем не разговариваю. На меня, угрюмого, все сильнее и сильнее начинают обращать внимание обеспокоенные близкие. Я целиком предан своим мечтам. Засыпаю с мыслью о судьбе моего персонажа и просыпаюсь с тем же, какие-то детали переходят даже в сон. Я продумываю, проигрываю каждую деталь его жизни: пока не проработаю, не пойму, как, к примеру, диктатор питается, и какие принимает меры, чтобы его не отравили; 5 откуда берет пастельное белье, что видит в окно кабинета и спальни. Все должно быть правдоподобно безупречно. В высшей степени реалистично – главное условие. Иначе все не имеет смысла. Детали, детали, детали, ненавистные детали не дают мне воображать дальше, и взбудораженный мозг мой, изнывая от простоев, мистически подсказывает мне о герое то, что представить невозможно. В результате герой моих мыслей оживает, я думаю, как он, чувствую, гляжу, хожу, как он. Наконец вижу его судьбу, не как писатель-демиург, а как, быть может, он сам в вещем сне, после которого просыпается в холодном поту и не знает уже, что он это я. Я понимаю весь его смысл, и чем все заканчивается. К чему приводит неистовая страсть, бесконечное вожделение, и разврат, к чему приводит губительный, хоть и справедливый гнев. И так я мытарствую вместе с ним, пока мне мой герой не наскучит. А ведь это целая жизнь. *** Замечательное призвание – писательство, но равно и мучительное бремя. Особенно тяжело найти издателя, а уж сыскать славу… Как хорошо художнику, он, точно радуга на небе: развернул холст и всем показал, а ведь средних размеров холст можно приравнять к роману – все увидели за секунду и оценили. И ведь главное не в том, что, допустим, не поняли, плюнули и отошли, а в том, что сразу увидели многие. Вилли Мельников всегда таскает с собой огромный альбом с разноцветными рисунками иероглифов. Показывает мне, делает вид, что не следит, но косит глазом, как ревнивая собака на своих щенков в руках человека, нервничает. Так и не принес мне в «Литературную учебу» «Мифологию деревьев», для него проза невыносимый труд, уж лучше фотографировать. А писателю как быть? Как ему-то показать, заставить прочитать? Поэту и то легче. Правда, слушать плохого поэта томление не приведи Господь, своего рода насилие. Такого же рода насилие, как ехать в одном купе с незнакомым человеком. Кто первый оголит зубы и скажет: «Давайте знакомиться!» Какое неудобство и мучение! Замечаешь, какого-то черта, что ногти больших пальцев под носками блестят через дырки, по утрам тебя будит запах пережеванных с огурчиком яиц или тихоструйное журчание младенца в горшок. Совсем другое дело, когда предоставлен сам себе. Но бывает еще хуже. Когда мы ехали в Варшаву на литературную конференцию, меня поселили в одном купе с Н* и его совсем юной женой. Добираясь до Варшавы, он пилил свое сало тупым перочинным ножичком, очень напирал на то, что сам украинец. Но я тоже знаю толк в сале, сам его солю, потому вежливо отказывался от предлагаемого: зловонного и жесткого, однако он всем распределил. Конечно, нужно было ему подыграть, заинтересоваться его родным городом; выразить огромное сожаление, что никогда там не бывал; сверкнув повлажневшим глазом, похвалиться, что у самого тетя хохлушка; жевануть сальца по-мужски непосредственно, принять несколько расслабленных поз, настроить мимику. Но, винюсь, не сумел себя заставить, и с каждым годом мне все скучнее и скучнее с подобными попутчиками. Когда же в качестве ответной любезности на позиционирование сала я предложил жареные куриные ножки, в нем что-то оборвалось, пропали задор и простительная дерзость, исчезло что-то особенное этническое, - я ранил его. Улыбнувшись через боль и, побледнев, он сказал, что у меня барские замашки, и почему-то обозвал москвичом, именно, что обозвал: «Есть в поезде куриные ножки могут только москвичи», точно «москвич» это слово на букву 6 «м», потом ни один раз еще вырвалось из его отороченных мехом уст «москвич» в подобном контексте. Бежать было некуда, все купе заняты. Нужно отдать должное его «впертости» (в переводе с украинского - упрямство) – к ножкам он так и не притронулся, хотя до вечера косился на них и свирепствовал в себе, а жена его очень, по-моему, хотела покушать по-человечески, и вроде бы не успела проникнуться ко мне ненавистью. Это его тоже изводило, и он что-то хотел объяснить ей про меня, то, чего она не замечала. Так, измаявшись, и доехали до славного города Варшавы. Слава Богу, там нас разлучили, отправив по разным гостиницам. В городе объяснили, что не добрался и пропал какой-то важный член нашей научной группы, профессор К*. Поднялась паника. Все чтото предпринимали, куда-то побежали. Особенно Н*, успевший уже переодеться в шорты, давал советы низким, но сладким баритоном, медленно выговаривая каждое слово, видимо безотчетно наслаждаясь силой голоса. Я вытирал пот со лба и смотрел, как из стен древнего города, выбирался какой-то нелепый человек в теплом шерстяном пальто до пят, взъерошенный (думаю, потому что все время тер себе перегретую солнцем голову), в шарфе на покрасневшей шее, в очках на таком родном широком русском лице. Он и оказался потерявшимся, сомлевшим от октябрьской польской жары, молодым профессором К*. С ним-то меня и поселили в дешевой гостинице «Сократус», и вот мы сразу не понравились друг другу. Я сильно устал от дороги и своих попутчиков, а он, думаю, был поражен моей неприветливостью и нервозностью. Я совсем не хотел его обижать, когда он снимал очки и тер переносицу, на тебя глядели такие беспомощные детские голубые глаза, что оскорбить их было недопустимо. Когда он снял свое ужасное пальто, размотал шарф, принял душ, то я, наконец, увидел такого же сорокалетнего русского парня, как и сам, и невольно улыбнулся. Обманчивое первое впечатление проходило, вечером мы уже пили водку и, стали не-разлей-вода. Мы оказались почти ровесники. В прошлом он был балтийским моряком. Мне нравилось потешаться над ним, говоря блатным речитативом, как заключенные из «Комедии строго режима» по рассказу Сергея Довлатова: «Почему броненосец «Мятежный» не выполняет распоряжения Центробалта?» Иногда броненосец «Мятежный» заменялся «Беспощадным», или «Стремительным». Ему было приятно, он отвечал мне в тон, вспоминал море. Когда уезжали из Варшавы, опять дали купе на нас же троих. Это было уж слишком. Я пошел к проводнику и сказал, что весь вагон пустой, а мне приходится ехать с «молодоженами», нельзя ли договориться, за злотые, разумеется. Через какое-то время польский проводник подошел ко мне и сказал: «Пан едет сам». Наконец-то. Я с заносчивым видом перебросил вещи в другое купе, и поехал один в вагоне с широкими гобеленовыми диванами, своей раковиной и туалетом. Расположившись, умывшись, я и вправду почувствовал себя «паном», даже промурлыкал какую-то песенку на придуманном польском языке, но на музыку песенки, которую пел Иржи Корн: «…пасте знаге-е, добже драге-е…». Немного отдохнув, когда показались предместья Варшавы: угольные кучи, шахтерские поселки, да фруктовые сады, с утопающей в них черепице, я достал бутылку пресной польской водки «Собески» и направился в купе профессора К., профессора с колбасой, настоящей «Краковской». Перед отъездом мы договорились, что о его местопребывании в поезде никто не узнает, чтобы не было лишних гостей. Однако Н* его все равно обнаружил и, пройдя мимо открытого купе, съязвил: «С Ивановым пьешь? Он тебя еще не достал?» Профессор К., застигнутый врасплох, растерянно улыбнулся. 7 Пересекли ночью границу с Белоруссией, и нас окружили проститутки: рвались в дверь, чуть ли не в окна, ручка двери все время ходила туда–сюда: «Выходите, мужчины. Выпьем шампанского!» Мы заперлись в купе и молчали. Одно купе на весь вагон только занято, к тому же, откуда они знают, что здесь мужчины. Кто же нас выдал? Кажется, через визг и хохот я пару раз слышал знакомый сахарный баритон. Дверь дрожала от осады - и, зеркало упало. Решились в итоге сделать с броненосцем «Беспощадным» вылазку, с мордобоем и упреками, но посчитали, что это недостойно русских профессоров. Голоса становились все жалостливее и протяжнее, точно мы в морозную ночь собак в дом не пускаем: «Мужчины-ы, ну выходите ж, ну выпьем ж шампанского!». Одна из проституток, подтянулась на нашем окне, но сорвалась и упала, оставив в купе запах парфюмированных подмышек. Наконец тронулись в путь, и тут-то началась наша родная нищета, полугниль, больные лишайные деревья, на станциях сморщенные личики старух с яблоками, а в корзинках водка «Березка». Еще до России было несколько станций – и все то же, и старухи, и водка, и яблоки пищали под нашими зубами. Белоруссия нас споила, и в итоге мы расплакались навзрыд над старухами. Похныкивая, закусывали водку духовитыми яблоками. В Россию въехали лежа, совсем пьяные. *** Книга никогда не умрет, она удивительна тем, в отличие от кино и даже театра, что на ее страницах всегда два автора – автор и читатель, вместе они создают мир. Одень героя как хочешь, придай ему образ любимого человека или своего врага, нарисуй в уме какой хочешь ландшафт. – автор против не будет. Причем это занятие – совместное творчество не одноразовый акт. Сознание наше таково, что на его полотне можно рисовать сколько хочешь. Ты можешь вернуться через год к повести или рассказу и прочитать его подругому, в иной интерпретации, назовем это - ремейк. Книги это потусторонний мир, в котором автор всегда жив. Автор давно уже умер, а ты снова будешь встречаться с ним и вместе работать, поскольку чтение это труд, упоительный труд. Вот поэтому-то и хочется быть писателем, чтобы никогда не умирать. Открой меня и дай мне другую жизнь. *** Главное для писателя поймать свое «я», иначе нет смысла садиться за стол, потому что, когда это долгожданное твое «я» придет, оно подвергнет сомнению все, что было написано без него. Нельзя писать пьяным, или с похмелья, нельзя писать раздраженным, или растроганным чем-то, вредно писать голодным: я после трех часов писания ем, как наркоман в «отходняке». Начать писать – все равно как сделать шаг в птичью стаю: все птицы разлетятся, как и мысли, и будет так всякий раз, пока какая-то одна не останется и не поглядит тебе в глаза весело, как мать – значит твое, смело пиши. А без этого «я» результаты труда, со слезами на глазах в свое время выбросишь, на горбу унесешь хлам и кучи навоза. А ведь у меня оно исчезало на годы, и мои работы читали со словами: «Это не ты», «Это тебе не свойственно», «Не твой голос», и даже «Предательство по отношению к себе». Другое дело – «почерк», это нервы, психика. Почерк руки меняется в течение дня, и меняется вовсе с годами. К примеру, вот что говорят о почерке Есенина исследователи, когда тот был 8 совсем молод, судя по записке к Александру Блоку: «Записка написана человеком амбициозным, воодушевленным, жаждущим успеха, но предусмотрительным и осторожным, честным и искренним, развитого интеллекта и богатого воображения, воспринимающего действительность эстетически». Через несколько лет толкователи почерка скажут о предсмертном образце («До свиданья, друг мой, до свиданья»), что «писала натура щедрая и расточительная, рассудительная и доверчивая, но вместе с тем сдержанная и холодная, скрытная и нервозная, неуверенная в себе и замкнутая, эгоистичная и рассеянная, наделенная глубокой интуицией». Писательский почерк тоже существует на лингвистическом, и каком угодно уровне. Другое дело стиль (stilos - лат.) - деревянная палочка, которой древние писали на глиняных табличках. Такими стилосами сенаторы закололи Юлия Цезаря, поскольку в Сенат нельзя было пронести оружие. Таким образом, Цезаря убил стиль, – не сама рука, а тот инструмент, который она выбирает. *** «Мужики и бабы», «Перегной», «Девятинские карагандины», «Лад», «Пряслины». Названия-то все какие, талантливые. *** Сомневаюсь, что писатель должен понимать, как он пишет, особенно, если есть вдохновение. Но когда оно пропало, или хромает, пусть подставляет себе костыль правил. *** Господа писатели, остановитесь! Ведь вам же не заплатят! Опять не заплатят. *** «Кодекс подлости». Аморальному обществу пора жить по законам подлости. Ввести тарифы за ту или иную подлость. Ведь всем будет легче. *** Такой наплыв литературы. Печатаются все кому не лень. Что взыскуют? Какую выгоду? Одних Ивановых на прилавке человек десять, уже неприлично. Как же разобраться будущему историку литературы, кто был настоящим писателем для своего времени, а кто нет? Как ни жестоко звучит, но вопрос такой всегда был и будет и для самих писателей. Если задавать себе вопрос, есть ли ты в литературе или нет, то лучше не писать. Нельзя оглядываться и оценивать. Это дар свыше – понимать. Кто-то понимает, что он есть, большая же часть – нет. В потоке мусорной литературы есть единственный незыблемый оплот. Это толстые журналы. Ведь именно по ним историки и будут судить о нашей сегодняшней литературе. «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Литературная учеба» – во всех я печатался, последний даже выпускал двадцать 9 пять номеров. Писатель должен пройти через толстый журнал, через этих змеиной мудрости старцев, и просто змеев, каким был я. Это своего рода Инициация, Отсев, Признание. В наше время в толстом журнале напечататься сложнее, чем выпустить книгу. Но стремиться к такой инициации нужно. Мой статус писателя, простите, выше, чем, к примеру, у суперпопулярного А*, потому что его ни один из перечисленных журналов на порог не пустит. Он в общем-то и не писатель, потому что не инициирован, не помазан на вечность, не рукоположен. Вот только что делать, если проклят, если поссорился с главным редактором. Хуже не бывает. Не видать тебе вечности. В «Октябрь» я тысячу раз носил свои рукописи, - ни разу не взяли. Стал известен, попал в учебник по «Русской словесности», перевели лучшие рассказы в Париже, - им все по боку. Никак бывший дружок, П***, до сих пор не может простить мне прегрешений молодости. *** Вот я и без работы, шатаюсь по району. 9 мая пошел в магазин «Молодежный». На ступенях сидел солдат-афганец, без ноги, перед ним лежала газета, на которую бросали монеты. Лицо красное от водки. А рядом стоит невзрачный человек. «Это мой командир», - говорит афганец. Командир читал вслух собственные стихи о войне, пытаясь привлечь публику. Некоторые останавливались на минуту, давали деньги, да молча отходили. Стихи были плохие. Поэт то слишком увлекался темой, отчего рифма совсем пропадала, а повествование получалось сбивчивым, сумбурным, то наоборот вдруг ловил какую-то рифму и простенький размер и расходился до самозабвения, как частушечник. Когда возникла небольшая пауза, и афганец принялся разливать в пластмассовые стаканчики водку, я, неожиданно для себя, спросил, не хотят ли они послушать стихи Семена Гудзенко, и начал негромко: Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Я читал все отчетливее, постепенно отдаваясь могучему потоку слова, с наслаждением взлетая на гребне размера и проваливаясь в пучину печали, чтобы снова подняться. Слово «вернемся», воин-поэт повторяет, как заклинание много раз: «вернемся…вернемся», «когда мы вернемся…» Вижу восторженные, детские глаза афганца, вижу, людей собирается вокруг много, как на скандал. Может, это и есть мой катарсис? Почему именно здесь, на улице, при всем честном народе я дотронулся до себя и взорвался? Почему сейчас, когда все поздно менять, увидел, как велика взрывоопасная сила того дела, которым занимался так неосторожно, бестрепетно. Смешно сознавать, что 10 сейчас я в тысячу раз больше имею отношение к литературе, чем, когда просиживал штаны в редакции, выхолощенный, и уже никакой не писатель, обезвоженный интригами, как футболист после двух дополнительных таймов. Во мне вдруг закипала злость на эту газетку, где разместились и хлеб и водка и милостыня, на безразличных прохожих, на то, что Гудзенко молодым умер от ран. На всю нашу русскую породу. Почему у евреев нет беспризорных детей? в Армении нет бомжей? В Ереване, помню, у одного пьяного старика подломились ноги на улице. Все кинулись его поднимать, и мужчины и женщины, спрашивали, где живет, кто родственники, тянули к себе домой, чтоб отоспался. Там даже медвытрезвителей нет. У нас же весь город переполнен язвами и смрадом погибших людей, - имперским смрадом, а беспризорников больше, чем после войны, правда, среди детей встречаются и казахи, и узбеки, не только русские. Людей скапливалось все больше, а слова выходили из меня уже свободно без усилий, сами по себе, я даже мог теперь оглядеться по сторонам: И твои костыли, и смертельная рана сквозная, И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, – это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты… Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты… Когда я закончил, после последнего отчаянного «вернемся», на словах «… и ремесла найдем для себя», у афганца задрожали плечи, он опустил голову и весь напрягся. Комбат сразу как-то отрешенно стал смотреть по сторонам и вздыхать. Люди тотчас разошлись, мелочи немного прибавилось, а трое выступавших сразу стали опять незаметны. Зря я все это сделал, подумалось, опять влез не в свое дело. Может, правы они, бегущие с каменными лицами вверх и вниз по лесенке, выносливее что ли? Афганец посмотрел на меня почему-то виновато. Что он сейчас скажет? «Ты мне запиши это, пожалуйста». Он достал блокнот, ручку, но я не стал писать, сказал, что это слишком длинное стихотворение, почти поэма, лучше я отксерокопирую его с книги и принесу завтра, живу в соседнем доме. На том и порешили. На следующий день этих двоих на месте не было, и на другой тоже. Так они и лежат у меня эти отксерокопированные листочки, вложенные в книгу Семена Гудзенко. Теперь я сожалею, что не переписал прямо там, на ступенях, времени пожалел, хотя его навалом, так и надо было сделать. 11