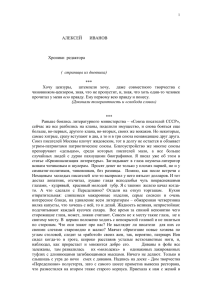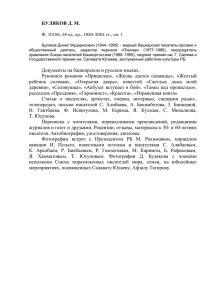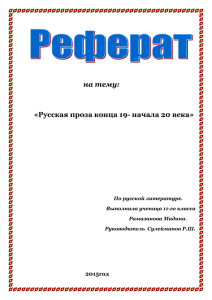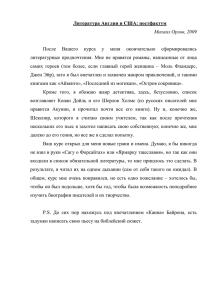Растерянные писатели - Институт языков и культур имени Льва Толстого
advertisement
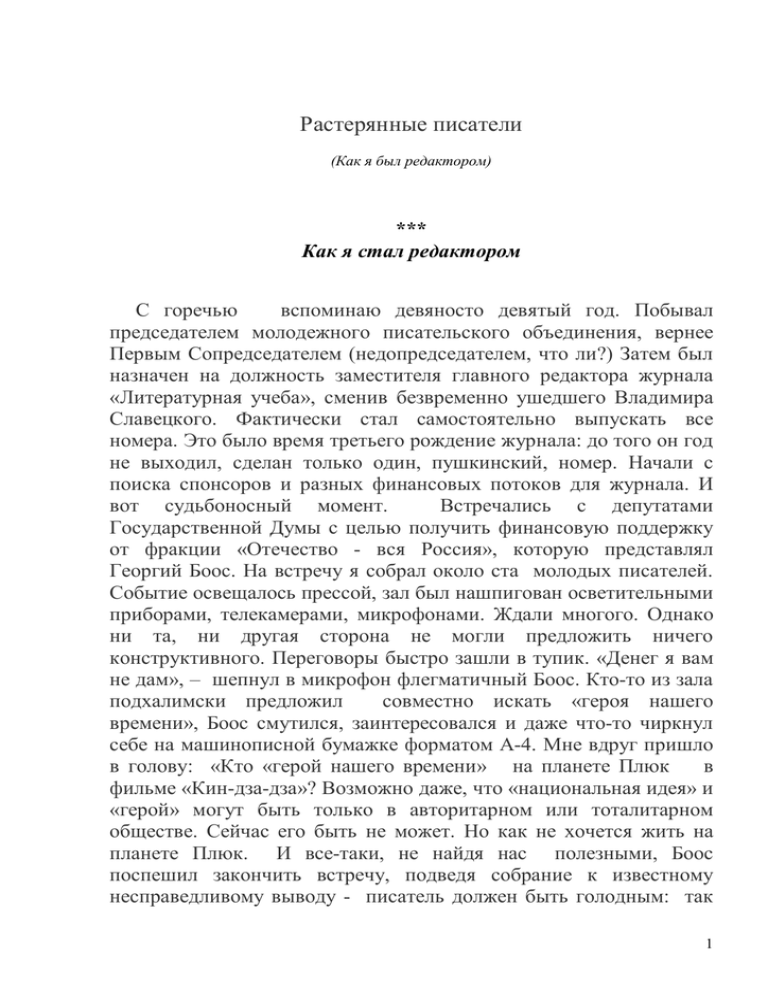
Растерянные писатели (Как я был редактором) *** Как я стал редактором С горечью вспоминаю девяносто девятый год. Побывал председателем молодежного писательского объединения, вернее Первым Сопредседателем (недопредседателем, что ли?) Затем был назначен на должность заместителя главного редактора журнала «Литературная учеба», сменив безвременно ушедшего Владимира Славецкого. Фактически стал самостоятельно выпускать все номера. Это было время третьего рождение журнала: до того он год не выходил, сделан только один, пушкинский, номер. Начали с поиска спонсоров и разных финансовых потоков для журнала. И вот судьбоносный момент. Встречались с депутатами Государственной Думы с целью получить финансовую поддержку от фракции «Отечество - вся Россия», которую представлял Георгий Боос. На встречу я собрал около ста молодых писателей. Событие освещалось прессой, зал был нашпигован осветительными приборами, телекамерами, микрофонами. Ждали многого. Однако ни та, ни другая сторона не могли предложить ничего конструктивного. Переговоры быстро зашли в тупик. «Денег я вам не дам», – шепнул в микрофон флегматичный Боос. Кто-то из зала подхалимски предложил совместно искать «героя нашего времени», Боос смутился, заинтересовался и даже что-то чиркнул себе на машинописной бумажке форматом А-4. Мне вдруг пришло в голову: «Кто «герой нашего времени» на планете Плюк в фильме «Кин-дза-дза»? Возможно даже, что «национальная идея» и «герой» могут быть только в авторитарном или тоталитарном обществе. Сейчас его быть не может. Но как не хочется жить на планете Плюк. И все-таки, не найдя нас полезными, Боос поспешил закончить встречу, подведя собрание к известному несправедливому выводу - писатель должен быть голодным: так 1 ему лучше, так лучше всем. Что сказать, писательская молодежь перестала быть важным вынашиваемым резервом. Практически мы ее тогда окончательно разогнали, да еще были высмеяны «демократической» прессой. Говорили, что мы устроили слет в духе «лучших» комсомольских традиций, а нарвались на байкера, которого не воткнуло: а на фига ему все это надо. Недавно мне довелось прочитать план идеолога «холодной войны» Аллена Даллеса на девяносто процентов состоящий из тезисов касающихся культуры. «…и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких, людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности». Многие возразят, мол, ничего подобного Даллес не писал. Но ведь сам документ-то известен с сорок седьмого года, и тогда какая разница кто его сочинил Даллес или Мюллер? Между прочим и небезызвестный Мюллер появился в США в год создания ЦРУ, в 1947 году, которое вскоре возглавил Даллес, Не странное ли совпадение? И сам стиль документа его пафос говорит, что создал его человек с европейским образованием, специалист по России, каким тот и был. Информация к размышлению. "Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, - все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей... Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания...» Просто мурашки по коже – какой пафос. Вернемся ненадолго к совещанию. В общем, у этого парня, Бооса, я тоже подглядел подвзглядный взгляд. В нем было отчаяние: он не знал, что делать с молодыми писателями, куда их приткнуть. В юности я с такими парнями много водки выпил на детской площадке под грибком, это очень человеческие парни, они 2 говорят за мотоциклы, за женщин, за любимый дембельский период. Но если ты по дурости спросишь, как они относится к прозе Давенпорта – получишь вот такой взгляд из другого мира, взгляд этот очень хорошо сочетается с нашим протяжным «ой, бляа-а!». А какое у Бооса самообладание, ведь не выпустил же из себя стон: «Почему я! Ну почему я должен с этими уродами разбираться?!» Он немного старше меня, а какое государственное мышление, а редкая стать, а зыркает, как хозяин жизни, - уж не прошел ли он, как и все вожаки, Школу Комсомольского Актива? Нет бы улыбнуться друг другу, последний раз повозиться, побороться в траве, поиграть еще раз в зарницу, а не в капитализм, посидеть у костра, - нет, уплывают от нас наши вожаки, и ветер треплет их редеющие волосы. Таким образом, решился краеугольный вопрос: государство не в ответе за литературу. Согласен – если б была идеология, литература стала бы государственным делом, но таковой нет. Теперь каждый писатель уже вовсе и не писатель, он должен «заинтересовать» работодателя. Все пытаются друг друга «заинтересовать»: писатель издателя, издатель чиновника или бандита, тот свою жену, - но что это за интересы? Не человеческие ли так называемые, дающие тираж: человеческий репортаж, человеческий интерес, человеческая литература большей частью? Продолжает вспоминаться: «Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого… Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства...» Действительно, раньше общество задавалось вопросами «Кто виноват?» , «Что делать?», а сейчас, тревожно вглядываясь, друг в друга: «Педераст или не педераст?», хотя то ли шутит паскудно, то ли уже спрашивает: «один раз – не педераст?» Руководитель музыкального театра Александр Новиков недавно рассмешил всю страну, буквально выбросив из репертуара детский музыкальный спектакль «Голубой щенок». «Какая гадость, - он поднял палец кверху, - голубой щенок, Тьфу!» Правда есть еще один важный вопрос: «Куды бечь?» 3 Изматывающая ситуация «заинтересовывать собой» выравнивает, как стальное правило, оно заставляет играть поновому, как нам придумали вожаки. Когда журнал «Литературная учеба» стоял на грани жизни и смерти, в 2003 году, мы тоже думали, как же заинтересовать собой читателя, ведь тираж за десять лет снизился с полутора миллионов до пятисот экземпляров, да и то которые мы обязаны были выпускать, чтобы не отобрали лицензию, и тираж был нам в убыток, - мы проводили множество рекламных акций. Ездили по городам и весям, выступали в университетах и библиотеках, - все, как мёртвому припарки, общество перешло на желтую прессу и глянцевые журналы, а мы тут, понимаешь, поднимали гоголевские вопросы. Вспоминается, как-то раз в химкинском Доме Культуры, поэтесса Морозова устраивала театрализованный концерт, посвященный своему творчеству, пригласила и меня. Все выступающие сидели в отдельной зале, куда не мог проникнуть, кроме избранных, ни один смертный. При свечах, за бордовыми гардинами, нас было несколько. Председательствовала хозяйка. На столе зернисто сверкала красная и черная икра, было много вина и водки лучшего качества. Морозова сидела в дохе из горностая и движением глаз милостиво приглашала говорить то одного, то другого. Необычная по своему физическому складу женщина, и мистическая к тому же, она приводила нас в трепет. Время от времени приходил человек во фраке и шептал ей что-то на ухо: он докладывал, кто выступает, а кому готовиться. Она кивала головой и говорила: «Алексей Петрович, через минуту ваш выход». Я направился к кабинке помрежа, которая тускло брезжила в кулисах могильным зеленоватым светом. Для встречи с Морозовой я оделся соответственно: в кожаном пиджаке, в накрахмаленной рубашке, при галстуке. «Что будете петь?» - бросив на меня пронизывающий взгляд, строго спросила помреж («помощник режиссера» в театре никто не говорит), и приготовилась писать название песни в толстый журнал. Я сказал, что не собираюсь ничего петь, а проведу литературную викторину: задам несколько вопросов из истории «Литературной учебы», а победителям вручу журналы. Она согласилась. И вот, я выбежал на сцену в своем кожаном пиджаке, улыбаясь, этакий человек-бублик, ну сто пудов - как сейчас спою. Вероятно, никто не расслышал, что объявила помреж, поэтому, 4 многие встречали меня как артиста. Наверное, многие гадали, кто перед ними Миладзе или Леонидов. Я провел викторину среди разочарованного зала, не дождавшегося от меня ни одной песни, и отчаянно завидуя эстрадным певцам, ни копейки не заработав, вернулся к своей Клеопатре, водке и икре. Все поменялось: раньше боялись литературного министерства – «Союза писателей СССР», сейчас же все разбились на кланы, поделили имущество, и снова бояться еще больше, во-первых, другого клана, во-вторых, своих же вожаков. Но некоторые, самые хитрые, сразу вступают в два, а то и в три союза ненавидящие друг друга. Союз писателей Москвы кличут «жидовским», тот в долгу не остается и обзывает «угрюм-патриотами» патриотические, мужиковствующие, союзы. Благоустройство же многие союзы препоручают «дельцам», среди которых писателей мало, а все больше случайных людей с дурно пахнущими биографиями. Я писал уже об этом в статье «Криминализация литературы». Заглядывает в глаза неумеха-литератор всяким чичиковым и шулерам. Просит денег не только у плохих парней, но и у симпатяг-политиков, чиновников, без разницы. Помню, как после встречи с Немцовым молодых писателей кто-то из маститых писак, воспользовавшись случаем, выпросил у него пятьсот долларов. И тот достал лопатник, отсчитал, лукаво глядя исподлобья чуть покрасневшими глазами, - кудрявый молодой зубр. И с такими я знаком: железо качал когда-то. Помню, после этой встречи я и ещё несколько писателей поехали перекусить, поскольку у Союза писателей в этот раз не нашлось денег на фуршет. Мы сидели в кафе «Ночной дворик», который я называл «Ночным дворником». Ели шашлык, соленья из горных трав, выкопанных, по-видимости в соседнем парке, и бараньи потроха, запивая армянским пивом «Котайк». Я смотрел на воду и думал, почему Останкинская игла отражается во всех больших водоемах Москвы. Интересно также было наблюдать и записывать, как меняются окна в зависимости от времени суток. В семь часов в помещении включили свет, зажглись матовые плафоны под потолком. Окна были прозрачны, но когда щелкнул выключатель, на всех появились крохотные светлячки, однако еще сверкало на солнце Терлецкое озеро, шевелили ветвями над ним 5 деревья. Когда завечерело, плафоны сильнее стали отражаться в окнах, среди деревьев они выглядели, как светящиеся духи. На сцене, за моей спиной, появилась певица, и почти каждую свою песню называла «подарком». Озеро теряло очертания, над белым строением лодочной станции, на противоположном берегу, растворился бело-сине-красный флаг. В сумерках окна начали отражать не только огни внутри «Ночного дворика», но и цвета: зеленые полосы колон, цветы сирени столе, бегущие пятна передников официанток. Озеро все серело, блеск его тускнел, а деревья на его фоне превратились в театральные контуры. Ночью же окна обратились в совершенные зеркала, и отражали уже все, что происходило в кафе: посетители танцевали, и зажигала девушка go-go по имени Орфа, исполняющая танец живота, дым сигарет поднимался слоем, до плеч, как в турецкой бане, сновали официантки, багрово заливались смехом лица пьяных от водки, покатывались со смеха пивные пьяницы, - к ним время от времени присоединялся и я.. Наконец, я расслабился и уже не думал о литературе, предложить было совершенно нечего, точно я находясь на тонущем корабле опустил руки, со все большим умиротворением отдаваясь воле рока. *** Переделкино Зимою поехали с женой в Переделкино. Что с ним сделали? Отдали на откуп торгашам. Кухня отвратительная: слипшиеся макароны, серые сосиски и очень интересное блюдо, на удивление всем литераторам, – отваренная четвертинка вилка капусты, что хочешь с ней, то и делай. Жадность великая, непристойная: подсчитывают каждый кусочек сахара. Все время за спиной непонятно чего сторожащие глаза, может, ложки считают. Что эти новоиспеченные хозяева знают про нас? Не выглядят ли писатели для них со своими слетами старомодно и жалко? Рассаживаются брюзговатые хозяева по углам столовой, следят за «работой» своих толстолягих жён в черных чулках. Так, вероятно, патриарх Иов сидел когда-то в гроте, широко расставив усталые ветхозаветные ноги, и, наблюдал, как прирастает и множится добро его. Диваны в фойе все залежаны, там развалилась «их» молодежь в одинаковых лакированных туфлях с длиннющими загибающимися 6 мысками. Ничего не делают. Только и слышишь с утра до ночи ржание с диванов. Надпись на доске «Дом творчества «Переделкино»» полустерта, зато с самого шоссе приметна вывеска ресторана, что разместился на втором этаже старого корпуса. Приехала к нам с женой в Переделкино Р. – бард, прослезилась и сказала: «Как они могли!» Под «они» подразумевая тех, кто отдал наше Переделкино. Автобус в Переделкино приехал рано утром к Центральному Дому литераторов. Собрались ехать на совещание молодых писателей. Поскольку я в прошлом году уже был на совещании молодых писателей в качестве прозаика, то брать меня было не положено: слишком часто получалось. Поэтому и возник план выдать себя за драматурга, да и Александр Коровкин, который вел семинар драматургии, сам предложил мне поехать с ним. «Даю тебе месяц, сказал он. - За это время напишешь пьесу». И я взялся. Пьеса получилась плохая, но Коровкин сказал, что достойна-таки обсуждения. В автобусе все были с тяжелыми рюкзаками, в каждом рюкзаке дюжина бутылок водки, да банок десять тушенки. Мы же с женой взяли всего лишь бутерброды, лыжи, да еще три экземпляра рукописи моей пьесы. Утром я уже нарезал круги вокруг Переделкино, а за мной бегал щенок овчарки по имени Дашка. Мои товарищи по литературному цеху мучались с похмелья, я же старательно прокладывал путь для своих будущих прогулок. Дашка, казалась, специально громила овчарочьими большими лапами мою лыжню, резвясь с какой-то девчачье-собачьей кокетливостью. Я пытался отвлечь её от этого занятия, но за палками она не бегала, точно их не замечала, а снежки её только раззадоривали. Создавалось впечатление, будто с ней вообще никто не играет. Ну да, хозяевам нет дела до собаки, когда живешь в Переделкино, топишь печку пахучими березовыми дровами, и пьешь водку. Я еще тогда не знал, что по-детски кургузая Дашка выбрала меня навсегда, на свою беду, потому что тот приезд был последним. Днем начиналась работа совещания: обсуждения на семинарах. Сознаюсь, мне было всё равно, кого примут по результатам в Союз писателей Москвы. К тому времени я уже был десять лет в этом Союзе и вступал в него в первой десятке. 7 Заезд был бурный; старое здание Переделкино ожило: скрипели древние дубовые половицы, из номеров раздавались пьяные крики; с утра до ночи чеканился пинг- понг, а с заснеженных тропинок наносилось много грязи. Уборщицы сбивались с ног, злились, особенно одна, самая старая: «Припёрлись, - ворчала, - Писа-аатели, откуда ж они берутся-то эти писатели. У нас своих писателей, как говна за баней, а тут ещё эти приперлись – ханыги, пьянь!». Все ждали самого главного человека – Филатова, бывшего соратника Ельцина, который вскоре будет возглавлять наш Союз. Однажды я, гуляя с родной уже Дашкой по окрестностям, заметил, как через поле едет «Мерседес». То остановится, то снова с осторожностью тронется в путь. Наконец машина приблизилась ко мне. Боковое стекло опустилось, в салоне я увидел водителя и рядом с ним старика с седой шевелюрой, на красном лице рыбьи глаза и большой бугристый нос. «Мужик, а мужик, - крикнул водитель из машины, - а где здесь «Дом отдыха писателей»»? «Дык вертай взад, - отвечаю, тут же подыграв, - а там-то аккурат вправо, и допехаешь». Машина развернулась, из выхлопной трубы повалил синий дым, прямо Дашке в морду. Дашка зарычала, потом, жалобно заскулив, попятилась. Машина тронулась. «А знаешь, кто это такой? – сказал я. – Тот, кому ещё при жизни памятник поставят». Дашка, недоверчиво глянула на меня, и, склоняя голову набок, с любопытством проводила глазами удаляющийся «Мерседес». По ту сторону добра и зла Наконец я издал свою первую книгу «На другой стороне дороги». По-моему ничего название. Полиглот Вилли Мельников сказал, что удивлен, как мне пришло это на ум, ведь в переводе с символического языка древнеегипетских жрецов означает: «По ту сторону добра и зла». Даже и не задумывался, как назвать книгу, и 8 никаких подсознательных знаний египетских жрецов в себе не подозреваю. Не старался никак. Зато у других, какие вымученные названия: «Мужики и бабы», «Перегной», «Девятинские карагандины», «Лад», «Пряслины», - в духе соцреализма, конечно. Кстати, за что люблю американцев, за их классическую литературу, и разумеется за названия, каждое можно под стекло и - в музей: «Зима тревоги нашей», «Оглянись во гневе», «Почтальон всегда звонит дважды», «Убить пересмешника», «Пролетая над гнездом кукушки», и много других. Прежде чем найти эти книги, я о них мечтал, думал, что же может прятаться под таким названием? Сколько сил потрачено, чтобы так завернуть. А я даже не всегда понимаю, как я пишу, и почему написал так, а не иначе? Почему так назвал? Сомневаюсь, что писатель вообще должен понимать, как он пишет, особенно, если есть вдохновение. Но когда оно пропало, или хромает, давай, подставляй себе костыль правил. За книгу пришлось бороться. Узнал, что «Комитет по книгоизданию правительства Москвы», который возглавлял Валерьян Павлинович Шанцев, третий год устраивает конкурс по городу и области на лучшую книгу. Я пришел на Старый Арбат со своей рукописью. В конкурсе принимали участие больше тысячи писателей и поэтов. Меня зарегистрировали 421-м номером. Бороться пришлось с по-настоящему историческими личностями, но именно моя книга стала победителем, и издалась в специальной типографии московской мэрии в то же самое время, когда на конвейере появилась очередная книга Лужкова. На гонорарные деньги мы с женой поехали на Соловецкие острова, что позволило написать очерк «Гиперборея», впервые изданный в «Дружбе народов» и переизданный во многих других журналов. Это к разговору о том, что у писателя не должно быть денег. Были бы деньги, поехал бы и на Байкал и на Камчатку, и написал бы книгу еще лучше. Книга никогда не умрет, она удивительна тем, что в отличие от кино и даже театра, на ее страницах всегда два автора – автор и читатель, вместе они создают мир. Одень героя, как хочешь, придай ему образ друга или своего врага, нарисуй в уме какой хочешь ландшафт, – автор против не будет, если сам этого не сделал прежде. Причем это занятие – совместное творчество не одноразовый акт. Сознание наше таково, что на его полотне можно рисовать ни один раз. Ты можешь вернуться через год к повести 9 или рассказу и прочитать его по-другому, в иной интерпретации, назовем это - римейк. Книги это потусторонний мир, в котором автор всегда жив. Автор давно уже умер, а ты снова будешь встречаться с ним и вместе работать, поскольку чтение это труд, упоительный труд. Вот поэтому-то и хочется быть писателем, чтобы никогда не умирать. Открой меня и дай мне другую жизнь. И еще одно. На выставке «Звезды в защиту животных», где был членом жюри, один многотиражный детский писатель говорил мне надоевшие давно слова, о том, что книга должна работать на потребителя, равняться на телевидение и так далее. Может, и так, но есть феноменальные писатели, типа Стендаля, или Генри Миллера. Через пятьдесят страниц уже видишь мир их глазами, более того – их душой, становишься на время гением, и можешь даже мыслить на любую тему их мыслями. Здесь, правда, твое соавторство справедливо подавляется, поглощается ими. Такой аттракцион без конца. А разве это не ценно, однако, не товар. Замечательное призвание – писательство, но равно и мучительное бремя. Особенно тяжело найти издателя, а уж сыскать славу… Как хорошо художнику, его холст, точно радуга на небе: развернул и всем показал, а ведь средних размеров холст можно приравнять к роману – однако, все увидели за секунду и оценили. И ведь главное не в том, что, допустим, не поняли, плюнули и отошли, а в том, что сразу увидели многие. А так называемые муки творчества? Порою, так было со мной всегда, с самого детства, моя страсть, ненависть, любвеобильность, заставляют меня в уме становится то великим архитектором, то диктатором, и я пишу роман в себе, не переводя его на бумагу. Я часами молчу, ни с кем не разговариваю. На меня, угрюмого, все сильнее и сильнее начинают обращать внимание обеспокоенные близкие. Я целиком предан своим мечтам. Засыпаю с мыслью о судьбе моего персонажа и просыпаюсь с тем же, какие-то детали переходят даже в сон. Я продумываю, проигрываю каждую деталь его жизни: пока не проработаю, не пойму, как, к примеру, диктатор питается, и какие принимает меры, чтобы его не отравили; откуда берет постельное белье, что видит в окно кабинета и спальни. Все должно быть правдоподобно безупречно. В высшей степени реалистично – главное условие. Иначе все не имеет смысла. Детали, детали, детали, ненавистные детали не дают мне воображать дальше, и взбудораженный мозг мой, изнывая от простоев, мистически 10 подсказывает мне о герое то, что и представить невозможно. В результате герой моих мыслей оживает, я думаю, как он, чувствую, гляжу, как он. Наконец вижу его судьбу, не как писатель-демиург, а как, быть может, он сам в вещем сне, после которого просыпается в холодном поту и не знает уже, что он это я. Я понимаю весь его смысл, и чем все заканчивается. К чему приводят бесконечные пороки, что творит с нами губительный, хоть и справедливый гнев. И так я мытарствую вместе с ним, пока мне мой герой не наскучит. А ведь это целая жизнь. И все-таки, как же заставить прочитать книгу? Вот Вилли Мельников всегда таскает с собой огромный альбом с разноцветными рисунками иероглифов. Показывает мне, делает вид, что не следит, но косит глазом, как ревнивая собака на своих щенков в руках человека, нервничает. Так и не принес мне в «Литературную учебу» «Мифологию деревьев», для него проза невыносимый труд, уж лучше фотографировать. А писателю как быть? Как ему-то показать, заставить прочитать? Поэту и то легче. Правда, слушать плохого поэта томление не приведи Господь, своего рода насилие. *** Пропала-то Россия-то Приближался юбилей журнала «Литературная учеба». Я написал большую статью по такому случаю и собрал немало приветственных адресов. Для этого мне пришлось походить по Москве, быть и в «Литературной газете» и у Вадима Валерьяновича Кожинова, и у Ал. Михайлова, который подарил мне книгу «за мою любовь к Северу». Наконец пришел в одну писательскую организацию, у членов которой была слава угрюмпатриотов. В огромном, как футбольное поле кабинете, за дубовым письменным столом сидел председатель Союза писателей Иван Митрич Калугин. Седая прядь волос спадала на лоб профессора, на лице размещались очки в роговой оправе, - «воинствующий провинциал», как он сам себя называл. По периметру кабинета, сидели хмурые мужики. Шел разговор, но с моим появлением прекратился. Я сел в уголке, в ожидании. В помещении пахло 11 табаком, перегаром и старым пиджачьём, поскольку все были одеты в костюмы покроя незапамятных времен, мрачного цвета требующих химчистки. Почти все были в галстуках. Через какоето время, посидя в молчании, я предположил, что пришел не вовремя и решил откланяться. Но тут профессор, видя некоторое замешальство, нарушил затянувшуюся паузу и сказал: «Пропалато Россия-то». Все покачали головами. Сидевший первым по левую руку от Калугина писатель Буйносов заёрзал на стуле и сказал: «Россия-то пропала». Опять все покачали головами. Следующим был писатель Внутрянов: «Пропала Россия-то». Ничего не понимая, я испуганно, оглядывался по сторонам, и первое, что мне пришло в голову: кажется, они подают голоса идя по часовой. Наконец дошла очередь до Кожемякина, и с болью простонав, что просрали-то Россию-то, он помотал бородой. Потом настала очередь ещё кого-то, он тоже отчитался, как впрочем, и все. И вдруг я с ужасом начинаю понимать, что и мой черед пришел. Так и есть, вдруг все угрюмо и с нетерпением уставились на меня воспаленными глазами. «Ну, уж нет, - подумал я,- ни за что от меня этого не дождетесь!» Секунды показались мне часами, как пишет наш брат. И вдруг я, сам, не ожидая от себя такого, выпалил: «Пропало-то Россия-то». И тут всё враз переменилось. Казалось, все только этого и ждали. Атмосфера разрядилась. Калугин мгновенно выудил откуда-то, движением фокусника, непочатую бутылку водки. В руках у всех как-то сразу оказались стаканы – и водка была разлита по периметру. Мне налили больше всех - две трети стакана. А закусить дали только черного хлеба краюху. Пришлось идти в ЦДЛ и подъесться в буфете борщом. В холе заведения, на книжном столе лежали новые книги на продажу. Такие «настоящие», которые теперь можно увидеть только в Центральном доме литератора, что держал оборону против всего мира. В «Изборнике Вячеслава», литературном словаре под редакцией моего доброго смешливого друга Огрызко, прочитал немного про себя и том направлении в литературе, которое я представляю – «нерекрутивизм». Все-таки надо было расшифровать для тех, кто не знает, что значит «чтение вслух» главный постулат нерекрутивизма. Это же не то, что сидеть в метро и, как безумный, вслух читать книгу. Прежде всего, это художественное чтение. Чтецами своих произведений были и Пушкин, и Алексей Островский. В двадцатом веке авторское 12 чтение подтолкнуло великих актеров к созданию театра одного актера: Качалов, Яхонтов, позже Журавлев, Яков Смоленский, Андрей Попов, которого я считаю своим учителем. Проза требует воспроизведения человеческим голосом. У прозы человеческий голос, мы об этом забыли, потому и требую я – вслух. Забыли, и поэтому стала страдать сама проза: прочитанная голосом проза это испытание на художественность. Но появилась с нашего разрешения проза «для глаз», читатель выхватывает событийные куски детектива или любовного романа, в этом процессе для него главное адреналин или эротическое возбуждение, такие книги можно читать даже методом быстрого чтения. И не смотря на это такие создания называются и книгами и литературой и художественной прозой, а авторы подобных сочинений получают премии названные в честь писателей, которые, будь они живы, их бы знать не хотели. Полно авторов, нет писателей. Путаница и невежество. И последнее, чтение вслух формирует у человека любого возраста культурную внутреннюю речь, так как даже думаем мы мыслями с голосом, все мысли с детства в нашей голове имеют голос, а затем в «литературном» возрасте записываются символами. Мы забыли про выражение «культурный человек». Спешащая цивилизация поглотила культуру. Мы торопимся, а чтение не терпит скороговорки. В нашей жизни отсутствует логическое ударение, его очень важно расставить. Все негативные явления нашей жизни во многом являются следствием спешки. Вот такое маленькое слово «вслух», а как много оно означает. Пасте знаге, добже драге Так вот. Такого же рода насилие, как слушать плохого поэта, ехать в одном купе с незнакомым человеком. Кто первый оголит зубы и скажет: «Давайте знакомиться!» Какое неудобство и мучение! Замечаешь, какого-то черта, что ногти больших пальцев под носками у него блестят через дырки, по утрам тебя будит запах пережеванных с огурчиком яиц или тихоструйное журчание младенца в горшок. Но бывает еще хуже. 13 Когда мы ехали в Варшаву на литературную конференцию, меня поселили в одном купе с Н* и его совсем юной женой. Добираясь до Варшавы, он пилил свое сало тупым перочинным ножичком, очень напирал на то, что сам украинец. Но я тоже знаю толк в сале, сам его солю, потому вежливо отказывался от предлагаемого: зловонного и жесткого; однако он всем распределил. Конечно, нужно было ему подыграть, заинтересоваться его родным городом; выразить огромное сожаление, что никогда там не бывал; сверкнув повлажневшим глазом, похвалиться, что у самого тетя хохлушка; жевануть сальца по-мужски непосредственно, принять несколько расслабленных поз, настроить мимику. Но, винюсь, не сумел себя заставить, и с каждым годом мне все скучнее и скучнее со случайными попутчиками. Когда же в качестве ответной любезности на позиционирование сала я предложил жареные куриные ножки, в нем что-то оборвалось, пропали задор и такая простительная дерзость, исчезло что-то особенное, этническое, - я, кажется, ранил его. Улыбнувшись через боль и, побледнев, он сказал, что у меня барские замашки, и почему-то обозвал москвичом, именно, что обозвал: «Есть в поезде куриные ножки могут только москвичи», точно «москвич» это слово на букву «м». Потом ни один раз еще вырвалось из его отороченных мехом уст «москвич» в подобном контексте. Нужно отдать должное его «впертости» (в переводе с украинского - упрямство) – к ножкам он так и не притронулся, хотя до вечера косился на них и свирепствовал сам в себе, а жена его очень, по-моему, хотела покушать по-человечески, и вроде бы не успела проникнуться ко мне ненавистью. Это его тоже изводило, и он что-то хотел ей объяснить про меня. Так, измаявшись, и доехали до славного города Варшавы. Слава Богу, там нас разлучили, отправив по разным гостиницам. В городе нам объяснили, что не добрался и пропал только какой-то важный член нашей научной группы, профессор К*. Поднялась паника. Все чтото предпринимали, куда-то побежали. Особенно Н*, успевший уже переодеться в курортные шорты, давал советы баритоном, медленно выговаривая каждое слово. Я вытирал пот со лба и смотрел, как из стен древнего города, выбирался какой-то нелепый человек в теплом шерстяном пальто до пят, взъерошенный (думаю, потому что все время тер себе перегретую солнцем голову), в шарфе на покрасневшей шее, в очках на таком родном широком 14 русском лице. Он и оказался потерявшимся, сомлевшим от октябрьского польского солнца, профессором К*. С ним-то меня и поселили в дешевой гостинице «Сократус», и вот мы сразу не понравились друг другу. Я сильно устал от дороги и своих попутчиков, а он, думаю, был поражен моей неприветливостью и нервозностью. Я совсем не хотел его обижать. Когда он снимал очки и тер переносицу, на тебя глядели такие беспомощные детские голубые глаза, что оскорбить их было недопустимо. Когда он снял свое ужасное пальто, размотал шарф, принял душ, то я, наконец, увидел такого же сорокалетнего русского парня, как и сам, и невольно улыбнулся. И даже узнал его: это он сидел среди других тогда в кабинете у Калугина. Обманчивое первое впечатление проходило, вечером мы уже пили водку и, стали не разлей вода. В прошлом он был балтийским моряком. Мне нравилось потешаться над ним, говоря блатным речитативом, как заключенные из «Комедии строгого режима» по рассказу Довлатова: «Почему броненосец «Мятежный» не выполняет распоряжения Центробалта?» Иногда броненосец «Мятежный» заменялся «Беспощадным», или «Стремительным». Ему было приятно, он отвечал мне в тон, вспоминал море. Когда уезжали из Варшавы, опять дали купе на нас же троих: меня Н* и его молодую жену. Это было уж слишком. Я побежал к проводнику и сказал, что весь вагон в этот раз пустой, а мне приходится ехать с «молодоженами», нельзя ли договориться, за злотые, разумеется. Через какое-то время польский проводник подошел ко мне и сказал: «Пан едет сам». Наконец-то. Я с заносчивым видом перебросил вещи в другое купе, и поехал один в вагоне с широкими гобеленовыми диванами, своей раковиной и туалетом. Расположившись, умывшись, я и вправду почувствовал себя «паном», даже промурлыкал какой-то куплетик на придуманном польском языке, но на музыку песенки, которую пел когда-то чех Иржи Корн: «…пасте знаге-е, добже драге-е…». Немного отдохнув, когда показались предместья Варшавы: угольные кучи, шахтерские поселки, да фруктовые сады, с утопающей в них черепице, я достал бутылку пресной польской водки «Собески» и направился в купе профессора К*, профессора с колбасой, настоящей «Краковской». Перед отъездом мы договорились, что о его местопребывании в поезде никто не узнает, чтобы не было лишних гостей. Однако Н* его все равно обнаружил 15 и, пройдя мимо открытого купе, съязвил: «С Ивановым пьешь? Он тебя еще не за…ал?» Я хотел было спросить Н*, чем же я могу за…ть, но не догнал: его желтые пятки в тапках оказались резвее. Профессор К*, застигнутый врасплох, растерянно улыбнулся, и водка в его руках тоже смущенно улыбнулась. Пересекли ночью границу с Белоруссией, и нас окружили проститутки. Мы предварительно выключили свет, чтобы быть незаметными, молчали: пусть думают, что купе закрыто на ключ с внешней стороны. Разве такого не может быть? Но те все равно рвались именно в нашу в дверь, чуть ли не в окна. Ручка двери все время ходила туда–сюда: «Выходите, мужчины. Попьем шампанского!» Мы заперлись в купе, и я думал, а что делают сейчас опрятные такие проводники в галстуках, неужели в таком же отчаянном положении, как и мы. Вероятно, они выливают сейчас, в окна, точно с крепостных стен города горящую смолу и березовый деготь. И так два раза на день? Нет, совсем не представляю, что они сейчас делают, только сдается мне, что им лучше, чем нам. Ручка двери ходила и ходила ходуном. Кто же нас выдал? Кажется, через визг и хохот я пару раз слышал знакомый сахарный баритон. Дверь дрожала от осады - и, даже зеркало упало. Решились в итоге сделать с броненосцем «Беспощадным» вылазку с мордобоем и упреком, но посчитали, что это недостойно русских профессоров. Голоса становились все жалостливее и протяжнее, точно мы в морозную ночь собак в дом не пускаем: «Мужчины-ы, ну выходите же, ну выпьем шампанского!». Одна из проституток, подтянулась на нашем окне, но сорвалась и упала, оставив в купе запах парфюмированных подмышек. Наконец тронулись в путь, и тут-то началась наша родная нищета, полугниль, больные лишайные деревья, на станциях сморщенные личики старух с яблоками, а в корзинках водка «Березка». Еще до России было несколько станций – и все то же, и старухи, и водка, и яблоки скрипели под нашими зубами. Белоруссия нас споила, и в итоге мы расплакались навзрыд над старухами. Похныкивая, закусывали водку духовитыми яблоками. В Россию въехали лежа, совсем пьяные. И мне приснилось, что я Одиссей, и, привязанный к мачте, проплываю мимо острова с сиренами-проститутками. 16 *** Главное для писателя поймать свое «я», иначе нет смысла садиться за стол, потому что, когда это долгожданное твое «я» придет, оно подвергнет сомнению все, что было написано без него. Нельзя писать пьяным, или с похмелья, нельзя писать раздраженным, или растроганным чем-то, вредно писать голодным: я после трех часов писания ем, как наркоман в «отходняке». И только скажи мне тогда, что писатель должен быть голодным порву и съем. Начать писать – все равно как сделать шаг в птичью стаю: все птицы разлетятся, как и мысли, и будет так всякий раз, пока какая-то одна не останется и не поглядит тебе в глаза весело, как мать – значит твое, смело пиши. А без этого «я» результаты труда, со слезами на глазах в свое время выбросишь, на горбу унесешь хлам и кучи навоза. А ведь у меня оно исчезало на годы, и мои работы читали со словами: «Это не ты», «Это тебе не свойственно», «Не твой голос», и даже «Предательство по отношению к себе». Другое дело – «почерк», это нервы, психика. Почерк руки меняется в течение дня, и меняется вовсе с годами. К примеру, вот что говорят о почерке Есенина исследователи, когда тот был совсем молод, судя по записке к Александру Блоку: «Записка написана человеком амбициозным, воодушевленным, жаждущим успеха, но предусмотрительным и осторожным, честным и искренним, развитого интеллекта и богатого воображения, воспринимающего действительность эстетически». Через несколько лет толкователи почерка скажут о предсмертном образце («До свиданья, друг мой, до свиданья»), что «писала натура щедрая и расточительная, рассудительная и доверчивая, но вместе с тем сдержанная и холодная, скрытная и нервозная, неуверенная в себе и замкнутая, эгоистичная и рассеянная, наделенная глубокой интуицией». Писательский почерк тоже существует на лингвистическом, и каком угодно уровне. Другое дело стиль (stilos - лат.) - деревянная палочка, которой древние писали на глиняных табличках. Такими стилосами сенаторы закололи Юлия Цезаря, поскольку в Сенат нельзя было пронести 17 оружие. Таким образом, Цезаря убил стиль, – не сама рука, а тот инструмент, который она выбирает. И с чего это я задумался о стиле, или о таких понятиях как ритм, писательское дыхание. А кому это нужно? Захожу недавно в книжный магазин и лицом к лицу сталкиваюсь с певцом Димой Биланом, вернее с его лицом на обложке. Он теперь стал писателем. И ни одна еще певичка попросит называть её: топ-модель, певица, писатель. А артист Иван Охлобыстин не поймешь кто? То ли он священник, то ли актер. Удивлюсь, если не писатель уже. Такой наплыв литературы. Печатаются все кому не лень. Что взыскуют? Какую выгоду? «Мы будем всячески поддерживать и подымать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, - словом всякой безнравственности...» Одних Ивановых на прилавке человек десять, уже неприлично. Как же разобраться будущему историку литературы, кто был настоящим писателем для своего времени, а кто нет? Как ни жестоко звучит, но вопрос такой всегда был и будет и для самих писателей. Если задавать себе вопрос, есть ли ты в литературе или нет, то лучше не писать. Нельзя оглядываться и оценивать. Это дар свыше – понимать. Кто-то понимает, что он есть, большая же часть – нет. Как сказал Юрий Казаков «В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез н а ч и н а е т б ы т ь». В потоке мусорной литературы есть единственный незыблемый оплот. Это толстые журналы. Хотя «Дружбу народов» и «Литературную учебу» пытаются уничтожить. Ведь именно по ним историки и будут судить о нашей сегодняшней литературе. «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Литературная учеба» – каждый из них давал мне приют в разное время, в последнем я даже работал и выпустил двадцать пять номеров. Если их не станет, то, конечно, литература не погибнет, а приобретет совсем другую сущность. «Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства..» Писатель должен пройти через толстый журнал, через этих змеиной мудрости старцев, и просто змеев, каким был я. Это своего рода Инициация, Отсев, Признание. В наше время в толстом журнале напечататься сложнее, чем выпустить книгу. Но стремиться к такой инициации нужно. Статус такого писателя 18 выше, чем, к примеру, у суперпопулярных А*,Б*, В*, потому что их ни один из перечисленных журналов на порог не пустит. Он, в общем-то и не писатель, потому что не инициирован, не помазан на вечность, не рукоположен. Вот только что делать, если проклят, если поссорился с главным редактором. Хуже не бывает. Не видать тебе вечности. В «Октябрь» я тысячу раз носил свои рукописи, - ни разу не взяли. Стал известен, попал в учебник по «Русской словесности», перевели лучшие рассказы в Париже, - им все по боку. Никак бывший дружок, П*, до сих пор не может простить мне прегрешений молодости. *** Опять лето. Обливаемся потом в журнале, кондиционер не работает. Приду домой – напьюсь холодного пива. Завхозиха сидит в босоножках, красит ногти, – морщится. За долгие годы работы в журнале заслужила право самой отбирать литературные произведения: «Я и сама могу сделать номер». Зыркает на «никчемных» редакторов: «Даже бумагу сральную без меня купить не могут». Моя сослуживица, красивая молодая женщина, По дороге из редакции, после рабочего дня, со слезами ярости сказала: «За такие слова в морду бьют». И каждый божий день вот такой, понимаешь ли, литературный процесс. Выхожу из журнала и спешу к метро. Иду мимо павильона в котором продают шаурму, самсу, ачму и лаваш с яйцом. Руководит бойкой торговлей какой-то парень-«южанин» в накрахмаленном колпаке. Он постоянно нервничает, покрикивает на старикакиргиза, чтобы поскорее убирал со столиков. Что-то между ними не заладилось. «Я хочу есть, ты же обещал», - говорит старик с досадой. За его спиной прячется пожилая киргизка. «Давай, давай, командует парень, - убирай!» «Где мой обед?» – говорит более настойчиво старик. «Вот твой обед!» - парень показывает ему на урну с объедками, куда старик с женой до этого сгребали мусор. «Это не мой обед», - отвечает старик, не трогаясь с места. «Это твой обед!» - психопатично швыряет через плечо парень, уходя. Вот как об этом ни писать? Какая уж тут дружба народов? А не писать о таком не имеешь права. Вот потому-то, если бы был 19 цензор, то записал бы и не такое, и отвел бы на нем душу – пусть разбирается. Не прошло, так не прошло, главное выполнил свой долг. А если цензор не пропустил – государственный служащий, то таким образом власть призналась в отсутствии свободы слова. А без цензора писателя в чем угодно можно обвинить: мол, разжигает межнациональную вражду. Мы тут понимаешь так старательно всё клеем, а он возьми и подгадь нам, лягнул-таки исподтишка. Или обвинят в национализме: зачем акцентируешь внимание на всякие урны и объедки, ну понервничал немного парень, ты лучше расскажи какой этот парень, способный такой, как он умеет готовить шаурму. А какая свадьба у него была: две тысячи гостей! всё Бутово вздрогнуло. «Почему, - поцикают языком, поперчат снизу воздух пальцами, - русские такие недружелюбные к другим народам?» Поставят всё с ног на голову, а маховик-то уже запущен: «Национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом...» Пальчик Вот я и без работы, шатаюсь по району. 9 мая пошел в магазин «Молодежный». На ступенях сидел солдат-афганец, без ноги, перед ним лежала газета, на которую бросали монеты. Лицо красное от водки. Отламывает куски от круга одесской колбасы, кладет в рот. Рядом стоит невзрачный человек. «Это мой командир», - говорит афганец. Командир читал вслух собственные стихи о войне, пытаясь привлечь публику. Некоторые останавливались на минуту, давали деньги, потом молча отходили. Стихи были плохие. Поэт то слишком увлекался темой, отчего рифма совсем пропадала, а повествование получалось сбивчивым, сумбурным, то наоборот вдруг ловил какую-то рифму и простенький размер и расходился до самозабвения, как частушечник. Когда возникла небольшая пауза, и афганец принялся разливать в пластмассовые стаканчики водку, я, неожиданно для себя, предложил им послушать стихи Семена Гудзенко, и начал негромко: 20 Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Я читал все громче, без стыда, постепенно отдаваясь могучему потоку слова, с наслаждением взлетая на гребне размера и проваливаясь в пучину печали, чтобы снова подняться. Слово «вернемся», воин-поэт повторяет, как заклинание много раз: «вернемся…вернемся», «когда мы вернемся…» Вижу по-детски восторженные глаза афганца, вижу, людей собирается вокруг много, как на скандал. Все-таки что-то я умею делать лучше других, пусть это что-то и редко пригождаемое дело. Я читал. Может, это и есть мой катарсис? Почему именно здесь, на улице, при всем честном народе я дотронулся до себя и взорвался? Почему сейчас, когда все поздно менять, увидел, как велика взрывоопасная сила того дела, которым занимался так неосторожно, бестрепетно. Смешно сознавать, что сейчас я в тысячу раз больше имею отношение к литературе, чем, когда просиживал штаны в редакции, выхолощенный, и уже никакой не писатель, обезвоженный интригами, как футболист после двух дополнительных таймов. Мне показалось, что только сейчас я «всерьез начал быть». Во мне вдруг закипала злость на эту газетку, где разместились и хлеб и водка с колбасой, и милостыня, на безразличных прохожих, на то, что Гудзенко молодым умер от ран. На всю нашу русскую породу. Почему у евреев нет беспризорных детей, а наших кругом как после войны. Почему евреи никогда не остаются без работы? Почему в Армении нет бомжей? В Ереване, рассказывали мне, у одного пьяного старика подкосились ноги на улице. Все кинулись его поднимать, спрашивали, где живет, кто родственники, тянули к себе домой. Там даже медвытрезвителей нет, правда, у нас теперь тоже. И это не потому что меньше стали пить и падать на улице. У нас же весь город переполнен язвами и смрадом погибших людей, имперским смрадом. 21 Однажды зимой я шел по старому Арбату и остановился у лотка с книгами. Женщина продавец вынимала нежные руки из варежек и согревала их теплым дыханием. Она была ещё молода и наверняка кормила семью своей работой. Вдруг я увидел, что одной фаланги на безымянном пальце правой руки у неё нет. Женщина поправляла стенд за лотком, и вдруг несколько книг у неё упали. Я успел подхватить пару, но неловким движением сбил её металлический стульчик. Она посмотрела на меня с укором: «Зачем вы, я бы и так справилась, - сказала. – Беда с этими раскладушками. Быстро ломаются. Да и ненадежные, опасные. Вот, видите? - и она показала мне свой безымянный пальчик без фаланги. - Однажды я в тридцатиградусный мороз так же сидела перед книгами, приподнялась зачем-то, нечаянно вставила палец в железную дырку, села, и мне железяка палец откусила». Она так и работала весь день с отрубленным пальцем, и крови почти не было из-за холода. Боялась, что если оставит книги, хозяин её убьет. Людей скапливалось все больше, а слова выходили из меня уже свободно без усилий, сами по себе, я даже мог теперь оглядеться по сторонам: И твои костыли, и смертельная рана сквозная, И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, – это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. … Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты… Когда я закончил, после последнего отчаянного «вернемся», на словах «…и ремесла найдем для себя», у афганца задрожали плечи, он опустил голову и весь напрягся. Комбат сразу как-то отрешенно стал смотреть по сторонам и вздыхать. Люди тотчас разошлись, мелочи немного прибавилось, а трое выступавших сразу стали опять незаметны. «Зря я все это сделал: - подумалось, - опять влез не в свое дело». Может, правы они, бегущие с каменными лицами вверх и вниз по лесенке, выносливее что ли? Афганец посмотрел на меня почему-то виновато. Что он сейчас скажет? «Ты мне запиши это, пожалуйста». Он достал блокнот, ручку, но я не стал писать, 22 сказал, что это слишком длинное стихотворение, почти поэма, лучше я скопирую его с книги и принесу завтра, живу в соседнем доме. На том и порешили. На следующий день этих двоих на месте не оказалось, и на другой тоже. Так они и лежат у меня эти листочки из копировальной машины, вложенные в сборник стихов Семена Гудзенко. Теперь раскаиваюсь, что не переписал прямо там, на ступеньках, времени пожалел. Т.:305-81-51 23