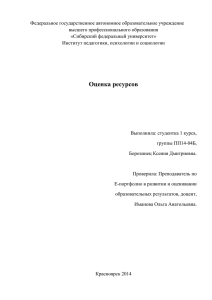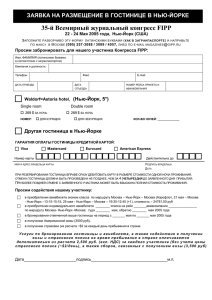Ðóññêèå ñóäüáû-2.pm6 - Московский институт социально
advertisement
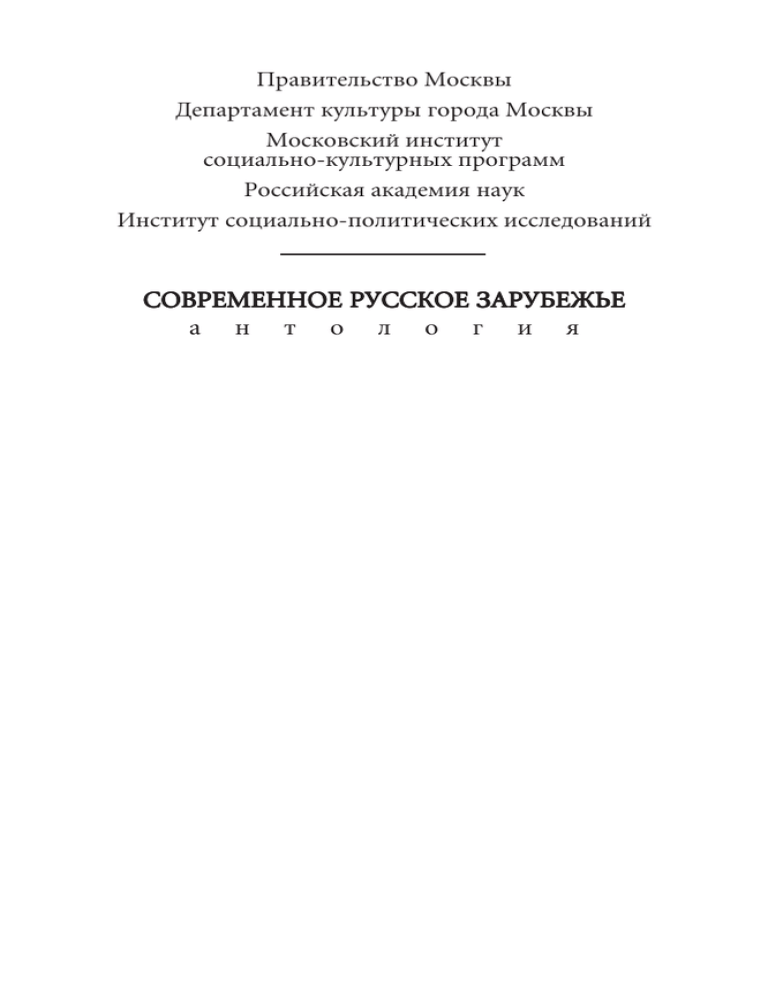
Правительство Москвы Департамент культуры города Москвы Московский институт социально-культурных программ Российская академия наук Институт социально-политических исследований СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ а н т о л о г и я АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ в семи томах Москва Серебряные нити 2009 АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ том седьмой книга вторая РУССКИЕ СУДЬБЫ Москва Серебряные нити 2009 ÓÄÊ 882 ÁÁÊ 84 6-5 À75 ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÎÅÊÒÀ Â.Ê. Ñåðãååâ äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê Â.Í. Èâàíîâ äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ Ì.Â. Ãàíè÷åâà Ã.Â. Èâàíîâ Â.Â. Ñåðãååâ À.È. Ôîìèí Ô.Í. ×åðåïàíîâ ISBN 5-89163-040-0 ISBN 5-89163-088-5 (7 òîì, êíèãà 2) © Àâòîðû ñîîòâåòñòâåííî, 2009 © Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì, 2009 © Èçäàòåëüñòâî «Ñåðåáðÿíûå íèòè», 2009 Èðèíà ÀÍÒÀÍÀÑÈÅÂÈ× Áåëãðàä K ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÞÃÎÑËÀÂÈÈ Русская эмиграция в Югославии как явление заслужила самый пристальный интерес. По «югославской» эмиграции существует обширная историография. Однако до настоящего времени нет труда, рассматривающего русскую эмиграцию в Югославии как целостное историческое явление. Эмиграция породила особый культурный тип, связанный с желанием сохранить модель мира в условиях, когда этот мир уже перестал существовать как реальность и сохранялся лишь в социальной памяти, религиозных ценностях, культурных традициях, литературных произведениях, языке. С этим связана специфическая историографическая ситуация проблемы: с одной стороны, необычайно велик круг источников (мемуаров, публицистики, переписки, архивных фондов тех или иных деятелей, даже научных исследований по эмиграции, написанных её представителями или ближайшими потомками); с другой стороны, очевиден дефицит систематических, объективных научных исследований. Поэтому задачей нынешнего этапа в исследовании русской эмиграции должно стать обобщающее исследование русской эмиграции как единого социального феномена. Необходимо также исследовать «югославскую эмиграцию» в сравнительном контексте с другими эмиграциями, как развивавшихся параллельно с ней по времени (немецкой, испанской, итальянской), так и существовавших в истории разных стран в периоды крупных социальных потрясений (английской, французской, армянской). Т.е. простого историографического исследования уже недостаточно: собранный материал требует перехода к методу историко-социологическому и сравнительно-типологическому. Но это не значит, что традиционные источниковедческие 5 методы исследования должны уйти на задний план. Несмотря на то, что в Сербии собрана солидная база данных русской эмиграции, работа ещё предстоит большая и может нам принести интересные открытия и обогатить данные по русской эмиграции в Югославии. В данном случае я имею в виду исследования, касающиеся регионов Южной Сербии и Косово и Метохии. Расселение русских беженцев по территории королевства не было равномерным. Наибольшее их количество проживало в Сербии и Воеводине, Хорватии, Славонии. Судя по архивным документам, в начале 1920-х годов в королевстве сербов, хорватов и словенцев насчитывалось примерно 300 колоний русских беженцев. Больше всего русских было размещено в Сербии — около 200 колоний, из них свыше половины в Банате и Бачке. Самые многочисленные русские колонии в Сербии размещались в Белграде, Нови Саде, Панчево, Земуне и др.1 Региону Южной Сербии и Косово и Метохии не повезло — не оказалось таких энтузиастов, как А. Арсеньев или В. Косик, чья работа — и серьёзное научное исследование и настоящее служение. А тем не менее колония в Нише, например, хоть и не считалась значительной, но в городе было две русских библиотеки, были русские врачи, русские священники, и в соборе пел русский казачий хор. Были организации русских скаутов и русская сокольская организация. Город Ниш насчитывал тогда около сорока тысяч жителей. Русских семейств насчитывалось несколько сот. Как правило, это были беженцы, первоначально жившие некоторое время в палатках в лагере на греческом острове Лемнос, а потом нашедшие свой новый дом на юге Сербии. В Нише жил довольно известный художник Рудановский. В Нише жили участники известного Первого кубанского («Ледяного») похода Николай Баратынский и Александр и Василий Беляевские. Военный инженер Николай Бершов, сотрудник Министерства юстиции Митрофан Антонов, князь Александр Абамелек, Александр Заварин, чьи воспоминания считаются наиболее интересными, когда речь идёт о культурологической составляющей, которая имеет наибольшую ценность в мемуарной литературе. Русская эмиграция представляла собой масштабный социальный феномен, аналоги которому трудно отыскать в истории и современности. Несомненно, феномен такого рода не 6 мог пройти без последствий для страны пребывания. На примере Ниша подобную ценность представляет собой деятельность русской церковной эмиграции на этой терротории. Все знают о том, что обновление фрушкогорских монастырей, в частности монастыря Хопово, связано с сестринством бывшего Леснинского монастыря. Но мало кто знает, что данная инициатива, касающаяся перевозки монастыря из Румынии в Сербию, принадлежит епископу Досифею Нишскому: «Владыка Досифей снёсся с м. Екатериной, озаботился, чтобы монахиням была предоставлена баржа, на которую все 70 монахинь со своими котомками, узлами... погрузились и поплыли по Дунаю в Белград. Тут их встретили и, снабдив нужными бумагами, направили в монастырь, в Хопово».2 Митрополит Евлогий считает, что именно эта акция владыки Дорофея оживила «погибшее в Сербии» женское монашество: «Прибытие Леснинского монастыря имело для Сербии большое значение. Дело в том, что сербское женское монашество уже давно умерло. За последние века в Сербии не было ни одного женского монастыря, и сербы стали считать это вполне нормальным явлением. “Наши сербские женщины неспособны к монашеству”, — говорили мне некоторые сербы из мирян. Действительность это суждение опровергла, монашество возникло вновь, лишь только появились женщины, способные к организации монастырей». Об обновлении монастыря в Хопово знают многие. Но лишь немногие знают, что и монастыри Нишской епархии своим обновлением обязаны русским монахам. Самая значительная группа русских монахов (от 50 до 80) находилась в монастыре Дивляне, который в то время был в весьма плачевном состоянии. Они восстановили монастырь — живописали его, а также воздвигли церковь Серафима Саровского (первую зарубежную церковь — 1933! — посвящённую этому русскому святому). В настоящее время монастырь мужской, а во времена русских монахов он был как мужским — их кельи находились в нижней части территории монастыря, так и женским. Кроме монахинь монастырь давал убежище и русским офицерам — на монастырском клабище сохранилась надгробная плита Георгия Сошальского. Кладбище в Дивлянах нуждается в обновлении, и студенты кафедры русского языка из Ниша, а также фонд «Русская цивилизация» совместно с интернет-порталом Српска.ру провели несколько акций по его восстановлению. 7 Игуменьей монастыря была Лидия Александровна Дохторова, принявшая постриг под именем Диодора. Родилась в Киеве. До 1924 года жила в Бессарабии. Подвизалась в монастыре Жабка в Сорокском уезде. По данным Косика3: «В Королевство СХС прибыла с инокинями по приглашению Сербского Синода для управления монастырём мчч. Кирика и Иулиты». (Ошибка в данном случае связана с тем, что в монастырь Дивляне, посвящённый св. Дмитрию, св. Николай Сербский в 1935 году принёс частицу Честного Креста Господня и мощей св. Кирика и Иулиты.) В 1937 году из-за эпидемии туберкулёза монастырь был закрыт, а монахини перешли в монастырь Кичево. В 1950-х годах монашество, а с ним и игумения Диодора, высланы в Албанию. По некоторым данным, она какое-то время проживала в монастыре св. Власия близ Дураццо. Исследование библиотеки (особенно записей монахинь, сохранившихся в монастыре) может принести интересные открытия. Своя колония русских эмигрантов находилась в Косово и Метохии (прежде всего колонии в Приштине и Призрене), общей численностью тоже около сотни человек. Косовская русская колония, как правило, прибывала тоже из Греции. Большую часть преподавательского коллектива Приштинской городской гимназии составляли русские кадры — известные преподаватели математики Николай Белоцерковец и Пётр Сухотин, преподаватель истории Ирина Позднякова, преподаватель русского и французского языков Наталия Малюга, преподаватель физики Борис Матусевич, преподаватель гимнастики Константин Уманец, преподаватель латинского и немецкого языков Пётр Масюкевич. Основателем детского клуба ООН в Приштине был русский эмигрант Иван Светов. В Призрене закончил духовную семинарию митрополит Иоанн (Михаил Кухтин), Предстоятель Чехословацкой православной церкви. Он, ещё будучи студентом, назначен преподавателем четырёхклассной монашеской школы в дечанском монастыре, а позже в 1948—1950 годах был и преподавателем в Призренской духовной семинарии (в 1941—1946 годах он также законоучитель женской гимназии в г. Ниш). Особое место в Косово занимала деятельность русской церковной эмиграции. Особенно значительной она была в Высоких Дечанах4, чья история оказалась связана с русскими монахами задолго до трагических событий 1917 года. Ещё до Первой ми8 ровой войны усилиями тогдашнего игумена лавры Арсения в Дечанах находилась большая группа русских монахов, обновившая монастырь и его вспомогательные здания (конак монастыря до сих пор называется русский конак). Правда, русское монашество после отступления сербских войск на остров Корфу интернируют австрийские власти. Но уже к началу Второй мировой войны в монастыре проживало в общей сложности до двухсот монахов, из них — тридцать пять в священном сане. Кроме того, тогда в лавре размещалась семинария, в которой обучалось сто двадцать человек. А возглавлял эту семинарию перешедший в сербскую церковь русский епископ Митрофан. После смерти митрополита Антония (Храповицкого) в монастыре находит убежище архимандрит Феодосий (Мельник), долгие годы бывший келейником митрополита (к слову, бывший военный. Человек исключительной храбрости — он один из немногих полный георгиевский кавалер, награждённый не только Георгиевскими крестами первой, второй, третьей и четвёртой степени, но и георгиевскими медалями). Правда, в 1941 году в лавре осталось всего несколько монахов, и среди них двое русских: архимандрит Феодосий и престарелый инок Герасим. С этим периодом жизни о. Феодосия связана легенда о спасении Высоких Дечан. Албанцы надеялись получить разрешение итальянских властей о разрушении лавры. Тут и проявились замечательные дипломатические способности о. Феодосия, которые он ранее не раз использовал, будучи келейником митрополита Антония. Во время посещения лавры вице-королём Албании Джакомини, который должен был решить её судьбу, разговор сербов и вице-короля зашёл в тупик, потому что переводчики-албанцы переводили слова игумена не совсем правильно. И тут произошло то, что принято называть счастливой случайностью. К о. Феодосию подошёл пожилой русский монах Герасим и стал что-то говорить на ухо своему игумену. «Почему вы говорите между собой по-русски и откуда знаете этот язык?» — вдруг проговорил Джакомини на чистейшем русским языке, что заставило русских монахов вздрогнуть от неожиданности. «Да ведь мы сами-то русские!» — чуть не закричал игумен. Все преграды были в один миг сломаны. Слово за слово, и вице-король поведал о. Феодосию о самых счастливых днях своей жизни, проведённых в Петербурге в качестве офицера военной миссии своей страны. О. Феодосий не упустил возможности познакомить итальянца не только с истори9 ей монастыря, но и с историей Косова. Выслушав всё внимательно, расчувствовавшийся вице-король помиловал лавру. О. Феодосий же был настоятелем монастыря до самой своей смерти в 1957 году. По его завещанию он был похоронен в Белграде в гробнице Иверской часовни рядом со своим учителем — митрополитом Антонием (Храповицким). Как мы видим, изучение русских колоний на юге Сербии требует пристального внимания и может привести ко многим открытиям или заполнить существующие «белые пятна» в базе данных по русской эмиграции в Югославии, как это было в случае с игуменьей Диодорой. Как мы видим, регион этот нуждается в комплексном исследовании — а прежде всего необходима серьёзная работа по пополнению базы данных, по её систематизации. Особое место должна занимать работа с документами. Я договорилась с игуменом монастыря в Дивланах о. Тимофеем о приведении в порядок библиотеки монастыря и особенно рукописных документов, оставшихся от русских монахов, — работу эту уже проводит и будет проводить наша кафедра. Думается, что инициатива «Русского дома», который активно включён в проект Русского зарубежья (а радует размещение на сайте «Русского дома» документов с проекта) должна включать и регион Юга Сербии и особенно Косово и Метохии, где исследование сейчас обладает своей сложностью и своей спецификой. Источники 1 Архив внешней политики России. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 95. Л. 11–22. 2 Митрополит Евлогий Георгиевский. Путь моей жизни. 3 Косик В.И. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. XX века). — М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2000. С. 161–162, 234 4 Павел Троицкий. Москва, 2003. Ãåííàäèé ÁÐÀÃÈÍÑÊÈÉ Ãàìáóðã ÊÀÊ ß Â ÃÀÌÁÓÐÃÅ Ó×ÈË ÍÅÌÅÖÊÈÉ ßÇÛÊ Первая телепередача, которую я увидел по немецкому телевидению в Гамбурге, называлась «Eine Parksünderin steht vor Gericht». Показали красивую, молодую, нарядно одетую блондинку, которая предстала перед судьями в мантиях. «Steht vor Gericht» — это я понял, девушку судят, но за что? Слово «Parksünderin» я в своём словарике не нашёл, но составные части там были: «Park» (он и по-русски парк) и «Sünde» (грех). И я перевёл всё слово как «грешница из парка». Смутная догадка промелькнула у меня, но на всякий случай спросил жену: «Как можно грешить в парке?» — «По-разному», — кратко ответила она. «Так, — думаю, — всё ясно. Ведь есть же в Париже знаменитый Булонский лес, может, и в Гамбурге что-то подобное имеется. Это проститутка». Но когда я впоследствии поделился своим «открытием» с учителем, он рассмеялся: «Нет, никакая не проститутка! Эта женщина неправильно парковала машину». Пожалуй каждый, кто изучал иностранный язык, может вспомнить что-либо смешное. На первых курсах немецкого, на которые я попал по направлению биржи труда, рассказывали про одного переселенца, который после сдачи где-то у себя в Омске языкового теста был так воодушевлён, что, прилетев в Гамбург, на вопрос таксиста: «Wohin?» (Куда?) — отвечал: «Aha, Akkusativ!» (Ага, винительный падеж!). Другого молодого переселенца, по профессии плотника, дядя попытался устроить в столярную мастерскую, уверив хозяина, что парень владеет немецким. При собеседовании хозяин, разъяснив круг задач, спросил парня, всё ли ему ясно, на что тот ответил: «Alles klar! Kein Flohmarkt!» (Всё ясно! Не толкучка!). Удивлённый хозяин выразил дяде сомнение в достаточном знании парнем немецкого, 11 а когда дядя стал разбираться, выяснилось, что таким образом парень перевёл выражение из русского молодёжного сленга «Всё ясно, без базара!». Или такую историю, когда молодая женщина вместо «Staatsexamen» (госэкзамен) громко прочла «Statt Sex amen» (вместо секса аминь), на что учитель меланхолично заметил: «М-да, такое тоже может быть». Да что там говорить — со мной тоже происходили подобные истории (не в смысле секса, а в смысле изучения немецкого). Однажды одна знакомая немка, добрая душа, решила подарить мне ненужные ей учебники и предложила встретиться на следующий день в парке. Мы встретились, сели рядом на скамейку, стали листать книги. Был солнечный летний день, хорошее настроение, я решил пошутить и сказал, что если бы сейчас нас увидел её муж, он стал бы ревновать. Однако из-за плохого немецкого вместо «ревновать» (eifersüchtig), я сказал «искать яйца» (Eier suchen). По тому, как брови её поползли вверх, я понял, что сморозил глупость. Нашему первому учителю немецкого было слегка за сорок. Многие учащиеся в группе были старше его, сидели рядом со своими взрослыми детьми. Он был холост, бездетен. Подруга у него была, но брак заключать он не спешил. В Германии это нормально, но наши соученицы по российскому обычаю жалели его, сокрушались, спрашивали: «Почему вы не женитесь, не заведёте детей?» Он приводил свои резоны, мол, такова традиция, не готов, чувствую себя ещё юным — у него были живы родители и дед с бабкой. Но женщины всё продолжали бесцеремонно спрашивать его об этом и однажды учитель раздражённо ответил: «Не могу я жениться, киндермашина капут». В учебной группе почти все были выходцами из разных республик бывшего СССР, поэтому мы легко находили общий язык (разумеется, русский). Имевшиеся в группе иранец, вьетнамец и араб к концу курса уже немного болтали по-русски — примерно так же, как по-немецки. Когда наш вьетнамец начинал говорить по-немецки (например, «zum Beizpiel Deuzland»), я понимал, что моё положение не самое плохое и что его акцент одинаково звучит на любом языке, будь то немецкий, русский или английский. Мои скудные познания немецкого были почерпнуты из советских фильмов о Второй мировой войне и ограничивались несколькими фразами вроде «Hände hoch!», «Hitler kaputt» и т.п. Тем не менее любые знания оказались не лишними. Применение слова «kaputt» доходчиво разъяснил наш учитель (см. 12 выше), а «Hände hoch!» я использовал при следующих обстоятельствах. Когда нашёл первое жильё в Гамбурге, моим соседом оказался пенсионер-инвалид. Как-то раз он обратился ко мне за помощью — не мог снять с себя куртку, так как замокмолнию заклинило. Я стал помогать, но его руки, свисая, сталкивались с моими и мешали. Вот тогда я и отдал ему соответствующий приказ, который он резво выполнил, и с застёжкой я быстро справился. Наш учитель был в трудном положении, так как народ в группе собрался разношёрстный — кто-то не мог говорить, кто-то читать и писать, а некоторые (в том числе и я) вообще были на нулевом уровне знания немецкого. Правда, я знал английский, что учитель прокомментировал как «лучше, чем ничего». Английский часто выручал меня в начальном периоде жизни в Гамбурге. Большинство в группе составляли немцы — переселенцы из отдалённых областей России и Казахстана, владеющие в разной степени архаичными диалектами немецкого. Некоторые личности были весьма экзотичны. Один немец (немец, не ненец!) оказался таёжным охотником из глухого угла Восточной Сибири. Звали его Иваном, но он любезно разрешил называть себя Иоганном. Одна очень милая девушка из Киргизии, похожая на типичную японку, прибыла как еврейская эмигрантка. Почти все учащиеся искренне хотели выучить немецкий, но из-за возраста, различных способностей и т.д. он не всем легко давался. В то же время несколько парней не проявляли интереса к учёбе, рассчитывая найти простую физическую работу и со своим диалектом. Однажды во время паузы они играли в карты и не прекратили даже тогда, когда начался урок, заявив: «Мы хотим доиграть, нам немного осталось». — «Ну что ж, — сказал учитель, — вы взрослые люди, и если это для вас важнее — я подожду», — и заговорил со мной по-английски. Тогда кто-то из оболтусов сделал замечание мне: «Эй, умник, ты чего по-английски болтаешь, мы ведь на немецкий пришли». Это уже переполнило чашу терпения «общественности», и разгильдяев быстро призвали к порядку. Поначалу занятия шли трудно. На вопрос: «Wie heißen Sie?» (Как вас зовут?) отвечали: «Ja-ja, aus Kasachstan» (Да-да, из Казахстана). Один паренёк задержался в перерыве в курилке и на вопрос учителя: «А этот где? Как его зовут?» — кто-то ответил по-русски: «Он уже идёт, идёт». — «Что? — удивился учитель. — Его зовут Идиот?» 13 Учителю приходилось проявлять много изобретательности, чтобы втолковать нам немецкий, разъяснить значение отдельных слов. Иногда он привлекал для иллюстрации примеры из классической литературы, например из пьес Шекспира или Мольера, а порой демонстрировал незаурядные артистические способности, изображая пантомимой понятия «бродяга», «любовник» и т.п. Это у него прекрасно получалось. Наверное, в нём погиб великий немецкий актёр. Он был славный малый и, когда мы радовали его своими успехами, своеобразно хвалил нас: «О, сегодня вы даже лучше, чем арестанты!» Дело в том, что до нашей школы он долго работал в крупнейшей гамбургской тюрьме, которую людская молва называет «Санта Фу», и высоко ценил стремление молодых заключённых (большей частью иностранцев, осуждённых за торговлю наркотиками) к овладению немецким языком. Он был весьма находчивым парнем. Когда по улице мимо школы пронеслась санитарная машина с включённой сиреной — «ди-да», «ди-да», он спросил, знаем ли мы, что этот сигнал означает. Мы отрицательно замотали головами, а он ответил: «Zu spät, zu spät» (слишком поздно, слишком поздно). На этом примере из чёрного юмора мы сразу поняли и запомнили, как образуются понятия вроде «слишком сладко», «слишком высоко» и т.п. Большая проблема была с артиклем. В русском языке его вообще нет, в английском он хотя бы не изменяется, а в немецком же изменяется по родам, падежам и числам. В некоторых случаях я просто оказывался в тупике: брюки — женского рода, а юбка — мужского, женская грудь — тоже мужского! Где же логика? Ведь то, что поэты называют перси, — исключительно женский атрибут?! На мой недоуменный вопрос учитель ответил, что логики здесь, конечно, нет, это надо впитать с молоком матери. Тут один из оболтусов буркнул другому: «Понял? А ты сызмальства хлещешь пиво». Наши соученики, прибывшие с Ближнего и Дальнего Востока, добавляли трудностей преподавателю, спрашивая, что такое «глобус», «экономика», «культура» и другие слова, которые из греческого и латинского прочно вошли в европейские языки и понятны практически любому европейцу. Неслучайно в своё время английский поэт Шелли говорил: «Все мы греки». «Глобус» учитель объяснил просто — маленькая модель Земли, а вот с «культурой», «экономикой» и подобными понятиями ему при14 шлось попотеть, объясняя их сущность учащимся, не владеющим ни одним из европейских языков. К этому добавлялись недоразумения иного рода. Например, когда мы критиковали слишком «крутое» руководство нынешнего Ирана, наш иранец возразил, что в Европе тоже есть ещё те режимчики. В Великобритании, мол, уже более пятидесяти лет правит одна и та же персона. Лишь с большим трудом удалось ему объяснить, что власть королевы сильно ограничена парламентом. Наш учитель часто употреблял выражение «Das ist Umgangssprache» (Это разговорный язык). Мне сначала послышалось «Ungarn-Sprache» (Венгрия-язык), и я с ужасом подумал: «Господи, зачем нам ещё эти экскурсы в венгерский с его двадцатью четырьмя падежами?» Когда я поделился своими опасениями с соседом по парте, он язвительно ответил: «Прочисти уши, старик, учитель говорит “Umgangssprache”!» В другой ситуации знакомый немец полюбопытствовал, как идёт изучение языка, и я ответил, что выхожу на финиш, чем немало его удивил, так как «finnisch» по-немецки означает финский язык. Для знакомства слушателей курсов с достопримечательностями Гамбурга часто организовывались экскурсии. Особенно ценимы учащимися были случавшиеся иногда походы в пивоварни. Если же объект осмотра был менее интересен, то группа по мере продвижения таяла, как снег на солнце, и порой не доходила до оговорённой заранее цели. Когда однажды объявили, что пойдём в театр — все вышли дружно и попали на пьесу для детей по повести Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». По её мотивам, как известно, А.Н. Толстой создал «Золотой ключик» и изменил имя Пиноккио на Буратино. В темноте зала я даже украдкой смахнул слезу — как из-за сочувствия несчастному Пиноккио-Буратино, так и из-за воспоминаний о рано умерших родителях, которые в далёком детстве читали мне эту замечательную книгу. Надо сказать, что добрая половина преподавателей немецкого на наших курсах не была немцами по рождению. Среди учителей были турки, поляки, русские, афганцы, персы и другие — полный интернационал. Отправляясь на курсы, я наивно предполагал, что немецкий будут преподавать «немецкие немцы», то есть «пироги будет печь пирожник». Однако впоследствии выяснилось, что качество преподавания не зависит от происхождения учителей. Иностранцы, конечно, чаще говорили на более простом языке, иногда даже с акцентом, но зато 15 проявляли большее рвение к работе, лучше понимали проблемы эмигрантов, так как сами прошли теми же дорогами. Очень часто, видя наши трудности, преподаватели сокрушались: «Na ja, die deutsche Sprache — schwere Sprache» (М-да, немецкий язык — сложный язык). В этом случае я утешал их, утверждая, что китайский, наверное, ещё труднее — с чем они дружно соглашались. Преподавание на курсах было организовано таким образом, что на смену нашему постоянному учителю регулярно приходили на короткое время другие педагоги. Идея администрации курсов была в том, чтобы учащиеся слышали, как говорят на немецком разные люди, отличающиеся диалектами, темпераментом, акцентом и т.п. Мы называли этих учителей «сменщиками». По способности к преподаванию они сильно различались между собой — попадались и прирождённые педагоги, а были и случайно оказавшиеся на «педагогическом поприще». Некоторые из них были настолько колоритны, что их надо было бы снимать в кино и я жалел, что у меня нет какой-нибудь скрытой камеры. Порой «сменщики» вели себя не совсем педагогично. Одна молодая учительница носила мини-юбки и любила присаживаться не на стул, а на стол. Естественно, внимание аудитории (по крайней мере мужской части) смещалось с немецкого языка на другие объекты. Когда наш основной учитель пришёл впервые после неё и спросил: «Ну как она вам?», один парень ответил: «У-у-у! Классная женщина!» — «Хорошая женщина или хорошая учительница?» — уточнил свой вопрос учитель. Затем он использовал эту ситуацию, чтобы поговорить о женской красоте, объяснил понятие «Traumfigur» (фигура-мечта, идеальная фигура). Я вспомнил, что пропорции Венеры Милосской были 90–60–90, и написал эти цифры на доске. Учитель же заметил, что хотел бы иметь жену с иными параметрами и написал рядом другие цифры: 90–60–42. Наши сибирские мужики и казахстанские крестьяне стали посмеиваться над его худосочной, узкобёдрой мечтой. Один сказал, что это напоминает ему худую корову с большим выменем. Другой вспомнил восточную пословицу: «Тощая корова — это ещё не газель». Но учитель нас огорошил: «С чего вы взяли, что это показатели фигуры? Первая цифра — возраст, вторая — количество миллионов на счету в банке, а третья — температура тела». Другой «сменщик» приходил всегда какой-то помятый, от него попахивало спиртным. Он частенько опаздывал и вообще 16 опровергал такие классические немецкие добродетели, как пунктуальность, дисциплина и трудолюбие. Он указывал, какие упражнения из учебника мы должны письменно выполнить, а сам доставал газету, термос с кофе, бутерброды и начинал не спеша завтракать. Если мы справлялись быстрее, чем длился его завтрак, он задавал ещё парочку упражнений. На перемене он стирал в туалете свою футболку и вешал её в классе на батарее сушиться. Потом мы начинали проверять выполненные упражнения. На мой робкий вопрос: «Нельзя ли изменить методику преподавания, например, больше разговаривать?» он ответил: «Alles okay (всё о’кей), ты лучше прилежней занимайся, а о методике не волнуйся — все методики уже до тебя придуманы. Это у вас там — у каждого Додика своя методика, а у каждого Абрама своя программа». Я заметил, что «okay» — это английское «all correct» (всё в порядке), значит, «alles okay» — это уже тавтология. Он пробучал лишь: «Ишь профессор нашёлся» и перешёл к столу красавицы из Киргизии. Одна из сменщиц, немолодая, замученная жизнью женщина, много рассказывала нам о том, как трудно было ей, материодиночке, растить сына. Он в детстве сильно болел, у него часто был понос, а памперсов в то время ещё не было и т.д. и т.п. — и вот с её выражением «in die Hose gemacht» (наделал в штаны) у меня прочно ассоциировался способ образования прошедшей формы правильных глаголов. Следующий лектор, добродушный толстячок, с удовольствием вспоминал своё далёкое детство и в частности случай, когда учитель физкультуры похвалил его полные ножки, отметив, что они стройнее, чем у девочек. Однако, когда обрадованный похвалой мальчик рассказал об этом маме, она почему-то не обрадовалась и на всякий случай перевела сына в другую школу — от греха подальше. Как-то на смену пришёл преподаватель с левацкими, радикальными убеждениями и целый урок доказывал нам, что мы попали далеко не в рай, что нас ждут великие испытания. Приводя статистику того, сколько в ФРГ алкоголиков, наркоманов, душевнобольных, проституток и т.п., он уверял, что страна находится на пороге политических катаклизмов и скоро всё развалится к чёртовой матери, если к власти не придут левые. Однако он никого ни в чём не переубедил, так как в странах «исхода» всего этого «добра» имеется не меньше (если не больше), а левые радикалы у власти — это мы уже в СССР проходили. 17 Однажды учительница объявила, что вместо занятий отправимся в суд, знакомиться с немецкой системой правосудия. Несколько раз объяснила, где находится суд, дала каждому схему проезда и прохода к гостевым местам, очень просила не опаздывать, а в случае опоздания — не заходить во время заседания. Когда мы собрались у здания суда, нас пригласили послушать очередное дело. Суть его была в том, что один рабочий, турок, получил травму на производстве и, поскольку фирма предложила недостаточную компенсацию, обратился в суд. По состоянию здоровья истец на заседание не явился, а его адвокат прислал письмо с просьбой перенести слушание. Так как дело уже не раз откладывалось, адвокат фирмы предлагал рассмотреть его в отсутствии потерпевшего, утверждая, что тот пострадал по собственной вине, нарушив правила техники безопасности. Председательствующий хотел перенести заседание, но тут в зале появились двое оболтусов из нашей группы. «Ага, — сказал председатель, — кажется, истец и его адвокат всё-таки пришли и мы проведём заседание». На что учительница с гостевой трибуны ответила: «Нет, извините, это мои ученики». Потом она взяла на пару дней больничный, чтобы прийти в себя. Один раз на замену пришла учительница-пенсионерка. Это была маленькая, сухонькая старушонка, правда, с неожиданно громким, властным голосом. Поначалу, увидев её, наши бездельники решили, что смогут спокойно отсидеться за задними столами, играя в карты или «морской бой» без риска быть замеченными. Но они жестоко просчитались. Она сразу же пересадила их за передние столы и через пару минут они уже выразительно читали вслух знаменитое стихотворение Генриха Гейне о Лорелее, а ещё через несколько минут мы все вместе дружно пели самую известную рождественскую песню — «Stille Nacht, heilige Nacht» (Тихая ночь, святая ночь) — приближались рождественские праздники. Песню я запомнил на всю оставшуюся жизнь, а учительница при этом ещё успела познакомиться со всеми, проверить домашнее задание, выполнить с нами несколько новых упражнений, объяснить пару правил грамматики, дать задание на дом и рассказать, как она жила во времена нацистов. С точностью до секунды она уложилась во время урока и сразу после звонка попрощалась с нами. Когда она вышла, все остались сидеть на местах, переглянулись и кто-то сказал: «Да-а, с такой бабушкой мы бы быстро выучили немецкий». Наблюдая столь большие различия в педагогических способ18 ностях учителей и их стремлении раскрыть нам тайны немецкого языка, я искал этому причину. Спросил мнение жены, она ответила: «Не морочь себе голову. Сам же говоришь, что есть хорошие учителя и менее хорошие. Значит, в среднем всё получается нормально». — «Что значит “в среднем”? Когда я ещё пацаном ходил в школу, учитель математики объяснил мне так: смотри, хлопец, в среднем мы с тобой съедаем двух кур в месяц. Фактически же — я четыре, а ты — ноль». Жена возмутилась: «Не придирайся к словам! Могу объяснить тебе проще: нормальные учителя преподают в нормальных школах нормальным ученикам. А ты посмотри на себя». Она поставила передо мной зеркало. Я увидел свою небритую физиономию полувековой давности, что не доставило мне особенного удовольствия. Но я продолжал спорить: «Ведь, по Карлу Марксу, в основе всего должны лежать экономические причины. Деньги за каждый урок они получают одинаковые и, наверное, немалые». Жена и на это ответила толково, изящно сформулировав мысль: «Деньги на обучение выделяют общественные — это социализм, а наша школа — частная, торопится деньги освоить — это уже капитализм». Кстати, о социализме и капитализме. Однажды мы с женой ехали в такси. Водителем оказался африканец. Узнав, что мы из бывшего СССР, он, желая расположить нас к себе и тем самым увеличить чаевые, стал нахваливать жизнь в СССР, рассказывать, как хорошо там жилось трудящимся, а здесь, мол, приходится тяжело работать, всё время перерабатывать, а денег на жизнь всё равно не хватает и т.п. Когда я в ответ заметил, что на Кубе и в Северной Корее до сих пор те же порядки и можно переехать туда, он без малейшего промедления ответил: «Нет уж, лучше я останусь в Гамбурге». Окончательно я убедился, что освою-таки мудрёный немецкий язык, когда мне приснился сон, в котором я на немецком разговаривал. Дело было так. У нас протекал кран, а сантехник, несмотря на мои настойчивые обращения, долго не появлялся. Наконец он пришёл — огромный, под два метра детина, загоревший, как индеец. Объяснил своё отсутствие тем, что был в отпуске, и быстро заменил прохудившуюся уплотнительную прокладку. На вопрос: «Где загорал?» ответил: «В Тунисе». Напомнив ему, что в Тунисе, на острове Джерба, пострадали от теракта немецкие туристы, я спросил, не боялся ли он арабских террористов. «Нисколько. Я сам немецкий террорист», — отшутился он. Так вот на следующую ночь он мне приснился! 19 Слава богу, не в образе террориста, а в образе сантехника. И говорил я с ним по-немецки. Я спросил: «Не будет ли больше протекать кран?» — «Исключено, — отвечал он, — моя работа — это всегда отличное немецкое качество». — «Твоя работа — да, но ведь прокладки-то, судя по надписи на упаковке, тайваньские». — «Да-а, верно... — Он задумался и почесал в затылке. — Тогда это не моя проблема. Я не по этой части. За Тайвань гарантий дать не могу. О нём беспокоятся больше миллиарда китайцев, американцы и другие специалисты. По этому вопросу обращайся в ООН, к Кофи Аннану». Как раз во время покупки билета в Нью-Йорк я проснулся. В заключение напомню старую шутку о кошке и мышке. Сначала мышке удалось ускользнуть и юркнуть в норку. Тогда кошка применила хитрый приём: залаяла по-собачьи. Мышка из любопытства высунулась поглядеть — что ещё за собака появилась, и тут же была поймана. Облизываясь, кошка подумала: «Полезно всё же знать хоть один иностранный язык!» Ãàëèíà ÃÐÀÍÎÂÑÊÀß Ñèìôåðîïîëü ÁÈËÅÒ Â ÎÄÈÍ ÊÎÍÅÖ 1 Пролетали за окнами лесополосы, станционные посёлки и маленькие городки, пустынные поля поздней осени, огороды у железнодорожного полотна, на которых кое-где ещё копошились люди, приводящие в порядок свои участки перед зимой. И утки-гуси на прудах и озёрах, и белые домики, и пятиэтажки с вывешенным бельем на крошечных балкончиках — всё было так знакомо и так неизменно. Домой-домой-домой — стучали колёса. Домой. Сколько раз мысленно проделывал Виктор этот путь! Стоило прикрыть глаза, и перед внутренним взором вставал старый дом под красной черепицей. Отец всё собирался сменить эту черепицу на шифер — в дождь крыша местами протекала, и каждое лето приходилось лазить наверх с ведёрком цемента, заливать подозрительные места. Если он всё ещё крышу не перекрыл, Виктор обязательно это сделает. Только не шифер надо класть, а металлочерепицу. На западе давно от шифера отказались, поскольку делают его в основном из асбестоцемента — материала, вредного для здоровья. Но скорее всего и крыши-то с дороги уже не увидишь, если, конечно, ещё живы те два грецких ореха, которые сажал дед. Первое дерево, когда родился он, второе — когда Ольга. Дед же построил дом сразу после войны, по тем временам, наверное, просто роскошный. Строил несколько лет, а построив, всё время что-то улучшал, добавлял, перестраивал. Такой натуры был человек. Сам же жил во времянке, куда перебрался после смерти бабушки, — в белёной, саманной хатке в углу сада. Там в единственной комнате всей мебели было — железная кровать, застеленная колючим солдатским одеялом, грубо сработанный стол 21 да широкая лавка. За выцветшей занавеской в углу висела коекакая одежда. Виктор помнил лоснившийся от старости древний кожушок с вытертыми, примятыми колечками шерсти изнутри, парадный пиджак с орденами и медалями на плечиках. Телевизора дед не признавал, но была у него радиоточка, слушал вечерами новости, которые, случалось, после язвительно комментировал… Днём же только громкий стук дешёвых ходиков с нарисованными на циферблате зверюшками и гирькой на длинной цепи нарушал тишину. Впрочем, дед в своей комнатке лишь ночевал, остальное время проводил на воздухе. Землю любил, копошился на ней с утра до вечера. Участок содержал в идеальном порядке. Сад развёл редкостный. Агроном в тебе пропал, шутили соседи, приходя за рассадой, черенками какими-нибудь или просто за советом — у него даже в самые неблагоприятные годы всё росло, и цвело, и давало плоды. Деда нет, а сад остался. Живя студентом в многоэтажной общаге, после окончания института снимая комнаты и квартиры в бетонках, а ещё позже, уже находясь здесь, Виктор часто вспоминал и дедов дом, и дедов сад, который сторожил беспородный, но верный Бимка. Старый уже стал, наверное, пёс… если жив. Родители, как и сам он, не любители письма писать. Да и о чеё писать? О том, что ему довелось пережить за все эти годы? У них в семье жаловаться было не принято. В детстве на все жалобы у отца был один ответ: сам виноват. Дразнят? Значит, повод дал. Старшие бьют? Не путайся у них под ногами. И никогда не были они с родителями особенно близки; ни он, ни сестра Ольга. Мать, проработавшая в школе больше тридцати лет — всю жизнь среди чужих детей, — для собственных, видимо, не имела уже ни времени, ни сил. Отец, советский инженер не только по образованию, но и по образу мыслей, тоже с утра до вечера был занят своим заводом. Дома ему, наверное, хотелось отдохнуть, а тут они со своими проблемами. Виктор не любил вспоминать, каким недовольным и ворчливым бывал отец дома, иногда даже жестоким к собственным детям. Нет, отец никогда его не понимал. Но даже если бы и понимал, ничего бы он не сказал отцу. В таких делах совета не просят, каждый сам должен принять решение. Есть такие минуты в жизни — вокруг много народа, а никто не в силах помочь. Только сам можешь сделать (или не сделать) решительный шаг и 22 начать новую жизнь. Поступил он с родителями, конечно, не лучшим образом, уехал, не попрощавшись. Во-первых, был внутри какой-то суеверный страх — а вдруг не получится? А во-вторых, как бы они отреагировали, скажи он им правду? Да категорически против были бы. Такая бы буча поднялась! Не хотелось распылять энергию, объяснять и убеждать. Узнают, решил он тогда, просто — позже. Узнали, конечно, — пару месяцев спустя, от сестры. Домой звонить не решился — позвонил Ольге на работу и скупо — хвастаться было пока нечем, полулегальное положение, мыл посуду в кафе при большом стадионе — сообщил о сложившейся ситуации. — Ну ты даёшь! Как ты мог! — Она была потрясена. — Мама извелась вся — уехал в командировку и два месяца ни слуху ни духу! Мы тут места себе не находим, а он — нате вам — в Канаде! Какой-то ты у нас… бездушный. Хотя он и ожидал такой реакции, — а какой ещё она могла быть в сложившейся ситуации? — её слова почему-то сильно задели. В те дни он весь был сплошной комок нервов. А потому слишком болезненно воспринял её упреки. Накатила волна раздражения. Можно подумать, они там только о нём и пекутся день и ночь! — Раньше на полгода в Сибирь ездил, никто моего отсутствия почему-то и не замечал, — язвительно произнёс он. — С чего это вдруг такая нежная забота о моей персоне? — Тебя же на свадьбу хотели пригласить! Приезжаю, а в твоей квартире какая-то мымра живёт! Знать, говорит, ничего не знаю, квартиру купила, могу документы показать… Я к Зине, она тоже ничего не знает. Что можно было думать? Ей-то чего не сказал? Вообще ты как-то не так к людям относишься… — Нормально отношусь, своих проблем не добавляю. Ладно, как там все? Что за свадьба? — А, тебе всё-таки интересно? — колко спросила Ольга. — А это я тут, между прочим, замуж вышла! — Ну, поздравляю! Поздравляю! И за кого, если не секрет? — Господи, что за вопрос он задал, конечно же, за Серёжку! — Ну ты даёшь! Совсем у тебя там в Канаде твоей мозги набекрень съехали, — обиделась сестра. — За Сергея, за кого же ещё? У нас тут кроме него и парней-то нормальных не осталось. Все разбежались… как ты. — Ну, поздравляю! — повторил он, не зная, что ещё можно сказать. — Подарок за мной. — Ага, он поздравляет! — Она всё никак не могла успоко23 иться. — Не надо нам твоих подарков. Мне-то, мне-то хотя бы мог намекнуть, что уезжаешь! — Скажи тебе — ты бы тут же всем растрезвонила! Ольга действительно секретов держать не умела, у неё всегда было что в голове, то и на языке. А тут такая новость! — Ну и что? Тайны мадридского двора! Ладно, — добавила примирительно, — не пропадай. Письма у нас никто не силён писать, так что звони, когда можешь. Нам звонить тебе не по карману. А то дядей станешь и не узнаешь… — хлюпнула носом. — Теперь, наверное, не скоро увидимся. Как в воду глядела. Но тогда он так не думал. — Да ладно, нечего меня хоронить раньше времени. У меня всё нормально. Ещё позвоню. Через пару недель перезвонил, опять на работу. — Обиделись, — сказала Ольга, — и сильно. Отец говорит, знать тебя после этого не желает. Ну не желаешь и не желай. Тоже мне родственнички! Ни слова поддержки в тот момент, когда он так остро в ней нуждался. Он тоже может обидеться. Не писал, не звонил им, наверное, пару лет. Но со временем обиды улеглись. Странное дело, пока жил в Совке, не особенно думал о своей семье, а тут вдруг сильно заскучал. Чем дальше, тем больше вспоминалось хорошего. В конце концов, они действительно по-своему любили его. Не было нежностей, но всегда заботились, одевали, поддерживали, пока он заканчивал институт… Делились с ним всем, чем могли поделиться в той скудной совковой жизни. Вспоминал, как мать при каждой возможности и возила, и передавала через знакомых и проводников поезда тяжеленные сумки с продуктами, когда он был студентом. Ольга, несмотря на хороший аттестат, не поехала в университет, как хотела, — решила заочно учиться, поскольку содержать двоих студентов родителям было бы трудно. Как он раньше этого не понимал? Ему захотелось как-то порадовать их всех, особенно мать, да и Ольгу. Послать денег им, что ли? Впрочем, это были только мысли — на первых порах с деньгами у него было туго, он едва держался на плаву. Ну ничего, станет и он на ноги и тогда... В одну из жарких июльских ночей, маясь от жары — кондиционера в доме, где он снимал тогда комнату, не водилось, — и размышляя о том о сём, вспомнил внезапно, что у отца вот-вот 24 юбилей. Не забыть бы об этом в последний момент! Не принято было у них дома дни рождения отмечать, но тут шестьдесят лет — нельзя не поздравить. Работал Виктор в то время грузчиком в одном русском магазинчике, и вот, в этом же магазинчике купил часовую телефонную карточку. Купил, вышел, дошёл до трамвайной остановки и снова вернулся — купить ещё одну. Заволновался почему-то — вдруг времени не хватит? Готовился к долгому разговору, хотелось порасспросить о жизни, о школьных друзьях-приятелях, о Зине. Узнать, что изменилось за два года его отсутствия. Казалось почему-то, что будет говорить с матерью, но трубку поднял отец, и ни удивления не выразил, ни гнева, ни радости. Голос его звучал скорее равнодушно. Нет, никакого празднования. Что праздновать-то — в старости? А так — так всё в порядке, все живы-здоровы. Нет-нет, ничего слать не нужно, всё есть — хозяйство кормит. Какое хозяйство? — спросил он. Голос отца неожиданно потеплел. Корову купили. Овечки, поросёнок. Мать? Мать, как всегда, у Ольги — внука нянчит. Внука?! Ну да, уже полгода ему. Сашкой назвали, Александром то есть. Всё своим чередом… Он спросил о Ване, с которым учился в школе и который жил по соседству. Иван давно в Москве — уехал на заработки. А Зина? Тоже нормально. Слышал, замуж вышла прошлым летом, говорят, у них с мужем теперь магазин — шубы, кожаные куртки, пальто… Машину какую-то импортную купили. А ты как? Не женился? Нет, не женился. Ну-ну, сказал отец. На том разговор и кончился — уложились в пятнадцать минут — не о чем было больше говорить. С каким-то саднящим чувством Виктор положил трубку. Он о них помнил, а они, похоже, нет. Словно умер для них. Похоже, уже и не ждали его. Отец даже не поинтересовался, приедет ли, и когда, домой. Странно, что даже в мыслях он всегда говорит «домой». Почему «домой»? Дом его уже давно по другую сторону Атлантики. Один сезон незаметно сменялся другим, год пролетал за годом, оглянуться не успел — десять лет пролетело. Десять лет по эту сторону океана. А началось всё с вечеринки, куда Зина, с которой он тогда встречался, чуть ли не силой его затащила. Пойдём да пойдём, ну чего дома сидеть — у одной из её многочисленных подруг 25 было новоселье. Он вяло отбивался: тащиться в такую даль! Стоял октябрь, дождило, и ему действительно не хотелось ехать в слякотную погоду куда-то на окраину города, в отдалённый район новостроек — попробуй потом выбраться оттуда вечером! Но главная причина была даже не в этом, а в том, что подругу эту, Люську, он сильно недолюбливал, поскольку та всё компостировала Зине мозги насчёт свадьбы-женитьбы. Советы давала, как его покрепче привязать и в загс поскорее затащить. А он ещё не готов был к этому. В то время он и сам не знал, чего ему хочется в этой жизни. Но вот чего он определённо не желал — так это контроля над собой и, уж конечно, всех этих пелёнок и детского крика по ночам. Да, в ту пору ему нравилось его холостяцкое существование. Только-только, как молодой специалист, получил квартиру и что-то начал зарабатывать. К тому же Зину вряд ли можно было назвать девушкой его мечты. Маленькая, кругленькая, она, конечно, отлично готовила и, конечно, была бы хорошей хозяйкой, но ему хотелось чего-то большего. Но пока ничего другого на горизонте не маячило, ему и с Зиной было неплохо. Оба родом были из одного маленького городка, а точнее, большого рабочего посёлка, переименованного в связи с ростом населения в город. И знакомы с детства — у них там все друг друга знали. Как со смехом объявляла каждому Зина, они ещё в одном детском саду на горшках рядом сидели. Вместе поехали в областной центр поступать в институт. Учились, правда, на разных факультетах, он на инженерном, она на экономическом. Но жили в одной общаге, и маленькая добрая Зина все студенческие годы подкармливала его пирожками-салатами, которые готовить умела и готовила в больших количествах. Ещё она никогда не забывала повести его на очередную вечеринку. Её часто приглашали — никто не мог лучше накрыть стол и высоким задорным голосом спеть студенческие частушки. Он и сам не понял, как к окончанию института их дружба вдруг переросла, как она однажды туманно выразилась, «в нечто большее». Может быть, для неё это нечто и было «большим», но не для него. Не мог он увидеть это «большее» в маленькой Зине, с которой вырос на одной улице. В полупустой двухкомнатной квартирке собралось человек пятнадцать. Некоторых Виктор знал — работали вместе с Зиной. Оглядев стол, щедро уставленный закусками и бутылками, он оттаял и уже не чувствовал, что потащился в такую даль зря. А после нескольких тостов за новую квартиру и гостеприим26 ную хозяйку на душе совсем потеплело. Народ расслабился, пошли разговоры. Налегая на селёдку «под шубой», он вполуха слушал сидевшего рядом седого дедугана. Как вскоре выяснилось, это был Люськин родственник Николай Петрович, бывший штурман дальнего плавания. «Дедуган», похоже, много чего повидал и рассказывал довольно интересные вещи. Вначале о рейсе в Антарктиду на научном судне, о пингвинах, морских львах, слонах и прочей самой южной экзотике. Люська расспрашивала о Бермудском треугольнике. И там он бывал. В сверхъестественное не верил, но для навигации трудный район — из-за огромного скопления водорослей в Саргассовом море плюс постоянное изменение течений. А вот курорты на Бермудских островах замечательные. Но Виктор о курортах уже не слушал. Как-то внезапно, резко как-то почувствовал, осознал вдруг серость своего существования. И есть расхотелось. Этот старикан, он, по крайней мере, видел мир. Калейдоскоп его воспоминаний сиял яркими цветными стёклышками. А его мир был однотонным, серым. Нет, были, конечно же, и цветные вкрапления — синезелёное море у берегов Тарханкута, та же Борзовка с песнями, розовые яблоки в розовом свете, когда он ранним утром просыпался в саду — дома он часто летом ночевал в углу сада, на старом дедовом топчане… Были, были, но серость преобладала. Во всяком случае, так ему тогда, за тем столом в Люськиной квартире, вдруг показалось. Когда он снова включился, разговор шёл об Америке. Ктото вспомнил о друге, который уехал в Нью-Йорк, устроился там программистом и теперь мешками косит зелёные. Николай Петрович тут же включился в тему, припомнив свой случай — один из его сослуживцев в далёкие времена его молодости сошёл на берег в американском порту, да так на борт и не вернулся. Ответный удар пришлось принять его семье — младшего брата выгнали из мореходки, родителей долго таскали в КГБ за «предательство» сына. Через много лет этот сын объявился в родных краях чуть ли не миллионером… Начал простым строителем, потом организовал свою фирму, дело пошло. Разумеется, компенсировал родственникам их потери. Всех забрал под своё крыло. Да, тогда непросто было т у д а попасть, закончил «дедуган» свою историю, не то что сейчас — плати денежки и езжай. Сейчас есть реальные возможности перебраться за кордон на ПМЖ. Виктор впервые услышал это «ПМЖ» и наклонился к Зине 27 спросить, что это такое. Дедуган услышал и объяснил: постоянное место жительства. Сейчас не одна фирма оказывает иммиграционные услуги, многие открывают путь в заморские страны. Но если уж перебираться, то лучше всего в Канаду. Почему именно в Канаду? Ну, пояснил Николай Петрович, это одна из немногих стран, на законных основаниях принимающая желающих поменять родину. Разумеется, — добавил шутливо, — при наличии у этих самых желающих некоторых средств к существованию. Канадцы делают на них деньги и не скрывают этого. И поскольку поток желающих велик, то и поступления в канадскую казну весьма значительны. — Знаем мы эти «надёжные» фирмы, — раздражённо произнёс кто-то на другом конце стола. — Вон недавно в газете читал, как делают деньги на ловле лохов такие вот «надёжные» конторы. Николай Петрович поднял брови и развёл руками — всякое случается. Разговор продолжился, но Виктора словно отключили. Он вдруг физически ощутил тесноту за столом, тесноту комнаты. Вот так, в одной и той же норе — неужели всю оставшуюся жизнь? Захотелось простора, увидеть далёкий горизонт. Зависть остро кольнула — вот, другие бороздят океаны, видят новые миры… Почему не он? Люська внесла жаркое. Выпили. Разговор переключился на политику. Женщины стали собирать грязную посуду, готовить стол к чаю. Мужчины вышли на балкон перекурить. Там Виктор и попросил у Николая Петровича номер телефона. — Ну и что ты думаешь? — спросил он Зину на обратном пути. — О чём? — не поняла она. — О Канаде. Зина удивилась. Похоже, она уже забыла разговор за столом. — А чего мне о ней думать? — Ну, новые возможности… Тут-то что сейчас делать? Полный бедлам. И вообще, живём… как цирковые звери в клетке. Но Зина совсем не ощущала себя запертой в тесной клетке. Она чувствовала себя в ней комфортно. Она покачала головой. — Ехать куда-то, не зная языка… Полы, что ли, мыть? Здесь у меня профессия, работа, друзья, а там кто нас ждёт? — Зина была практичным человеком. — А язык мне ни за что не выу28 чить! Да и зачем голову ломать, учить и куда-то ехать, начинать с нуля, когда и здесь можно сейчас заработать? Мне вот Люська предлагает поехать на одну турецкую фабрику за кожей… В Турцию виза не нужна. Слушай, — глаза её заблестели от внезапно явившейся удачной мысли, — может, и ты поедешь с нами? Поможешь нашим бабам с багажом — они заплатят. Вот тебе и первоначальный капитал! Тоже что-нибудь купишь, а здесь продадим… В Турцию ему не хотелось. Хотелось другого — мысль о возможности круто поменять судьбу прочно засела в голове. Через пару недель он позвонил Николаю Петровичу и пригласил в ресторан. Виктора интересовала Канада. — Отличная страна — для тех, кто работать умеет. Сможешь правильно использовать свои мозги или, там, руки — всё получится. — Сами не хотите попробовать? Николай Петрович рассмеялся. — Поздно в шестьдесят пять менять свой курс. Будь помоложе, может, и рискнул бы. Язык есть, знания есть и профессия подходящая, но — моё время ушло. Ладно, давай за молодость! — Николай Петрович поднял рюмку. — Я, честно говоря, о Канаде почти ничего не знаю, — сознался Виктор. — Как-то о ней мало пишут и по телевизору не говорят. Вообще, как там люди живут? — Люди везде живут по-разному. Вопрос в том, какой уровень жизни тебя интересует, — философски произнёс Николай Петрович. — И вообще, что ты в ней, в этой жизни ищешь. Если ты чётко представляешь, чего хочешь, то найдутся и пути достижения цели. Что ищешь, то и иметь будешь… при правильной расстановке сил. Канада — страна огромных возможностей. Но повторяю, — старый штурман выразительно поднял указательный палец, — пахать там придётся по-настоящему. Кто не может поймать ритм, тот выпадает в осадок. Нищие, они и там есть, и очереди за бесплатным супом Армии спасения тоже. Вопрос в том, зачем туда ехать. Если в надежде хорошо жить, ничего не делая… то бесплатный суп дорого обойдётся, — скаламбурил он и поднял в очередной раз рюмку. — За успех в этой жизни! Ещё за здоровье выпили. 29 — Ну и с чего мне начать? — осторожно поинтересовался Виктор. — В фирме скажут, какие нужны документы. И проконсультируют по полной программе — только плати. Если в самом деле серьёзно надумаешь ехать, позвони, дам пару адресов. Ребята помогут на первых порах найти работу. В остальном — рассчитывай только на свои силы. И главное, помни, что это только шанс. Наши люди часто думают, что там их ждут какието… голубые города. А надо реально смотреть на жизнь. Виктор и смотрел, насколько мог, реально. Что — реально — он имел в своей стране такого, за что стоило бы цепляться? Неустроенный быт бессемейного человека (Зина не в счёт). Хроническое отсутствие денег, зарплата маленькая, да и ту в последнее время стали задерживать, поскольку завод-гигант, чью продукцию ещё недавно закупали по всему Союзу и отправляли за рубеж, вдруг почему-то оказался нерентабельным. Хорошо, что он успел до начала всего этого кавардака жильё получить. Вот это и было его единственной, реальной ценностью — однокомнатная квартира в центре. Если продать, будут деньги для старта в новую жизнь. Конечно, и сомнения терзали. И страх, что надуют — при продаже квартиры, при оформлении документов или в этом самом «турагенстве». Тем не менее он решил рискнуть. И позвонил в фирму, рекомендованную старым штурманом. — Как я понимаю, вы не бизнес-иммигрант… — выслушав его, произнесла женщина на другом конце провода. — Родственники в Канаде есть? Нет? Значит, программа по воссоединению семьи тоже отпадает. Остаётся независимая иммиграция. Какая у вас специальность? Стаж работы есть? Подождите минутку, я посмотрю список профессий для независимой иммиграции… нет, вашей специальности в списке нет. Ну вот, он так и думал… Раскатал губу! — И никакой зацепки? Трубка немного помолчала. — Ладно, приезжайте, поговорим. Посмотрим, что можно будет сделать. Взяв пару дней за свой счёт, он поехал в Киев. — Вообще-то процесс иммиграции можно начать и с той стороны, — осторожно поведала элегантная дама, после того 30 как они битый час подсчитывали его баллы и перебирали смежные профессии, которые были в утверждённом для иммиграции списке. — Не хотите для начала поехать туда с группой туристов? Посмотрите всё, как говорится, своими глазами. Ну а там уж сами решите, нужна ли вам Канада. Но он уже решил — нужна. А вот с Зиной предстояло расстаться. Вернувшись, сделал загранпаспорт, стал собирать необходимые для туристической поездки документы и справки и переводить их на английский язык. Через месяц снова отправился в Киев, благо попутно — командировка подвернулась. Спросил, сколько ждать. «Максимум полгода, — заверили в конторе, когда он принёс туда документы вместе с предоплатой за услуги фирмы, — минимум три месяца. Как только соберётся туристическая группа, в которую вас можно включить». Увольняться с работы не рекомендовали. После этого его просто залихорадило. В течение месяца распродал мебель и продал свою квартиру. Сам перебрался на окраину города, где цены на жильё всегда пониже, снял там в коммуналке комнату, больше похожую на шкаф, и даже думать себе запретил о том, что будет, если, по Зининой любимой присказке, «карты не лягут». Лягут — должны. 2 Прошла зима, кончался март, а никакой внятной информации о положении дел всё ещё не было. Несмотря на предостережение фирмы, он уволился, деньги таяли. А тут ещё, как назло, явился хозяин комнаты, просил заплатить за три месяца вперёд — вздыхал, что всё дорого, что собирается ехать к сыну в Сибирь на всё лето, на поездку нужны деньги. Он врал, что обязательно заплатит вперёд, только не сейчас, а в конце месяца. А сам снова и снова бегал на переговорный — звонить из коммуналки не мог, — набирал номер киевской фирмы и снова слышал в ответ — потерпите, ваши документы всё ещё «на рассмотрении». Он чувствовал себя идиотом, которого хорошо «обули» и, едва сдерживаясь, спрашивал в очередной раз, сколько обычно длится это «рассмотрение». И в очередной раз слышал туманный ответ: по-разному. И в тот самый день, когда он решил уже было ехать и на месте разбираться с этой фирмой, ему сообщили, что получить 31 визу без собеседования не удалось, нужно приехать в Киев. Когда приехать? Мы сообщим вам о дате интервью. Не волнуйтесь, до двенадцатого апреля ещё есть время. А что будет двенадцатого? — спросил он. Разве вы ещё не знаете? — удивился голос в трубке. — Двенадцатого утром сбор вашей туристической группы в Киеве. Тринадцатого вылет. Вам забронировать гостиницу или у вас есть где остановиться? Платить за гостиницу не хотелось. Найдётся, ответил он, вспомнив об общежитии, где как-то жил, будучи в командировке. Пару дней вполне можно перекантоваться. Двенадцатого утром сбор группы… Он занервничал — оставалась всего неделя. Начал лихорадочно собираться, всё ещё не веря, что такое возможно — вот так взять и уехать из страны. Впрочем, ещё неизвестно, как пройдёт это самое интервью! Когда немногочисленные вещи были упакованы, позвонил домой, сказать, что отправляется в длительную командировку. — Далеко? — спросила Ольга. — Да как сказать… — Надеюсь, ненадолго? — А что? — Так просто спрашиваю. Вот также стучали тогда колёса поезда, уносящего его в Киев. Только выстукивали другое: повезёт-не-повезёт, повезёт-неповезёт… Он боялся этого «интервью». Поезд опаздывал, и он опаздывал вместе с ним. И поскольку всё равно не успевал на утренний сбор группы, решил не тащиться в фирму с вещами, а отправился первым делом в общежитие — договориться о ночлеге. И, лишь оставив там чемодан, рванул в контору. — Самолёт вылетает тринадцатого. Билет в один конец. — Девушка, протянула ему жёлто-синюю книжечку. — А… виза? Она уставилась на него в немом изумлении. — Разве её у вас ещё нет? — спросила наконец. — Нет. Кажется, сегодня или завтра у меня интервью в посольстве. Девушка неуверенно покачала головой. 32 — Вам лучше было бы вначале получить визу, а потом заказывать билет. Если не получится с визой, вы много потеряете… Это уж точно — он много потеряет. Его так и подмывало спросить, за что они берут деньги и что это за бардак такой — правая рука не знает, что делает левая, но сдержался, только сказал: — Предупреждать надо заранее! Чем вы тут вообще думаете? Если берётесь за дело — думайте! — Да, но… — Девушка испугалась. — Я… я здесь только на билетах. Визы — это к Анне Степановне, а она сейчас в посольстве. Перезвоните ей после обеда. — Да сколько можно звонить?! Я лично зайду — разберусь, чем вы тут занимаетесь. Что-то было не так, и у него противно заныло в груди. Погуляв пару часов вокруг главпочты, он всё-таки перезвонил и снова услышал: ждите. — Чего ждать?! — Уж не надумали ли они его обуть? — Группа вылетает… — Без визы вы всё равно никуда не попадёте. Вы не волнуйтесь. Если что, отправим вас другим рейсом, с другой группой, как только уладим… Он швырнул трубку, не дослушав. Как он попался! Вот тебе и «надёжная» фирма! Утром тринадцатого поехал в аэропорт с билетом, который лежал в паспорте, где так и не было визы. Он сам не знал, зачем туда поехал. На что надеялся? В зале ожидания сразу безошибочно вычислил «свою» группу, подошёл. Начал разговор. У всех, кроме него, были визы. Как же так получилось? И почему? В растерянном озлоблении он повернулся к парню, дававшему последние разъяснения. — Дело в том, — пытался оправдаться представитель фирмы, явно не ожидавший, что он заявится в аэропорт, — что эта группа целиком из Запорожья, протестанты, и у них помимо путёвки есть ещё приглашение одной из религиозных общин Канады… Как — у вас уже билет на руках? Господи, зачем же вы его выкупили, не имея визы? Какая такая девушка рекомендовала купить заранее? Хорошо, я сейчас же свяжусь с Анной Степановной, она разберётся с этой девушкой... Сдайте срочно — срочно! — этот билет, нужно вернуть хотя бы какие-то деньги! 33 Почему он тогда не сделал этого? Вместо того чтобы искать кассу возвратов, стоял вместе со всеми в очереди, словно ожидая какого-то чуда. Пожелав группе счастливого пути и приятного путешествия, парень исчез, бросив на него напоследок неодобрительный взгляд и ещё раз пообещав разобраться с сотрудницей фирмы, оформившей ему заранее билет. Те, кто оказался поблизости, и слышал их разговор, выражали свое сочувствие, но помочь, естественно, ничем не могли. Он стоял как побитый пёс и не уходил, глупо всё ещё на что-то надеясь. — Очень жаль, — сказал руководитель группы, как оказалось, пастор. — Думаю, это просто недоразумение. Вы пройдёте собеседование и получите визу. Я буду за вас молиться. И вы помолитесь. — Да я не умею, — пробормотал он. — Тут никакого особого умения не надо, — с улыбкой произнес пастор, — просто обратитесь к Богу и просите о милости… Объявили регистрацию, и он вместе со всеми стал в очередь, чувствуя, что выглядит в глазах окружающих полным идиотом. Сидящий в стеклянной будке чиновник с недоумением таращился на его паспорт, на его билет, мучительно соображая, как такое могло произойти — билет был, а визы не было. Потом перевёл взгляд на него, и в глазах его ясно читалась вся глубина презрения к дураку, который возомнил, что можно уехать из страны, просто купив билет. Но это же нормально, хотелось крикнуть ему. Это нормально! Так должно быть — ехать туда, куда ты хочешь, если у тебя есть билет. Но так думал только он. Конечно же, его завернули, и на виду у всех он поплёлся по залу со своим чемоданом и с рюкзаком за спиной к выходу. Вернулся в полупустое студенческое общежитие. Все улетели, а он остался. Он остался в двойных дураках, поскольку помимо того, что у него не было визы, в кармане у него лежал билет в страну, куда его не пустили. Он снова заплатил коменданту какие-то деньги и упал, не раздеваясь, на продавленный матрас старой железной кровати. Бессмысленно пялился в потолок, покрытый по углам паутиной и трещинами, не способный ни думать, ни тем более принимать какие-то решения. Впал в ступор. Не в силах справиться с возникшей ситуацией, мозг отключился, и он уснул. На следующий день в девять утра, пребывая в мрачном, 34 почти злобном расположении духа, заставил себя снова позвонить в фирму, желая теперь только одного — вернуть хотя бы часть денег из той баснословной суммы, что была им уплачена за «переброс» в Канаду. — Слава Богу, что позвонили! — Похоже, на этот раз с ним говорила сама, недосягаемая прежде, Анна Степановна. — Мы вчера целый день пытались с вами связаться! Но вас не было в гостинице! У вас сегодня интервью! На десять! Скорее в посольство! Мелькнула вялая мысль, что, возможно, с их стороны это была очередная попытка запудрить ему мозги, чтобы не возвращать деньги. Своего рода контратака. Тем не менее он почему-то не стал ввязываться в ссору, а поймал такси и поехал к посольству, где тихо гудел рой претендентов на получение канадской визы. Спросив, кто последний, стал, как и другие, заполнять анкету. Очередь была длинной. У всех были напряжённые лица, все как будто изначально готовы были к отказу. Здорово же тут маринуют народ. Вначале он прислушивался к тихим разговорам вокруг, а потом от вчерашних потрясений и долгого ожидания впал в тупое оцепенение и не сразу понял, что его приглашают пройти в кабинет номер четыре — на собеседование. — Вы должны доказать, что не являетесь потенциальным невозвращенцем. — Дама с хищным, неприятным выражением впивалась взглядом то в его лицо, то в документы. Вопрос следовал за вопросом. Тон — самый недоброжелательный. Наверное, сюда на службу специально таких вот гусынь, злобных и хамоватых, отбирают, мелькнула мысль. После очередного вопроса, когда он уже решил, что с него хватит испытаний, дама вдруг сама завершила беседу, сказав, чтобы он пришёл в посольство после обеда — за паспортом. День был тёплым и солнечным, но ничто не радовало. Он бесцельно бродил по близлежащим улицам, ожидая назначенного времени. Посидел в кафе на углу, выпил кофе, полистал забытый кем-то на столике журнал. К двум вернулся к посольству. У железных ворот уже собралась внушительная толпа, напряжённо ожидающая решения своей участи. В начале третьего из-за железной ограды вышла наконец сотрудница посольства с паспортами в руках и, раскрывая их поочерёдно, начала называть фамилии. Он услышал свое имя и шагнул вперёд, не ожидая ничего хорошего. 35 Отойдя в сторону, раскрыл паспорт. На одной из страниц тускло сияла вклеенная бумажка. Виза. Кто-то завистливо вздохнул за его плечом: «Дали?» — Дали, — пробормотал он, но от созерцания этой бумажки, стоившей огромных денег, сил и нервов, на душе не стало радостнее. Да, теперь у него была виза, которую ещё несколько дней назад он так страстно желал иметь. Теперь была виза, но не было билета. Он позвонил в фирму и спросил, что делать. — Ну, если виза в паспорте, мы вам больше не нужны — вы уже и сами можете лететь! — пошутила Анна Степановна. — Главное сделано — вы свободны! Он тяжело молчал, пытаясь переварить ситуацию. Поняв, что ему не до шуток, Анна Степановна перешла на официальный тон: — Следующая группа вылетает завтра. Ждём вас в аэропорту. К сожалению, билетом придётся заниматься теперь самому. В здании главпочтамта работает агентство «Обрий», у них, бывает, снимают бронировку за сутки до вылета. Может быть, повезёт, и вам удастся получить у них новый билет. Обратитесь туда. Разумеется, в «Обрий» он не поехал, а снова вернулся в гостиницу и провёл там ещё одну, не самую лучшую, ночь. На этот раз долго не мог заснуть, пытаясь решить непосильную задачу — где раздобыть денег на новый билет. Который стоил целое состояние по меркам этой страны. Снова и снова перебирал в уме своих многочисленных знакомых и старых друзей. Но не было у него ни знакомых, ни друзей, ни родственников, которые могли бы дать, одолжить такую громадную сумму даже под очень большие проценты. Почему-то он вспомнил чернобородого пастора. И начал молиться. Рано утром принял душ, переоделся и снова поехал в аэропорт. Это глупо, глупо, твердил себе всю дорогу. Нет, он точно сошёл с ума! Мало было унижений в эти последние дни? У него нет билета — зачем он едет в аэропорт?! Но словно какая-то незримая сила тащила его туда снова. Полчаса на метро до вокзала, оттуда — сорок минут на автобу36 се. И вот перед ним вновь стеклянные стены «Борисполя». На этот раз он даже не стал искать туристическую группу. Побродив туда-сюда, стал в очередь на посадку за двумя толстыми тётками, тащившими по паре уставленных чемоданами и сумками тележек и зычно перекликавшимися с остающимися родственниками по поводу своего багажа. «Ой, Таська, та не пропустять же, дуже багато…» — «А що робыть? Нэ выкидать же… може якось пройдэмо. Може хтось поможе…» Одна из женщин оглянулась, окинула оценивающим взглядом вначале его чемодан, а потом и его самого и, вздохнув, отвернулась. Не понравился, видимо. Небритый, тощий. Такого и просить опасно. И едут же с такими вьюками! Что можно везти в Канаду, чего там нет? Сало у них там, что ли? Пытаясь отвлечься, рассматривал других пассажиров. Люди как люди. Сердце стучало. Первый контроль документов. Досмотр. Чемодан медленно уползает в зев аппарата. Таможенник сосредоточенно смотрит на экран. Хорошо, что не на него. В чемодане у него ничего особенного, но кажется, что на лице отражается весь его внутренний мандраж. Чемодан выезжает с другой стороны, он берёт его и проходит дальше, туда, где принимают багаж. Девушка за стойкой взвесила чемодан, налепила наклейку, и чемодан, проехав немного по ленте транспортёра, скрылся с глаз. Непослушными пальцами он взял посадочный талон и медленно направился к эскалатору, увозившему куда-то вверх сдавших вещи пассажиров. Он всё ещё ждал, что его окликнут, скажут, что вышла ошибка… Он был последним на паспортный контроль. Протянул паспорт, куда был вложен билет на позавчерашний рейс, и больше не мог ни о чём думать. Тихо, почти не шевеля губами, произносил слова неумелой молитвы. Он прошёл паспортный контроль. Он сел в тот самолёт. Чудо свершилось. Это было невероятно, но ему по старому билету выдали и посадочный талон, и пропустили в зал ожидания! Через полчаса он поднялся по трапу в самолёт и занял место в салоне. Глядя в иллюминатор на удаляющуюся землю, окончательно уверовал, что существует нечто — чего не постигнуть ограниченным человеческим разумом, — нечто высшее, что имеет власть, и силу, и способность влиять на судьбы людей. Господь Бог существует. 37 Он пожалел его. Дал шанс. Открыл путь. Через восемь часов пребывания в воздухе Виктор оказался в Торонто. Знал бы, что его ждёт — ну хотя бы в тот первый год жизни в Торонто, — прежде чем рыпнуться, для начала хотя бы какую-нибудь информацию собрал. А уж английский бы зубрил день и ночь. Но он ехал наобум. До отъезда воображение рисовало смутные, приятные картины — виделась красивая машина, двухэтажный дом на берегу озера… Но первые же дни пребывания в новой стране развеяли всякие мечты. Он оказался одним из первых в очереди на паспортный контроль, одним из первых вышел в зал ожидания и минут тридцать, поджидая остальных, стоял, рассматривая канадцев, толпящихся за ограждением в ожидании знакомых, друзей и родственников, прибывших этим же рейсом. Его здесь никто не ждал. Культурная программа турпоездки включала посещение нескольких достопримечательностей Торонто и окрестностей, но он не стал тратить на них время — ещё увидит. Главное сейчас — хоть как-то зацепиться в этом чужом городе. Вдруг понял, что не имеет ни малейшего представления, как найти жильё и работу. Одна надежда, что поможет парень, адрес которого дал ему бывший штурман дальнего плавания. Виктор позвонил ему в первый день своего пребывания в Торонто. В тот же вечер они встретились в крошечном вестибюле третьеразрядной гостиницы, в которой размещалась их киевская группа. — Ник, — представился он, пожимая руку. — Николай. Пригласил в пиццерию по соседству — огромную, неуютную, набитую в этот час утомлённым народом, и, присев за столик, первым делом поинтересовался, когда Виктор прибыл. — Сегодня. — Значит, завтра с утра иди и сдавайся иммиграционным службам. Чем раньше, тем лучше. — Куда идти? — не понял Виктор. Николай объяснил, что чем раньше он заявит о своём желании остаться в Канаде, тем больше шансов у него получить вид на жительство. Да и весь процесс быстрее начнётся и закончится. 38 Идти и сдаваться? Да его же тут же отправят назад! Тем более, что группа, с которой он прибыл, пока ещё здесь! — Маловероятно, — сказал Николай, разрезая пиццу. — Не отправят, пока не разберутся. Там, дома, Виктору казалось, что уж он-то приспособится к любой ситуации, только бы получилось перевалить за кордон. И вот ему это удалось, вот он сидит здесь, и что? Куда идти? Что делать? Где жить? Николай пожал плечами. Если сразу сдаёшься — без крыши над головой не останешься. А работа? Ещё наработаешься, туманно пообещал Николай, это уж точно. Вот несколько адресов и телефонов. Работодатели. Только не обольщайся, хотя и бывшие соотечественники — платить будут мало. В этой стране нужно рассчитывать только на себя, на свои силы, повторил слова старого штурмана. Тем, кто едет на праздник жизни, лучше сразу назад поворачивать. Нету тут праздника. И не предвидится. Дом на берегу озера Онтарио! Виктор покачал головой, удивляясь своей давней наивности. До первого дома было ещё плыть и плыть! Прошло несколько лет, прежде чем он смог позволить себе снять первый настоящий дом, да и то на пару с приятелем, — а до этого жил как придётся и где придётся, снимая то комнаты, то крошечные квартирки. И кем только не работал! Уборщиком в магазинах и офисах, улицы убирал. Грузил товар. Работал на бензоколонке на одного бывшего соотечественника, который платил на редкость скупо. Как-то в дождливую погоду группа пацанов, заруливших на заправку с громоподобной музыкой в салоне, дёрнула с места раньше времени — оторвала и уволокла шланг заправочной колонки. Целую неделю Виктор работал бесплатно, отрабатывая нанесённый хозяину ущерб. Без знания языка нечего было рассчитывать на какую-то стоящую работу. Язык долго оставался прямо-таки непреодолимым препятствием. Иногда он приходил в отчаяние, слушая по радио какую-то тарабарщину или смотря по телевизору новости и улавливая только отдельные знакомые слова. И ведь учил же он этот проклятый английский, и в школе учил, и в институте, и на курсах! Но, видимо, как, посмеиваясь, говорил Лёшка, бывший учитель из Волгограда, намывая рядом с ним огромные окна супермаркета, методика была не та. 39 Но, в конце концов, нечего жаловаться — он выкарабкался. Преодолев какой-то барьер, начал не только многое понимать, но и более-менее сносно говорить. Где-то через год из немых батраков, как шутил неунывающий Лёшка, с которым они подружились и даже пожили какое-то время вместе в одной обшарпанной квартире, он перебрался в разряд более оплачиваемых — тех, кто уже умел изъясняться на языке хозяев. Первый год был самым трудным. Первый год — он для всех самый трудный, даже для тех, у кого родственники были, кому с работой повезло, удалось устроиться лучше, чем ему. А уж для таких, как он… Не все выдерживали. Кто-то, немного подзаработав, уезжал обратно. Иногда казалось, что и ему пора возвращаться. Там он был инженером, здесь — чернорабочим. Правда, с зарплатой, которая и не снилась ему, когда работал инженером. Уехать или остаться? Остаться или уехать? Сколько раз мысленно Виктор уже ехал домой! Иногда снилось, что он всё ещё студент и сидит в электричке, читает по пути домой какие-то конспекты. Домой-домой-домой… стучат колёса. Мелькают за окном пустынные поля поздней осени, деревья, теряющие последнюю листву, станционные посёлки и маленькие городки, где никогда ничего не меняется. Первое время часто просыпался ночами. Пугался, не сразу соображал, где находится. Включалось сознание, мрак рассеивался, сон отступал, проступали чужие углы и какие-то вещи, и сердце сжималось. Он садился на кровати или даже вставал, ходил по комнате, чтобы окончательно рассеять сумрачное состояние. Смотрел в окно на чужой город — станет ли он когданибудь его городом? Станет ли он своим здесь? Время шло, улицы становились всё более знакомыми, вывески всё более понятными — напряжение спадало, и он всё реже просыпался по ночам. Знакомые появились. С некоторыми сходился поближе. Особенно с теми, кто в такой же ситуации находился — ни здесь, ни там. Нелегалы то есть. Жадно слушал советы тех, кто уже прорвался, получил статус. Слава Богу, все эти трепыхания давно позади. Теперь у него другая жизнь. Да и сам он, наверное, уже другой. 40 Вечерами смотрел новости. Где-то что-то происходило, чтото строилось, что-то рушилось, шли войны, он же в течение последних лет изо дня в день повторял один и тот же маршрут: дом — фабрика — дом. Иногда брал напрокат фильмы. Иногда слушал музыку. В последние годы ему всё больше нравился такой вот спокойный ход жизни. Дискотеки, шумные компании разлюбил. Старею, наверное, мелькала иногда мысль. После всех этих расколов и разломов, всех этих вихрей враждебных, дующих со всех углов нового государства, после переезда, после всей этой нервотрёпки с иммиграционным процессом и всех стрессов, связанных с врастанием в новую почву, он, пожалуй, заслужил это право — жить более-менее спокойно. Иногда выбирался по выходным в ресторан, по субботам отправлялся в один из торговых центров делать шопинг. По воскресеньям иногда посещал методистскую церковь по соседству. Да ещё время от времени бывал в Наягра-Фолз — смотрел на водопад. Что и говорить, фантастическое зрелище. 3 Впервые он приехал сюда на автобусе. Как-то, читая «Русский Торонто», газету, купленную в русском продуктовом магазине в Северном Йорке, где снимал тогда комнату, он наткнулся на объявление, приглашающее совершить путешествие к одному из чудес света. И вдруг остро захотелось выпасть хотя бы на день из привычной рутины. Работал он тогда ночным уборщиком в огромном супермаркете. Работа не из лёгких, поскольку приходилась на ночь, но платили хорошо. Он считал, что ему повезло — до этого была стройка. Он вертел эту газету, читал другие объявления и всё возвращался к этому, первому — автобусная экскурсия к Ниагарскому водопаду, к Наягра-Фолз, как здесь говорят. В самом деле, пора устроить себе маленький праздник. Как-никак, живёт здесь больше года, а водопада так и не видел. Тем более что в выходные, скорее всего, поспать не дадут. Сосед по квартире, молодой парень из Москвы, музыкант, как он себя называл (хотя работал в каком-то захудалом магазинчике), по воскресеньям с утра пораньше врубал свою музыку, и никакие доводы и просьбы сделать звук тише не помогали. 41 Он позвонил в агентство и заказал билет на воскресенье на экскурсию с русскоговорящим гидом. Была середина июля, и стояла необычно жаркая погода. Пик сезона, сказала экскурсовод, когда они въезжали на стоянку, хотя это было и без слов ясно. Десятки автобусов и сотни машин заполонили маленький городок. Слышалась немецкая, французская, японская речь. Звучали ещё какие-то языки. Настоящий Вавилон — кого здесь только нет! Люди сидели в кафе и ресторанах, бродили по улицам, покупали сувениры в многочисленных магазинчиках. Множество увешанных кино- и фотокамерами туристов толпилось у парапета, глазея на водопад или снимая на видео или фотоплёнку одно из главных чудес света. Оторвавшись от своей группы — хотелось побродить самому, — он тоже замер на какое-то время на берегу, не в силах оторвать глаз от фантастического зрелища. Вот она, Ниагара. Спокойная река, вытекающая из озера Эри и разделяющая США и Канаду, вдруг обретала ярость тигра, с рёвом низвергая свои воды с пятидесятиметровой высоты в озеро Онтарио. Ничтожность человека — вот что он ощутил, глядя на летящие с огромной высоты потоки. Беззащитность — перед мощными силами природы и скрытым от смертных смыслом жизни. Восхищение. Кораблики у подножия водопада, заполненные пассажирами в жёлтых и голубых плащах, издали казались просто игрушечными. Вместе с толпой, натянув на себя полиэтиленовую накидку с капюшоном, прошёл мрачным сырым туннелем под водопадом. Бетонная труба, набитая туристами, сотрясалась и вибрировала под грозным напором воды. Время от времени вместе с другими он выходил на специальные открытые площадки позади падающей вниз Ниагары, прямо в водяной туман, и какоето время стоял там, в этом туманном облаке брызг, — песчинка, ограждённая бетоном от бурных, ревущих потоков. Потом купил билет на катер со странным названием «Maid of the Mist». Попав на палубу, снова натянул пластиковый плащ, полученный перед посадкой. Когда пассажиры заполнили салон и палубу, катер отвалил от пирса и взял курс к подножию 42 водопада. И вот он, грозно шумящий, всё ближе и ближе. Миллионы тонн воды с рёвом неслись вниз, разбиваясь, дробясь на мельчайшие частицы, пенились мириадами брызг, которые сияли, играли в солнечных лучах разноцветной радугой. Шум воды перекрывал говор и смех туристов. «Maid of the Mist» вошла в туман, скрывающий падающие с огромной высоты потоки воды. Палуба заходила ходуном. Катер, несмотря на натужные усилия, не мог двигаться дальше — слишком велики были силы сопротивления. Казалось, ещё минута, и кораблик пойдёт ко дну, затянутый мощным водоворотом. Они подошли к водопаду настолько близко, насколько было возможно. Постояв минуту, кораблик стал медленно отступать назад. — Мама, не держи фотоаппарат против солнца — ничего не получится! Оглянулся. В первый раз услышал здесь русскую речь. Высокая девушка уворачивалась от брызг, стараясь в то же время смотреть в объектив. Под полупрозрачным капюшоном темнела густая копна волос, сияла белозубая улыбка. Хороша. Она заметила его взгляд и спросила по-английски, не мог бы он их сфотографировать? Он кивнул, взял протянутый фотоаппарат и посмотрел в видоискатель. В этот момент палуба вновь угрожающе накренилась, и он едва не выронил камеру. Шум падающей воды попрежнему почти заглушал голоса, но он услышал, как девушка воскликнула: осторожно! И в тот же миг их снова обдало водой, мириады мельчайших брызг засверкали на солнце многоцветным туманом, сквозь который сияло мокрое улыбающееся лицо — и он понял, почему так назывался катер. Вот она — девушка Тумана — прямо перед ним! Maid of the Mist! В тот же миг душа его словно попала в бурлящий пенный водоворот, мощные силы которого увлекли её глубоко вниз, вот она коснулась дна и в мгновение ока вознеслась к небу, воспарив над маленьким корабликом… На него снизошло весёлое настроение, какого давно не было. Он снова посмотрел в видоискатель на лица мамы и дочки — совсем не похожи. — Улыбку! — Вы говорите по-русски? Откуда? — хором спросили они. Сделав снимок, он протянул девушке фотоаппарат. — Из Торонто. А вы? 43 Оказалось, тоже из Торонто. Дочь звали Оксаной, маму Ларисой. Когда сошли на берег, он, почти не надеясь на положительный ответ, всё-таки спросил: — Может быть, пообедаем где-нибудь вместе? — Да, я сильно проголодалась, — смеясь, ответила Оксана. — И я знаю один неплохой ресторанчик. Казалось, что они тоже рады этой неожиданной встрече. Лариса работала в госпитале, а Оксана в известной фирме по продаже модной женской одежды и аксессуаров. После обеда, расставаясь на набережной, они пригласили его в гости и дали номер своего телефона. Возвращался домой в самом приподнятом расположении духа. Вдруг понял, что пора менять работу. В самом деле, не всю же жизнь работать ночным уборщиком в супермаркете! Конечно, платили неплохо, но работать ночами и спать днём... Так и жизнь пролетит — не заметишь. К тому же он уже более-менее сносно понимает окружающих и бегло говорит по-английски. Следующая неделя ушла на поиски новой работы. Он просмотрел уйму объявлений и сделал немало звонков, прежде чем нашёл место помощника официанта в итальянском ресторане. Платили меньше, но кормили два раза в день, когда бывал на смене, и главное — наконец-то — у него появилось свободное время. Ожидал выходных как праздника. И конечно же, при первой возможности воспользовался приглашением Оксаны и Ларисы. Жили они в маленькой квартирке, но район был престижным. У Оксаны была труднопроизносимая азербайджанская фамилия, но, поскольку мать была русской, в итоге она получила огромные голубые глаза с восточным разрезом и удивительно нежный мелодичный голос с восточными, какими-то поющими интонациями. Высокая, тонкая, с изящными руками. После того как они пару раз пообедали в маленьком китайском ресторанчике, он спросил её, как она оказалась в Канаде. Она пожала плечами. — Обычная история. 44 Вначале её семья жила в Азербайджане. Там она и родилась. Наверное, и до сих пор бы там жили — хорошо, и даже счастливо, в большом красивом доме, если бы не начались эти события. — Какие события? — Ну, из-за Нагорного Карабаха… К стыду своему, он мало что об этом знал. Он вообще никогда не интересовался политикой. — Мама говорит, что никогда после мы не жили так хорошо. Не только материально, а так… беззаботно, что ли. Отец работал, она занималась домом и мною, и почти каждый вечер на террасе собирались гости. Были среди них русские, азербайджанцы, армяне и евреи… Можно ли было тогда поверить, что всё вдруг так внезапно оборвётся? Казалось, все эти волнения, все эти столкновения на улицах — хулиганство, которое вот-вот кончится, и всё образуется, заживут все как раньше. Не кончились — ситуация ухудшалась с каждым днём и вскоре начались настоящие погромы. Из Азербайджана стали изгонять армян, они уезжали, за ними стали уезжать и русские. Многие семьи уезжали, покидая дома и всё, что у них в этих домах было. Выходить в город — несмотря на то, что отец Оксаны был азербайджанцем, стало опасно. Хотя Оксана была маленькой, даже она почувствовала, что их жизнь изменилась. Мама твердила, что нужно на время уехать. На входную дверь поставили новые замки, но они не уберегли их от беды. В одну из осенних ночей пьяные подростки подожгли соседний дом, где жила армянская семья, и огонь, раздуваемый ветром, перекинулся на их участок. Она не помнила пожара, её спящую унесли к соседям, но помнила следующий день, и тот ужас, который охватил ее, когда она увидела свою выгоревшую комнату и перепачканную сажей маму. Она собирала вещи и плакала. Ещё запомнилась дорога. Они ехали к бабушке в Сибирь. Ехали долго, на поезде, и она всю дорогу мёрзла. Несколько месяцев они жили у бабушки как гости. Отец дважды приезжал, привозил деньги, виноград, но ехать обратно было пока некуда. Ситуация оставалась сложной, отец сам жил у родственников и пытался ремонтировать дом. Потом у него появилась другая женщина. Время шло. Деньги, которые он оставил в свой последний приезд, закончились, работы мать долго не могла найти, и они стали жить довольно бедно. Бабушке было трудно их содержать. 45 В конце концов родители развелись. Лариса устроилась на завод, и её почти никогда не было дома. Почти всё время Оксана проводила с бабушкой. Бабушка отводила её в школу и приходила за ней после уроков. Водила на музыку в Дом пионеров. Потом жизнь стала как-то налаживаться. Лариса снова вышла замуж, за своего бывшего одноклассника Бориса Стоцкого, и спустя некоторое время вместе с ним они и эмигрировали в Канаду. Оксане очень понравился и новый город, и новый дом, и новая школа. Всё нравилось. Хотя у Ларисы семейная жизнь снова не задалась — отчим, хотя всё ещё и числился мужем Ларисы, уже несколько лет как жил отдельно. Впрочем, все трое остались в нормальных отношениях. Оксана окончила школу, потом колледж и начала работать — в той самой фирме, в которой ещё школьницей подрабатывала на показах модной одежды. — Мне после школы предлагали стать манекенщицей, я даже на специальные курсы ходила. Но мама не захотела, чтобы я продолжала там учиться. Курсы дорогие, а никаких гарантий, что после их окончания какая-нибудь более-менее значительная фирма заключит со мной контракт. В этой сфере просто дикая конкуренция! И потом, мама считала, что я должна получить более серьёзное образование. Для неё это очень много значит. Наверное, потому, что она сама после школы учиться не стала, рано вышла замуж. Осталась без профессии, и ей из-за этого здорово досталось. Короче, она настояла на том, чтобы я пошла в колледж. Хотя мне, конечно, хотелось побыстрее начать зарабатывать. Когда вокруг столько красивых вещей… — Да, помню, мне после школы тоже хотелось всего и сразу. — Я первым делом купила себе очень хороший фотоаппарат. — Оксана искоса посмотрела на Виктора. — Знаешь, кем мне действительно хотелось бы быть? — Кем? — Фотографом. Вокруг столько удивительных вещей! А люди проходят мимо и ничего не видят. Может быть, когда у меня будет немножко больше свободного времени, я займусь этим серьёзно и когда-нибудь выпущу фотоальбом со своими снимками. Она действительно везде носила с собой фотоаппарат. И в квартире, где они с Ларисой жили, стены были увешаны её работами — бурная Наягра в самых разных ракурсах и в разные времена года, виды Атлантики, вечерний Монреаль — по её 46 мнению, самый красивый город страны, в котором она мечтала жить. — Да, альбом — это было бы здорово, — произнёс он, а сам подумал: кому они нужны, эти виды, здесь! Вон сколько не фотографов, а настоящих художников, пишущих и маслом, и акварелью, выставляют свои картины в маленьких галереях и сувенирных лавках, а то и просто на улицах, предлагают их почти за бесценок, — и то мало кто берёт. Люди здесь больше думают не о картинах, а о деньгах, о покупке новой машины, мебели или дома в престижном районе… Она словно прочитала его мысли и улыбнулась. — Да, знаю, наверное, фотоальбомы не очень популярны. Одна моя подруга работает в большом книжном магазине «Барнс-энд-Нобл», она говорит, что такие вещи действительно не пользуются особым спросом. — Но за твоими фотоальбомами будут стоять очереди, — пошутил он. — Я буду первый. — Очередь, состоящая из одного человека! — Оксана рассмеялась. Она показывала ему разные места, возила по окрестностям — то на парфюмерную фабрику, то на какую-нибудь очередную ярмарку, то посмотреть крошечную церковь — самую маленькую в провинции Онтарио (а может быть, и во всей Канаде), — туда помещалось не больше четырёх человек… Как-то предложила съездить в Вандерленд — детский парк развлечений. Он сопротивлялся. — Ну что я там буду делать, на качелях кататься? Давай лучше сходим в ресторан. — Рестораны — это заурядно. К тому же мне надо меньше есть, я стала поправляться. Вот увидишь, там будет весело. Она пыталась показать ему те места, которые были ей знакомы, с которыми были связаны какие-то приятные ощущения. Вандерленд — ещё не забывшиеся воспоминания детства. Её возили туда совсем недавно — ей только двадцать с хвостиком. А ему уже за тридцать. Разница ощущалась. — Для меня Онтарио — лучшее место в Канаде, — сказала Оксана, когда они на огромной скорости неслись по хайвэю мимо садов и виноградников. — Ну, не считая Монреаля, конечно. Но Монреаль — это, скорее, Франция, чем Канада. И тебе здесь тоже понравится, вот увидишь! Особенно хорошо на юге 47 провинции, тут помимо водопада ещё много чего есть. Эту часть Онтарио называют фруктовой корзиной Канады. Мама говорит, здесь немного похоже на Крым, на Кавказ. Выращивают абрикосы, персики, виноград… — И как здесь растёт виноград? — удивлялся он, вспоминая холода и морозы прошлой зимы. — Зима же здесь лютая! Даже водопад замерзает! — Ну, не такая уж лютая! — засмеялась Оксана. — И виноград ещё как растёт! Здесь и вино делают. Ты пробовал когда-нибудь вино, сделанное из подмёрзшего винограда? Нет? Называется ice-wine. Такого, наверное, больше нигде в мире не делают. Его готовят по особой технологии. Для этого вина виноград убирают не до, а после первых заморозков, поэтому оно имеет совершенно особый вкус. Вот увидишь, тебе понравится! — Ну ещё бы! Я большой любитель этого продукта! Она тут же загорелась: — Я знаю одно местечко, не совсем, правда, по пути, придётся сделать крюк, но оно того стоит. Ну что, заедем? Только сразу предупреждаю, вино дорогое. Впрочем, я не пью, за рулём. Ему было всё равно. Он забыл о своей тяжёлой работе, о жёсткой экономии. В конце концов, за что и платить, как не за такие моменты жизни? Он и готов платить. Только за то, чтобы вот так катить с ней рядом, он готов отдать все свои сбережения. А тут ещё и вино предлагают… Он смотрел на чёткий профиль, на то, как, чуть откинувшись назад, она ведёт машину, и ему очень хотелось её поцеловать. Прекрасная страна Канада! А после пары бокалов вина она казалась ещё более замечательной. Покинув постоялый двор с винным баром, они продолжили путь в парк развлечений. Поставили машину на стоянку, купили входные билеты, которые показались ему безумно дорогими, и отправились бродить по канадскому Диснейленду вместе с тысячами туристов, приехавших сюда провести с детьми последние дни летних каникул. Он и не подозревал, что в нём сохранилась способность так веселиться. Особенно после нескольких лет жизни в Канаде. Неожиданно полёт на американских горках доставил ему 48 просто какую-то дикую радость. Они летели по рельсам на огромной скорости вперёд и вперёд, переворачивались на крутых виражах, повисая вниз головой и, вцепившись мёртвой хваткой в поручни, громко орали дикими, первобытными голосами. После этого полёта он, наверное, ещё с неделю пребывал в состоянии какой-то эйфории. Впрочем, не Вандерленд был тому причиной, а маленькая остановка по пути к нему. 4 Лето кончилось, прошла осень, впереди замаячила зима с холодами и снегопадами. Они стали видеться реже, поскольку он стеснялся приглашать Оксану в свою ободранную комнатёнку, а чтобы встречаться где-то ещё, нужны были деньги. Просматривая объявления в «Bonus», рекламно-информационном журнальчике на русском языке, искал подработку. Хорошая работа — это здесь главное. Нет работы — нет денег, и ты за бортом. Без работы и денег легко опуститься. А такие здесь не в фаворе. Неожиданно он нашёл эту вторую работу довольно быстро. И не по объявлению. Сосед по квартире сказал, что требуется продавец в магазин «секонд хэнда» на два дня в неделю. Он позвонил и уже на следующей неделе приступил. Пора было думать о нормальном доме, куда не стыдно приглашать гостей. И о машине. В Торонто жильё чем ближе к центру, тем дороже. Если же оно в каком-нибудь пригороде — без машины не обойтись. Ездить он умел, оставалось, позубрив правила, сдать экзамен. Выяснил, как и где это делается. Оксане ничего не говорил. То, что она возила его повсюду, как-то задевало. Наверное, всё ещё неизжитый совковый менталитет давал себя знать. Хотя здесь, в Канаде, женщин за рулём можно было видеть не реже, чем мужчин. А может быть, даже чаще. Поразмыслив, стоит ли тратить свои сбережения, он всё-таки решился и купил первую в жизни собственную машину — подержанную, но всё ещё не потерявшую вида «мазду». Представлял, как подкатит к офису Оксаны, чтобы забрать с работы. Как только получит права, сам будет возить её повсюду. Пожалуй, надо свозить её в Монреаль. Обязательно поедут на Ниагару. Они уже дважды побывали там вместе — обоим нравилось это фантастическое место. Он брился утром, пристальнее, чем обычно, разглядывая в зеркало своё лицо, такое знакомое и такое всегда почему-то чу49 жое; на висках всё отчётливее проступает седина, и волосы впереди значительно поредели. Впрочем, сейчас его это не особенно огорчило — сегодня он пребывал в философском расположении духа, — такова жизнь, никто не становится моложе. Выпив чашку кофе, уже натягивал куртку, чтобы отправиться на работу, когда зазвонил телефон. Звонил адвокат, занимавшийся его делом. — Легенду хорошо выучил? — спросил. — Не забыл, что у тебя в следующую среду суд? Будь готов. — Всегда готов, — вяло отшутился он. Ну вот и наступил час «икс»… Ладно, ладно, успокаивал себя, волнуйся не волнуйся — что будет, то и будет. Самое плохое, что может случиться, — скажут «нет» и вышлют из страны. Ну вышлют, и чёрт с ним! Приехал с одним чемоданом и одним языком, уедет с двумя чемоданами и двумя языками. Здесь жить или там — уже никакой разницы, везде свои закидоны. Хотя, разумеется, бодрясь и говоря себе это, он слегка кривил душой — разница, конечно, была. Не мог он вернуться сейчас, когда у него появилась Оксана. Но, видимо, полоса пошла такая — то, что вчера казалось недостижимым, сегодня само лезло в рот. Всё прошло как по маслу. Со своим адвокатом — Тони, Антоном — они почти сдружились в процессе борьбы за получение легального статуса, а потому обед по случаю первой победы над бюрократической машиной Канады, переваривающей документы ещё медленнее, чем все конторы бывшей великой державы СССР, проходил в самой непринуждённой обстановке. Они сидели в маленьком уютном ресторанчике, отмечая знаменательное событие и допивая бутылку Merlot. — Ну что ж, ещё раз мои поздравления, — Тони поднял бокал, — ещё чуть-чуть, и в твоём кармане будет лежать канадский паспорт. Ну а пока — статус landed immigrant тоже хорошо. Он даёт тебе все права канадского гражданина за исключением одного — права голосовать, избирать и, соответственно, быть избранным. Но, думаю, губернаторское кресло тебя не интересует. — Если уж выдвигать свою кандидатуру, то только на пост президента, — пошутил он в ответ. 50 Тони насмешливо поднял брови: — Увы, друг, президентом-то здесь тебя никогда не выберут, даже если станешь миллиардером. Хотя бы потому, что в Канаде конституционная монархия, как ни странно это звучит, и правление британской королевы, представленное генерал-губернатором. Но вот на пост премьер-министра дети твои уже смогут претендовать… — А у тебя есть дети? — спросил Виктор. — Двое мальчишек. Пять и шесть лет. — Лицо Тони расплылось в довольной улыбке. — Отъявленные хулиганы, по словам моей мамы. Интересно, как Оксана относится к детям? Сейчас многие канадки детям предпочитают карьеру. Деньги подавляют даже инстинкт материнства… Тони снова посерьёзнел. — Учи язык и историю страны, получишь канадский паспорт, и перед тобой откроются границы всех стран Европы — Азии… Ну, почти всех, — уточнил, — не говоря уж об Америке, Австралии и Новой Зеландии. Впрочем, у тебя и сейчас все о’кей, у landed immigrant лишь один неприятный нюанс. — Какой? — поинтересовался он, трудясь над бифштексом. — С нынешним статусом не попасть тебе в родную страну. Виктор пожал плечами. — Да я как-то пока и не рвусь. — А мне бы хотелось, — произнес Антон-Тони, снова наполняя бокалы. — Меня сюда привезли мальчишкой, мне было пятнадцать лет. В Торонто я уже двадцать лет, здесь окончил школу, потом университет, потом здесь же начал работать. Работа нервная, как ты видишь, но хорошая. Женился на канадке, и всё у нас о’кей, но тем не менее до сих пор думаю иногда о Москве. Наш двор, подъезд, соседские мальчишки вспоминаются. Кстати, в Туле родственники живут, приглашают в гости. Чёрт, я уже столько времени без отпуска! Съездить бы на недельку-другую, свой дом увидеть, друзей детства. Очень хочется. — А мне нет, — ответил Виктор, чувствуя, как испаряется куда-то его приподнятое настроение. — Что там смотреть? В памяти одно, а в реальной жизни всё по-другому. Со мной парень на стройке работал, десять лет в «Совке» не был, всё мечтал съездить. Ну и поехал наконец в свой Донбасс. Через три недели вернулся, говорит, лучше бы не ездил. Полная разруха, всё, что можно, разворовали, нищих, говорит, полно, сидят прямо в цен51 тре у всех этих «бутиков», где туфли стоят, как пенсия его бабки за двадцать лет… Наркота уже прямо в школах. Хотя, сказал, поехать стоило в любом случае — от ностальгии излечиться. Нет, нечего там делать. Кто мог, давно уехал. А старики, те, наверное, уже поумирали. От той жизни, по которой ты тоскуешь, там ничего и не осталось, страна-то развалилась. Поезжай, сам увидишь. Только и ехать опасно — сам читал в Интернете на сайте «Комсомолки», что там теперь люди исчезают средь бела дня. Дома взрывают... Бардак, одним словом. Лучше сохранить светлые воспоминания о том, что было, чем получить большую порцию разочарований… Антон внимательно смотрел на него, словно пытаясь понять причину внезапного раздражения, а потом примирительно произнёс: — Я как-то не особенно доверяю средствам массовой информации, но в чём-то ты прав, наверное. Я и сам знаю, что там действительно всё изменилось. Виктор положил вилку. Бифштекс остыл и уже не казался таким вкусным. — Везде хорошо, где нас нет. Конечно, он съездит туда. С Оксаной. Когда-нибудь. Она как-то обмолвилась, что неплохо бы провести отпуск там, где она бывала ребёнком. В Крыму, например. Ещё лучше — в Баку, но в Баку её детства, когда люди там были гостеприимны, веселы и дружелюбны, и каждый мог запросто пригласить в свой дом. Говорят, сейчас там слишком много от средневековья. Опять же близость к Чечне, где идёт война. Кавказ стал далёким и чужим. Что за проблемы, шутливо ответил он, в Крыму тоже замечательно. Он бывал там пару раз — во времена зелёной юности. Организуем, почему бы и нет? Говорил и сам верил, что в состоянии всё это «организовать». Каким образом? Даже не представлял. Просто верил, что так оно и будет. Будут лежать рядом под палящим солнцем, загорелые и беззаботные, и слушать шум взлохмаченных ветром волн. Он знает несколько совершенно офигенных мест. Нет, это не Ялта. Это Тарханкут. И полупустынная узкая песчаная полоса чудесных евпаторийских пляжей. Не городских, где яблоку негде упасть, где визжат дети и испуганно кричат мамаши-клуши, а дикие, предевпаторийские и заевпаторийские пески… Но прежде будет ещё одно обязательное и совсем близкое 52 путешествие. К водопаду, туда, где они впервые встретились. Это здесь популярно — проводить медовый месяц на Ниагаре. Дорогой номер в хорошем отеле, экскурсии, обед в ресторане, на самом верху башни Скайлон Тауэр, откуда открывается фантастический вид на водопад и окрестности. Со временем они обязательно купят дом. Он посадит собственный сад в этой самой «фруктовой корзине» Канады. И дерево грецкого ореха, когда родится ребёнок. Ещё какие-то радужные фантазии рождались и исчезали у него в голове, появлялись и лопались, как мыльные пузыри, пока он ехал на работу или с работы в переполненном автобусе. Теперь, когда он получил долгожданный статус, всё казалось возможным. 5 То ли ему повезло, то ли он действительно уже сносно владел английским, но он сдал с первого раза и теорию, и вождение, не сделав ни одной грубой ошибки. Это был рывок. Права здесь были, пожалуй, самым важным документом. Вспомнил, как боялся этого экзамена. Сергей, один из парней, с которым он по ночам полировал полы в супермаркете, долго не мог получить права. Дважды пытался и оба раза безуспешно. Он был убеждён, что инструктор придирается к нему только потому, что он не канадец. «Ну не любит он иммигрантов! У него только местные сдают и те — через раз». Потом Сергей пошёл в драйвинг-скул, где обучали вождению на русском языке, на русском и экзамен сдавал. Но Виктор не хотел так, как Серёга. Во-первых, школа стоила денег. Потом, самолюбие не позволяло. Водить машину он умел, и в прежней жизни не полы подметал — был инженером, и кое-что в технике понимал. И считал, что если уж оказался здесь и столько уже претерпел, то должен освоить и язык настолько, чтобы по крайней мере в быту из-за него не возникало никаких проблем. А на дороге так особенно. Для него экзамен по вождению был одновременно и экзаменом по английскому. А потому всё свободное от работы время он усердно готовился, оставляя для встреч с Оксаной лишь выходные. Тут как-то удачно совпало то, что и она в эти дни была занята больше обычного — фирма, в которой она работала, готовилась принять участие в большой международной выставке. 53 Потренировавшись ещё несколько дней на автодроме и покатавшись по весенним улицам города, чтобы быстрее освоить нужные маршруты, он купил два билета на популярную американскую рок-группу, приехавшую в Торонто на гастроли, и только теперь решил позвонить Оксане. Набирая номер и глупо улыбаясь, предвкушал, как подкатит за ней на своей машине. А в воскресенье можно выехать за город — подышать воздухом. Погода была замечательная — май набирал силу. К телефону подошла Лариса. — Оксаны нет. Уехала. — А когда вернётся? Говорить или не говорить о получении статуса Ларисе? Пожалуй, нет. Пусть позже, но он сам сообщит Оксане, что теперь он landed immigrant. Как она воспримет эту новость? — А… разве ты ничего не знаешь? — В голосе Ларисы сквозило удивление. — Да мы не виделись целую неделю. Кручусь сейчас на двух работах, замотался. В среду звонил, но не застал её в офисе. — Он вдруг почувствовал себя виноватым. И правда, что стоило позвонить ещё и ещё раз? — Оксана уехала в Ванкувер. — В Ванкувер?! Она и раньше ездила в командировки по делам фирмы, но ещё никогда — так далеко. — Надолго? Лариса на вопрос не ответила. — Фирма расширяется, — сказала она. — Появились новые вакансии, и ей предложили новую должность. Мы решили: не стоит отказываться. Да, он что-то такое слышал — о вакансиях. Оксана говорила о том, что, возможно, поменяет место работы, но чтобы это было так далеко! Он был потрясён. — Но почему — Ванкувер? Он услышал в телефонной трубке вздох Ларисы: — Сам понимаешь, из Торонто туда не каждый поедет. Мне тоже не нравится, что далеко, но для неё это такое большое повышение. Всё это совершенно не укладывалось в голове. — Мы же виделись в прошлую субботу. — Он всё цеплялся за какие-то мелочи. — Она мне ничего такого… Лариса снова вздохнула. Она тоже ещё никогда не расставалась с дочерью. 54 — От такого места не отказываются. Дэвид открыл в Ванкувере новый большой магазин. Ему нужны там надёжные, проверенные люди. Дэвид! До этого момента он всё ещё надеялся, что всё обойдется, но после этого «Дэвид» из глубин сознания выплывал правдивый и беспощадный ответ: никогда. Никогда не вернётся. А если и вернётся, то не к нему. Вместе они не будут никогда. Мелкие шероховатости в их почти безоблачных отношениях, все эти незначительные детали — внезапные исчезновения, поздние звонки в самое неподходящее время, какие-то странные деловые встречи-обеды по субботам-воскресеньям, требовавшие её присутствия, — вся эта мозаика быстро сложилась в целостную картинку. Дэвид, а не работа, вот главная причина. — Можно было бы расстаться по-другому, — грубо произнёс он. — Не хотела тебя расстраивать, — тут же ответила Лариса. Ага, значит, была в курсе, что он для Оксаны всего лишь развлечение, временная игрушка. До той поры, пока на горизонте не замаячит достойный кандидат. Всё шло слишком хорошо, чтобы длиться слишком долго. — Дэвид, кажется, тоже живёт в Ванкувере? — ядовито поинтересовался он, не в силах положить трубку и всё ещё на чтото надеясь, надеясь… — Ну перестань. При чём здесь Дэвид? Это прежде всего работа. Все мы вынуждены как-то зарабатывать себе на жизнь, — Лариса пыталась его утешить. — Мне тоже нелегко было с ней расстаться. Ты же знаешь, у меня здесь никого, кроме неё, нет. Но это очень, очень хорошее место, такое не каждый день предлагают… Большие деньги. И перспектива роста. Поколебавшись, добавила: ладно, если хочешь, запиши телефон. Почему-то он не стал звонить сразу. Грызла обида. В конце концов, могла бы и сама всё объяснить, а не исчезать вот так, не сказав ни слова и даже не попрощавшись. Всё оттягивал — всё ещё надеялся в глубине души, что Оксана сама позвонит, что передумает, вернётся или позовёт его в этот чёртов Ванкувер… Что все его дурные предчувствия всего лишь игра воображения. Но она не звонила. Прошло несколько дней, и он сдался. — Не обижайся. Ты хороший парень, и ты мне нравишься. 55 Но в этой стране свои правила и законы. Нельзя начинать семейную жизнь, не имея ничего. Сам знаешь, каково без работы и без денег. Дэвид считает, что мне крупно повезло... — Дэвид? — он пытался произнести это как можно язвительнее. — Он мне очень помог, — сухо ответила Оксана. — Когда рассматривались кандидатуры на эту позицию, он предложил меня. Хорошая работа в этой стране значит если не всё, то очень многое. И никто на моём месте не стал бы упускать такую возможность. Её голос звучал так ясно, так отчётливо, что казалось, она находится где-то совсем рядом. Но она была далеко. На другом конце страны. Или мира. Уже в другой, чужой жизни. Всё кончено. Не будет больше прогулок по городу и поездок за город. Ничего больше не будет. И обедов, и субботних встреч в маленькой гостинице в китайском квартале тоже не будет. У него перехватило горло. — Ну чего ты молчишь? А что тут говорить, когда и без слов всё ясно? Дэвид — её босс. Один из самых главных в фирмы. Видел он однажды этого Дэвида, Оксана показала, когда он как-то встречал её у офиса. Садился в спортивную машину. Длинный, тощий и бледный, как поганка. Похоже, высмотрел её на какой-нибудь деловой встрече. Вероятно, живёт в шикарном доме. А у него даже и канадского паспорта ещё нет — только вид на жительство. И работа за восемь долларов в час. При этом он ещё считал, что ему повезло! Господи, дурак-то какой! Landed immigrant, иммигрант, пусть и постоянно проживающий в Канаде, — вот кто он такой. Ни больше, ни меньше. Один из многочисленных белых рабов этой демократической, этой свободной страны. Все эти сказки о том, как разбогател бедный иммигрант, начинавший разносчиком газет, сказки и есть. Все эти лозунги о больших возможностях маленького человечка рассчитаны на идиотов. Которые летят в дальние страны, как бабочки на огонь. Может быть, кому-то из них и повезёт, но большинство оседает на чёрных работах. — Не сердись. Ну вот такая уж я бизнес-вумен… — Она ещё пыталась шутить. — Ну не создана для борщей и пампушек. Серьезно, Вик, — я просто должна работать, пока есть такая возможность. Должна. Мне не на кого рассчитывать. И я очень ждала этого повышения, я же тебе говорила. Только я думала, что меня оставят в Торонто. 56 Так и не услышав ответа, добавила: — У тебя тоже всё образуется. Она ничего не сказала о том, что они могут продолжить свои отношения. Она не позвала его. А ведь он мог тоже переехать в Ванкувер. Ради неё он куда угодно готов был ехать. Но она сказала: у тебя тоже всё образуется. У меня образовалось, и у тебя образуется. Это прозвучало как «прощай». «У тебя всё образуется». Ещё как образуется… Он напился и пропустил свою смену в ресторане. Потом ещё одну. И ещё. Его, разумеется, уволили. Деньги имеют свойство таять с непостижимой быстротой, стоит только зазеваться, остановить на мгновение бег в своём беличьем колесе. Если он не заплатит до понедельника за комнату, то самое лучшее, что его ждёт, — шелтер. Ночлежка то есть. Говорят, относительно комфортное место, лучше, чем по подвалам ночевать или в ящиках под мостом. Но ночлежка — она ночлежка и есть, пусть даже с чистыми простынями и душем. Милость государства и сострадательного общества к падшим согражданам. Он лежал на диване, разглядывая ободранные обои в углу комнаты. Вот она, страна больших возможностей. Зачем я здесь? И вообще з д е с ь, в этом мире? Какой смысл во всём этом барахтанье? Работа — дом, дом — работа… Ежедневная нудная, утомительная борьба за выживание. Зачем? Это и есть смысл моей драгоценной, единственной и никому не нужной жизни? 6 — Уволили? Ну ты дурак — потерять такую работу! На какой-то — пятый или десятый? — день его пьянства заехал Пётр, парень, с которым он когда-то гнул трубы для пластиковых столов и стульев на мебельной фабрике и с которым изредка перезванивался. — А нельзя к шефу как-нибудь подкатить? — спросил он. — Покайся, придумай что-нибудь! Виктор покачал головой. — Поздно придумывать, ушёл поезд. — Понятно… Значит, давно пьёшь. Пётр не хуже него знал, как это бывает. Наверняка на место Виктора уже приняли быстрого и исполнительного китай57 ца, готового ежеминутно кланяться и вкалывать за три доллара в час. Достал из-под кровати бутылку с остатками виски и разлил поровну. Пётр повертел стакан в руках. — Не разбавляешь? — Оглядел пустой стол, заваленный пустыми пакетами из-под чипсов и солёного арахиса. — И без закуски? Ладно. Как говорится, за тех, кто в море, в тюрьме и за границей! Выпил, морщась, вытряс из пакета пару орешков, отправил в рот. — Ну и что теперь думаешь делать? — Не знаю. Действительно, что? Пётр покачал головой. — Завязывай. Тут расслабляться нельзя. Будешь сидеть на вэлфере — никогда не поднимешься. Это его любимая тема была — как найти свою золотую жилу. У каждого, рискнувшего пойти на авантюру под названием «эмиграция» или, как здесь говорили, «иммиграция», своё кино в голове. У большинства — как выжить и наладить быт, у Петра — как разбогатеть. Он только об этом и говорил, только это его и волновало — как «подняться». — А ты вот тут уже десять лет и работаешь день и ночь. И что — высоко поднялся? — съязвил Виктор, угрюмо рассматривая пустую бутылку. — На жизнь хватает, не жалуюсь. Больших денег пока не заработал, потому что просто ещё не нашёл свою… — …золотую жилу. Пётр не обиделся. — Пашку помнишь? Рыжего, с нами на фабрике работал, а потом в пекарне подручным? На днях узнаю, он эту пекарню выкупил! На булках поднялся! Сказал, что сейчас у него, в придачу к пекарне, ещё и магазин — «Домашний хлеб» в North York’e. Ссуду взял. Там у него одна баба из Полтавы здорово домашние пирожки печёт. Ещё двое ребят-москвичей на компьютерах выехали, тоже неплохие бабки делают. Офис в самом центре, представляешь, сколько там одна аренда стоит? А приехали — первое время зимой на вокзале ночевали, а весной в парке, когда погода позволяла. На скамейке спали и флагами родины, которые на сувениры привезли, укрывались… А ещё Андрей с нами работал, помнишь, длинный такой? Мордой на американского актёра похож… Ну, на этого, который в «Тита58 нике» художника играл, как его? Так вот, у него сейчас своя музыкальная студия. Электронную музыку делает. — Да кому на хрен нужна здесь его музыка! — грубо прервал Виктор. Его просто тошнило от всех этих сказочек. — Какая здесь культура? Здесь же никто ничем, кроме денег, не интересуется… — Ну не скажи. — Пётр покачал головой. — На хороший товар везде есть спрос. Андрей уже, кажется, пару-тройку дисков сделал. По радио часто крутят. В Испанию и Германию на гастроли приглашают. Страна больших возможностей… — Если бабки есть! — Зря ты так настроен. Здесь, в Канаде, всегда можно заработать, а если ещё и найти свою нишу… — Какая, к чёрту, ниша! Всё давно забито. — Из него вдруг попёрло то, о чём он и думать раньше не хотел. — Наша ниша — чёрные работы, на которых канадцы, чьи предки прикатили сюда первыми, надламываться не хотят! Или на тех пахать, кто успел урвать хороший кусок, когда нашу страну растаскивали, да потом сбежали сюда, чтобы дома этот кусок другие не отняли! Он ещё что-то орал, но Пётр, казалось, уже не слушал. Прошёлся, заглядывая в углы. — Сколько за нору платишь? — Пятьсот. — Так себе нора. Тесная, без кондишина... Не хочешь перебраться ко мне? — С чего это вдруг? — подозрительно спросил Виктор. — Да сосед у меня съехал, с которым мы дом на пару снимали, — объяснил Пётр. — Одному оплачивать, сам знаешь, дорого. И новое жильё искать не хочется. Пять лет в одном доме живу, привык. Понимаешь, он хотя и старый, но классный дом. От центра, конечно, далеко, зато это дом, а не комната, и платить, если на двоих, получается всего по четыреста баксов. По четыреста — это хорошо. За целый дом — это оченьочень хорошо. Виктор это понимал. Тут и пьяный ёжик бы понял. Только сейчас у него денег-то, можно сказать, почти нет. — Не знаю, — пробормотал, мучительно соображая, по силам ли ему сейчас такое перемещение. — Надо подумать… Там же за первый и последний месяц надо сразу платить, а я… Я машину купил и вот… — Он ткнул пальцем в угол, где громоздилась куча пустых бутылок и пивных банок. Петру ничего объяснять не надо, он из понятливых. 59 — Этот месяц я уже оплатил. Отдашь, когда заработаешь. А кстати, — вскинул брови, — и насчёт работы могу узнать. Я сейчас на одной фабрике, деревообрабатывающей, в Сент-Катринсе. Час с небольшим езды от Торонто, но платят неплохо. — Где это? Пётр объяснил. — Далековато. — Ну, чтоб не на машине, купишь проездной на поезд на полгода — дешевле будет. А работа того стоит. Десять-двенадцать баксов в час, в зависимости от цеха. Десять баксов? Стоило подумать. — А что делать-то? — вяло поинтересовался, внутренне уже на всё соглашаясь. В самом деле, какая разница, что делать? Платили бы нормально. А главное, надо стряхнуть с себя это состояние. Хватит с него глубоких чувств. Если разобраться, всё это всего лишь игра гормонов. Основной инстинкт. Остальное — воображение. Яркую обёртку, всю эту любовь, «романс» этот, — придумывают те козлы, что пишут слюнявые романы-истории и снимают сладкие фильмы. Работа у них такая — чтобы потом побольше зелени настричь… Этой жизни подходит только здоровый секс. Встретились — разбежались. 7 Дом и в самом деле оказался хорошим — три спальни, просторный бейсмент, где, помимо старой стиральной машины и сушилки в углу за перегородкой, на грязноватом сером ковре стояло два древних огромных дивана и большой телевизор. Несколько ободранно всё, запущенно, но довольно уютно. Лужайка перед домом, а на заднем дворе незамысловатый садик, состоящий из раскидистого пеканового дерева и непонятных кустов. Виктор вспомнил роскошный цветник матери. Старый сад, где сейчас, в начале лета, набирает силу ранняя черешня и клубника. Тут таких роскошных садов и не бывает. Здесь никто не выращивает фруктовых деревьев у дома — зачем, когда всё можно купить в супермаркете? И роскошных клумб не устраивают — расточительно тратить воду на полив экзотических цветов. Красивый букет всегда можно заказать всё в том же супермаркете. Здесь в моде всё больше ровно подстриженные лужайки, которые украшает какой-нибудь камень или статуя. Бэкярд, задний двор то есть, здесь тоже без затей. Ну, у некоторых, кто побогаче, бассейны, а у их дома под пекановым деревом площадка, на которой, случалось, Пётр устраивал барбекю. 60 На одном из таких барбекю Виктор и познакомился с Маргарет. Маргарет жила рядом. Первое время он как-то её не встречал, да и никакие соседи его не интересовали. Видел только относительно новую «тойоту» под навесом соседнего дома — гаража, как и у них с Петром, у соседнего дома не было. Потом как-то в субботу утром, когда он после тяжёлой рабочей недели намеревался поспать подольше, его разбудил звук газонокосилки. Раздражённый, он выглянул в окно своей спальни и увидел соседку, стригущую свой газон. Ну, нашла время, возмущённо подумал, закрывая окно. Поспать не удалось. А ещё через какое-то время, возвращаясь вечером с работы, столкнулся с ней у кустов жимолости, она выгуливала толстенного кота, надев на него ошейник с длинным поводком. Наверное, боялась, что убежит. Он не мог сдержать улыбки — такое видел впервые, чтобы кот на поводке. Она тоже улыбнулась в ответ. После этого, встречаясь, всегда здоровался. — Одинокая женщина, — проинформировал его Пётр. — Работает в местной прачечной. Живёт одна, ну, если не считать двух котов и собаки. Надо будет как-нибудь на барбекю пригласить. Будешь занимать её разговором — вот тебе и языковая практика. — Шутишь! — Нет, серьёзно, давай пригласим! — загорелся Пётр. — Хватит тебе киснуть, ты же здоровый мужик. У Петра появилась новая девушка, а потому он был великодушно щедр и хотел, чтобы Виктор тоже не скучал. А может быть, просто хотел себя обезопасить, приводя в дом свою красивую продавщицу. — Да ей, по видимости, давно за сорок, — отшутился он. — Вся седая. — Всего лишь сорок, — поправил Пётр. — Приятная женщина в соку, ну, с ранней сединой. Между прочим, у брюнетов это часто бывает. Я вообще седеть начал в двадцать восемь лет. Подумаешь, немного старше тебя. Это сейчас даже модно, иметь такую подругу. — Да мне, честно говоря, всё равно, что здесь модно, а что нет. Не стал углубляться в тему. Просто он не привык видеть на своих женщинах старые, вылинявшие футболки и драные штаны. Зина любила красивые вещи. А Оксана… Она вообще выглядела как топ-модель из модного журнала. 61 Тем не менее барбекю состоялось, и после жареных сосисок и пива, а главное, при ближайшем рассмотрении оказалось, что Маргарет действительно выглядит совсем неплохо. Гладкая кожа, голубые глаза. Вот только поговорить не получалось. Она была не очень разговорчива, а он стеснялся своего грубого акцента. Тем не менее спросил, в какой прачечной она работает. Она ответила, что совсем недалеко от дома, на том их светская беседа в тот раз и закончилась. После этого барбекю почему-то стал видеть её чаще. Возможно, она больше возилась в своём садике. А может быть, он сам стал наблюдательнее — какой-то интерес появился. Утром выглядывал в маленькое окно спальни — стоит ли её машина у дома. Возвращаясь с работы, видел иногда, как она выгуливает то кота, то собаку. Потом даже «расписание» этих прогулок вычислил. Коты выводились на длинном поводке по вторникам и субботам. Собака гуляла чаще — три раза в неделю. Была она белая, большая и толстая и издали больше походила на свинью, чем на собаку. Виктор вспомнил отцовского Бимку, который большую часть своей собачьей жизни проводил на воздухе, гоняя кур на заднем дворе. Ел, что давали, и игрушек у него не водилось. Но вид у него был самый жизнерадостный и здоровый. — Да, они тут своих «пэтс» прогулками не балуют, — согласился Пётр, когда он поделился своими наблюдениями. — Видел, сколько тут магазинов и всякого добра для кошек, собак и прочих всяких любимцев продаётся? Целая индустрия работает, колоссальные бабки на этом делают. А держат их взаперти, как пленников! Ты скажи, скажи своей Маргарет, что это бесчеловечно! — С чего это она стала моей! — огрызнулся он в ответ. Пётр ухмыльнулся. — А кто ведёт регулярное наблюдение за соседним домом? Как-то он помог ей постричь траву на лужайке. Она пригласила его на чашку кофе. Дом внутри оказался не таким большим, как виделся снаружи. Гостиная с традиционной парой кресел и большим диваном переходила в крошечную столовую, где помещался всего лишь стол и несколько стульев. Маргарет пригласила его присесть и отправилась на кухню готовить кофе. Он устроился в 62 одно из кресел. На маленьком столике лежало несколько альбомов с репродукциями. Он взял в руки один из них, сдул с него собачью шерсть и начал листать. Из кухни вышла собака и внимательно посмотрела на него. Надеюсь, ты не кусаешься, — пробормотал он. Шумно дыша, собака осторожно подошла ближе, понюхала его колено и отвернулась — похоже, он её не заинтересовал. Не тявкнув даже для приличия, пыхтя, стала карабкаться на диван, где и растянулась с усталым видом. Ну и ну, действительно, раскормлена до невероятных размеров — таких он ещё никогда не видел. Такой собачке не то что укусить незнакомца — залаять не под силу. — Она очень добрая, — сказала Маргарет, ставя на стол в столовой кофе и бутерброды. — Я вижу, — ответил он. Пригласил её съездить в Наягра Фолз на выходных. Она согласилась, но, как ему показалось, безо всякого удовольствия. Позже он понял, почему. Оказалось, что когда-то Маргарет жила рядом с водопадом. Училась на каких-то курсах и подрабатывала там же — сажала цветы в Парке Королевы Виктории, который располагался на берегу Наягры прямо напротив американского водопада. Потом подрабатывала лифтёром, поднимала группы туристов на верхнюю палубу обзорной башни Скайлон Тауэр, а ещё позднее — официанткой в одном из ресторанов на берегу Ниагары. Для неё Ниагара не была ни волшебством, ни праздником. Это было место работы, зарабатывания денег. Обыденность, одним словом. И ей не нравился шум падающей воды, все эти мощные децибелы, слышимые за километры от Наягра-Фолз. Они стали встречаться — обычно пару раз в неделю, по вечерам. Он попытался нарушить этот странный режим, придя как-то во внеурочное время, но Маргарет не впустила, сославшись на то, что завтра у неё трудный день — предстояла какаято поездка. Она умела держать дистанцию, хотя была всегда спокойна и немногословна. Она не походила ни на одну из женщин, с которыми он имел дело раньше. — Никогда не знаешь, о чём с ней говорить. Не знаешь, что у неё на уме, о чём она думает, — пожаловался он как-то. 63 — Да ни о чём особенном, — ответил Пётр. — Так же, как и ты — о счетах, о том, чтобы с работы не вылететь, где что подешевле купить да какому ветеринару своих «пэтс» показать. Ну, о тебе ещё, может быть, думает — ближе к вечеру или по выходным, — пошутил. Но Виктору было не до шуток. Он хотел понять, нужна ли действительно ему эта Маргарет, и насколько нужна. И вообще, что с ним происходит, хотел большей ясности в этой путаной жизни. — Мы больше года встречаемся, а каждый раз мне кажется, что я вижу её впервые. Никогда ничего не рассказывает ни о работе, ни о себе. Весь разговор: How are you? I am fine, and you? Прям из учебника пятого класса. Я о ней и не знаю ничего. — А на фига знать-то? Нашёл бабу и радуйся. Ты же жениться на ней не собираешься? — Надо же когда-нибудь… Уже под сорок. Пётр покачал головой. — Только не на канадке. Сколько с ними ни встречался — всё не то. Менталитет другой. Всё на расчёте построено — помоему, у них вместо сердца калькулятор, а в глазах, когда она на что-нибудь смотрит, только цифры мелькают. Взглянет и уже просчитала, сколько ты зарабатываешь и что имеешь… кроме детородного органа. Для женитьбы надо нашу девушку искать. Тут даже не в красоте дело, хотя это, конечно, тоже немаловажно… Наши хотя и крикливее бывают, а всё равно — добрее. А если с любовью не получится, так хотя бы язык один и борщи почти все готовить умеют. Конечно, Виктор соглашался, действительно — лучше наших девушек нет. Но только где их взять в этой стране? Столько вокруг одиноких парней, которые и моложе, и выглядят лучше, чем он, и зарабатывают больше. И потом, если разобраться, «наши» девушки, особенно те, кто сумел вырваться на канадские просторы в относительно юном возрасте, тоже отлично умеют считать. И тоже предпочитают канадцев с тугими кошельками. И деньги они любят тратить не хуже канадских вертихвосток. Нет, дело не в национальности… Петру повезло — он встретил Надю (хотя неизвестно ещё, чем у них дело кончится). Она из Томска. Насмотрелась фильмов про красивую жизнь и отправилась в Мурманск, буфетчицей на корабль устраиваться. В первом же порту сошла на берег и не вернулась. Сияет теперь обворожительной улыбкой, как какая-нибудь кинозвезда, налево и направо, убеждая потенци64 альных покупательниц, что в магазине «Аврора» лучшие кофточки в Торонто. А у Виктора вот на данный момент на жизненном пути оказалась только местная Маргарет. Что, если поразмыслить, в общем-то, тоже не так уж плохо. В ней много положительного. Немногословна, без претензий, особых развлечений не требует. Обычно пару раз в неделю они обедают в каком-нибудь ресторане. Чаще — в китайском. У неё есть излюбленные места, её там знают. Иногда они вместе отправляются в огромный молл — супермаркет — или по маленьким магазинам бродят, рассматривая товары. Редко что-нибудь покупают. Но если такое случается, за свои покупки она всегда платит сама. Опять же, живет рядом, не надо ездить куда-то. Не женщина — сплошная экономия. Чего ещё желать на сегодняшний день? Иногда, правда, думал: может, ей помаду подарить? И почему бы ей, и в самом деле, волосы не покрасить? В одну из суббот, в процессе очередного шопинга, он вдруг купил лопату и несколько саженцев плодовых деревьев. А потом и небольшую садовую статую писающего мальчика зачемто прихватил. Проходил случайно через отдел причиндалов для садоводства да вдруг и застрял в нём, рассматривая многочисленные приспособления, облегчающие труд садоводов-огородников. — Ты что, с ума сошёл? — вытаращил глаза Пётр, разглядывая его приобретения. — На кой чёрт тебе всё это? С чего это ты вдруг решил благоустраиваться? И дом-то не наш… — Ты сам говорил, что хозяин будет счастлив его продать. — Да, уговаривал купить эту развалину. Только зачем? Ну, не знаю, не знаю… — Пётр покачал головой. — Надя хочет, чтобы мы сняли жильё поближе к центру. Ей отсюда ездить на работу неудобно, я сам каждый день утром по часу в дорожных пробках стою. Вдруг и ты надумаешь съехать? Для кого тогда эти дерева? Понял! Это ты для Маргарет купил! И правильно — у неё участок большой, не только на сад, а ещё и на огород места хватит. Вместо того чтобы котов выгуливать, — Пётр рассмеялся, — пусть на продажу помидоры и репу выращивает! А он и сам не знал, что это вдруг на него накатило и с какой стати, в самом деле, он всё это приволок. — Осень, — отшутился. — Пора сажать деревья. И тут же решил, что как только Пётр уйдёт, он выкупит этот 65 дом. Дом старый, в непрестижном районе — обойдётся, по меркам Торонто, недорого. Хозяин не дурак, чтобы терять, может быть, единственного реального покупателя, сбросит цену. Рад будет сбыть это старьё. Виктор же постепенно дом отремонтирует, теперь он может любую развалюху привести в порядок не хуже какой-нибудь строительной фирмы. Канадская стройка, на которой он достаточно попотел, — хорошая школа. Стройка — его канадские университеты. Не раз и не два он шёл туда, работал как вол, бросал её и снова возвращался. Там — относительно неплохо — платили наличкой. Чтобы попасть туда, не требовалось никаких резюме, там не спрашивали рекомендательных писем, не спрашивали, кто ты и откуда. Кого там он только не встречал! Просто поразительные люди попадались. С некоторыми он до сих пор поддерживает хорошие отношения. Не то чтобы они встречаются часто, этого нет, они-то и перезваниваются изредка, ненадоедливо — здесь люди ценят и своё, и чужое время. Вот недавно случайно в метро с Музыкантом встретился. Как дела? Нормально. У тебя как? Да так себе. При церкви, в хоре пою, с детьми занимаюсь. В хоре поёт. А какая личность! Консерваторию окончил, лауреат каких-то там конкурсов, бывший преподаватель музучилища. А пахал на стройке с ними наравне, долбал стены, не боясь испортить своих музыкальных пальцев. Смеялся, зачем они мне, мне здесь концертов не давать, здесь в Канаде и оркестров-то нет, так, раздва и обчёлся. Немузыкальный народ. Ещё Старик был — колоритная фигура. Он там, на стройке, наверное, дольше всех держался. Может быть, до сих пор работает. С ним Виктор контактов не поддерживает. Вначале его даже боялся — как рявкнет басом да обложит трёхэтажным, если что не так. Он, Виктор, только пришёл, ясное дело, ещё не особенно разбирался, что и как. Однажды плитку на цемент начал класть, а там это ни-ни, только на гипс. Не понял, когда ему это сказали, не владел ещё всей этой терминологией на английском. Хорошо, Старик вовремя увидел и, матерясь, начал сдирать то, что он, Виктор, наваял… Выгонят тебя к такой-то матери, орал страшным голосом. А потом сидели в перерыве на ланч, Виктор всё ещё трясся от пережитого, бутерброд в горло не лез, переживал, что работы мог лишиться, ну не хотелось посреди зимы работу терять, тем более за квартиру надо было платить немедленно. Сидел в углу, от стресса отходил. А тут опять Старик, грозно так, а ну иди сюда! Сердце у Виктора ёкнуло — ещё что-то не так! Он подошёл, внутренне уже смиряясь, что выго66 нят. Храбрясь, ну выгонят, ну и хрен с ней, со стройкой! Адская работа, пыльная, никакие респираторы не помогают, он уже кашлять начал, так и до туберкулёза недалеко… Чего ещё, спросил. И никак врубиться не мог, что это ему Старик протягивает. Ешь, говорит. Огромный шмат копчёного мяса отрубил. Тут, говорит, на твоих бутербродиках долго не протянуть, работа такая, что есть надо хорошо. Он и ел, еле-еле дожевал это соленющее мясо, давясь и шмыгая носом. Пыль там везде ядовитая… Да, все они там на стройке как одна семья были, тяжёлый труд всех равнял и сплачивал. Вроде семьи была эта стройка. По пятнадцать-шестнадцать часов с раннего утра до позднего вечера. Фул-тайм, что называется. Одни и те же морды вокруг целый день. Присмотрелись к друг другу за два года. Работа сплачивала, общение поддерживало, они как бы круговую оборону держали перед враждебным, отторгающим, не признающим их полулегального существования миром… Да, так он и сделает. Возьмет ссуду, хотя это и противоречит его принципу — никогда ничего ни у кого не одалживать. Он не из тех, кто хватает кредиты, по которым платить проценты всю жизнь. Но в данном случае он сделает исключение — возьмет ссуду, чтобы выкупить дом. Теперь он может себе это позволить, поскольку зарабатывает неплохо. Есть и сбережения, поскольку научился жить осторожно, с оглядкой на завтрашний день. Научился обходиться малым, не тратить лишнего. После нескольких лет на подсобных, грязных работах на фабрике неожиданно для себя очутился на должности механика. Почти по специальности — вся техника столярного цеха под его контролем. Он действительно грамотный инженер и, приглядевшись к нему, управляющий со временем оценил и его образование, и способности, и умелые руки. И то, что Виктор за всё время работы ни одной смены не пропустил и без отпусков не один год. Далековато, конечно, от работы живёт, много времени сжирает дорога. Утомляют эти поездки, особенно зимой. День за днём туда — сюда. Но и переселяться ближе к фабрике никакого желания, Торонто — это Торонто! Привык к этому городу. Да и к дому, в котором прожил столько лет, тоже. Пусть он не в лучшем районе, пусть не такой, о каком мечталось, но уже как свой. 67 Вечером, когда Пётр уехал к Наде, он начал копать ямы для саженцев. Утоптанная земля подавалась нелегко, но ему нравилось махать найденной в хозяйском сарае мотыгой, преодолевать сопротивление почвы лопатой. Посадку закончил, когда совсем стемнело. Свернул поливочный шланг, накинул куртку, чтобы не переохладиться, и присел на складной стул отдохнуть. На улице было так хорошо, что не хотелось заходить в дом. Запрокинув голову, долго смотрел на звёзды. Но ведь чудо всё-таки было, было! Ведь попал он со своим просроченным билетом на самолёт! Никто не остановил его, никто даже не заметил, что билет был на тринадцатое! Почему? Судьба вела, Бог помог… Значит, зачем-то нужно было, чтобы он оказался здесь, в Канаде, есть некий смысл во всём происходящем. И вдруг — через столько лет! — сверкнула молния и ударил гром. И открылась простая истина давнего чуда. И эта истина была почти абсолютной: чудес не бывает. Тринадцать и пятнадцать — эти цифры так похожи… особенно если написаны корявым почерком. Вместо тринадцатого он прилетел пятнадцатого. Впрочем, теперь это не имело никакого значения. Ëèäèÿ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ Ëîíäîí ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ Что ни слово в русском словаре, то иностранного происхождения! Это открытие потрясло меня на первом же курсе филологического факультета. Большинство слов на «А» — тюркского или глубинного латинского происхождения (арба, арбуз, антология, анемия, армия...). Практически все слова на «Ф» — исконно греческие, ибо в славянском языке вообще такой буквы не было до принятия византийской версии христианства. Такое близкое к телу «пальто», такое нужное нам всем «метро», такой привычный «вагон» — нам подарили французы, как и бранное слово «шваль», которое в переводе означает всегонавсего лошадь. А уж где эти слова взяли сами французы — в старогерманском или старолатинском, пусть они сами разбираются! Немецкая слобода в Москве и Петербурге начиная с русского средневековья внедрила в исконно славянскую словесную ткань металлические нити технических и научных терминов. И так далее, и тому подобное. Всего не счесть! Всё съели, всё переварили, ко всему приставили свои приставки, прицепили суффиксы, сочленили падежными окончаниями и... поставили на рельсы литературной и разговорной речи этот железнодорожный состав великого русского, очень трудно усвояемого иностранцами языка. Зато само слово «немец» — плоть от плоти родного языка. И означало оно в первую очередь не национальность, а личностные качества конкретных исторических персоналий. Тот, кто говорит на другом языке, а ты ни бельмеса не понимаешь, тот для тебя воистину немой, а попросту — немец! Просто, мол, дикари какие-то, мычащие словно глухонемые, понаехали в богатые российские княжества в надежде обогатиться торговлей и ремёслами, к коим эти «немцы» непонятливые ох как были пригодны! Механизмов диковинных понавезли, 69 часы стоячие с боем, считай, в каждый боярский дом внедрили. Мосты разводящиеся, астролябии да телескопы, в небо смотрящие, крепости и форты каменные, а не бревенчатые, возыметь россиян побудили. А допустим, ещё один европейский немалый народец, итальянские «немцы», они разве ехали в Московское княжество с туристическими целями, медведей пляшущих посмотреть? Ан нет, и они тоже хотели подзаработать, а то и разбогатеть в этой странной и далёкой, гибельной для многих из них стране — и в силу непривычно холодного климата, и в силу произвола великих и малых князей. Тяжело порой им приходилось на родине собольих шуб, дёгтя и крепкой конопляной пеньки. Много было там непривычного и необычного, а то и странного на взгляд пришельца. Мечтали они вернуться с нажитым капиталом в свою такую родную обедневшую Болонью или обветшавшую Падую, где случилось в ту пору явное перепроизводство выдающихся строителей и архитекторов. Оттого и приходилось талантливым Фиораванти, Фальконетам или Росси продавать свой ум, талант и опыт в чужих, более богатых краях, где тем не менее их обитатели многим наукам и искусствам научены не были, но были рады оплатить звонкой монетой чужеземные знания. К слову сказать, Аристотеля Фиораванти великий князь всея Руси Иван Третий так из Москвы и не выпустил. Спасибо, что не ослепил, не оскопил и, по историческим слухам, не предал казни на Лобном месте, чтоб неповадно было секреты строительства Московского Кремля выносить за пределы Московии. Да чтоб не появился в чужих землях такой же точно многобашенный, краснокирпичный кремль. Цари вообще любили расставлять акценты. Русские, заметим, акценты, создающие исторический прецедент (угадайте, какого происхождения это слово). Утечка умов в стародавние времена, как мы видим из этих беглых примеров, приоритетно исходила из европейских стран в восточном направлении — до самого Тихого океана. Потому что если перечислить имена учёных-географов, натуралистов и морских первопроходцев, то многие из них сами за себя скажут: Беринг, Крузенштерн, Лаперузо... История что пирожок с начинкой: если с одной стороны прожаришь, с другой сыроват выйдет, если вовремя не перевернуть. Вот и «перевернулся мир» на наших с вами глазах. И умные головы покатились, спасибо, что не с плеч (в России это 70 случалось не так уж редко), а просто в обратном направлении. Повезли теперь в сторону Запада некоторые люди свой могучий «научный потенциал». В результате ли этого процесса или по причине роста туристических потоков теперь в Европе, куда ни пойди, всюду встретишь человека с родным славянско-молдаванско-латышским акцентом. И выловить его нетрудно, сколь долго бы ни жил «выходец из СССР» в Европе. Над этим грешно смеяться. Вспомните, как маленький Лёвушка Толстой («Детство. Отрочество. Юность») потешался над своим немецким гувернёром. И всё вам станет ясно. Хоть и прожил старый Карл Иванович в России почти всю жизнь, с ранней юности, а от смешного немецкого акцента так и не избавился. У многих из нас теперь появился выбор: или родная языковая среда и маленькая (а то и никакая) зарплата, или бесчестье неустранимого акцента, но хорошая работа и приличные деньги. Невольно закрадывается мысль, неужто же Штирлиц (Исаев) или Абель говорили безупречно на немецком и английском языках? Вспоминается, что Абель дальновидно выдавал себя за голландца, поэтому в детали его английского произношения никто не вникал много лет, почти до самого провала его разведывательной работы. Пример, возможно, не совсем удачный, зато наглядный... В Лондоне давно уже опасно выяснять отношения на улице на своём родном языке. Обязательно услышат, могут и отреагировать. Начинили мы собой Европу по самое горлышко! И не только драгоценными и столь здесь нужными утекающими из России и сопредельных с ней стран «умами». «Руками» тоже поделились. Неиссякаемые людские ресурсы, как известно, — тайный капитал, который вполне открыто течёт через границу из России (Украины, Молдовы и др.) и далее везде. Совсем недавно в Корнуэлле, а это крайний юго-запад Англии, в глухой деревушке, знаменитой только тем, что в тамошнем постоялом дворе Jamaica Inn когда-то было пристанище контрабандистов и пиратов, заговорила с нами Оксана из Калининграда. Три месяца, по её признанию, она не слышала родной речи! Зато попала она в этот придорожный, вполне пристойный ресторанчик (заметим, что всё-таки не в стриптиз-бар!) легально, по набору сезонных вакансий. И оказалась одна — среди «немцев», говорящих с ней жестами и междометиями, потому что языка она, по её признанию, пока не знает в той мере, которая нужна для более квалифицированной работы. 71 Так что пока она протирает столики, помогает на кухне чистить овощи и не догадывается, что «немец» в данной ситуации — это она. Чужестранец в чужеземье... Обживая этот новый для нас «заграничный» мир, мы делаем много открытий, совершаем много ошибок, стараемся вписаться в поворот на чужой дороге, по которой чаще всего едем на большой скорости и по своим, никому доселе неведомым правилам. Совсем на днях перед нашим лондонским домом со страшным гвалтом и криком дрались две сойки и две сороки, но не друг с другом. Они со страшной яростью набрасывались на большую чёрную ворону, которая держала в клюве птенчика, не то сорочьего, не то сойкиного. Оказалось, что сойки и сороки — добрые соседи. Они не стали разбираться, птенца какой национальности выкрала для пропитания воровка-ворона! Вот и наши английские соседи при первом сигнале неблагополучия стучат к нам в двери, предлагая помощь. Вопреки досужему мнению о холодной расчётливости британского характера. И наш русский акцент, заметим, их нисколько не настораживает! ÒÐÓÄ ÊÀÊ ÒßƨËÛÉ ÍÀÐÊÎÒÈÊ Не знаю, как вы сами или ваши знакомые, а мои друзья в Москве ужасно любят строиться и ремонтироваться! Как ни приедешь к подруге на дачу, а она, глядь-поглядь, то хозблок расширяет, то пол с подогревом пытается соорудить, а то и ещё один этаж пристраивает. Расширяет, ремонтирует, сносит, переносит... Конечно, делает всё не она сама, а молодая молдавская семья, уже многие годы исправно выполняющая все её самые фантастические строительные и архитектурные проекты. Но и ей достаётся, ибо для полного воплощения её замысла ещё и материалы некоторые по-прежнему надо не просто купить, но, как и раньше, «достать». Она как бы вечный прораб на стройке некоего миражного «воздушного замка». И когда, собственно говоря, собирается расслабиться и пожить на природе в своё удовольствие, мне не совсем ясно. И не она одна такая. По моим многолетним наблюдениям, почти все, кто хоть как-то сумел встроиться в «неразвитый капитализм» российского разлива, тратят заработанные, часто 72 нелёгким трудом, деньги на строительство, ремонт, обустройство и переустройство отвоёванных у жизни территорий. Ажиотаж, бум, азарт и... почти наркотическая зависимость от желания вкалывать и на работе, и на даче, и на курорте, где наш человек тоже не даст себе покоя. А обязательно придумает головоломную или костоломную экскурсию по нехоженым тропам и местам. Так что труд — это своего рода наркотическое средство, вызывающее порой стойкую зависимость. Но украинский инженер, подрядившийся сделать (соорудить, создать, сотворить, смастерить) калитку, ведущую из нашего лондонского сада в лес, этот наркотик явно никогда не употреблял. И, может быть, даже не имел представления о его существовании. Потому что калитка наша, даже на беглый взгляд сработанная бродячим горе-подмастерьем кое-как, топорно (хотя вместо топора он, конечно же, употреблял качественные британские электроинструменты), через пару недель просто развалилась, распалась на куски! При этом я, открывавшая её в надежде прогуляться в лесу после напряжённой многочасовой работы у компьютера, едва не стала жертвой строительных амбиций неумелого притязателя на мой полновесный английский фунт стерлингов (и не один! — счёт шёл на сотни): тяжёлая калитка падала прямо на меня, медленно, как во сне. Я едва уклонилась. Наш хитрец, уверявший, что ему подвластны все рабочие стихии — от электро- до сантехники и плотницких работ, настоял на (немалой) почасовой оплате. И провозился с калиткой несколько дней, к нашему вящему удивлению, ни шатко ни валко, явно даже не пытаясь ускорить рабочий процесс. А зачем торопиться или стараться, если деньги капают не за конкретную работу, а за время, проведённое на свежем воздухе в цветущем саду! Это вам не в горячем цеху стоять, не сталь разливать у мартена! Хотя именно сталевар высокой квалификации поразил меня однажды почти наркотической зависимостью от своего труда. По моим понятиям, весьма трудоёмкого или, как говорят в народе, потогонного. Было это много лет назад в Доме творчества писателей, куда принято было подселять то шахтёров, то доярок, то металлургов — для смычки народа с интеллигенцией, как говорится. Скучали они там смертельно: ни танцев по вечерам, ни массовика73 затейника. Да ещё по прилегающей территории таблички развешаны: «Тише! Писатели работают!». Какому радетелю подобной «смычки» пришла эта бредовая идея в голову, неизвестно. Но мучались все основательно. И работающие «на каторге чувств» писатели — от шума, производимого пьюще-поющими народными массами. И желающие отдохнуть от бурлацкой рабочей лямки отпускники-работяги, страдающие от ничегонеделания и высоколобого писательского снобизма. И вот однажды на прогулке я разговорилась со сталеваром, который поразил моё воображение своей неподдельной тоской по сталеплавильному цеху! Он сказал мне, что ему снится его работа, что его тянет к ней, что он по ней скучает. По семье даже не так соскучился, как по горячей плавке! Я растерянно указала на то, как там, наверное, жарко, шумно и опасно, особенно когда идёт сталь. Все мы это видели по телевизору, дескать, нас не обманешь. «Но зато — как это красиво, когда идёт огненная лавина, — возразил мне он. — Это ни на что не похоже. Разве только на извержение вулкана. И вот ты — этим вулканом управляешь. Ты его хозяин. Он у тебя в руках. Послушный, как дрессированный зверь!» Вот, наверное, для такого незабываемого контакта, для встречи с такими талантливыми людьми «из народа», романтиками и фанатиками тяжёлого физического труда, и были задуманы эти заезды отпускников-рабочих в элитные Дома творчества. Может, и был в этом какой-то резон, если я спустя десятилетия помню эти случайные, но назидательные уроки трудолюбия. Такая тяга и зависимость от тяжёлого труда мне были тогда в новинку. Ещё не было в ходу слово «трудоголик». Но соскучившийся по своему любимому труду сталевар был именно из этой категории. Теперь этот термин — в широком употреблении даже когда говорят о высоких технологиях. Алкоголик, наркоман и трудоголик — недалеко ушли друг от друга в степени своей зависимости от получаемого удовольствия от любимого «продукта», включая тяжёлые последствия «передозировки» для здоровья. Об этом много пишут и говорят социологи, аналитики, врачи и даже политики. Но вернёмся, как говорится, к нашим баранам (калиткам, гаражам, домам, квартирам). Объём хозяйственных недоделок 74 в нашем лондонском доме за последние годы возрос прямо пропорционально нашей занятости в основных профессиях. Домашней мелочёвки накопилось предостаточно, и мы не устояли перед амбициозным самовосхвалением весьма симпатичного (внешне) представителя многомиллионной армии украинского инженерного корпуса, вынужденного зарабатывать вдали от днепровских просторов, как оказалось, непривычным и не свойственным «белым воротничкам» делом. Почасовая оплата — прихоть именно таких вот наводнивших европейские и московские дали бродячих неумельцев. Надолго мне запомнился некий Эдик, тоже родом с Украины (не странное ли совпадение, однако!), который красил обыкновенную дверь много полновесных часов. Скажу только, что я сама такую же дверь покрасила как-то за час-другой, с перерывом на чаепитие! Перекуры, разговоры по мобильнику и даже простое задумчивое сидение на корточках с рассматриванием носков своих сандалий оказались прекрасной денежной копилкой для якобы обездоленного изгнаннической судьбой и беженским пособием бездельника. В эту копилку навсегда проваливаются, бесследно исчезая, немалые «звонкие монеты» доверчивых нанимателей и в России, и в Европе. Спрашивается, зачем нанимали? Ведь сказано было величайшим из русских классиков: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Но «от третьего щелчка прыгнул поп до потолка...». И так далее. Но секрет в том, что в самом Лондоне (за Москву не ручаюсь) местный, если можно так выразиться, англо-британский труд обходится часто много дешевле, чем экзотический украинско-молдавский. Наш сосед, безработный английский актёр, в паузах между съёмками мыльных опер подрядившийся однажды побелить и покрасить нам гараж за столь малую плату, что многие знакомые до сих пор с трудом верят или просто диву даются, съехал с нашей улицы, найдя более дешёвое жилье. А сосед-краснодеревщик Майкл (золотые руки!) стал впадать, представьте себе, в длительные запои. Майкл, кстати, когда проспится, делает всё за конкретную, заранее оговорённую и очень умеренную плату. Кстати, именно Майкл прибежал по моему отчаянному зову, и сколотил рухнувшую на меня калитку, и навесил её, и заколотил, по моей просьбе, наглухо, от греха по75 дальше. И при этом денег не взял, демонстрируя добрососедскую выручку. Для британца помочь соседу — дело обычное. Правда, он громко ругал бракодела за изначально неправильно выбранный для калитки материал и за короткие для такого древесного массива гвозди. Особенно же за то, что многие гвозди были вбиты криво, а то и вовсе по касательной. Короче, калитка была обречена развалиться на составные части с самого начала! Вот вам и инженерное мышление, которым так похвалялся горе-мастер, представившийся нам инженером-строителем, страдающим оттого, что работает не по специальности. Как это не по специальности? Что же тогда такое эта его «основная специальность», если он не может рассчитать вес дерева и опорных столбов, не говоря уже о размере гвоздей! Одними амбициями и гонором, которыми он поливал нас с головы до ног все дни, мы сыты по горло. Хотелось бы его больше никогда не видеть, да вот теперь придётся. По всем законам бытия доварить недоваренное или латать продырявленное должен сам «умелец». Так что калитка, обошедшаяся нам в сумму, за которую мы могли бы купить новую стиральную машину, образно говоря — со встроенным мини-роботом, собирающим по дому бельё для стирки, являет собой жалкое зрелище. Она заколочена крестнакрест, как в заброшенном, нежилом доме. Труд — это тяжёлый наркотик. Не всякий к нему пристрастится. Многие обходятся зельем по типу марихуаны, включающим в себя полный кайф от безделья, лени и неумения делать что бы то ни было. Àðòýì ÃÐÈÃÎÐÅÍÖ Òáèëèñè ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ ×ÅÐÅÇ ÊÀÁÀÐÄÓ В своё время дизайнеру одежды Петику Зураеву, тому же Петрику, хотя ему больше всего нравится, когда его называют Патриком, — пришлось здорово побегать вместе с Гогой Бенидзе, чтоб открыть то единственное в Тбилиси специализированное кооперативное ателье пошива мужских сорочек. Ушла уйма сил, энергии на оформление документов, убеждения и выклянчивания в Министерстве лёгкой промышленности нескольких вполне пригодных швейных машин, лежавших без дела на складе какой-то фабрики. Чего стоила одна только нервотрёпка с подбором швей из выпускниц профтехучилища! А поиски подходящих тканей, ниток, пуговиц — непременно перламутровых с четырьмя дырочками — и другой фурнитуры. И всё это в условиях тогдашнего всеобщего дефицита… А в 1991 году, после беловежского сговора, как оказалось, псевдокоммунистов, когда пала руководимая ими Советская страна, а с нею с такими трудностями народившаяся сеть кооперативов, Патрику с Гогой не осталось ничего иного, как свернуть дело и искать новое поприще. Всеобщее безденежье, регулярные отключения электричества, газа, транспортный коллапс вынудили Патрика податься в Москву. Вместе с некими тбилисскими корешами он там занялся бизнесом в хорошо знакомой ему сфере готовой одежды. Давнишний стиляга-штатник, всегда изысканно одетый чистюля и аккуратист, Патрик здорово разбирался в тонкостях заморских шмоток, одним из первых в городе стал носить тёмно-синий клубный костюм с золочёными пуговицами и серыми брюками — «траузерами на зиппере», фирменные сорочки «батен», туфли «инспектор», галстуки — исключительно «тревира». В одно время он наладил творческие связи с корифеями кутюра Зайцевым и Юдашкиным и сумел бы запросто стать таким же популярным, если бы не пристрастие к спиртному. 77 В Москве во время очередного запоя компаньоны отправили его обратно в Тбилиси на попечение одинокой, рано овдовевшей старшей сестры, очень талантливой художницы Любы. Узнав, что ей каким-то образом удалось привести брата в норму, товарищи тотчас позвонили с предложением войти в директорский состав их нового швейного ателье. Патрик тотчас собрался в дорогу. Лететь на самолёте исключалось — денег было в обрез. До Владикавказа добрался на маршрутке, а там пересел на почти пустой поезд. Проводница, бойкая, круглолицая крашеная блондинка, узнав, что он, как и она, осетин, прониклась к нему особой симпатией и предложила доверить ей имевшуюся у него валюту, так как, сказала она, на территории Кабарды возможны осложнения. Недолго думая Патрик вручил ей свои тридцать долларов. Перед самым отправлением поезда в купе поднялся единственный попутчик, почти ровесник Патрика, тбилисский армянин Рудик. Он ехал в Ростов, на похороны младшего брата… Чуть забегая вперёд, скажу, что в Москве у Патрика снова начался запой, и он был тут же отправлен обратно, и чуть не на следующий день он пришёл ко мне домой весь взъерошенный: — У тебя всегда есть выпить! Если сейчас не нальёшь, серьёзно говорю, завтра придешь на мою панихиду! Мне ничего не оставалось, кроме как исполнить просьбу. Я достал из бара коньячный напиток собственного изготовления. В ту минуту ничем другим помочь ему было невозможно. Опрокинув полную рюмку, он будто протрезвел: — Я расскажу мою историю… Ты обязательно напиши!.. Случай сразу врезался в память, но что-то всё-таки не укладывалось в сознании. И лишь спустя почти двадцать лет, когда я с помощью Интернета узнал о тогдашних экономических реалиях Кабарды, смог уже уверенно взяться исполнить обещанное. …Итак, Патрик быстро сблизился со своим попутчиком и через полчаса уже знал о нём немало подробностей. Рудик был ювелиром, но не работал. «Где сейчас у людей деньги для заказа золотых изделий, хлеб не на что им купить!» — пояснил он. Живёт в Варкетильском массиве. Был женат на одесситке, после 1991 года та стала настаивать на отъезде. Рудик отказался. Тогда она уехала одна и оформила развод. Рудик не сопротивлялся. Совпадение. У Патрика почти такая же история. И его жена несколько лет тому назад тоже, забрав ребёнка, укатила 78 куда-то в Европу, и сегодня от них ни слуху ни духу… Умерший в Ростове Рудикин брат был связан с какими-то деловиками. Но пошли слухи, что те обанкротились на каких-то поставках спирта и подсолнечного масла. Брат не верил, требовал показать хоть одного партнёра по их неудачной сделке. Но безрезультатно. Тогда он привлёк для разборки «авторитетов в законе». Те постановили возместить брату убытки. Казалось бы, что всё уладилось. Но увы! Кто-то сообщил Рудику, что брат упал с балкона и разбился. Других подробностей он не знал и всё повторял: «Я сто про уверен — убили! Брат не был лунатиком, чтоб по балконам, по карнизам лазить!» Патрик посоветовал Рудику сдать проводнице имевшиеся у него деньги, но тот, видимо, не доверился. Однако признался, что везёт с собой собранные в долг 250 долларов. Он запихнул их в спичечный коробок и сунул в носок. Вскоре в купе заявились два милиционера. Один из них, смуглый верзила, на вид тяжеловес борец, с торжественной суровостью и с заметным акцентом заученно произнес: — Вы на территории Кабардинской республики! По особому распоряжению местной администрации обязаны предъявить декларацию на провоз валюты! При попытке утайки всё будет конфисковано! Советуем честно сообщить о наличии! Свирепо оглядев пассажиров, он всем своим видом выявил решимость раздеть их догола и начать обыск. Другой милиционер, щуплый, славянской наружности, только молчал и отводил взгляд. Патрик сказал, что у них нет денег даже на сигареты, и, набравшись нахальства, попросил закурить у молчуна. Чернявый ответил за двоих, что они не курят, и подступил к Рудику. Тот чуть поёжился, но взял себя в руки и уверенно ответил: — Послушай, брат. У меня погиб младший брат. Я еду хоронить его. Всё что у меня есть, — предназначено для этого! — Это не имеет значения. Всё равно нужна декларация! — Что, не веришь?! — воскликнул Рудик, — И вообще, сколько мы имеем право провозить через вашу территорию? У милиционера заходили желваки на скулах: — А-а-а! Хочешь по закону! — сильнее завертел глазами милиционер — На одно физическое лицо свыше тысячи не декларируется!.. Устраивает? — Ну и всё! — обрадовался Рудик. — У меня всего 250! — Покажи! — милиционер сдвинул зрачки. — Говорю, всего 250! Я ведь мог сказать, что у меня вообще ничего нет! 79 — Мог, не мог, не знаю!.. Сказано, покажи! И вы тоже! — повернулся он к Патрику. Патрик развёл руками: — Я доллары вообще в своей жизни не видел! Что показать, это? — Он достал из кармана горсть мелочи. — Ты нам тут зубы не заговаривай! Выкладывайте всю валюту на стол! Всё, что есть! А не то ссадим с вагона и отведём в отделение! — Слушай, брат, — мягко обратился Рудик к милиционеру, — ты же кавказский человек, неужели не понимаешь? Еду на похороны родного брата в Ростов! Эти деньги добрые люди мне дали взаймы понемногу. Дай мне доехать до места, исполнить свой братский долг. И когда всё закончим, на поминках выпьем и за тебя, и за всех твоих близких. — Это твоё дело, — чуть мягче ответил милиционер. — Но всё-таки покажи. Сколько у тебя там? — Что за такой человек! — рассердился Рудик, вытащив из носка коробок. — Вот, не веришь?! Верзила почти вырвал его из Рудикиных рук. Пересчитав сумму из пяти-, десяти- и других долларовых купюр, принял особенно суровый вид: — По распоряжению местной администрации это изымается в пользу нашей республики! — Милиционер протянул коробок, в котором осталось-таки 50 долларов. Остальное перекочевало в его папку, похожую на обширный планшет для рисования. На миг Рудик потерял дар речи, перехватило дыхание: — Ты что-о-о! — Рудик схватил милиционера за руку. Ты же сказал: «свыше тысячи»! — Спокойно! — рявкнул тот и отдёрнул руку к торчащему из кобуры пистолету. — У нас нету времени сейчас давать разъяснения! Если хочиш, слезиш щас же на остановке и в отделение! Там тебэ втолкуют! — Слушай брат, я же сказал, на похороны еду,— взмолился Рудик. — Будь человеком! В Бога не веришь?! Брата еду хоронить! — Не наше дело, куда ты эдиш! — с ещё большим акцентом отрезал милиционер, как-то подчеркнуто пренебрегая мягким знаком. — Покажи заверенную телеграмму о смерти! Рудик беспомощно развёл руками: — Мне по телефону звонили! Какая ещё телеграмма?! — Какая надо!.. В другой раз уже будеш знать. Как ехат без телеграммы! — Верзила сдвинул назад фуражку, выпятил грудь 80 и, толкнув вперёд так и не проронившего слово напарника, важно вышел в коридор. — «В другой раз» чтоб ты ехал на похороны своего брата! — крикнул Рудик вдогонку и, зажав ладонями виски, склонил голову над купейным столиком. В ответ глухо послышалось: — Но-но!.. Полехче на поворотах, а не то вообще не доэдиш до места! Минут пять Рудик просидел не шелохнувшись. Патрик тоже был в трансе. — Ну что, мальчики, я же вас предупреждала!.. — просунулась в дверь расчувствовавшаяся проводница. — Но, скажу вам, скажите спасибо, что этот гадюка что-то оставил! А то ведь последнюю копейку, бывает, отбирает, ни на что не смотрит!.. Я сейчас вам крепкого чаю заварю, очухаетесь хоть немного, а то на вас лица нет! Женщина принесла два стакана ароматного чая в традиционных для железнодорожного сервиса подстаканниках. Вместо сахара — по одной конфетке «Ласточка», скорее всего, из собственных запасов. Рудик разжевал конфетку с таким остервенением, как если бы ему под зубы попал только что ограбивший его милиционер. Почти залпом опорожнив стакан чая, сомкнул веки. Затем вскочил с места: — Нет, не могу в себя прийти! Мне бы чего-нибудь покрепче!.. Чувствую себя так, как если бы одним махом отрубили обе руки! Пойдём в вагон-ресторан, угощаю! — Я завязал! Не пью… Хочешь, скажу, чтоб ещё заварила чай, покрепче? — Нет, не поможет!.. Прошу, пойдём, ты не пей, только компанию составь! К тому же что-нибудь покушаем. Я сейчас так проголодался, готов целого барана слопать. Патрику пришлось согласиться. В вагоне-ресторане было безлюдно. Один только худощавый, юркий буфетчик, лысый, чисто побритый, с чёрными узенькими усиками, похожий на суслика. Он что-то сосредоточенно записывал в блокнот. Патрик обратил внимание на несколько мух, роившихся в самом центре вагона. «Интересно, залётные они или местные обитатели?» — подумал он. Когда-то он поступил на биологическое отделение университета, но с треском завалил какой-то предмет, где нужно было вызубрить несколько сот каких-то латинских названий, был отчислен и два года отпахал в армии. 81 Буфетчик охотно принял у Рудика купюру с изображением Александра Гамильтона — первого министра финансов Америки. Чуть прищурившись, он внимательно изучал, будто искал различия с тем обликом, который когда-то запечатлелся при их личных встречах. Ещё проверил на свет водяные знаки, попробовал ногтем шероховатость участка под овалом портрета. И только после такой подробной экспертизы обменял на рубли, ниже самого низкого тогдашнего курса. Создалось ощущение, что он впервые в жизни положил в карман десятидолларовую. Заказали единственное, что в ресторане оказалось, — довольно вкусные котлеты с картофельным пюре и лимонад. Роль официантки тоже исполнял буфетчик. Запечатанную водку дать отказался. Сказал, что это запрещено. И не поленился три раза, по требованию Рудика, подойти и налить ему по сто грамм «Столичной». Как только возвратились, оба легли спать. Рудик отрубился сразу. Патрик ещё долго не мог уснуть. Рудик во сне что-то бормотал, выкрикивал «Мама-джан!» Скоро сквозь размеренный стук колёс Патрик услышал: — Мальчик!.. Скоро Ростов, готовься! А потом Патрика полностью разбудил сильнейший стук. Проводница дёрнула и раздвинула дверь, насколько позволил ограничитель: — Мальчик, мы уже в Ростове! Через пять минут отправляемся дальше! Вставай! Подъём!.. Подъём!.. Рудик и не думал шелохнуться. И тут Патрик с ужасом обнаружил, что тот не дышит. Моментально открыл проводнице дверь, и оба убедились, что Рудик мёртв. Его закрытые глаза свидетельствовали, что смерть наступила во сне. Тем не менее для более подробных свидетельских показаний ростовская милиция сочла нужным высадить Патрика, заверив, что на следующий день его отправят другим поездом. Несколько часов в привокзальном отделении милиции вовсе вывели Патрика из равновесия. Измотали ожидание результата вскрытия и заключения экспертизы, дача показаний. Тем более, что ещё пришлось вынести общество пожилого бомжа, смердевшего каким-то вонючим спиртовым перегаром, молодого наркомана, занудно убеждавшего куда-то «догнаться и заторчать на крыше». Особенное омерзение охватило от резко пахнувшего духами некоего женоподобного субъекта в шубе «под ондатру», когда тот нежно взял Патрика чуть повыше локтя и, шёпотом посоветовав не связываться с наркоманом, попросил поцеловать у него «одно место». В ответ Патрик отдёр82 нул руку и послал на три буквы. На что тот смачно ответил: «С удовольствием!» и пересел к солдату, сбежавшему из воинской части, за которым должны были приехать представители военной прокуратуры… Как только был подписан свидетельский протокол, и Патрик оказался в поезде, он машинально, сам не зная как, отправился в вагон-ресторан и выпил первое, что ему дали из спиртного. Встретившие его в Москве приятели с ужасом обнаружили, что у него снова начался дикий запой. На другой день ему купили обратный билет и сунули в карман немного денег. К счастью, на перроне познакомились с отправлявшимся домой каким-то пожилым добрым тбилисцем, который обещал присмотреть в дороге за Патриком… — Ну ладно, случилось несчастье!.. Но неужели ты не понимал, что Рудика уже не воротить? — не удержался я от вопроса к Патрику. — Подвёл и тех парней, и сестру, положившую столько труда на твоё излечение!.. И себе подножку подставил!.. — Может, и понимал, но ничего не мог с собой поделать!.. Понимаешь, когда изнутри терзает какой-то вопрос и нет ответа — теряю равновесие… Вот, смотри... Мы с тобой и всё наше поколение, послевоенное — прожили в мирной обстановке. Пионерами были, комсомольцами и только слышали о мире, добре, дружбе. Никакого запаха крови не чуяли. Бомбёжек, блокады и людоедства от голода, слава Богу, не испытали. И как это вдруг, вот так сразу, многие наши ровесники и те, что младше нас, пошли отнимать у людей добро, стрелять, убивать своих же, гражданскую войну затеяли?!. И как у них рука поднялась? Как так, убить кого-то, войти в квартиру, снять люстру, утащить телевизор, холодильник?!. Отвезти к себе… Поселиться в чужом доме, который не строил? А может, там хозяева страшное проклятие оставили, не страшно?!. Вообще, поражаюсь: как такие хищные люди обнаружились повсюду? — Это мы с тобой армию в стройбате откатали, а ведь были, кого стрелять да убивать там учили… Может, в них и обнаружились? Выходит, обстоятельства стоят превыше человека!.. — Я в танковой бригаде как раз и служил, и стрелял, и в манёврах участвовал. Но эти твои «обстоятельства» на мне не отразились! — На тебе нет, а на ком-то другом, наверно, отразились…— ответил я, не совсем уверенный в своей версии. Мне стало очень не по себе. Я налил нам обоим. Залпом выпив, я почувствовал себя совсем уж муторно. Он принялся нажимать на кнопки 83 пульта телевизора. На миг остановился на канале, где какой-то эксперт по кавказским вопросам разглагольствовал об экономической и политической ситуации. Что-то хмыкнув себе под нос, переключил на мультик и налил себе ещё рюмку. Я взял у него из рук графин: — Больше не надо! — Бог троицу любит! — выпил он, так и не притронувшись к конфетам. Недолго подремал в кресле, ушёл со словами: — Когда-нибудь я прочту твой рассказ на мой сюжет? — Думаю, что да… С тех пор мы ни разу не возвращались к этой теме. Патрика я вижу всё реже и реже. Из дому он выходит редко. Встречаю его сестру, она говорит, что время от времени он выпивает, но уже немного. Недавно моя жена видела его на улице. Он сильно сдал, постарел и очень похудел. — Просил передать тебе привет! — сказала мне жена. — Но ты бы, однако , видел, какие на нём были симпатичные сорочка и берет, да ещё брюки этакие элегантные! И где сумел подобрать такой общий тон?.. — Этого у него не отнимешь никогда, в таком вопросе он большой профессионал! — порадовался я за Патрика, и вместе со мной моя жена. Îëüãà ÄÀÍÈËÅÂÑÊÀß Äå Ìîéí, øòàò Àéîâà, ÑØÀ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ ÃÅÍÅÒÈÊÀ Å.Â. ÀÍÀÍÜÅÂÀ Решение стать биологом пришло к нему в тот момент, когда он впервые услышал биение собственного сердца и осознал, что человек смертен. Ему было всего десять лет, и в его детском сознании неожиданно возникла мысль, что, став биологом, он сможет победить смерть. Этот наивный детский порыв не угас с годами, а перерос в серьёзный интерес к биологии — науке, которой он впоследствии посвятил всю свою жизнь. Эта статья посвящается памяти Евгения Витальевича Ананьева — замечательного учёного, доктора биологических наук, лауреата Государственной премии СССР, сделавшего ряд фундаментальных открытий в области структуры генома и хромосом. Первое из них — это получение экпериментальных доказательств о наличии мобильных генетических элементов у дрозофилы в 1976 году. Второе — создание исскуственной хромосомы растений в 2006 году. Между этими событиями — тридцать лет, в течение которых творческий подъём сменялся периодами поиска новых научных тематик, а то и просто поисками работы. Но как бы ни складывались обстоятельства, Евгений Витальевич поражал окружающих неиссякаемой энергией, глубокой увлечённостью и кристальной научной честностью. Именно эти качества позволили ему сделать фундаментальные открытия на основе, казалось бы, простых наблюдений, которые нельзя было объяснить при помощи существующих теорий. Истинный учёный, Евгений Витальевич пытался понять суть явления, и если результаты не соответствовали теории, то он менял теорию, а не факты. Жизнь Ананьева оборвалась в самом зените его научной деятельности, в шестьдесят лет. B этом возрасте у многих учёных лучшие годы уже позади. Для Евгения же это был период рас85 цвета творческой активности. Он руководил замечательным научным коллективом, получившим в феврале 2006 года первую искусственную хромосому растений. В августе 2006 года у него была обнаружена глиобластома — опухоль мозга, которая принадлежит к одному из самых агрессивных видов рака. В своём дневнике он так описал свои ощущения: «Конец жизни близок. Раковая опухоль мозга должна разделаться со мной в течение года. После короткого периода отчаяния пришло чувство свободы, умиротворённости и даже какой-то беспечности. Каким-то образом я смотрю на всё происходящее со мной как на ещё одно приключение и жизненный опыт, который, может быть, никому и не нужен, но позволяет делать открытия, которые доставляют мне удовольствие». Евгений Витальевич мужественно боролся с недугом до последнего своего часа — он перенёс две операции на мозге, облучение и химиотерапию. Всё это время он напряжённо работал над своими воспоминаниями, создавал фото- и киноархивы. Болезнь оказалась сильнее передовых методов современной медицины, и он успел осуществить только малую толику своих обширных замыслов. Эта статья написана мной, Ольгой Николаевной Данилевской, женой и соратницей Евгения Витальевича. Сорок лет мы были семейным и научным тандемом. На моих глазах он развивался как человек, учёный и личность. Когда Евгений Витальевич больше не смог писать, он стал диктовать свои воспоминания мне. Естественно, мы много говорили о нашем прошлом, но о чём бы ни заходила речь, на первом месте была наука, дело и страсть всей его жизни. Поэтому я сочла возможным представить читателям жизненный путь этого целеустремлённого сильного человека, суть которого была неотделима от желания принести пользу людям. ÍÀ×ÀËÎ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ Евгений Витальевич родился в Москве 13 января 1947 года в простой рабочей семье. Его родители: отец — Виталий Дмитриевич Ананьев и мать — Мария Андреевна Фролова — принадлежали к тому поколению, чья юность пришлась на годы войны. Не закончив средней школы, они пошли работать на оборонные заводы Москвы. Ввиду молодости родителей воспитание мальчика почти сразу же взяла на себя его бабушка Мавра Петровна, женщина полуграмотная, но с сильным ха86 рактером и твёрдыми жизнеными принципами. Свой сильный характер и принципиальность Евгений явно унаследовал от неё. Она любила повторять, что доведёт внука до четвёртого класса, а дальше он должен учиться сам. И действительно, Женя учился сам, и учился хорошо. После девятого класса, перейдя в школу рабочей молодёжи, работал слесарем, чтобы помогать матери, поскольку к тому времени Виталий Дмитриевич и Мария Андреевна развелись. Мечта стать биологом зародилась у Жени рано, и он поведал свои мысли и планы отцу, понимавшему, какими незаурядными способностями наделён его сын. С просьбой помочь Жене найти работу, связанную с биологией, Виталий Дмитриевич обратился к своему лечащему врачу, сестра которого Ирина Вешнева, на счастье, работала в Институте радиационной и физико-химической биологии. Так в 1964 году семнадцатилетний Женя Ананьев начал свою научную карьеру с должности препаратора в лаборатории Александры Александровны Прокофьевой-Бельговской, выдающегося цитогенетика и блистательной личности1. Первыми учителями юного биолога стали Ольга Николаевна Капитонова и Виктор Миронович Гиндилис. Как написал в своих воспоминаниях В.М. Гиндилис, «yже через пару месяцев стало ясно, что Вешнева случайно нашла алмаз». Ольга Николаевна научила подопечного работать с микроскопом и делать препараты хромосом, а Виктор Миронович стал не только наставником и воспитателем, но и большим другом Евгения на всю жизнь. Гиндилис работал над проблемой, как научиться различать все двадцать три пары хромосом человека. Для этой цели Евгений готовил цитологические препараты хромосом человека, фотографировал их на микроскопе на стеклянные фотопластинки, печатал снимки на фотобумаге и измерял длину хромосом линейкой. Занимаясь этой работой, Евгений Витальевич постиг и полюбил тонкое искусство микроскопии и позже написал в своём дневнике: «...запах кедрового масла навсегда остался любимым». Он всегда высоко ценил цитологические препараты и считал, что только качественный препарат может дать надёжную научную информацию. Здесь же у него зародился глубокий научный интерес к структуре хромосомы, который не покидал его на протяжении всей жизни. Образования, соответствующего своим способностям и замыслам, в школе рабочей молодёжи Женя получить не смог. Однако, проявив незаурядную настойчивость, он с третьей по87 пытки в 1965 году поступает на вечернее отделение биологического факультета Московского государственного университета. На третьем курсе Женя переходит на дневное отделение биофака, на кафедру генетики. Я в то время была студенткой на этой же кафедре, где мы познакомились. В 1970 году аспирант Ананьев приходит в лабораторию Владимира Алексеевича Гвоздева в биологический отдел Института атомной энергии, где на должности старшего лаборанта работает сразу над тремя проектами: эффект положения и дозовая компенсация (по предложению Владимира Алексеевича) и репликационная организация хромосом дрозофилы в культуре клеток (по собственной инициативе). В 1975 году он с блеском защищает диссертацию. Как позже шутил сам Евгений Витальевич, он сделал три кандидатские диссертации за один аспирантский срок. ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒΠНачало семидесятых годов занимает особое место в истории молекулярной биологии. В эти годы был разработан метод клонирования ДНК. Принцип метода заключается в том, что с помощью «молекулярных ножниц» (рестрикционных ферментов) молекулу ДНК можно разрезать на кусочки и затем сшить с молекулой ДНК-переносчика (вектора), что даёт возможность размножать эти фрагменты ДНК в неограниченном количестве в бактериальных клетках кишечной палочки. Метод был революционным и позволял непосредственно изучать структуру индивидульных генов практически любого организма. В дальнейшем на его основе развились новые отрасли молекулярной биологии: генная инженерия, биотехнология и геномика. Одним из энтузиастов этого метода в Советском Союзе стал профессор, член-корреспондент Академии наук СССР Георгий Павлович Георгиев, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии (бывшем Институте радиационной и физико-химической биологии). Георгиев был одним из немногих «выездных» советских учёных и мог регулярно участвовать в симпозиумах по молекулярной биологии в лаборатории Колд Спринг Харбор (США) — мекке молекулярных биологов. Георгий Павлович одним из первых в Советском Союзе узнал о методе клонирования ДНК, оценил мощь новой технологии и раз88 вернул активную деятельность по клонированию генов дрозофилы (и затем мыши) в свой лаборатории. Дрозофила (латинское название Drosophila melanogaster), или фруктовая мушка, была особенно привлекательным объектом по двум причинам: гигантские так называемые политенные хромосомы, получаемые из слюнных желез мушки, давали возможность увидеть расположение генов на хромосоме под микроскопом, а уникальная культура клеток, ранее полученная в лаборатории Владимира Алексеевича Гвоздева, была идеальным источником для выделения ДНК. Союз двух лабораторий под руководством Г.П. Георгиева и В.А. Гвоздева оказался исключительно плодотворным. В те годы Г.П. Георгиев был увлечён идеей повторяющихся элементов ДНК, которые могли бы отвечать за регуляцию множественных генов (так называемых регуляторных зон). Метод молекулярного клонирования идеально подходил для поиска таких зон. В начале 1976 года в лаборатории Георгиева аспирант Н.А. Чуриков, чьим научным руководителем был Ю.В. Ильин, клонировал и охарактеризовал сотни фрагментов ДНК дрозофилы, некоторые из которых присутствовали в геноме многими копиями. Коля Чуриков совершил настоящий научный подвиг, так как в тот момент клонирование ДНК было нетривиальной задачей и многие люди не могли воспроизвести этот сложнейший метод. Колины клоны были ключевым этапом в открытии мобильных элементов. Один такой фрагмент, Dm225 (от Drosophila melanogaster), был дан Евгению Витальевичу для определения местоположения этого фрагмента в геноме дрозофилы с помощью гибридизации in situ на политенных хромосомах. Чтобы дальнейшее описание экпериментов было понятно читателю, здесь уместно объяснить, что такое политенные хромосомы и метод гибридизации in situ. В основе хромосомы обычно лежит одна нить ДНК, которая кодирует наследственную информацию данного организма. Однако хромосомы в слюнных железах личинок дрозофилы состоят из тысячей нитей ДНК, сплетённых ввиде молекулярного жгута и поэтому имеют необычные большие размеры. Эти гигантские многонитчатые (политенные) хромосомы хорошо видны под микроскопом, имеют чёткий поперечно-полосатый рисунок, что позволяет локализовать на них индивидуальные гены с высокой точностью. Каждая политенная хромосома состоит из материнской и отцовской половинки (гомологов), которые тес89 но прилегают друг к другу, но изредка могут расходиться, образуя так называемый асинапсис. Метод гибридизации in situ основан на свойстве изолированных фрагментов ДНК узнавать сходные с собой последовательности на хромосомах, т.е. на местах (in situ) и образовывать комлексы-гибриды. Обычно изолированный фрагмент ДНК метят радиоактивным изотопом и по радиоактивной метке определяют локализацию фрагмента ДНК на политенных хромосомах. У млекопитющих, включая человека, политенных хромосом нет, и поэтому прямая локализация фрагментов у них невозможна. В этом было большое преимущество дрозофилы для изучения природы клонированных генов. Евгений Витальевич блестяще справился с задачей гибридизации in situ фрагмента Dm225, сделав в процессе работы наблюдение, которое привело к открытию мобильных элементов дрозофилы. Вот поразительное по ясности и силе описание этого открытия из дневника Евгения Витальевича: «К этому времени я уже освоил методику in situ гибридизации на политенных хромосомах дрозофилы. На моём первом и единственном препарате я увидел, что, действительно, этот кусочек ДНК (Dm225) гибридизуется примерно с 40 участками на политенных хромосомах. При сравнении одной и той же хромосомы, например Х-хромосомы, из разных ядер, можно было видеть, что набор гибридизующихся участков и их местоположение в хромосоме были сходны. Одно ядро, однако, привлекло моё внимание. В этом ядре отцовская и материнская хромосомы, составляющие пару гомологичных хромосом, не были тесно сочленены, как обычно наблюдается у политенных хромосом в большинстве ядер, а несколько разошлись друг от друга. Распределение гибридизующихся участков (так называемых сайтов гибридизации) на этих гомологичных хромосомах оказалось полностью различным. Это было что-то совершенно новое! Согласно классической генетике, гомологичные хромосомы содержат идентичный набор генов, расположенных в строго определённом порядке. А в данном случае ген (в то время мы ещё не знали настоящую природу этого кусочка ДНК) находился в разных местах гомологичных хромосом, т. е. был способен “перемещаться” по хромосоме. Это была загадка! Что это? Мобильные элементы, которые недавно были найдены у бактерий, или мистические контролирующие элементы, обнаруженные у кукурузы Барбарой Мaк-Клинток? А может, просто некая особенность генома дрозофилы? Я подумал, что разгадка может крыться в том, что для про90 ведения эксперимента я использовал особо крупных личинок дрозофилы, которых получал путём скрещивания двух родительских линий этой мушки. Kаждая из родительских линий несла мутацию gt (от английского giant — гигант), приводящую к увеличению размерa личинки и, соответственно, увеличению размеров политенных хромосом. Поэтому ассиметричное распределение сайтов гибридизации могло быть связано с изначальнo существующими различиями в хромосомах родителей. Чтобы подтвердить свою догадку, я сфотографировал все примеры расхождения гомологичных хромосом, и после дополнительного анализа стало очевидно, что закономерность, действительно, есть: например, в одной гомологичной хромосоме было 5 сайтов, а в другой — ни одного. Это было первое указание на то, что картина гибридизации над гомологичными хромосомами воспроизводится. Как только я увидел, что последовательность генов не совпадает, мне пришла в голову мысль, что это «прыгающие» гены. Стало очевидно, что надо повторить точно такую же гибридизацию, но на этот раз — на родительских линиях дрозофилы. Я поделился своими наблюдениями с Владимиром Алексеевичем Гвоздевым. То, что эти элементы представлены многими копиями и “рассыпаны” по геному, вполне укладывалось в гипотезу Г.П. Георгиева, который полагал, что разные гены могут иметь одинаковые регуляторные элементы. Однако то обстоятельство, что эти элементы могли «прыгать», лишало их регуляторной функции. Согласно оценкам Коли Чурикова, число копий этих генов (или элементов) должно было быть в 10 раз больше, чем сайтов гибридизации. В.А. Гвоздев предположил, что эти гены образуют группы или локальные кластеры, которые соответствуют особым районам хромосом дрозофилы, так называемым районам интеркалярного гетерохроматина. Эти районы имеют ряд особенностей, в том числе некоторые из них перестают реплицироваться в процессе формирования политенных хромосом. Владимир Алексеевич предположил, что наблюдаемое различие между гомологичными хромосомами связано как раз с недорепликацией ДНК в этих районах. Более того, он проанализировал имеющиеся данные других авторов и составил список таких районов. Этот список он запечатал в конверт и вручил мне с тем, чтобы я сравнил оба списка, но только после того, как закончу собственный анализ сайтов гибридизации. Цитогенетическая карта политенных хромосом дрозофилы в то время имелась двух видов: рисованная и очень подробная карта Бриджеса 1936 года и фотографичекая карта Лефевра 1976 91 года. Хромосомы на этих картах были представлены лентами с поперечными полосами, что-то вроде штрих-кода. На рисованной карте число таких полосок приближалось к 5000, а на фотографической было около 2000. Если первая карта была слишком подробной и ею нельзя было пользоваться, то вторую надо было ещё учить. Я в то время умел чётко распознавать на цитологических препаратах только Х-хромосому, точнее, её конец, примерно 10% от длины хромосомы. Без знания карты было невозможно ответить на ряд наиболее существенных вопросов: 1. Каковы различия между родительскими линиями дрозофилы? 2. Есть ли различия между родительскими хромосомами одного и того же индивидуума? Решение этой задачи потребовало от меня мобилизации всех моих сил. Я наготовил препаратов политенных хромосом, сфотографировал большое число ядер с хорошо расправленными политенными хромосомами, напечатал фотографии и засел за их анализ. Постепенно, через две недели, я наконец-то научился распознавать все хромосомы и каждую из их 100 секций. Первое, что я установил, — это существенные различия между родительскими линиями. Две линии дрозофилы, с которыми я работал, имели всего 1 или 2 общих сайта гибридизации. Все остальные сайты, чуть больше 20 в каждой линии, оказались в неродственных участках хромосом. Второе, разные клетки одного и того же организма имели одно и то же расположение сайтов гибридизации. Третье, действительно, часть сайтов гибридизации совпадала с районами интеркалярного гетерохроматина, которые, как оказалось впоследствии, и были мне даны в запечатанном конверте». В конце 1976 года Г.П. Георгиев суммировал полученные результаты в статье, которая была опубликована в январском номере журнала Science («Наука»). В обсуждении результатов Георгий Павлович написал: «Oбъяснение этому наблюдению ещё не найдено. Нестабильная локализация повторяющейся последовательности на политенных хромосомах может быть связана с феноменом миграции генов, который был показан на кукурузе (McClintock, 1965) и дрозофиле (Green, 1969)».2 Следущая статья с детальным описанием всей цитологической работы Евгения Витальевича была опубликована в журнала Chromosoma («Xромосома») в сентябре 1978 года, на полтора года позже первой статьи в Science. Это объясняется тем, что в те далёкие времена подговка статьи к печати в зарубежном 92 журнале была многоэтапным процессом. Вначале статью писали по-русски, затем её переводил на английский язык переводчик, после чего перевод отправляли на утверждение в Государственный комитет по атомной энергии, так как в то время нынешний Институт молекулярной генетики РАН являлся Биологическим oтделом Института атомной энергии, засекреченной организации. Статья называлась «Повторяющиеся гены с варьирующей локализацией в районах интеркалярного гетерохроматина на политенных хромосомах Drosophila melanogaster» (Chromosoma 1978, vol. 70, pp. 1–17) и содержала подробнейшее описание результатов гибридизации двух фрагментов ДНК дрозофилы, Dm225 и Dm234, на двух родительских линиях, иллюстрированное великолепными цитологическими фотографиями политенных хромосом. В своих воспоминаниях Евгений писал: «Я довольно сильно настаивал на том, чтобы статью назвать по существу: “мобильные элементы” или “прыгающие гены”». Однако мнение Владимира Алексеевича превалировало, и гипотеза о мобильности элементов в статье не обсуждалась. Евгений Витальевич до конца своей жизни сожалел, что его гипотеза о подвижности элементов в тот момент не нашла поддержки. Летом 1977 года Г.П. Георгиев представил все результаты совместных работ с В.А. Гвоздевым на симпозиуме в Колд Спринг Харбор (США). В трудах симпозиума, опубликованных в 1978 году,3 Георгиев вкратце обсуждал гипотезу о «прыгающих генах» как одном из возможных объяснений варьирующего расположения генов между разными родительскими линиями. На этой же конференции докладывали свои данные на сходных генетических элементах у дрозофилы его главные конкуренты из США: Дэвид Хогнесс и Джеральд Рубин. Так как американские коллеги проводили работу только на одной линии мушки, они весьма осторожно отнеслись к опубликованным данным по генетическим различиям между разными линиями, что не помешало им два года спустя опубликовать две статьи на эту тему в престижном журнале Сell («Клетка»). В первой из них они показали, что в культуре клеток изучаемые генетические элементы многократно размножены и перемещаются по геному.4 Во второй статье они показали варьирующую локализацию своих элементов на политенных хромосомах из четырёх линий дрозофилы, полученных из отдалённых географических мест.5 На четырёх линиях Рубин увидел то же, что и Евгений Витальевич на двух — межлинейную вариацию. В своей статье 93 Рубин не привёл точной локализации элементов на цитогенетической карте, как это сделал Евгений Витальевич, а подсчитал только общее число участков гибридизации. Видно, в лаборатории Рубина не нашлось энтузиаста, который смог бы выучить цитогенетическую карту дрозофилы на память. Чтобы наглядно показать различия по гибридизации между родительскими линиями, Рубин использовал приём Евгения Витальевича — он скрестил две линии мушек и выискивал на препаратах участки с разошедшимися хромосомами, в которых легче видеть различия по участкам гибридизации на родительских хромосомах. Основываясь на полученных результатах, Рубин смело назвал свои элементы «мобильными». В настоящее время Джеральд Рубин является бесспорным мировым лидером в области генетики дрозофилы. Вместе с Крейгом Вентером он возглавил в 1999 году проект «Геном дрозофилы», который был первым успешным проектом по определению последовательности ДНК генома высших организмов и предшествовал расшифровке генома человека.6 После 1978 года произошёл настоящий взрыв в изучении мобильных элеметов генома. Они были клонированы и исследованы у многих организмов. Главный симпозиум 1980 годa в Колд Спринг Харбор уже назывался «Мобильные генетические элементы». На этом симпозиуме из лабораторий В.А. Гвоздева и Г.П. Георгиева были представлено четыре доклада. В своём программном докладе Г.П. Георгиев впервые назвал свои элементы МДГ (мобильные диспергированные гены), но в литературе успели прижиться более образные имена, такие как copia и gypsy («цыган»), предложенные американскими учеными. В последующие годы лаборатории Г.П. Георгиева и В.А. Гвоздева внесли значительный вклад в изучение механизмов перемещения МДГ, их структуры и роли в генетических процессах. Возгавляемый ими коллектив авторов, включая и Е.В. Ананьева, был удостоен в 1983 году Государственной премии СССР за цикл работ «Мобильные гены животных».7 Это было одно из самых важных открытий советской молекулярной биологии. Однако, как это часто случается в истории мировой науки, пальма первенства осталась за Хогнессом и Рубиным и мобильные элементы дрозофилы вошли в учебники с их именами. Тем не менее объективная хронология научного поиска, отражённая в статьях 1977—1979 годов, свидетельствует о том, что Евгений Витальевич был первым, кто понял мобильную природу этих элементов и воочию увидел «прыгающие гены». 94 В 1983 году Евгений Витальевич защитил докторскую диссертацию на тему «Молекулярная цитогенетика мобильных генетических элементов дрозофилы». Одним из оппонентов диссертации была высоко оценившая работу своего ученика А.А. Прокофьева-Бельговская. Основным результатом диссертации являлось открытие и молекулярно-цитогенетическая характеристика мобильных элементов. Это была гигантская по объёму работа. Выяснилось, что мобильные элементы распределяются по хромосомам случайно, не имея предпочтительных мест интеграции. Диссертация имела ряд фундаментальных выводов, сохранивших своё значение и по сей день. Первый вывод заключался в том, что мобильные элементы перемещаются с частотой ниже чем 10-4 на сайт на поколение, что в дальнейшем оказалось типичной частотой для многих элементов. Второй важный вывод касался видоспецифичности мобильных элементов. Каждый вид плодовых мушек, которые были исследованы в работе, имел свои специфичные мобильные элементы. Это означало, что мобильные элементы быстро меняют последовательность своей ДНК в процессе эволюции, что опять же оказалось общей закономерностью. Заключительный вывод диссертации гласил, что «мобильные генетические элементы сотавляют значительную фракцию генома не только дрозофилы, но и других эукариот. Это позволяет говорить об универсальности самого принципа построения генома эукариот, составной частью которого должны быть мобильные генетические элементы». Этот вывод тоже оказался правильным. Помимо исследования мобильных элементов, в диссертации была представлена невероятной красоты и разрешения электронно-микроскопическая карта политенных хромосом, на которой с большой точностью были помещены как мобильные элементы, так и многие известные к тому времени гены. Эта карта была построена вместе с В.Е. Барским, сотрудничество с которым переросло в крепкую дружбу на всю жизнь. Клонирование мобильных элементов дрозофилы оказалось важнейшим этапом в понимании организации генетического материала высших организмов. Во-первых, клонирование мобильных элементов превратило их из генетической абстракции в реальные фрагменты ДНК, которые можно было изучать прямыми биохимическими методами. Концепция перемещающихся элементов была впервые предложена Барбарой Мaк-Клинток в пятидесятых годах на основании изучения нестабильных мутаций у кукурузы. Тем не менее работы Б. Мaк-Клинток на 95 протяжении многих лет не находили признания, и она была удостоена Нобелевской премии за открытие мобильных элементов только в 1983 году, после того как мобильные элементы были клонированы. Во-вторых, клонирование мобильных элементов и изучение механизов их перемещения доказало, что нитевидая молекула ДНК, из которой состоит хромосома, является динамичной структурой, способной вырезать из себя кусочки, копировать их и перемещать на новые места. Классическая хромосомная теория наследственности утверждала, что положение генов на хромосомах строго фиксированно, подобно бусинкам, нанизанным на нитку. Поэтому первичное цитологическое наблюдение, что некоторые кусочки ДНК не имеют фиксированного положения на хромосомах, казалось таким невероятным и воспринималось с трудом. Продолжая аналогию с бусинками, можно представить, что мобильные элементы заполняют пространства между бусинками (т.е. межгенные пространства) и перемещаются между генами, в большинстве случаев не нарушая их работу. Частота их перемещений достаточная низка, чтобы сохранять целостность генома, но довольно высока, чтобы вызывать мутации, что является материалом для естественного отбора и селекции. В третьих, оказалось, что мобильные элементы, как ни парадоксально, составляют подавляющую часть генетического материала у многих высших организмов. Функциональные геныбусинки оказались затерянными, как песчинки, в бесконечном океане мобильных элементов. Например, геном человека состоит на 80% из мобильных элементов и только 1,2% генома приходится на долю единичных генов-бусинок, которых у человека всего около двадцати тысяч (остальные 19% генома человека приходятся на долю других повторяющихся последовательностей). Сходным образом 80% генома кукурузы также составляют мобильные элементы, а межгенные пространства заполнены таким многообразием мобильных элементов, что они практически не совпадают при сравнении разных сортов кукурузы. Напрашивается предположение, что многообразие вариаций и форм кукурузы является следствием активности мобильных элементов. Так мобильные элементы, которые в начале казались частным наблюдением на политенных хромосомах дрозофилы, оказались универсальными компонентами геномов всех высших (эукариотических) организмов. Причина вездесущности и из96 быточности мобильных элементов по-прежнему остаётся загадкой. Определение последовательности геномов разных организмов, от примитивных древних рыб до человека, позволяет учёным следить за историей мобильных элементов в процессе видообразования. Новые методы сравнения целых геномов начинают прояснять роль мобильных элементов как мощных факторов эволюции.8 ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÓÞ ÒÅÌÀÒÈÊÓ È ÏÅÐÅÅÇÄ Â ÑØÀ К моменту защиты диссертации Евгений Витальевич осознал необходимость создания собственной лаборатории для проведения исследований и воплощения своих идей в жизнь. Поиски самостоятельной работы привели его в 1983 году в Институт общей генетики, директору которого Алексею Алексеевичу Созинову понравился молодой энергичный ученый. А.А. Созинов предложил Евгению Витальевичу возглавить лабораторию. Не обошлось, однако, без подводных камней: лаборатория должна была заниматься молекулярной генетикой растений. Пришлось расстаться с любимым объектом, дрозофилой, и взяться за изучение ячменя, отныне научная деятельность Евгения Витальевича была связана с генетикой растений. Новый институт, новый научный объект, новый опыт руководства большим коллективом, ответственность за людей. Это были годы бурного развития генной инженерии и биотехнологии. Идя в ногу со временем, Евгений Витальевич планировал работу в двух направлениях: развитие генной инженерии растений и поиски мобильных элементов, которые, по его мнению, должны были быть универсальными компонентами всех геномов. Молодая лаборатория делала первые успехи: удалось найти новый мобильный элемент ячменя, названный Диалект. Но вскоре началась перестройка. Страна переживала колоссальные социальные и экономические потрясения, и жить и работать стало очень трудно. Летом 1991 года вся лаборатория сажала картошку в подсобном хозяйстве Горки Ленинские, чтобы следующей зимой не умереть с голоду. Стало ясно, что в ближайшие десять лет заниматься фундаментальной наукой в России будет невозможно. Начался массовый отток учёных на Запад, многие сотрудники лаборатории Ананьева уехали работать за границу. 97 Несмотря на возраст, мы были полны сил и жажды научного творчества. Это было главной причиной, подтолкнувшей к отъезду в США. Планировали поработать там два-три года, но оказалось, что уехали навсегда. Нашлась работа в одном из университетов США, и в ноябре 1991 года я с сыном уехала в Бостон. В январе 1992 к нам присоединился Евгений Витальевич. Отъезд в Америку стал вынужденным обстоятельством, шансом реализовать свой интеллектуальный потенциал. Но Евгений Витальевич всегда оставался русским гражданином и бесконечно верил в возрождение науки в России. ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÈÌÅÐÛ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ ÕÐÎÌÎÑÎÌÛ В Бостоне, знаменитом в первую очередь своими медицинскими учреждениями, найти соответствующую работу по растительной тематике было практически невозможно. Евгений Витальевич пошёл на компромисс и устроился на работу в лабораторию, занимающуюся генетикой многоклеточной водоросли вольвокс. Однако это занятие не приносило ему удовлетворения, и он продолжал искать дело по себе. В конце 1994 года он увидел в журнале Science объявление о проекте на удивительном объекте: гибриде овса с кукурузой. Эти генетические химеры были получены в университете штата Миннесота замечательным генетиком Ховардом Райнсом. Ему удалось опылить колосок овса пыльцой кукурузы, что вызвало развитие химерного зерна. Редкие зёрнышки оказались жизнеспособными и дали начало растениям, в целом похожим на овёс, но содержавшими однy кукурузнyю хромосомy. Поскольку у кукурузы десять хромосом, Ховард Райнс получил десять так называемых хромосом-дополненных линий, каждая из которых несла одну из хромосом кукурузы. Евгений Витальевич сразу оценил возможности этих линий для выделения генов из отдельных кукурузных хромосом. Он подал заявление на работу в этот университет и, получив приглашение, уехал в Миннесоту. Я с сыном пока осталась в Бостоне. В Миннесоте Евгений Витальевич начал свой научный проект с построения библиотек генов из хромосом-дополненных линий овса. Первая задача заключалась в том, чтобы отделить гены кукурузы от генов овса. Для решения этой проблемы Евгений Витальевич решил использовать мобильные элементы, 98 так как по своему опыту работы с дрозофилой он знал, что мобильные элементы специфичны для каждого вида. Он собрал коллекцию мобильных элементов кукурузы и показал, что они гибридизуются только с кукурузной ДНК. Используя эти элементы как молекулярные зонды, он смог набрать коллекцию клонов, присходящих из отдельных кукрузных хромосом. Следующей задачей, которую Евгений Витальевич поставил перед собой, было выделение специализированного участка хромосомы — центромеры. Этот важнейший структурный компонент хромосомы необходим для правильного распределения родительских хромосом между дочерними клетками в процессе деления клетки. Механизмы функционирования центромер интересовали Евгения Витальевича ещё со времен его первого знакомства с человеческими хромосомами в лаборатории А.А. Прокофьевой-Бельговской. Сейчас в его руках была генетическая система, которая позволяла выделить центромеру из индивидуальной хромосомы кукурузы. Евгению Витальевичу удалось найти специфический мобильный элемент, предпочтительным местом интеграции которого оказалась именно центромера. Используя этот элемент как зонд, он выделил из геномных библиотек центромерные фрагменты, происходящие из отдельной кукурузной хромосомы. Тщательно исследовав эти фрагменты, он пришёл к выводу, что центромера составлена из сотен и тысяч копий короткой (156 нуклеотидных пар) повторяющейся последовательности ДНК, которую он назвал CentC. Оказалось, что длинные участки таких повторов, перемежаясь с мобильными элементами, составляют основу центромеры. Миннесотский пероид жизни стал необычайно продуктивным для Евгения Витальевича. Впервые он имел замечательные условия для работы и занимался только наукой, работая по двенадцать часов в сутки с огромной энергией. За три с половиной года он опубликовал десять научных статей. Сам он оценивал этот период так: «Я, однако, достиг многого. Я идентифицировал и выделил центромерные повторы кукурузы — это был фундамент для работы по искусственной хромосоме». Но работа в университете Миннесоты была временной. Евгений Витальевич подал заявление в компанию «Pioneer Hi-Bred Int.» (Штат Айова, Де Мойн), и в 1998 году получил приглашение на должность руководителя группы по разработке методов физического картирования генома кукурузы. Проект был интересный, а возможности для ведения научной работы — ог99 ромные. «Pioneer» — старейшая селекционная компания в США, которая с 1926 года производит семена высокоурожайной гибридной кукурузы для фермеров. Это первоклассно организованное производство с большим научно-исследовательским отделом, имеющим на вооружении все современные методы генетики и молекулярной биологии. Осенью того же года я тоже получила работу в фирме «Pioneer», и наша семья воссоединилась в Aйове. Айова — это кукурузный штат, который в 1954 году поразил Н.С. Хрущёва, главу Советского Союза, своими кукурузными полями, и с того момента «королева полей» шествовала по холодным полям нечерноземья. Евгений Витальевич с энтузиазмом взялся за разработку методов физического картирования генома кукурузы. Но такая интенсивная работа, по-видимому, не прошла бесследно для здоровья. В мае 2000 года у Евгения Витальевича случился инфаркт. Операция прошла успешно, и хирург уверил нас, что Евгению Витальевичу предстоит долгая жизнь. С присущими ему мужеством и упорством он стал восстанавливать своё здоровье и в августе уже работал в полную силу. Его стойкость и жизнелюбие поражали окружающих — после такой сложной операции он не только не утратил своей энергии и творческого потенциала, но стал работать с ещё большим подъёмом. Однако теперь Евгений Витальевич стал больше ценить «мелочи жизни». Он говорил друзьям: «После “смерти” я наслаждаюсь каждым моментом моей жизни, каждой отдельной деталью вокруг меня: видом девушек, запахами духов, вкусом пищи!» Эти шесть лет после инфаркта были наполнены особой радостью, радостью победы над смертью, и были самыми плодоворными и счастливыми годами нашей жизни. Я занималась изучением развития кукурузы, делилась своими мыслями и наблюдениями с мужем, и Евгений Витальевич серьёзно заинтересовался этой проблемой. Он хотел понять, как закладываются и развиваются органы кукурузы — лист, початок, зерно. Евгений Витальевич всерьёз мечтал заняться созданием атласа развития кукурузы — ведь хорошего морфологического пособия по кукурузе до сих пор нет. Постепенно он начал собирать и фотографировать цитологические образцы для будущего атласа. Качество этих фотографий и описание мельчайших деталей строения тканей были превосходны. В этом проявились другие грани его одарённой натуры — тонкого наблюдателя-натуралиста и прирождённого художника. Когда профессор Калифорнийского университета Сара Хейк увидела фотографию куку100 рузного зёрнышка, она тут же попросила её для публикации готовящегося к печати руководства по генетике кукурузы. Однако главным делом Евгения Витальевича был проект по созданию искусственной хромосомы кукурузы. Это была сложная проблема, которая разрабатывалась как в университетах, так и на биотехнологических фирмах Америки. Конкурентная обстановка была напряжеёной: кто первый сделает и запатентует искусственную хромосому. Искусственные хромосомы являются векторами — носителями больших фрагментов ДНК, которые необходимы для геномных исследований. Так, искусственные хромосомы бактерий широко используются для клонирования и секвенирования геномов практически всех организмов. У высших организмов искусственные хромосомы были созданы только в культуре клеток человека с целью их использования для генной терапии, что является достаточно отдалённой целью. У растений же применение искуственных хромосом вполне реально. Они могут использоваться для переноса генетического материала между видами, для создания биохимических каскадов и привнесения ценных агрономических свойств в сельскохозяйственные растения. За искусственными хромосомами растений большое будущее. Евгений Витальевич разработал стратегический план сборки искусственной хромосомы из отдельных её компонентов, как он их называл, «строительных блоков». Функциональная хромосома содержит три обязательных компонента. Первый — это теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом, предохраняющие их от разрушения. Второй — это участки начала репликации, необходимые для удвоения хромосом перед клеточным делением И третий — это центромеры, необходимые для равного распределения хромосом между дочерними клетками. Если теломеры и участки начала репликации были известны и доступны, то поиск функциональной центромеры представлял трудную задачу. Чтобы понять, как устроена функциональная центромера, без которой невозможно было построить искуственную хромосому, сотрудники лаборатории Евгения Витальевича в «Пионере» проделали сотни экспериментов. Вот как Евгений Витальевич описал этот период: «Из геномной библиотеки было выделено около 8000 центромерных клонов. Они были классифицированы согласно составу повторов. In situ гибридизация указывала на то, что сегменты ДНК расположены в центре прикрепления нитей веретена и являются частью кинетохора, т.е. фунциональной 101 центромеры. Второе открытие пришло неожиданно. На моём столе в течение нескольких месяцев лежали статьи по секвенированию хромосом риса. Сами авторы оказались очень добросовестными исследователями и проанализировали и сравнили все последовательности со всем чем только можно. Они указали стрелками, что блоки тандемных центромерных повторов находятся в инвертированной ориентации по отношению друг к другу. Меня как прошибло током! Вот где два хромосомных плеча встречаются друг с другом! Центр кинетохора — это центр центромеры». Основываясь на своей догадке, Евгений Витальевич предложил элегантную модель центромеры. Классическая митотическая хромосома выглядит как буква «Х» с тонкой талией, так называемой первичной перетяжкой, от которой расходятся два хромосомных плеча. В области первичной перетяжки формируется кинетохор, к которому присоединяются нити веретена деления и тянут половинки хромосом в дочерние клетки. Предложенная Евгением Витальевич модель центромеры объясняет образование перетяжки тем, что в ней сходятся центромерные повторы в противоположных ориентациях. Противоположная ориентация повторов задаёт направление левому и правому плечу хромосомы. Эта новая модель пока не подтверждена экспериментально. Хочется надеяться, что она окажется правильной, подобно догадке Евгения Витальевича о мобильных элементах. Стратегический план Евгения Витальевича по поиску активной центромеры и сборке искусственной хромосомы из строительных блоков оказался правильным. В феврале 2006 года его лаборатория, опередив всех конкурентов, получила и запатентовала первую в мире искусственную хромосому растений, что было подлинным триумфом. Евгений Витальевич сделал замечательный видеоклип, в котором хромосома возникала как бы из небытия, как звезда из космоса, и приближалась к зрителю во всей свой красоте. Видеоклип сопровождался музыкой Бетховена, создающей почти мистическое ощущение того, что человеческими руками воспроизведена жизнь. В своих последних дневниках Евгений Витальевич писал: «Я рассматриваю проект по мини-хромомосоме как вершину моей научной карьеры. Этот проект вызревал много лет и потребовал от меня освоения огромной литературы, а также жертв. Этот проект является конечным продуктом моего интеллекта 102 и знаний». В своём завещании Евгений просил, чтобы «минихромосомы были изображены на моём надгробном камне». Научная судьба Евгения Витальевича Ананьева воистину символична. Он начал свою научную деятельность с измерения длины хромосом по фотографиям с помощью обычной линейки, а закончил сборкой искуственной хромосомы из отдельных строительных блоков. Его судьба отражает тот колоссальный прогресс, который проделала биология за последние сорок лет: от простых методов выделения ДНК до определения тонкой структуры генов и компьютерного анализа миллиардов единиц генетической информации, кодирующей целые геномы. Жизнь Евгения Витальевича Ананьева оборвалась, однако ещё выходят в свет статьи с его именем и его дело, работа по искусственной хромосоме, не прервалась — она продолжается его коллегами. И осталась память, которая подводит итог всему: это был человек, сумевший сделать себя, прожить яркую жизнь и оставить русский след в мировой науке. Список литературы 1. Портрет на фоне хромосом. М.: Научный мир, 2005. 2. Science, 1977, vol. 195, pp. 394–397. 3. Колд Спринг Харбор, 1978 4. Cell, 1979, vol. 17, pp. 416–427. 5. Cell, 1979, vol. 17, pp. 429–439. 6. Venter. A Life Decoded. Penguin Books, 2007. 7. Правда, 7 ноября 1983 г. 8. Science, 17 August 2007, p. 894–895. Òàìàðà ÆÈÐÌÓÍÑÊÀß Ìþíõåí «ÏÐÈÂÅÇÈ-ÊÀ  ÏÀÐÈÆ ÌÍÅ ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÁÓËÜÂÀÐ » Îòðûâîê èç ïîâåñòè Бывший однокурсник меня удивил. В малотиражном русскоязычном сборнике, из тех, что зовутся «братской могилой», зацепился взглядом за моё негромкое имя, раскидал пласты чужих, неинтересных ему стихов и вытащил на разрушительный свет мой единственный опубликованный там стишок. Мало того: созвонился с составительницей, обретающейся в Штутгарте, узнал, жива ли я ещё и где меня искать, потребовал мой мюнхенский телефон и однажды утром театрально поставленным, хорошо мне знакомым голосом (правда, с лёгкой ущербинкой, вероятно, от неполнозубости) отрекомендовался: — Это я, Вася. Твой Фердинанд!.. Ну, моим-то он никогда не был. И Фердинандом состоял недолго, по совместительству: на втором курсе мы вместе играли в институтской постановке «Коварства и любви»: я, естественно, Луизу... Но сразу поплыли в глубине моего существа — явно недостаточно изучен, свой у каждого феномен, называемый «структурой памяти», — сразу поплыли, говорю, узкие проходы-коридоры Литинститута, Герценовского дома, темноватые и какие-то сиротливые, со специфическим запахом. Ряд дверей налево и направо, а источник света — один: окно в конце коридора. На старинном подоконнике, широком, как ломберный столик, и сиживали гении в институтском масштабе, читавшие вслух свои стихи. До дурноты, собственной, и того, кто согласился послушать... Было ощущение стеснённости, беззаконного вторжения в чужую, отшумевшую в этих стенах жизнь. Здесь когда-то из таинственных жарких недр завезённой в Москву хорошенькой иноземки вырвался на белый свет бастард, барчук, вскоре окрещённый Александром. Хозяин покоев сих, из 104 богатого и знатного рода Яковлевых, будто бы прижал прижитого с лютеранкой малютку к сердцу и молвил по-немецки: «Майн херц» — «Моё сердце»... Отсюда и фамилия: Герцен. Тут у меня не только астральное зрение и обоняние, но и внутренний слух включился — репродуцировал он, однако, не стихи коллег, не лекции профессоров, а... немецкую речь почти двухсотлетней давности: «Майне либе...», «Жан, ихь штирбе...», «Гедульт, майн шац, гедульт!..», «О! О!О!», «Унзер кинд! Ихь бин глюклихь...»1 — несколько вечных слов из жалкого лексикона, почерпнутого мной в Германии. Стыдно перед Александром Ивановичем, чьим гостеприимством я пользовалась пять лет. Он-то управлялся с иностранными наречиями, как жонглёр с тарелками. Но ведь и учили его получше и, главное, другому. Гувернёров, носителей языка, для него выписывали. После победы над Наполеоном по заграницам возили. Что было потом, знал любой студент. Дружба с Огарёвым. Клятва на Воробьёвых горах. Ссылка. Любовь. «Колокол»... Для того, знать, Герцен и родился, и учился, чтобы было кому страдать за русский народ, будить декабристов, разворачивать пропагандистскую работу... А потом, как ток по цепочке, процесс пошёл, через ходынки и революции добрался и до нашего института — кузницы советских писателей. А может, сиротливость и чувство беззаконности сидели во мне? Такая же вчерашняя школьница, как я, Лариса Румарчук, Лора, яркая от природы, с естественным румянцем и блестящими глазами, несчастной не казалась. Её подхватила прекрасная волна — добрая опекающая сила в лице самого известного из институтских поэтов Евгения Евтушенко — и понесла прочь от меня: интересные встречи, выступления со стихами, частое гостевание в его доме. Я же изнывала в одиночестве... Творческий конкурс (пятьдесят человек на одно место) одолела, а на выносливость никто меня не испытывал. На первом курсе — сразу как пыльным мешком по голове: и стихи у меня слабые, и сама — маменькина-папенькина дочка, живу в центре столицы, ни в чём не нуждаюсь, не то что они, мои старшие однокурсники, после глубокой провинции штурмовавшие столицу, в соседнем баре заливавшие тоску неопределённости, на голых скамейках Тверского бульвара ночевавшие. «Мы ещё посмотрим, что из кого выйдет, — угадывалось в их неозвученных ре1 «Моя дорогая»; «Жан, я умираю…»; «Терпение, моё сокровище, терпение»; «Наше дитя… Я счастлив» (нем.). 105 чах. — В литературе давно царят и правят провинциалы, а не сомнительные москвичи, настоящие русаки, а не чёрт знает какие смеси. Писателю нужен народный дух, богатый жизненный опыт, а не заёмная книжная мудрость...». В чём-то они, наверно, правы. Учусь хорошо, старательно, а что толку? Вон в «Московском комсомольце» всех поэтов курса напечатали, и русских, и нерусских — в переводах, а меня — нет. Получила письмо из газеты от неведомого мне Чернецкого: вам, мол, только семнадцать (как будто я не знаю, сколько мне лет), не спешите печататься, от первой встречи с читателем многое в литературной судьбе зависит. Откуда он взялся, этот непрошеный советчик? Что я теперь скажу отцу? Он и так переживает за меня: отличница, медалистка и вдруг — хуже всех! Правильно ему говорили знакомые книжники: «Куда вы отдали свою дочь, Александр Владимирович?! Литинститут, как любой творческий вуз, плодит неудачников! Тут знаете как: либо пан, либо пропал». Василий Бетаки появился у нас на втором курсе. Перешёл с заочного отделения. Не похож на представителя великого русского народа. Вылитый итальянец (неореалистические фильмы мы тогда смотрели с жадностью). Но дело не в этнической принадлежности. С нашего пёстрого студенческого сообщества можно было рисовать выставочный холст «Мечта товарища Сталина — дружба народов». Армянин и армянка, азербайджанец, грузин (это я мысленно по карте ползу, с Кавказа на северо-восток и северо-запад), башкир, чуваш, коми, украинец, белорус, латышка, два литовца... А ещё кореец, албанец, вскоре к ним присоединится испанка, правда, наша, московская. И это на тридцать человек! Курс у нас маленький. Не нужно гегемону революции — пролетариату больше писателей! С этими бы разобраться... В чём, в чём, а в великодержавном шовинизме нашу приёмную комиссию не упрекнёшь. Тёмную шевелюру и смуглую с оливковым отливом физиономию в Герценовском доме встретишь едва ли не чаще, чем привычные этим старым стенам славянские и тевтонские лица... На втором курсе несколько новичков к нам влилось — не один Василий Бетаки. Рядом с ним, бурным и кудлатым, ещё меланхоличнее казался лысоватый не блондин даже, а почти альбинос: Юрий Казаков. Если из Васи слова так и выпрыгивали, то этот больше молчал; мучительно заикался. К Юрию-большому с первых дней прикипел Юрий-маленький с подходящей 106 фамилией: Коринец. «Корень», «коренастый», «укоренённый» — все эти смыслы роились вокруг Юры-маленького. Про такого говорится: в земле — корешок, а над землёй — вершок. Но мал он был не как лилипут, а как... Карлик-Нос, злой волшебницей сотворённый из прекрасного мальчика. И писал для детей — стихи и прозу. «Как у нашей бабки // Жили-были лапки...». Это — начало его милого стихотворения про кошку. Парой предстали перед нами и две новые студентки: брюнетка Катя Судакова — прозаик — и блондинка Люся Щипахина — поэт. Русская Катя от какой-то прабабки с пугачёвской реки Яик взяла полукалмыцкую внешность, приземистую фигуру; нрав же имела ангельский и тоже писала для детей. Сталинградка Люся внешне — точно девушка с кондитерской коробки, но никакой приторности в ней не чувствовалось. Наоборот, с первых дней проявляла твёрдость, трезвость, порой резкость... Впрочем, пара имелась и у Василия Бетаки. Жена. Саша. Вроде бы законная. В прошлом начинающая танцовщица, после травмы ноги подрабатывала кройкой-шитьём. На лекциях не присутствовала, но преданно маячила в некотором отдалении. Своему любимому мужу (а что любимый — мы не сомневались) сшила модный пиджак и брюки-гольф бежево-розового цвета. Себе, из остатков материи, — такую же узкую юбку. «Два абрикоса», — с улыбкой говорила о них Катя Судакова, отличавшаяся детски образным видением. Ну, один «абрикос», а именно худенькая Саша, вскоре кудато закатился и навсегда исчез из нашего поля зрения. А второй... Проучившись с нами на очном всего год, оставил по себе неувядаемую память. Потом рванул в родной Ленинград, работал в Павловском музее. Не без скандала окончил Литинститут. Стал известным переводчиком. Выпустил книгу ни на кого не похожих стихов. А в начале семидесятых исчез, уехал. По слухам, во Францию. Навсегда — иного варианта судьба тогда не предлагала. И вот вдруг опять возник на моём горизонте. Через несколько десятков лет... Два года продолжалось наше заочное общение. Звонки, имейлы. Однажды Вася прислал мне стихи. С посвящением. И хотя личной направленности они не имели, всё равно было приятно. …Привези-ка в Париж мне Тверской бульвар Весь от Пушкина до Тимирязева: Там описан Булгаковым некий дом... Так вот я иногда вспоминаю о нём. 107 «Привези-ка в Париж мне...». Легко сказать... Выбраться из Мюнхена, где я с некоторых пор живу вместе с семьёй, в соседнюю Францию к однокашнику оказалось непросто. Решить все проблемы помог Лорин приезд. Из Москвы в Мюнхен, на три недели. «Неужели не смотаемся к Васе хотя бы на несколько дней?» — спросили мы друг у друга. И друг другу ответили: «Конечно, смотаемся! Кто ещё в сложное и нещедрое для нашего поколения время зовёт в гости с такой настырностью мало, в сущности, знакомых людей? Готов встретить. Поселить у себя. Повозить по Парижу. А что скажет его молодая жена? Да что нам до этого? Мы не с ней вместе учились — с ним. Её-то в те приснопамятные годы, небось, и на свете не было». Боже мой, мы в Париже! Как долго волок нас сюда сидячий дневной поезд — восемь с половиной часов плюс почти полвека. Но доволок. И, сжирая в пути пространство, как будто проглотил и время. Оно — фикция. Для нас троих его нет. Откровенно говоря, я страшилась, что оробею перед Васей. От моего Фердинанда наверняка мало что осталось. Возгордился небось. Выпустил на Западе десять книг стихов. Заведовал отделом поэзии в том ещё, легендарном «Континенте», где проработал двадцать лет. Печатался в «Гранях», за одно чтение которых можно было схлопотать в семидесятых — начале восьмидесятых срок. Дружил с Владимиром Максимовым, Александром Галичем... Но никакого смущения не случилось. После дежурных приветствий сразу начался словесный пинг-понг, точно мы и не разлучались. О н. ...Где же вы? Я вас тут битый час ожидаю! (Стоял на Медонском мосту около своей машины.) Я. Мог бы и до вокзала доехать! Мы плутали. Парижское метро — это какая-то паутина. О н. Вы что, из каменного века? Л о р а (победоносно). Я — из России... Натурально, есть и для нас такая категория «время», но оно распихано по личным кладовым. Каждая кладовая открывается «сезамом»: «А помнишь?..» Впрочем, вспоминать былое любим только мы с Лорой. Вася не любит. Слишком неравные были у нас тогда положения. Мы — девчонки, вчерашние школьницы, одна — подмосковная, другая — московская. Привычное жильё, заботливые старшие, горячие завтраки-обеды. Он — несколькими годами старше, а по существу — десятилетием. Рано осиротел. Родители погибли в Ленинградскую блокаду. Мальчишку ненадолго пригрели 108 родственники. Потом надо было выживать самому: щёлкал как орешки профессии, менял их без сожаления. В числе многих других — лепщик, хотя лепил прежде всего самого себя. Урывками — самообразовывался. Из Ленинградского университета выперли за смелые речи. В Литинститут взяли за талант. Но это так, дана справка в том, что... Ибо над всем царила поэзия. И театр. Мы и знали его только в двух этих качествах: поэта и актёра. Чтобы продержаться на жидкую гуманитарную стипендию, тренировал любителей верховой езды, о чём мы не догадывались. Когда и временной работы не стало, бросил очное, вернулся в Ленинград. Для него — это город Медного Всадника, блаженной Ксении, четырёх клодтовских коней на Аничковом мосту. Именно этим объектам посвящён его «Петербургский апокалипсис». На другой день после приезда, когда Васина жена Лена, женщина обаятельная и продвинутая, информатик по специальности, уехала на работу, мы втроём сгрудились в их супружеской спальне (она же его кабинет с двумя мозговыми центрами — хозяином и его ноутбуком). Пара компьютеров и огромная библиотека — это, пожалуй, наиболее примечательное из обстановки, что он нажил за много лет на чужбине. Наш визит оторвал его от «станка». Заканчивает невыдуманный роман «Снова Казанова». Ристалище для словесного турнира Лора без спора предоставила мне. — Ты так любил Ленинград. Почему же уехал? — Меня должны были посадить. Я был подпольщиком. Принимал и развозил запрещённую в России литературу. — Участвовал в диссидентском движении? — Нет, действовал один. На свой страх и риск. — Диссиденты тоже рисковали. Они-то все делали открыто. Но многие принципиально не уезжали, не могли покинуть Россию. — Ненужные жертвы! И сколько тщеславия! Прихожу както в редакцию «Континента», а там она и он (называет фамилии) подсчитывают, сколько раз их имена упомянуты в печати... Вот не думала, что мне придётся отстаивать честь диссидентов перед сподвижником Максимова, Галича и Виктора Некрасова. Сама я не диссидентка, увы. — Именно подпольная работа приносила настоящие плоды... — настаивает на своём Василий. 109 Услышав его панегирик подпольной работе, я почему-то раздражаюсь: — Один бравый генерал1, кстати, тоже породнившийся с нашей семьёй, назвал свою крамольную книгу «В подполье можно встретить только крыс». За свою бравость и бесстрашие он, если помнишь, здорово поплатился... Выхватив невидимую рапиру, тряся от возмущения кудрявой, как и полвека назад, но седовласой головой, Вася раскатывает свой голос на всю кубатуру небольшой комнаты: — Твой генерал дур-р-р-ак!.. Лору тошнит от наших идейных пререканий. Она летела и ехала в такую даль, чтобы увидеть Париж. Неужели Вася вызвал нас только для того, чтобы вести нескончаемые бесплодные дебаты, спрашивает она меня, когда мы остаёмся с ней наедине. «Ты лучше его знаешь, — добавляет она устало. — Вы дружили, а я тогда была в стороне...» Дружили — не дружили, но человек, которого я не видела много лет, вошёл в мою память прочно... Заочников тянули за уши, а Василий так не хотел. Много знал, читал, хотел узнать и прочитать ещё больше. Литинститут славен был своей библиотекой. Помню, как набросился на книжное богатство вчерашний музыкант Юрий Казаков, особенно жадный до мемуаров, старинных дневников и прочих раритетов. Миша Рощин упивался «Дневником» Ренара и нам с Катей советовал прочитать. До сих пор цитирую вслух ренаровские афоризмы, годные на все случаи жизни. Геннадий Айги пожирал Ромена Роллана. Володя Цыбин дорвался до Павла Васильева и Бориса Корнилова, загубленных в жестоких тридцатых. Я штудировала великих поэтесс и поэтов вне институтской программы. И страшно мне становилось от сравнения: ишь куда сунулась, с кем задумала тягаться... Почти все наши однокурсники были бедны, плохо одеты, все без исключения что-то писали и, заскучав в мрачном преддверии славы, выпив для храбрости стопочку, опрокидывали на головы зазевавшихся сокурсников свои далеко не бесспорные опусы. Только недавно утвердился особый шик в авторской декламации. Мода на заунывность сменилась модой на взрывчатость. Читая вслух свои стихи, Вася тоже громко и выразительно рокотал; этот рокот, сродни горным водопадам, размывал достоинства и огрехи строк, и одним слушателям они 1 Пётр (Петро) Григоренко (1907—1987). 110 казались гениальными, хотя и малопонятными, другим — вторичными, книжными, вообще никакими. «Литературщина» считалась в институте великим грехом. По мнению руководителя драмкружка Иосифа Михайловича Колина, заслуженного актёра из соседнего с институтом Театра им. Пушкина, у Луизы на сцене должны быть длинные русые косы. Какая досада, что после первого курса я пошла в парикмахерскую и буквально умолила срезать мои собственные толстые длинные косы и сделать шестимесячную, как у всех, завивку, хотя волосы курчавятся от природы. — Это ничего, — говорит всепонимающий Иосиф Михайлович. — Возьмём парик вместе с платьем из костюмерной. Роль интригана Вурма, самую трудную, Колин доверил Леониду Завальнюку, будущему известному поэту, чьи песни знал весь Советский Союз. Человек добрый и благородный, Лёня сумел перевоплотиться на сцене в негодяя. Видно, помог профессионализм: в Благовещенске, откуда уехал в институт, он играл в театре. Уж не помню как, но мы с Васей, после десятка репетиций, сумели пронырнуть между Сциллой неправдоподобия и Харибдой преувеличения. Зрители нам устроили овацию. Да, совместное участие в такой душераздирающей пьесе сплачивает прочно. Не удивляюсь теперь, что Вася через полвека искал и нашёл меня. Не удивляюсь и собственной отзывчивости. Ïàâåë ÈÂÀÍΠÌèíñê ×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÒÀÊÎÉ ÔÀÌÈËÈÅÉ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÌ! Àâòîáèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÎËÎÃÀ Стоял обычный, привычно жаркий для Средней Азии летний день, градусов за тридцать… Мне было тогда лет… пятнадцать. Я ехал на автобусе, уже не помню куда и зачем, когда вдруг на остановке в салон вошла ОНА. Я таких девушек ещё не видел… По пояс русая коса в руку толщиной, огромные сероголубые глаза, смотревшие на всё вокруг с немым изумлением, нежно-белая, почти прозрачная кожа, уже слегка покрасневшая от палящих лучей азиатского солнца. Я сразу понял, что она приехала недавно оттуда, откуда когда-то привезла нас сюда с сестрёнкой мать, из далёкой России. Непривычная красота незнакомки наполняла пространство вокруг прохладой и спокойствием. Я смотрел на неё, и вся моя сущность в те минуты представляла собой одно: желание оказаться там, на Родине, в России. И с этого дня оно меня уже не покидало, предчувствие встречи, то сладкое, то с примесью горечи, эдакое дурманящее душу зелье под названием тоска… Тоска по России… *** Я, Павел Владимирович Иванов, родился 3 сентября 1955 года на станции Сенная, что находится в Вольском районе Саратовской области. А километрах в семи от неё есть небольшая деревушка под названием Новая Жуковка. Это родина моей матери Анны Ильиничны Ивановой, в девичестве Антоновой. Здесь, в этой деревушке, проживало несколько поколений моих пред112 ков по материнской линии. Я успел ещё застать в живых свою прабабушку, она уже не ходила, не разговаривала, лежала или реже сидела на кровати. Ей было более ста десяти лет. Крепостная крестьянка, родившая семнадцать детей! После моего рождения родители переехали сначала в Карелию, где родилась моя младшая, у нас разница в три года, сестра Татьяна, а затем в Мурманск. Здесь жили родственники по линии отца Владимира Фёдоровича Иванова. Он умер в 1961 году, ему был всего лишь тридцать один год. Истинную причину его смерти я так и не узнал. Что побудило мать вдруг сорваться с места и отправиться через весь огромный Союз в невероятно далёкий Самарканд, известно лишь ей одной. У меня одна версия — надеялась, что в далёких тёплых краях ей будет легче нас вырастить. Помните: «Ташкент — город хлебный»? Россия осталась в моей памяти несколькими яркими эпизодами… — Огромные сугробы по краям дороги, очень холодно, в кузове машины с откинутыми бортами гроб, заплаканная мать, и мы с сестрёнкой, закутанные в большие пуховые женские платки поверх одежды. Это похороны отца. — Ещё один эпизод… Накануне нашего отъезда в Самарканд пришла бабушка, чтобы уговорить мать не уезжать или оставить меня здесь, в Мурманске. Я был как две капли воды похож на отца, её единственного сына в многодетной семье, в которой рождались одни девочки. Мать отказалась, они поссорились, бабушка, вся в слезах, ушла. Словно предчувствуя, что это наша с ней последняя встреча, я бросился её догонять. Полярная ночь, зима, мне лет шесть… За посёлком, в котором мы жили, до города огромный пустырь. Фигура бабушки уже едва различима сквозь мелкую снежную порошу. Я кричу, но она не слышит. Вот её уже и не видно. Со слезами возвращаюсь обратно. На пустынной дороге путь преграждает огромная собака. Смотрит на меня умным внимательным взглядом. Потом отходит в сторону, пропускает и не трогает. И лишь много лет спустя я увидел точно такую же собаку в энциклопедии. Это был полярный волк. *** Если у одинокой и ещё молодой женщины с двумя маленькими детьми, оказавшейся в незнакомой стране с иной культурой без какой-либо поддержки, нет собственного жилья и 113 постоянного источника дохода, она очень быстро становится сначала жертвой, а потом изгоем. Мать прошла через обе эти стадии. Мы очень часто меняли место жительства, и условия становились с каждым переездом всё хуже и хуже. Последнее жильё — глинобитная ветхая пристройка из двух крохотных комнатушек без окон во дворе частного дома. В одной комнатке живём мы, другая завалена отрезками прорезиненной ткани, которой топим печку. Хоть и тепло в Самарканде, но зиму до конца и там никто не отменял. Мать в это время работает на какой-то фабрике, с которой ей и удалось привезти машину этого странного «топлива». ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ Когда я рассказываю своим студентам о театре Брехта и его драматургии, то почти с гордостью сообщаю, что в детстве мне самому довелось работать водоносом, как и одному из главных героев пьесы «Добрый человек из Сезуанна». И это правда! Я даже помню слова, которые выкрикивал, зазывая покупателей. Мана обияхтаг! Не уверен, что написал точно, но звучало примерно так. Тот, кто знает узбекский язык, тот поймёт. В переводе это означает: вот холодная вода! Стакан водопроводной воды стоил от одной до трёх копеек. Удавалось зарабатывать до двух рублей в день. Для восьмилетнего пацана по тем временам очень даже прилично. Правда, иногда находились и такие, что выпивали полведра и не платили ни копейки. А за водой до ближайшей колонки от базара или толкучки, моего места работы, надо было идти, между прочим, с километр. А потом с полным ведром обратно. Иногда я брал с собой для компании пятилетнюю сестру. *** Добрые люди посоветовали матери устроить меня в интернат. Для неё это был выход. Плата за моё содержание в интернате была куда меньше той, которую ей приходилось на меня тратить, ходи я в обычную школу. Как сейчас помню… Сосед остриг меня ручной машинкой наголо, мать отдраила цыпки на моих ногах, одела чуть ли не в последнюю целую рубашку, штаны, из которых я уже вырос, и… вдруг выяснилось, что у 114 меня нет ни одной пары обуви. А зачем она мне нужна была летом, когда пыль на тех улочках, по которым я носился с утра до вечера, нагревалась до пятидесяти градусов? В интернат меня приняли. А через год, когда его реорганизовали в детский дом-школу, мать привела сюда же и сестрёнку. Здесь мы с ней обрели наконец относительное спокойствие и возможность, хотя бы временно, не чувствовать себя обделёнными. Ведь вокруг нас такими, как и мы, были все. Детдомовцы жили по своим законам. Не любили тех, кто жаловался. Сурово наказывали воришек. Уважали силу. Дрались с уличными. Однажды мы, младшие, спрятавшись, наблюдали, как с уличными дерутся старшие. Это было очень страшно и жестоко. Словно сошлись непримиримые враги. Ночь. Луна. Тихо. Наши залегли на пустыре, вооружённые палками, цепями, камнями. В тишине раздаются приближающиеся звуки. Изза ближайших домов выходит тёмная масса. Это уличные. В руках у них те же предметы, что и у наших старших. Они подходят всё ближе и ближе. Помню, как у меня колотилось сердце, словно это я лежал среди тех, кому сейчас предстояло стать участником драки. Когда между противниками расстояние сократилось метров до двадцати, наши с криками вскакивают с земли и бросаются на уличных. В темноте плохо было видно, кто и как наносил удары, но зато хорошо слышны были крики ярости и боли. Драка была короткой. Уличные не выдерживают и отступают в темноту. Мать приходила к нам по воскресным дням, правда, всё реже и реже. Приносила конфеты, плакала. А потом пропала. Я до сих пор не знаю, где её могила. И не узнаю этого уже никогда. В детском доме была своя восьмилетка. После её окончания воспитанники обычно распределялись по разным ПТУ и пополняли ряды рабочего класса. И лишь в редких случаях кому-то в виде исключения разрешали закончить десятилетку. Счастливчики ходили в среднюю школу №12 имени Комарова. Она была ближайшая к нам. Из нашего класса такая возможность представилась четырём человекам. В их числе оказался и я. До сих пор не понимаю, за какие заслуги. В аттестате за восемь классов у меня в основном стояли тройки и четвёрки. Средняя школа №12 им. Комарова, 9«Б»… Для тех, кто учился в нём друг с другом с первого класса, мы были чужаками и за два года учёбы так и не успели стать своими. К нам относились с некоторой настороженной брезгливостью, а может, и слегка 115 побаивались. Мы были детдомовскими, и от нас, согласно установившимся предубеждениям, всякое можно было ожидать. Да и мы не стремились к близкому общению, держась друг друга. Ибо вот здесь, спустя почти восемь лет, я вновь почувствовал разницу между теми, у кого есть семья и родители, и теми, у кого этого нет. ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ Недавно на «Однокласниках» я встретил свою одноклассницу. Причём это она меня узнала, а не я её. Она сообщила мне, что наша классная жива, здорова и до сих пор даёт уроки русского. И что она помнит меня. Если честно, то я, мужик, немало повидавший на своём веку, разменявший шестой десяток, прослезился от умиления. Меня помнят! *** 1972 год, Узбекистан, Самарканд, июнь. Наступил тот долгожданный день, когда вместе со школьным аттестатом я получил возможность распоряжаться своим будущим самостоятельно и исполнить свою мечту, уехать в Россию. Формально меня должны были куда-то пристроить соответствующие государственные органы. Но по-настоящему моя судьба никого уже не интересовала. Я смог убедить всех, что еду в Саратов к родному дяде, который и устроит моё будущее. Мне выдали на руки наличными стоимость положенного мне комплекта постельного белья, матраса, одеяла и подушки. Этого вполне хватило на билет до Саратова. Дядя действительно существовал. Мне не раз рассказывала о нём мать. И даже его адрес имелся. Другое дело, ждал он меня или нет? Но это меня меньше всего беспокоило. Я был уверен: стоит мне оказаться в России, и всё у меня будет хорошо. Но телеграмму дяде о своём приезде я всё же отбил. Сестра училась в шестом классе и оставалась ещё в детском доме. Саратов встретил меня мокрым снегом. Такого я не ожидал. У меня ничего из одежды, кроме рубашки с короткими рукавами, не было. Но выручил дядя. Он получил телеграмму и встретил незнакомого племянника. На перроне снял с себя пальто и 116 надел его на меня. На этом все выражения родственных чувств с его стороны были закончены. О маме мы с ним почти не говорили. Он лишь коротко заметил, что она была хорошей женщиной, но «без царя в голове». На следующий же день он устроил меня учеником токаря на завод, где работал сам, и выбил мне место в общежитии. Кто был по-настоящему рад вновь обретённому внуку, так это бабушка, мама моей мамы. Она занимала комнату в двухкомнатной квартире на краю Саратова. Ей тогда было уже под семьдесят. Моя рабочая биография началась с ЧП. Как только меня оставили возле станка одного, я решил, что уже всё умею, и «запорол» его. Мне это простили за смелость. Через неделю я работал на этом станке уже играючи, без конца вытачивая одну и ту же деталь и вдвое перевыполняя плановое задание. Через три месяца я поймал себя на мысли, что становлюсь частью этого станка и тупею. И тут кто-то из моих заводских приятелей рассказал в компании о большой стройке в Набережных Челнах, где работает одна молодёжь. Я написал заявление по собственному. В отделе кадров посмеялись и вернули его. Я возмутился, а мне сказали: ты несовершеннолетний, исполнится восемнадцать, тогда отпустим. И вот когда я вспомнил о том, что являюсь членом Всесоюзного и ленинского! Пошёл в райком и вытребовал путевку на всесоюзную ударную комсомольскую стройку. И с этим документом меня в отделе кадров уже не посмели задерживать. На строительство КамАЗа тогда ехали по разным причинам и со всех концов необъятной страны. Кто-то за деньгами, ктото за квартирой, а кто-то и за романтикой. До сих пор бегут мурашки по спине, когда слышу строчки из песни: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!» Я сюда бежал от токарного станка. Взамен мне доверили лопату и кувалду. Первой я разбрасывал бетон, второй забивал в мёрзлую землю железные штыри. Зато было весело. Средний возраст строителя — двадцать три года. Мне ещё нет и семнадцати. Жили дружно. Меня в бригаде все опекали, как сына полка, спиртное пить не разрешали, девушки относились к моей персоне исключительно по-матерински. Осенью 1973, согласно Закону о всеобщей воинской обязанности, меня должны были призвать в ряды СА. Я не мог не увидеться с сестрой перед предстоящей разлукой и вернулся в Са117 марканд, уверенный в том, что уже через месяц вернусь обратно призывником. Все мои знакомые из Средней Азии проходили службу в России. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÈ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ В классе восьмом я на спор написал министру обороны СССР письмо, в котором просил его посодействовать мне стать военным лётчиком. И забыл про эту «шалость». Вдруг в один из дней на наш детдом произошло целое нашествие военных. Оказалось, что письмо моё дошло до приёмной министра. И там отреагировали положительно, посоветовав областному военкому помочь мальчику из детского дома осуществить мечту. А что такое совет из приёмной министра обороны для простого областного военкома? Это приказ! Военные старались очень-очень. Но выполнить этот приказ так и не смогли. Потому что мальчик этот без очков видел обоими глазами едва две строчки сверху. Я не годен был даже для поступления в лётно-техническое. *** Мне вдруг дали отсрочку до весны. Надо было искать работу и жильё. С последним мне помог бывший воспитанник нашего детдома Саша Барышев, предложив жить у него. А вот с работой оказалось куда сложнее. Я потерял трудовую. Тогда это была самая настоящая катастрофа. Никто не хотел брать на работу человека без трудовой книжки. Неважно, что трудового стажа у меня было всего-то год с хвостиком. Как говорят, нет документа — нет человека. Я обил пороги десятков разных предприятий, согласен был на любую работу, бесполезно. И лишь в одном месте отреагировали на отсутствие у меня трудовой очень просто и даже буднично: «Ничего страшного, мы выпишем вам другую». Это был Русский драматический театр им. Чехова. Меня приняли рабочим сцены с окладом 65 рублей. Я вошёл в театр, попал за кулисы и влюбился в этот мир, особый мир, мир искусства, и с тех пор ним не расстаюсь. Я не вернулся в Россию весной 1974 года, как рассчитывал. Эшелон с призывниками из Средней Азии, называемый теми, кто его охранял, диким, проследовал через неё транзитом, направляясь в Прибалтику. Это был длинный и нелёгкий путь. Нас 118 почему-то не кормили. Восемь суток мы перебивались исключительно теми запасами, что были у нас в сумках. На стоянках эшелон оцепляли автоматчики, и ни одна живая душа не могла проникнуть через этот заслон, чтобы пополнить запасы. Ночь, Каунас, сортировочный пункт в огромном зале какого-то Дома культуры. Все усталые, голодные, злые. И призывники, и те, кто их сейчас сортировал по воинским частям. Подполковник с охрипшим голосом называет непривычные для него азиатские фамилии, номер группы, а потом часть, куда эта группа должна отбыть. И вдруг пауза. Он выговаривает по слогам мою фамилию: — И-ва-нов! — Встаёт, удивлённо вглядывается в полутёмный зал. — А ну-ка встань! — Улыбается. — Это наш! Этого в сержантскую учёбку! Через несколько месяцев я стал сержантом. Для войск связи я с моим плохим зрением оказался очень даже годен. А ещё через месяц после окончания учёбки мне досрочно присвоили старшего сержанта. За проявленный в особо трудных условиях «героизм». Это было так… Небольшая часть. В казарме после пяти вечера офицеров нет. За главного остаётся дежурный сержант. Моё первое дежурство. Уже давно произведён отбой. А «деды» всё не хотят ложиться отдыхать. Делаю им замечание. А они решают поучить меня уму-разуму. Не знают, что школу выживания я проходил на азиатских улочках в драках c местными. Открываю оружейную комнату, беру «калашникова», полный магазин, и заставляю с его помощью всех «дедушек» выполнить приказ старшего по званию: лечь спать. Вот за этот «героизм» мне и повысили звание. А с «дедами» я потом заключил пакт о ненападении. За время моей службы произошло два события, о которых нельзя не вспомнить. Первое… Мой хороший знакомый, служивший в соседней части, чуть-чуть не сбил самолёт с нашей делегацией, которая возвращалась из Хельсинки после подписания знакового на долгие годы договора. И второе… Ранним утром нас подняли по боевой тревоге, и мы наводили самолёты на неопознанное судно в нейтральных водах. Мы были уверены, что это рыбацкий траулер, угнанный неизвестными. Через много лет я узнал, что это был взбунтовавшийся большой противолодочный корабль «Сторожевой» под командованием капитана третьего ранга Валерия Саблина. В 1976 году я демобилизовался и проследовал в Самарканд через столицу всего Советского Союза, город-герой Москву. 119 Увидеть успел немного, но впечатлений осталось море. Особенно мне понравилось мороженое-пирожное за 28 копеек. Я съел его неимоверное количество. Заодно я попробовал поступить, да не абы куда, а сразу в знаменитый ВГИК, на режиссёрский. Решение пришло ко мне спонтанно. А вдруг? Но вдруг ничего не бывает. Или это не для меня. Я провалился на первом же туре. В Самарканде надо было помочь определиться по жизни сестре, которая окончила среднюю школу. Но, как оказалось, она уже сама всё определила, поступив в физкультурный техникум. Меня с радостью взяли обратно в театр актёром второй категории и по совместительству реквизитором, дали комнату в актёрском общежитии. Пошли какие-то маленькие эпизодики в спектаклях, случались и роли, мне казалось, что я достиг всего, о чём только можно мечтать. Но однажды за кулисами старая актриса, исполнявшая роли комических старух, над которой частенько посмеивалась более молодая актёрская братия, очень проникновенно посоветовала: — Пашенька, если не хочешь быть похожим на меня в старости, надо обязательно учиться. Иначе ты всю жизнь будешь зависеть от настроения начальства. Мудрая женщина была права. В конце сезона меня предупредили, что дирекция театра собирается лишить меня комнаты, в которой я жил. А без жилья мне на мою смешную зарплату прожить было нельзя. Подошёл черед моего самого продолжительного свидания с Россией. Мне посоветовали ехать в Москву на актёрскую биржу. Там можно было устроиться в другой театр, оговорив определённые условия. Деньги на дорогу я заработал на строительстве частного дома, неделю подавал кирпичи каменщику. Платили пятнадцать рублей в день. Но потом ещё предстояло достать билет до Белокаменной. Летом это было сделать чрезвычайно трудно. Выручил сосед, знаменитый на полгорода тем, что был очень похож на товарища Сталина. Его все так и звали — товарищ Сталин. Он пошёл на вокзал и ему без всяких заковырок и очередей продали билет в общий вагон до Москвы. Не самое приятное место — актёрская биржа. А самые униженные на ней люди — актёры. Им чуть ли не на зубы смотрят, как при покупке лошадей. Особенно трудно возрастным травести и пожилым одиноким пьющим актёрам. Первые стараются всеми средствами выглядеть юными девочками, а вторые глубокими трезвенниками. Но у них это получается плохо. Я себе 120 новое место работы нашёл довольно быстро. Главный режиссёр Борисоглебского драмтеатра посмотрел на мой репертуарный лист, буркнул, что непьющие штаны на сцене всегда пригодятся, твёрдо пообещал комнату в общежитии и сунул мою трудовую в карман. На новое место работы мне следовало прибыть в начале сентября. Оставался месяц. И я решил наведать Саратов. Дядю мой приезд обрадовал мало. Он ещё не отошёл от обиды на меня за то, что я сбежал с завода. Не в восторге он был и от моего увлечения профессией актёра. По его глубокому убеждению, все артисты — пьяницы. Бабушка, наоборот, приезду моему была очень рада. Чтобы реже видеть дядю, я часто ночевал в её комнате, где она стелила мне на полу. Почти весь месяц я бродил по саратовским улицам, по набережной и однажды наткнулся на небольшое здание в самом центре города, в котором находилось Театральное училище им. Слонова. И прочёл на его дверях объявление о том, что в сентябре будет происходить дополнительный набор на отделение «Актёр драматического театра». Что-то ёкнуло у меня внутри, в области сердца. Я вспомнил слова старой актрисы и понял, что это знак судьбы. Надо поступать. Курс набирала замечательная в прошлом актриса саратовского ТЮЗа Надежда Дмитриевна Шляпникова. Вторым педагогом был действующий режиссёр того же театра Владимир Федосеев, очень похожий со своей бородой и шевелюрой на Карла Маркса. Я не был готов к поступлению, как того требовали правила. У меня не было программы, я понятия не имел, что такое этюд, никогда не читал К.С. Станиславского, не слышал про его систему. И очень благодарен за то, что Шляпникова отнеслась ко мне нестандартно. Она промучила меня часа три. Я прочёл всё, что помнил из поэзии и прозы, спел весь своей песенный репертуар, вплоть до каких-то сомнительных частушек, изобразил всех своих знакомых. Уже потом, где-то курсе на третьем, педагог по сценической речи, присутствовавшая на вступительных экзаменах, рассказала мне, что на листке бумаги, на котором Шляпникова делала пометки по каждому абитуриенту, напротив моей фамилии было написано одно слово — темнота. Что именно имела в виду Шляпникова, сегодня для меня уже неважно. Важно, что я поступил. И я был с ней согласен. Оказалось, что ни русской, ни зарубежной классики я толком не знаю. Не говоря уже о современной литературе. Порой я 121 чувствовал себя первобытным человеком, когда мои однокурсники, уже имевшие за плечами высшее образование, обсуждали произведения Кафки, Маркеса, Набокова. Пришлось, стиснув зубы, отказаться от многих соблазнов и за четыре года учёбы восполнить все пробелы в своём образовании. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ В качестве творческого задания мы должны были писать рассказы в стилистике того или иного автора… Чехова, Шукшина, Зощенко… Я это делал с особым удовольствием. Педагог, преподававший нам все литературы сразу: и русскую, и советскую, и зарубежную, — Наталья Иннокентьевна Свищева, как-то, прочитав мой очередной опус, сказала: — Не бросай писать. Это твой хлеб на чёрный день. И как она оказалась права! *** В 1981 году я окончил училище с единственной четвёркой, всё остальное было отлично, и поехал вместе со всем курсом в город Брянск открывать новый Театр юного зрителя. Причём в дебютном спектакле этого театра по пьесе Б. Горбатова «Юность отцов» я играл одну из главных ролей, Степана Рябинина. До сих пор помню напутственные слова Н.Д. Шляпниковой: «Помни, Паша, ты русский актёр». Я не могу жаловаться на свою карьеру актёра. Играл я много, роли были разные, каждый год мне повышали категорию, что добавляло к зарплате аж десять рублей. За одну из ролей стал даже лауреатом премии Брянского комсомола. Но где-то к своему третьему театральному сезону я вдруг поймал себя на том, что начинаю ощущать то же самое, что ощущал когда-то за токарным станком… некоторую скуку. Мне хотелось большего, чем быть актёром, пусть и хорошим, и выполнять то, что говорил мне режиссёр. Захотелось самому стать режиссёром. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÌÓ 1982 год… Поздним вечером после репетиции мы с другом пешком возвращаемся из театра в актёрское общежитие. По122 добные вечерние прогулки после спектакля или вечерней репетиции для нас стали уже привычными. И поэтому, когда нас вдруг остановил наряд милиции и стал расспрашивать, кто мы, откуда, почему, зачем, от кого и к кому, мы поняли: что-то произошло. И не ошиблись… На следующий день огромная страна узнала, что «осиротела». Скончался Леонид Ильич Брежнев. Запахло переменами. Перемен в жизни хотелось и мне. *** Было несколько попыток поступить на режиссуру. Первый раз, в Москве, меня сразу развернули обратно, я должен был отработать два года после окончания училища. Во второй раз я сбежал с гастролей в Питер поступать к Товстоногову. Но дирекция театра пригрозила, что вычтет с меня через суд стоимость тех спектаклей с моим участием, на которые уже были проданы билеты. Пришлось вернуться. Может быть, и третья моя попытка не удалась бы, я вновь из-за гастролей опоздал на экзамены, но мне опять повезло. В 1983 году режиссёрский курс в Белорусском театрально-художественном институте, ныне Белорусская государственная академия искусств, набирала Лидия Алексеевна Монакова. Женщины, в отличие от нас, мужчин, не столь прямолинейны и категоричны при принятии решения. Она не сказала: «Нет, опоздал!» Лишь предупредила, что приёмная комиссия по специальности через два часа заканчивает работу и уходит в отпуск. Если я смогу убедить её за оставшееся время, что имею право учиться режиссуре, то меня допустят к сдаче общеобразовательных дисциплин. Наверное, я очень хотел поступить, потому что мне удалось это сделать. В результате я поступил, а в 1988 году с отличием окончил отделение «Режиссура драмы». Ещё на четвёртом курсе я поставил свой первый спектакль в Могилёвском драматическом театре, это была пьеса начинающего белорусского автора В. Ткачёва «Приключения Конопухина». А дипломным проектом стал спектакль, поставленный по пьесе Н. Коляды «Игра в фанты» на сцене бобруйского Театра драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича. Сюда же меня и распределили. Я жил в кабинете главного режиссёра, готовился там к репетициям, спал на раскладном кресле-кровати, у меня была электрическая плитка, на которой я готовил себе еду. А в бывшем актёрском буфете жил тоже недавний выпускник нашего ин123 ститута, художник, с женой и ребёнком. Мы ходили друг к другу в гости. Иногда по ночам, когда не спалось, я просто бродил по огромному зданию, как привидение. Так продолжалось примерно полгода. Я успел поставить ещё один спектакль. Это был «Сын полка» по повести В. Катаева. Жильём и не пахло. Кабинетная жизнь и роль ночного привидения мне надоели. Я добился права на свободный диплом и вернулся в Минск. Почти сразу же познакомился с молодым директором Брестского драмтеатра, и он пригласил меня на постановку. Этот спектакль стал моим последним в карьере театрального режиссёра. Конец 1989-го, начало девяностых… Перестройка, на горизонте маячит историческая встреча в Вискулях, Союз доживает последние месяцы. Телеящик для миллионов становится домашним идолом. Я безработный режиссёр. А в детской редакции белорусского телевидения объявляют конкурс на замещение вакантной должности режиссёра. Подаю документы и… получаю заветную работу. Театральная страничка в моей биографии остаётся недописанной. Но я уверен, что временно. Пришлось на ходу переучиваться. Режиссёр на телевидении и в театре — профессии совершенно разные. Хотя и имеют общую основу. Я работал с удовольствием. Строил грандиозные творческие планы. Но после первой же большой постановочной работы, детского телеспектакля, в которой я задействовал одной только массовки человек двести, меня вызвало руководство редакции и голосом главного режиссёра чётко поставило на место: — Иванов, ты не Бондарчук, а мы не «Мосфильм». Чтобы такого безобразия больше не повторялось! Кстати, это «безобразие» получило звание лауреата на последнем, наверное, Всесоюзном конкурсе программ для детей и юношества в г. Пятигорске. Это произошло уже после распада СССР. В самом начале лихих девяностых случай свёл меня с молодыми режиссёром Юрием Бержицким и актером Владимиром Янковским. Всем троим хотелось «замутить» что-нибудь грандиозное и творческое. Мы организовали свою кинокомпанию с непонятным и труднопроизносимым названием «ЮВЭПС», которая базировалась на территории киностудии «Беларусьфильм», едва выживавшей в те годы. И начали снимать рекламу. Причём делали это с размахом, которому мог позавидовать Голливуд. Мы были первыми, были востребованы, нам нрави124 лось то, что делаем, мы строили грандиозные творческие планы на будущее. Но деньги разбивали и не такие союзы. Как только мы начали выяснять, кто сколько в нашем творческом союзе должен получать, он распался. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÅ Золотая осень 1992 года. Вызывает к себе главный редактор. Надо ехать в Новополоцк, где проходит детский фестиваль искусств. Мне не хочется, но уже подписан приказ о командировке съёмочной группы. В последний день во время съёмок церемонии награждения победителей фестиваля, сидя за режиссёрским пультом в передвижной телевизионной станции, вижу на мониторе, как на сцену поднимается молодая журналистка из газеты для вручения какого-то приза. Ёкает сердце. Требую у операторов, чтобы они показали мне её с разных ракурсов. И влюбляюсь с первого взгляда. После съёмок узнаю, в каком вагоне едет незнакомка. Меняю своё место в купе на место в её плацкартном вагоне и знакомлюсь. Её зовут Майя. Окончательно теряю голову и делаю ей предложение руки и сердца. Она в шоке. Мне к этому моменту почти тридцать восемь, ей двадцать четыре. Через месяц мы поженились. Ещё через пять лет у нас родилась замечательная дочь. До сих пор мы вместе. Я продолжаю работать на главном белорусском телеканале, перейдя из детской редакции в редакцию программ для молодёжи. Вскоре мне предлагают стать в ней главным режиссёром. На первый план в те годы выходят новостные жанры, различные ток-шоу, музыкальные программы и трансляции спортивных состязаний. Процент художественного вещания близится к нулю. Профессия режиссёра стремительно теряет свою актуальность. В один из дней я прихожу к выводу, что пора уходить. Но куда? Да и трудно сделать это психологически после стольких лет работы на ТВ. *** 2002 год. Я на перепутье. Вернуться в театр и начать всё сначала? А не поздно ли? Или податься в свободные художники? А на что тогда кормить семью? И тут, как добрая фея из сказки, 125 на моём пути возникает заслуженный деятель искусств, профессор, лауреат Государственной премии Владимир Павлович Забелло, он же основатель и заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств и, главное, очень мудрый человек. Именно он подсказывает мне, что есть ещё один путь: учить других тому, что умею сам. Набрать курс будущих режиссёров телевидения и стать его художественным руководителем. В 2007 я выпустил свой первый курс. Четырнадцать человек стали вполне успешными телевизионными режиссёрами. Сейчас 2009, мой очередной курс учится на третьем, а в следующем, в 2010, у меня будет уже третий набор. Совершенно не жалею, что ушёл с телевидения. Вернее, я не ушёл, я перешёл на другие формы общения с ним. Я много пишу. Киносценарии, рассказы, статьи, очерки и… учебные пособия. Получил должность профессора. Меня как автора снимают и печатают. И я не часто, но снимаю сам документальные фильмы и даже иногда балуюсь рекламой. Вернулся через двадцать лет к театру, написав несколько пьес. Одна из них, «Казнить нельзя помиловать…», вошла в третий том этой антологии. Сейчас её собирается ставить один из минских театров. Дочь Яна пошла в седьмой класс. Мы с ней друзья. Я часто рассказываю ей о тех местах, где успел побывать. И очень много о России. Ведь она тоже Иванова, но ещё ни разу не была на родине отца. Хотя до неё, особенно на карте, рукой подать. И мы с ней обязательно побываем и попутешествуем по ней, необъятной. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ На переписи населения на вопрос: «Твой родной язык?» дочь ответила: «Русский»! Хотя белорусский она тоже знает. ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÃÐÓÑÒÍÎÅ Недавно в Мурманске и Североморске проходили съёмки сериала о подводниках. Одним из автором сценария этого сериала был я, но меня туда не пустили. Потому что я и-но-стра-нец. А в Мурманске похоронена моя бабушка, мой отец, живёт многочисленная родня. 126 ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÂÅѨËÎÅ Москва. Идём с членами съёмочной группы в штаб Военноморского флота России для консультации. Меня в здание не пускают как иностранца. Продюсер звонит кому-то. Вдруг вниз спускается с шумом адмирал с двумя большими звёздочками на погонах и возмущённо спрашивает у часового: — Какой он иностранец? Ты посмотри, какая у него фамилия в паспорте! Разве может человек с такой фамилией быть в России иностранцем? Пропустить под мою личную ответственность! И меня пропускают! Я согласен с адмиралом. Этот сериал скоро покажут по одному из российских каналов. И когда в титрах будут читать и мою фамилию, ни у кого не возникнет мысли о том, что эта фамилия принадлежит иностранцу. *** Разве может человек с фамилией ИВАНОВ быть в России иностранцем? На ИВАНОВЫХ Россия держится! Ñåðãåé ÊÎÌΠÐèääåð ÏÎÏÓÒ×ÈÖÀ Было это в прошлом году. Бабье лето стояло в разгаре, удивительное. Янтарное купалось в небе солнце. Возвращаясь в Риддер, я взял с собою попутчицу. На выезде из Усть-Каменогорска много народу голосовало в ожидании попутных машин. А она одна стояла поодаль. В робком неуверенном колебании руки её угадывалась природная стеснительность. — Садитесь. — Мне до Черемшанки. — Можно и до Черемшанки, всё равно по дороге. Света сидела рядом и, стесняясь своих рук, пыталась спрятать их на коленях под сумочкой. — Вы не смотрите на мои руки, некрасивые они, изработанные. Да и извёсткой их поело, дома белила я на днях. — Да вы не стесняйтесь, я и сам родом из деревни… Аллея тополей рыжей сквозной стеной возвышалась с обеих сторон дороги. Солнце, просеиваясь сквозь ветви и редкую листву деревьев, пятнало бликами дорогу. Освоившись, моя попутчица разговорилась. Расспрашивая меня, она выказывала неподдельное душевное тепло и искреннее человеческое участие, свойственное людям, которых изрядно потрепала жизнь. Мне запомнилась глубокая печаль её красивых глаз и редкая полуулыбка, с которой она, задумавшись, рассказывала о своей жизни. — Жизнь у нас обычная, деревенская. Держим с мужем хозяйство небольшое да огород, десять соток. Лет двенадцать я проработала в пекарне, с тех пор как вернулась из России… Эта больная тема о переезде на историческую родину была известна мне не понаслышке. И чем дальше, тем интереснее становилась её повесть. Я попросил её подробней рассказать о своих скитаниях. Начала она издалека. — А родилась я тут неподалёку, в Первомайке. Отец настру128 гал нас восемь девчонок, всё сына ему хотелось. В советское время и выучиться могла бы, да оно задним-то умом всё хорошо. Замуж побежала. Уехала с мужем в Узбекистан. Родила там сына Серёжу. Вскоре и Союз развалился. С мужем не пожилось. Вернулась я снова в Казахстан. Теперь уже в Черемшанку, поближе к дому. Здесь работы тоже никакой. Время, помните, наверно, крах повсюду был. А тут сестра старшая позвала к себе в Вологду. Выбирать было не из чего. Дай, думаю, попробую. Поехала в Вологду. Да не в сам город… Там ещё на перекладных чуть ли не сутки ехать. Тмутаракань, одним словом. Сестра встретила неплохо. Только у неё своих детей двое, младший как мой Серёжка, лет семь ему было в то время. Поначалу всё хорошо, а потом, как говорится: поврозь — скучно, а вместе — тесно. Работу Иринка мне свою уступила. Стала я поварихой по заездам — отвезут в дремучий лес, и живёшь там целые недели. Ох и скучала я по своему сыну! А ему-то каково было без меня! Терпеливый и понятливый он рос. Сам маленький, а характер крепкий у него, мужской. Съездила я раз, другой на работу. Дали мне зарплату. Я все деньги сестре отдавала. Подошла пора Серёже в школу идти, а Иринка все деньги на своих пустила. Зло меня взяло, говорю сестре: «Что же ты моего сына не одела, ведь ему в школу?» А она не помню уж что мне ответила, да только обидное что-то. Сынок ко мне прилип, наскучался по мне. Я ведь только с заезда приехала. Видно, разобижали его родственники без меня. Жалко его, аж сердце разрывается. Понятно стало мне — лишние мы с сыном. Тогда и задумала я вернуться домой. А на работе начальник как почуял, зарплату не выдаёт уж несколько месяцев и говорит мне: «Тебе деньги дай, ты снова в свой Казахстан уедешь». На что я ему в лицо и говорю: «Я и дня здесь не задержусь, домой поеду, прямиком в Казахстан! Пешком пойду!» Денег я так и не увидела. Наскребла крохи, что на чёрный день оставляла. А он оказался не за горами. Приехала я с заезда, а сестрин сынок старший меня в дом не пускает, говорит: «Папа не велел». Это они специально так обрядили, чтобы не сестра крайней была, а муж её. Да я на них и не обижаюсь, Господь им судья. И тогда, помнится, не злилась уже на них. Взяла я своего Серёжку и пошли мы с ним куда глаза глядят. Долго ль голому собраться — только подпоясаться! — В этот момент на лицо её легла тень грустной улыбки. От переживаний за собеседницу я почувствовал, как вспотели руки на руле. Нервно протёр тряпкой руль и попросил попутчицу продолжить рассказ. 129 — Была уже осень. С год, получается, мы там с сыном промаялись. Дошли до районного центра, вёрст десять. Благо там двери на ночь не запирали. С собой поклажа небольшая была: сумочка, еда какая-никакая в ней. Перекусили с усталости и уснули прямо на лавках. Утром сели на автобус и добрались до Вологды. Там на поезд — и до Москвы. Матушки ты мои, какая Россия огромная и какая она для нас бесприютная! В Москве вроде была, а не видела её. Вышли на Ярославском вокзале, а сели на Казанском, метров триста между ними, наверное. Почему я села на электричку? Да деньги закончились, не хватило на поезд. Пришла в милицию. А он накинулся на меня: «Иди отсюда, бомжиха!» Так горько стало, ведь и вправду, кто я такая? Самая что ни на есть бомжиха. Нет у меня места, где голову преклонить. И жить неохота, а жить-то как-то надо. Ведь дитя-то моё ни в чём не виновато! И нет у меня ближе него на целом свете никого. Обтёрла я ему слёзы платком, купила калач, разломила его пополам, тем и были сыты. Купила билеты на первую электричку, идущую на восток, докуда денег хватило. А часа через два нас высадили на незнакомой станции. И ещё пару раз высаживали, пока мы не оказались в Гусь-Хрустальном. В милицию я больше не пошла, а ходила прямо возле поездов, всё смотрела, как поезда идут в Сибирь, в Казахстан. Вот уж второй поезд пропустила в Лениногорск, а он через сутки ходил. Ночевали с Серёженькой прямо на улице, не то речка, не то озерцо там какое-то есть. Укроемся вместе с сыном моей курткой, обниму его, родненького, и греемся друг о дружку. Осень была. Курточка по утрам аж заиндевеет. А в последний день даже снежком присыпало. Ту ночь помню как сейчас, всё заснуть не могла от холода. Укрылась с головой и дыханием своим щупленького сынишку своего грею. В один момент помутилось в голове, и я отключилась. А когда глаза открыла, всё кругом белым-бело. Все эти дни мы не ели. Воровать-то мы не приученные, отец шибко строго нас держал. Спасибо сынку, терпеливый он у меня. Весь аж прозрачный от голода, а не плачет, жалеет меня, как взрослый. Мы бы в том городке, наверно, околели от холода и голода, если бы не одна старушка. Мир не без добрых людей! — И снова тень благодарной улыбки упала ей на лицо. Светлана задумалась и на какоето мгновение забыла обо мне. Видимо, вспомнила ту далёкую старушку. — Увидела она нас у платформы и спрашивает: «Уж который раз я вас здесь вижу. Беда какая приключилась, что ли?» 130 Я ей всё по порядку и рассказала. А она бойкая такая, крепенькая. Фронтовичка. Всё вспоминала, как друг другу в войну помогали. Звали ту старушку баба Фрося. Дай Бог ей здоровья, если она жива! Ну а если померла (ей тогда уже за восемьдесят было) — светлого места в Царстве Небесном. Спасла она нас. Накормила в буфете. Узнала, далеко ли нам ехать, сколько нам туда надо денег. Пожурила маленько меня за то, что я людей дичиться стала, куда, мол, мы без людей — одни поругают, другие приголубят. Говорит мне: «В общем, вот что, Светлана, пойдём просить с тобой милостыню». Я ни в какую. Она схватила меня за руку (а рука у неё такая цепкая), прямо в запястье, и потащила за собой. Другой рукой я потащила Серёжу. Между ними — руки нарастяг — будто распнули меня. «Дайте-подайте, люди добрые, ради Христа!» — кричит тётя Фрося и волокёт нас между людей. Бойкая старушка, хлебнувшая горя побольше моего! Ради меня с сыном не побоялась унизиться: «Помогите, люди добрые! Пожалейте дитя малое, домой добраться не на что…» А я глаза от земли не могу поднять — стыдом прибивает. Ктото дал денежку, а другой чуть не плюнул в меня, попрекнул, мол, такая молодая, а уже нищенка. Я вырываюсь, плачу, а баба Фрося крепко держит меня: «Господь терпел и нам велел! Терпи, дочка, не за себя терпишь, а за сына своего терпишь». Я в слезах волокусь за ней, прошу: «Ради Христа…» Насобирали мы всё-таки на билет благодаря заступнице нашей. А ведь живут люди в том Гусь-Хрустальном сами беднее бедного. Зарплату им хрусталём выдают, и бегут они наперебой к вагонам остановившихся поездов, унижаются, предлагают незадорого тот хрусталь. И нам, горемычным, помогли, не отринули. Мало того, наша баба Фрося пошла в милицию, дала нагоняю милиционеру за то, что у них под носом женщины с детьми умирают, а они и не видят. И когда подошёл долгожданный поезд, идущий в Лениногорск, милиционер в сопровождении неотступной фронтовички бабы Фроси проследовал к начальнику поезда, и нам выделили место в плацкартном вагоне. Да ещё белые простыни выдали. Я хотела вернуть Христа ради выпрошенные деньги нашей спасительнице, а она за это пристыдила меня по-матерински: «Деньги эти людские на еду оставь, четверо суток ехать — не шутка!» Попрощалась со мной, как с родной: «Прощай, дочка. Береги внучка!» И ушла. Так мы вернулись домой. Здесь я родилась. Здесь я выросла. Здесь мой дом. А есть ли у человека ещё что-нибудь более родное, чем его дом? 131 Она закончила свой рассказ, никого не осудив и не виня никого в жизненных испытаниях, с благодарностью вспоминая людей, принявших участие в её судьбе. Мы уже въезжали в Черемшанку, и я задал ей прямой вопрос: есть ли обида на свою историческую Родину за то, что она не приняла никакого участия в её судьбе? Ответ можно было предугадать, но что он будет таким простым и исчерпывающим, я услышать не ожидал. — Как нам не любить Россию? Ведь она наша мамка! А когда я под курточкой на голой земле в Гусь-Хрустальном ночевала с сыном, ему-то было за что меня любить, нищую, неспособную добыть ему даже хлеба кусок?! А вы видели когда-нибудь большую семью, где нет отца, а мать от горя спилась? Так вот, ходит этот выводок за ней по пятам, полураздетые, полубосые, впроголодь, маленькие держатся за мамкину юбку, а старшие готовы кинуться с кулаками на того, кто попытается её оскорбить. И ведь, казалось бы, не за что её любить, больную, грязную, всеми презираемую. Ошибаетесь! Именно эти обделённые дети умеют любить как никто другой. Так и мы любим свою Россию, как мамку свою, какой бы она ни была. Светлана вышла на окраине села. Бабье лето, не поскупившись, застелило ковром из рыжей тополиной листвы тропинку к её дому. Дорога, по которой она шла, была солнечно-золотистой. Àëåêñàíäð ÊÓËÀÍΠÌîñêîâñêàÿ îáëàñòü ÐÓÑÑÊÈŠƨÍÛ ßÏÎÍÑÊÈÕ ÌÓÆÅÉ Значительная, если не основная, часть ныне живущих в Японии русских — молодые женщины, вышедшие замуж за японцев. В русской диаспоре их так и зовут — «японские жёны», а в России, чтобы не возникало путаницы, — «русскими жёнами». Истории их жизни и, шире, проблемы межрасовых браков и российской диаспоры в Японии горячо заинтересовали меня, и в 2003 году на одном из интернет-сайтов я опубликовал статью под скандальным названием «Глазами узкими в глаза мне посмотри». Материал о «японских жёнах» (впредь буду именовать их так — «по-японски») оказался скандальным не только по названию. Ни один материал ни до, ни после не принёс автору столько критики, оскорблений, короче говоря, обычных в нашей работе шишек и синяков. Статью ругали почти все — мои друзья и мои враги, мужчины и женщины, русские и японцы. Журнал «Работница» опубликовал её под другим названием, сократив примерно на треть, но кроме неё никто вообще не решился на это. Перечитывая статью сегодня, я понимаю, что некоторые формулировки надо смягчить, но ни на шаг не отступлю от своей позиции, пока не увижу убедительных доказательств своей неправоты. Ещё раз подтверждаю: всё рассказанное мною — правда, диалоги и монологи подлинные. Я лишь изменил некоторые нюансы биографий девушек, каждую из которых знаю лично, и не называю их имён, так как считаю эти биографии типичными. Впрочем, сами девушки себя узнали — все. Для тех, кому эти истории покажутся слишком жёсткими, скажу, что из них удалены упоминания о многих реальных событиях — изнасилованиях, домогательствах, носивших межрасовый характер и прочих совсем уж неприятных событиях. 133 ÃËÀÇÀÌÈ ÓÇÊÈÌÈ Â ÃËÀÇÀ ÌÍÅ ÏÎÑÌÎÒÐÈ «Собираюсь написать статью о японской любви», — обмолвился я своей подруге — русской девушке, пять лет бывшей замужем за японцем. «Как можно писать о том, чего нет?» — удивилась она. Думаю, моя знакомая неправа. Любовь в Японии, конечно, есть — во всех её проявлениях. В том числе тех, о которых мы с вами мало что знаем, и совершенно напрасно, ибо начиная с 1991 года каждый год около трёхсот наших соотечественниц выходят замуж за японцев. Что влечет их туда? Ответить на этот вопрос нетрудно, ибо возможны лишь три варианта решения (по степени распространённости): — деньги; — любовь; — так сложилась жизнь. О том, как она складывается дальше и как она будет складываться в будущем, поговорим чуть позже, а пока несколько слов об одной специфичной категории японских мужчин. В 2002 году часть японских мачо сильно невзлюбили северокорейского лидера Ким Чен Ира. И дело было совсем не в политике. Просто немалая часть местных «джентльменов» слишком уж предпочитала блондинок. Слишком многие из них любили похвастаться своими сексуальными «подвигами» (без кавычек это слово в данном контексте неприменимо) в Интернете. Чат «Обожаю блондинок», где делились своими интимными откровениями любители русских девушек, бил в 2002 году все рекорды посещаемости, пока его не вскрыл неизвестный хакер. После этого вместо интимных откровений пожилых японских ловеласов в чате повис огромный портрет северокорейского лидера. Поделом. Я не симпатизирую тем японцам, которые посещали виртуальную сеть, вожделея голубых глаз и светлых волос. Я не верю в то, что они любят русских женщин. Они любят красивые вещи. Когда после распада СССР наши девушки хлынули в Японию на заработки, на Божественных островах очень быстро возникла мода на белых невест. Здесь необходимо пояснить, что на протяжении нескольких последних десятилетий в результате смешения национальных традиций и глубоко проникшей в общество евроамериканской культуры в Японии сложился определённый набор эротических штампов. Для японских мужчин настоящими «сексуальными приманками» стали связанные женщины, школьницы и… белые женщины (желательно — с 134 белыми, как здесь говорят, волосами). С помощью русских девушек третий пункт программы наконец-то был выполнен к началу XXI века. Японцы бросились покупать русских невест, как дорогие автомобили или картины известных художников. Часть этих японских мужей в своих новых жён влюбилась. Я такие пары знаю и искренне рад за обе стороны. А вот другие... Мы сидим в ресторане с пятью японцами, в числе которых мафиози, миллионер, депутат парламента, крупный журналист и человек без определённых занятий. Встретились для обсуждения совершенно иной проблемы, но за пивом неожиданно выяснилось, что все они (!) любят русских девушек и либо женаты на них, либо собираются сделать это в ближайшем будущем. В чём причина такой «любви»? Совершенно ошарашенный, я сидел и слушал откровения, которые сыпались одно за другим: «Сравнивать русских и японских женщин жестоко по отношению к японкам!», «Русские — настоящие красавицы, но только до двадцати пяти лет!», «Когда мне пятьдесят, у меня уже всё есть и хочется молодой, красивой жены с белой кожей и белыми волосами! Но ненадолго — через год-два она мне надоест, и я куплю другую». Надо отметить, что самому младшему из собеседников за пятьдесят — критический японский возраст, и это очень важная черта. Обременённые тяжким трудом на фирме и накоплением денег на жилье, японцы до пятидесяти лет мало обращают внимания на свою личную жизнь. Но потом… Едва ли не самая сексуально озабоченная категория населения Японии — сотрудники фирм, вступающие в предпенсионный возраст. Это они лихорадочно листают в электричках порнокомиксы, это они составляют боLльшую часть покупателей в сексшопах, это они едут за невестами в холодную Россию. При этом многие из них оказываются несостоятельны как мужчины — падение рождаемости и сексуальной активности в целом стало настоящей бедой японского общества, и белые жёны нужны им лишь в качестве показателя преуспевания вместе с часами «Ролекс» и бумажником «Луи Виттон». Мужья работают днём и напиваются вечером — они делают то, что делали всю свою сознательную жизнь, потому что для них это нормально — по-другому они себя вести просто не умеют. Русские же девушки, не привыкшие к такому обращению, вернее, к его полному отсутствию, пополняют нашу колонию в Японии, ходят в Русский клуб, скучают и развлекают себя сами. Объяснять японцам, что лучшая невеста для 55-летнего мужчины не вчерашняя студентка, а 135 женщина, более близкая ему по возрасту, так же бесполезно, как просить камень самостоятельно откатиться с дороги. История первая — странная. Она — профессорская дочка из Москвы, ей — двадцать четыре. Он приехал за русской невестой, когда ему стукнуло пятьдесят два. Ей после развода было всё равно (причина №3). Пять лет они прожили вместе, ни разу не занимаясь сексом. Иногда по вечерам он с ней разговаривал, иногда нет. Раз в две недели он водил её в ресторан, раз в три месяца вывозил её экскурсию по Японии, раз в полгода — за границу. Давал немного денег на еду и содержал её маму в России. Она провела эти годы в тоске и скуке. Когда она спрашивала: «Зачем я вам?», он отвечал: «Кирэй да кара» — «Потому что красивая». В конце концов она вернулась обратно — в Россию, вышла замуж по любви и предпочитает не вспоминать о прошлом. С написанным здесь согласна полностью. Почти каждый день русские девушки приходят в консульство РФ в Японии за получением «Справки об отсутствии препятствий к заключению брака». Немалая их часть приехала в Японию на заработки. Замужество для них — источник доходов. Бывает (и нередко), что такие невесты, приходя для оформления документов в российское консульство, не в состоянии вспомнить, как зовут их «избранников». Многие из этих русских жён подрабатывают в хостесс-клубах и в браке ведут себя в соответствии с психологией хостесс, неумолимыми насосами выкачивая из мужей деньги. Япония — великая страна, здесь уютно и комфортно жить, если кроме денег и спокойствия ничего не надо. И этим девушкам повезло — они нашли для себя земной рай. История вторая — драматическая. Она из Новосибирска. Он — владелец небольшого ресторанчика. Разница в возрасте — лет пятнадцать (причина знакомства №1). Он работал целыми днями. Она целыми днями скучала. Однажды у неё появился бойфренд — иранец по имени Али. Каждый вечер он стал приходить вместе с ней в ресторан её мужа, они прилюдно флиртовали. Муж всё видел, понимал, сходил с ума, но молчал — он любит её. Она хотела уехать из Японии с любовником. Тот отказался и вместо этого начал приходить к ней домой, не смущаясь присутствием мужа, следил за ней, приставал. Она пожаловалась мужу, и любовник исчез. Мир в семье восстановлен. Она из Японии уезжать пока не собирается. Статью прочитала и рассказала знакомым, что про неё на родине написана книга. 136 Глупо думать, что помимо денег брак с японцем не может принести других радостей. Может! Важно соблюдать некоторые условия. Кроме того, что у жениха и невесты не должно быть разницы в годах в два-три раза (это и без межрасовых отличий серьёзная проблема), хорошо, если японец не очень уж походит на японца по своему менталитету. Или наоборот — девушка должна быть не совсем русской по своему мировосприятию. Это не новость — например, в своё время А.И. Солженицын сравнивал русских женщин с немками: «…русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они всё время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нём недостаточное благородство, то недостаточное мужество — русскую возлюбленную всё время ощущаешь, как равную себе, и это неудобно». Если супруги-иностранцы понимают это, у них появляется вполне реальный шанс найти общий язык. Речь не идёт о языковом барьере — практически все русские жёны говорят по-японски. Просто очень многие местные мужья со своими жёнами почти не разговаривают. И я не знаю — плохо ли это. Скорее всего, тоже нормально — таков их менталитет. Ещё одна моя знакомая, специалист по японской культуре, вполне счастлива в браке с мужем-японцем (ребёнку четыре года). У них небольшая разница в возрасте (пять лет), а его молчаливость её, влюблённую в японскую культуру, завораживает: «Он так меня любит! Это же сразу видно — он всё время молчит. Кажется, вообще меня не замечает. Только глаза как щёлки и губы сжаты: сразу видно — любит». Возможно, так и есть. Классик японской литературы Юкио Мисима писал: «Идеал любви — тайная любовь. Высказанная любовь теряет свои достоинства». Боюсь только, что большинство современных японцев Мисиму не читали, так же как и их новоиспечённые жёны. От последних чаще приходится слышать о другом показателе молчаливой влюблённости: «Ради меня готов на всё: даёт денег на каждую распродажу. Над ним даже на работе смеются, а он терпит. Приходит домой, денег даст и молчит, молчит… Прям Ромео!» Однако грустнее, когда всё происходит с точностью до наоборот. История третья — печальная. Она с Сахалина, окончила Театральный институт. Приехала в Японию подработать. В клубе познакомилась с японцем — владельцем небольшого бара. Вышла замуж (причина №3). Он увёз её домой — в провинцию. Она стала работать официанткой в его баре. Он заводил себе рус137 ских любовниц одну за одной, приводя их всех в бар, знакомя с женой и заставляя ту обслуживать их. Вечерами приходил домой пьяный, дрался. В конце концов она сбежала. До России добиралась нелегально. Где она сейчас, я не знаю. За последние годы ХХ века численность русской колонии в этой стране возросла примерно с 1 000 до 10 000 человек (по состоянию на 2005 год). Примерно — потому, что значительная часть наших соотечественников живёт здесь с просроченными визами, то есть фактически нелегально. Впрочем, большинство русских жен вёзы имеют. Вместе с учёными и стажёрами они составляют основу нашей общины на этой далёкой земле. Сегодня мы уже можем говорить о второй (после 1917—1922 годов) волне эмиграции в Японию. В связи с этим возникает вопрос: каким будет будущее русской колонии? У многих из русских жён, немалое число которых попало в Японию случайно, есть русские дети. Обычное дело — женщина после тяжёлого развода пытается забыться, сменить обстановку, место жительства… Под руку попадается объявление: «Ищу невесту» или встречается подруга из бюро знакомств. Ребёнка за руку, и на самолёт… Наверно, им повезло — их дети ещё помнят Россию, русских бабушек и дедушек, говорят порусски. Большинство же детей, родивших в смешанном браке в Японии, пока не подозревает о проблемах, которые ждут их впереди. Я разговаривал с людьми, прожившими в этой стране десятилетия. Они точно — русские. А вот кто их дети, они не знают. Более того, русская женщина, родившая ребёнка от японца, должна быть готова к тому, что этот ребёнок будет всё больше походить на японца. И не только внешне, хотя, как правило, это именно так. Проблема в другом. Япония — мононациональное государство. Инородцев здесь мало (всего около 2% населения), и они постоянно чувствуют на себе мощное давление большинства. Особенно — дети. Мать может разговаривать с ребёнком дома по-русски. В детском саду это станет причиной насмешек и издевательств. Мать может учить ребёнка русской литературе. В школе его заставят выбросить из головы эти «фанаберии». Мать может учить ребёнка русским песням. В школе он будет осваивать разные виды поклонов и привыкать прикрывать ладошкой рот во время смеха. Быть полукровкой — «хафу» — здесь тяжело, и даже если самому отказаться от своего происхождения, другие будут помнить о нём. Если женщина хочет жить в Японии и рожать здесь детей, она должна понимать, что со временем её ребёнок станет японцем — для неё и 138 никогда не станет им — для всех остальных. Отчуждение неизбежно. Говорят, японское общество собирается вот-вот измениться и стать более интернационализированным именно в этой области. Вот-вот… Ещё одна моя знакомая, вышедшая замуж за латиноамериканца японского происхождения, рассказывала, как её маленькая дочь, вернувшись из садика, заявила: — Мама, я нарисовала твой портрет! — А почему волосы чёрные? У меня же белые. — Я не хочу, чтобы у тебя были белые волосы! У всех мам чёрные, у тебя — белые. Не хочу! Плохо, когда не как у всех! Волосы пришлось перекрасить. Не на портрете. На голове. И это — только начало. История четвёртая — ещё более драматическая. Она с Дальнего Востока. Он приехал специально, чтобы жениться на русской. Ухаживал красиво — «как в кино»: дарил цветы (дикая для японцев вещь), катал на такси, целовал руку. Она вышла за него замуж (причина №2). Он привёз её к себе домой — в деревню у подножия Фудзи. В доме жили его родители и старший братшизофреник. Перед домом рисовое поле — на нём она провела почти год. Кормили её тем же самым рисом. На улицу не выпускали, денег не давали. Она воровала у него из кошелька мелочь, чтобы добраться до города. Бежала. Пряталась в Токио у старой знакомой — русской жены. Подруга помогла с работой — она пошла в хостесс-клуб. Там встретила молодого алжирца — Ричи, влюбилась. С юности врачи ставили ей диагноз: бесплодие. Через несколько месяцев после встречи с Ричи она забеременела. Ребёнка решила оставить. Виза к тому времени кончилась. У Ричи тоже. Сейчас ребёнку два года, они по-прежнему живут в Японии. Что будет дальше, она не знает, но снова беременна. (Время написало продолжение: их всё-таки поймали. Мужа выслали в Алжир, её — в Россию. Оба ребёнка сданы на воспитание в интернат. Начинается международный суд.) Каждый месяц в офисе крупнейшей японской авиакомпании, продающей билеты на рейсы «Аэрофлота», раздается как минимум один звонок от очередной русской девушки, пытающейся убежать от «любимого» мужа. Многие делают это менее авантюрно. Но их всё равно значительно меньше вновь прибывающих невест, почти каждый день заключающих брак с японцем и становящихся очередными «японскими женами». В Токио таких «новобранцев» легко узнать. Вот японский пенсионер ведёт за руку девушку на голову выше его. У неё идеаль139 ная фигура и белые волосы. Он на ломаном английском языке рассказывает ей что-то про храмы. Она рассеянно кивает, смотрит в сторону и отворачивается, когда видит меня — соотечественники идентифицируют здесь друг друга безошибочно. Я знаю, чем кончится её брак. Кажется, она это знает тоже. История пятая — счастливая. Она из Хабаровска. Он — из японской провинции, потомок воинственного клана самураев, ставший инженером. Он — общителен, щедр, ревнив, благороден, непосредственен. Она — красива, умна, весела. Разница в возрасте — около десяти лет. Они встретились случайно и вместе уже больше десяти лет. Они очень сильно любят друг друга — это видно даже со стороны. Они часто ссорятся, но мирятся всегда на один раз больше. Он учит русский язык и называет жену «Люблючка». У них много проблем. Но они счастливы. Недавно она родила красивого зеленоглазого мальчишку, как две капли воды похожего на её мужа. Я очень надеюсь, что они будут счастливы всегда. Счастья вам, женщины! На протяжении нескольких лет в Интернете на форумах «Японского журнала — Japon.ru» активно обсуждалась эта статья и вообще тема «японских жён». Со временем одна из самых непримиримых из них предложила ответить мне на ее вопросы официально. Так появилось первое и до сих пор единственное интервью, которое «японская жена» взяла у русского журналиста на тему имиджа русско-японских браков. ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÈÌÀÈ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÌ «ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ JAPON.RU» ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÊÓËÀÍÎÂÛÌ Е. И м а и. Скажу сразу: для нас, русских в Японии, слово «Жапон» (Japon) сегодня уже не кажется странным на слух. Многие из нас уже хотя бы по разу побывали на страницах этого интернет-журнала. Что касается лично меня, то чтение «Интересного журнала о Японии» стало для меня своеобразным вечерним ритуалом, нормой жизни, как для японцев вполне обычным занятием является ежедневный просмотр «Асахи симбун». Сегодня же мне представилась возможность побеседовать с главным редактором этого журнала Александром Кулановым 140 на очень важную для меня тему: о российско-японских браках и представлении о них наших соотечественников. — Александр, я хотела бы с вами поговорить о российско-японских браках в Японии и роли российских СМИ в формировании имиджа международного брака, в частности российсско-японского. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос: я думаю, вы согласитесь с тем, что жениться или выйти замуж — дело сугубо личное? Однако общественное мнение в России до сих пор проявляет нетерпимость и бестактность по отношению к тем, кто выходит замуж за иностранца. Обычный российский брак редко становится предметом дискуссий, в то время как международный брак приковывает к себе взгляд многомиллионной толпы. Почему? — Во-первых, я хотел бы сказать, что эта тема мне представляется не просто важной, а очень важной. Во-вторых, никакой особой роли СМИ в формировании какого бы то ни было имиджа международных браков я не вижу. Особенно это касается браков русско-японских. Если о браках россиянок с европейцами или американцами ещё хотя бы иногда пишут, то о русско-японских я не читал почти ничего, кроме написанного мной самим. Можете считать, что это нескромно, но либо мало кого из журналистов кроме меня эта тема интересует, либо нет информационного спроса. Скорее всего, и то и другое. К сожалению, у меня нет статистики по международным бракам, но, вероятно, количество наших соотечественниц, выходящих замуж за европейцев, значительно больше, чем тех, кто уезжает на Восток, раз интерес к первым явно выше. В-третьих, имидж международных браков, тот, который худо-бедно существует, однозначно плох. Причин этому несколько. Если мы сейчас говорим только о роли СМИ в этом процессе, не трогая приватный уровень формирования образа, то объяснений у меня несколько. Прежде всего, проблема в том, что любое издание, специализирующееся на новостях, ищет те из них, которые с наименьшими затратами привлекают наибольшее количество аудитории. Такие новости делятся на две категории: гламурные рассказы о жизни звёзд (в нашей теме таких я знаю одну — маму Милы Йовович, а в Японии это могла бы стать, но не стала, тема происхождения великого чемпиона сумо — ёкодзуны Тайхо Коки) и новости о войнах, преступлениях, смертях и прочая чернуха. Вот тут, во второй категории, вести из мира между141 народных браков встречаются гораздо чаще: кто-то попал в сексуальное рабство, кто-то не может встретиться с детьми, убили русскую хостесс и так далее. Вспомните фильм, во многом до сих пор определяющий отношение к международным бракам у наших соотечественников — «Интердевочку», получившую, кстати, престижную кинопремию Японии. Нет же картины о счастливой семье, скажем, русской и тайваньца. Пётр Ефимович Тодоровский, вероятно помимо своей воли, но с помощью своего таланта легко и ненавязчиво вбил в голову измождённым дефицитом и очередями советским людям, что девушка, уезжающая за границу, чтобы выйти замуж за иностранца — неважно, по любви или чтобы просто про все эти очереди забыть, непременно проститутка. Кино и телевидение — важнейший инструмент пропаганды, с помощью которого даже единичная история может стать стереотипом общественного сознания. В результате «легенда об интердевочке» потрясающе жива и действенна до сих пор. Фильм видели многие, со счастливыми международными семьями общались единицы. В-четвёртых, вступление в брак с иностранцем — это эмиграция, хотя многим невестам почему-то в голову это не приходит и эмигрантками они себя не ощущают. По крайней мере, в первое время. А вот окружающие, а лучше сказать остающиеся, это понимают сразу. А теперь подумайте, какое в нашей стране отношение к эмиграции? Кто такие эмигранты? Это же враги! Классовые враги! А девушка-эмигрантка, которая помимо того, что враг, ещё и потенциальная «интердевочка», — гремучая смесь! Так повелось с известных времён, и пока этот штамп в головах сам собой отомрёт, пройдёт ещё немало лет. В-пятых, и это касается только «японского направления», происходит постоянная путаница. Хостесс у нас широко, с размахом, путают с проститутками, «японских жён» с хостесс, хотя это далеко не всегда пересекающиеся аудитории, и сами понимаете, что в результате получается. Я не согласен только с тем, что к российско-японским бракам, да и вообще к бракам международным, приковано внимание толпы: эта тема мусолится сугубо внутрияпонской тусовкой. В России никакого ажиотажного интереса к этим бракам нет — это, за исключением некоторых конкретных случаев, «толпе», как вы говорите, малоинтересно и обсуждение «транс142 национальных» проблем каждой девушки не выходит за рамки отдельно взятого двора. — Но почему всё-таки некоторые русские девушки стремятся выйти замуж за иностранцев, в частности за японцев? — Тут я ничего нового не скажу. Я об этом уже писал и о новых мотивациях я не слышал. А старые такие: любовь, расчёт, безысходность. Бывает, что со временем причины у одной и той же женщины могут меняться, переплетаться и так далее. Если мы снова возвращаемся к теме имиджа, то стоит заметить, что рьяное стремление уехать к мужу за границу сопровождается у многих девушек следующим нежеланием возвращаться, то есть утрачивается обратная связь. Девушка уехала, но о том, как она там живёт и насколько счастлива, знают только её родственники. Да и то до тех пор, пока не случилось чтото плохое. Передач о таких женщинах мало. Были эфиры о хостесс, но то, что я видел, оптимизма тоже не добавляет. Важно, что имидж бессознательно формируется и самими жёнами. Один мой знакомый работал в консульском отделе нашего посольства в Токио, выдавал справки об отсутствии препятствий к заключению брака. К нему приходили самые разные девушки, вышедшие замуж по всем трём причинам. Простая вещь: та девчонка, которая влюблена в своего жениха, ведёт себя скромно, тихо, знает что делать (жених рядом либо проинструктировал, или же она просто хорошо воспитана), и в результате не запоминается. А вот случай из жизни, который я приводил в статье: приходят две девушки, мой знакомый у них спрашивает, как фамилии мужей, а они не помнят и тупо, извините, ржут, коверкая японские имена! Пришлось им звонить этим самым «женихам» и спрашивать. Конечно, дипломаты это видят и запоминают именно этих девиц, которые, как вы догадываетесь, замуж выходят явно не по любви. Добавляет ли это положительных черт в образ «японских жён»? Сильно сомневаюсь. Так что виноваты в созданном имидже представители обеих сторон, а раз он плох, можно догадаться, что «не по любви» в Японию приезжает немалая часть «имиджмейкеров». — Как вы считаете, сегодняшний бум в России на всё японское повлиял каким-то образом на то, что желающих выйти замуж за японцев становится всё больше и больше? — Нет, думаю, что не повлиял. Насколько мне известно, мода на Японию наиболее сильна в европейских регионах России, а 143 основные поставщики русских жён сегодня дальневосточные районы страны. Не говоря уж о том, что для японцев «русские» девушки — это и украинки, и чешки, и румынки, и даже узбечки. Я знаю конкретные примеры, когда девушки переносят любовь к Японии на её конкретных представителей, но думаю, что это всё-таки единичные случаи. — Могли бы вы в краткой форме нарисовать социально-психологический портрет «японской жены»? — Это неблагодарное занятие. Такого архетипа быть не должно. Кроме того, как я уже говорил, основных причин, по которым девушки выходят замуж за японцев, три, а значит, нужны три портрета — целый триптих. Исходя из целей и причин замужества, уверен, вы легко нарисуете его сами. Я же, пожалуй, просто опишу среднестатистическую жену. Это двадцатипятилетняя блондинка, не очень красивая, но с хорошей фигурой, с образованием, но с малым опытом практической работы по специальности. Взгляд слегка рассеян, при появлении в поле зрения молодых соотечественников становится заинтересован — в Японии, в России — презрителен. На шее мобильник со смешными брелочками, на пальцах бриллиантовые кольца и бриллиантовые же серьги в ушах. Неплохой разговорный японский язык. Пожалуй, всё, но это настолько приблизительно, что скорее в шутку, чем всерьёз. Повторяю: таких архетипов существовать не должно. — В характеристике обычной японской семьи и российскояпонской семьи чего больше: сходства или различий? — Хороший вопрос. Никогда об этом не задумывался, но, скорее всего, исходить надо из того, что «люди — везде люди», а мы с японцами одновременно и похожи и непохожи. Я не могу сказать в процентном отношении, чего больше — сходства или различий. Есть и то, и другое. — Можете ли вы сказать, опираясь на свой опыт, что международные браки играют определённую роль в международных отношениях? В частности, какова их роль в укреплении дружеских связей между Россией и Японией? — Подмывает сказать «да», но… нет. Вопрос провоцирует на положительный ответ по той простой причине, что все мы хотим, чтобы Россия и Япония были как можно ближе друг другу, но увы… Заметной роли в этом смешанные браки не играют. Их мало, а счастливых ещё меньше. Тем не менее такая надежда, пусть и слабая, есть. Кто знает, может быть, чей-то сын от русско-японского брака станет депутатом парламента, чьё 144 мнение будет интересно будущему премьеру? В большей степени это романтика, конечно. Тем более, что в российской политике было дитя такого брака — Ирина Хакамада, но никакой роли в российско-японских отношениях она не играет. Поэтому мой ответ — нет, такой роли они не играют или она крайне незначительна. — Выйдя замуж за японца, попадая в Японию, наши девушки испытывают не только культурный шок, а шок от страны, в которой существует совсем другая система ценностей. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счёт. — Сколько угодно знаю примеров, когда наши девушки легко адаптируются в Японии, выйдя замуж, но не обращают при этом никакого внимания на своих мужей. Они их не любят, они им неинтересны, основной побудительный мотив замужества таких девушек — деньги, а их «общественная активность» в Японии, к сожалению, очень высока и свою лепту в формирования имиджа русских жён они тоже вносят. А жаль. Хорошие примеры менее заметны. Самое же главное вот что. Имидж, в том числе японских жён, не моделируется и не формируется просто так, на пустом месте. Чтобы он улучшился, нужно не только непосредственно над ним работать, но и над содержанием самого объекта представлений, над его окружением, над сознанием людей, которые этот образ воспринимают. Имидж «японских жён» улучшится тогда, когда улучшится не только образ России, что обязательно, но и когда сама жизнь в нашей стране станет лучше, цивилизованней. Когда одни люди научаться понимать, что другие могут быть хорошими или плохими вне зависимости от своего социального положения или места жительства. Когда наши дипломаты перестанут смотреть на соотечественников-«недипломатов» свысока, а те перестанут сплёвывать шелуху от семечек на паркетный пол. Когда… В общем, вы и сами знаете. Возможно ли это? Если честно, не знаю. Åâãåíèé ÊÓÐÄÀÊΠ19402002 Âåëèêèé Íîâãîðîä  ÄÎÌÅ Ñ ÎÊÍÀÌÈ ÍÀ ÈÐÒÛØ С Никифором Рахмановым я познакомился летом 1989 года, когда жил в Усть-Каменогорске, столице обширного Рудного Алтая, большом и богатом атомграде, детище Курчатова и Славского. В то время я вёл в городе литературную студию и ко мне часто приходили показать свои первые стихи или рассказы самые разные люди. Нашу первую встречу с Никифором Фёдоровичем я как-то совершенно запамятовал, всё было обыкновенно: пришёл пожилой человек (Рахманову было тогда уже за шестьдесят) с тетрадками в пакете и попросил меня посмотреть написанное. Помню, я стал выспрашивать, кто его направил ко мне, т.к. у писателей есть коварная повадка «перекидывать» на коллег нелёгкую нагрузку беседы с начинающими. Оказалось, что Рахманов, пенсионер-горняк, живущий в посёлке Огнёвка, вышел на меня «по слуху», т.е. один сказал, другой уточнил, третий дал адрес... Я бегло просмотрел две-три странички, как-то ничего сразу особого не заметив, кроме крупного почерка и отсутствия знаков препинания, взял адрес Рахманова и, как водится, немного порасспросив его о жизни, сказал, что о стихах я ему напишу. Но спустя неделю, со вздохом взявшись читать его тетради (их было несколько, девяностостраничных общих тетрадей), я не мог уже оторваться, пока не прочитал всё. Стихи Никифора Рахманова подсказали мне, что это как раз тот редчайший случай, когда наконец можно с абсолютной уверенностью сказать, что вот он, природный талант, мало того, совершенно не затронутый литературными и прочими влияниями, навязанными темами и идеями, кругом общения и всем остальным, — что передо мной образец поэзии, порождённой как бы самим внутренним духом её: 146 Катит, катит солнце на закате над родной рекой: то за розовую волну спрячется, то ещё полыхнет по голубой, то задымит серодымчатым светом, перекрываясь перекатом... И — сверкают волны одна другой краше, разноцветные волны реки моей... Вот и ещё раз мелькнёт солнце на алокровной волне, — и закроется тёмною дымкою, уже не блестя, не играя, — до завтрашнего утра, до нового, вечного света. Это была поэзия в незамутнённо чистом, даже «стерильном» состоянии, на фоне которой профессиональная накатанная поэзия выглядит не такой уж и окончательной... Да, стихи Рахманова требовали кроме грамматической правки ещё и серьёзного редактирования, хотя предельно осторожного, чтобы не погубить вторжением дух первозданности и истинности — первооснову любого творчества. Кроме того, для правильного восприятия стихов Рахманова необходим был и определённый опыт,1 позволяющий чувствовать поэзию в непривычных для русского слуха т.н. белых стихах, что чаще является лишь способом имитации поэзии, ухищрением бездарных, но поднаторевших стихотворцев. 1 Как раз эти внешние приметы его стихотворений: само письмо с крупным, т.н. «деревенским» почерком, почти полное отсутствие знаков препинания, написание слов по законам «как слышится», да, собственно, и весь скромный облик Рахманова, почти всегда вызывали в редакционных кабинетах резкое и заведомое отвержение: ну что путного может написать этот мужик!.. 147 РОДНОЕ Где только не скитаешься, о чём горячим сердцем не отболеешь, в каких мыслях не проплутаешь, — а это место родное не обойдёшь душой, — место, где ночью родился во тьме, криком своим объявился... Где луга и долины разом откликнулись, и по горам пронеслось эхо: человек родился! Я читал и читал его стихи, тихо удивляясь, восторгаясь и досадуя, когда натыкался на очевидные и простые «ляпы», что на нашем писательском жаргоне обозначает легко устранимый, но очевидный грамматический или смысловой провал. Но попадались стихи, завораживающие оригинальностью, цельностью, светлым и добрым юмором, независимостью мысли: В санатории, куда приехал подлечиться, к врачу зашёл болезни показать. — Здравствуй, больной, — говорит врач, — откуда родом, что за душой имеешь, какие болезни привёз с собой? — Врач мой милый, чего только у меня не болит! Носом воздух забираю, а он проходит, как сквозь дырявое сито. Руки-ноги дёргаются туда-сюда. Голова трещит, горло болит, сердце бьётся как рыба об лёд. Селезёнки не слышу, печень раздуло, мочевой почти не мочит, почки бок режут, шестиперая кишка постанывает. В глазах тьма, в ушах свист, кости ноют и скрипят... Давай лечи человека! 148 На первый взгляд это могло показаться лишь описанием забавного и простенького случая «из жизни», но это не совсем так. Здесь наличествовал великолепный космизм, всеохватный, как миф о Пуруше... Некоторые стихи свои Рахманов предварял записями, когда и в связи с чем он это написал: «После обеда отдохнул и пошёл посидеть у забоя карьера, где работал всю жизнь. Все думал о том, что, вот, мне уже 61 год и, в общем, всё, что положено, я сделал в жизни... И пошёл домой с поднятым настроением... И вот пришли такие слова: Льётся зарёй поднебесной на рассвете лучистом зарево яркого света, раскатываясь по небесной голубизне, оставляя позади тьму ночного тумана, что прошедшею ночью клубил... А тоскую в гостях у тоски о своём улетевшем времени, зорьке неясной... И морозец по телу скользит, — к костру б притулиться, старые косточки погреть...» Но откуда у него, простого русского горняка из маленького посёлка, человека, чьё образование ограничилось несколькими классами сельской школы, такое точное и свободное мышление, такое умение распорядиться собственным небольшим словарём, которого, оказывается, вполне хватает и на широкие лирические обобщения? Всё это было необъяснимо, и я решил сам съездить в Огнёвку. Вот выписка из подробного дневника тех дней (тогда я ещё, к счастью, вёл такие дневники): «23 июня 1989 года, Огнёвка. День жаркий, ясный. Теплоходом быстро долетел по Иртышу до Огнёвки. Места по берегам все знакомые, много раз исхоженные, но смотрел я на них уже несколько по-другому, здесь уже витала словно б чья-то душа... Мелькнули Ермаковка, речушка Талов149 ка, где много раз рыбачил, Гусельничиха с плесом и островом, где в кособокой хижине жила одинокая старуха по кличке тоже “Гусельничиха”, молчаливая, таинственная рыбачка, — проскользнула слева речка Смолянка, в ущелье которой знаменитый учёный Формозов нашёл когда-то древнейшие арийские петроглифы на скале Тамбалытас (Знаковый камень)... Побережье Иртыша незаметно за эти годы застроилось дачами, посёлками: обживается река... Да и берега, прежде голые, срезанные поднявшейся водой водохранилища, обросли прибрежными рощицами, заливы — камышом, — природа берёт своё. Огнёвка — горняцкий поселок с рудником, добывающим редчайшую бериллиевую руду, лезет прямо от берега в гору. Иртыш здесь делает излучину и далеко виден вправо и влево: от Смолянки — до Крестовки. В горах цветут травы: страшная своими ожогами купина неопалимая (ясенец), синяк, сурепка, душица, таволожник. Кое-где ещё сохранились купы отцветающих марьих-кореньев (пионов)... Цветёт мой Алтай!.. Рахманова я нашёл как-то не сразу, пока не расспросил встречную женщину: номер дома был не 11, как мне он сказал, а 10. Эта непонятная путаница меня насторожила, и я решил обязательно разузнать, в чём здесь дело. Встретили меня замечательно. За столом разговорились, и я многое уточнил. Никифор Фёдорович Рахманов, уже за 60, горняк на пенсии. Всю жизнь работал на руде: старателем, отсадчиком, экскаваторщиком, а последние 15 лет — машинистом подземного электровоза. Трое взрослых, хорошо обустроенных детей: два сына и дочь, пятеро внуков, живут в разных местах. Вдвоём с женой Федосьей Ивановной ведут хозяйство: две коровы, тёлки, свиньи, большой огород, есть и дача, сейчас запущенная. С 1986 года, уже пенсионером, начал неожиданно писать стихи. Рассказал, что это произошло весной, когда на мотоцикле он поднялся на свой “картофельный” огород на склоне горы, сошёл с мотоцикла, перетащил к пахоте мешки с сеянкой, сел передохнуть и вдруг в голове вспыхнула мысль: а для кого все это? Дети взрослые и обеспеченные, самому много уже не надо, зачем теперь вся эта бесконечная картошка, коровы, свиньи, зачем спину гнуть, надрываться, жилы рвать, жизнь-то завершается! 150 И, бросив картошку, он спустился вниз, к дому, сел за стол и написал первое своё стихотворение, которое он, к сожалению, не сохранил. Оно было посвящено дочери. О стихах Рахманов говорит как-то смущённо, а слово “стихотворение” у него звучит в том первозданном значении, как русское слово “стих”. “Стих напал” — говорит он, словно бы оправдываясь в своей неожиданно возникшей потребности. Вся его “поэтическая библиотека” — это пластиковый мешок с вырезками из местных малотиражек “Строитель”, “Металлург” и областной газеты “Рудный Алтай”. Кроме того, в мешке собраны вырезки с изображениями красивых женщин. Пояснил, что ему нравится смотреть на красивые лица. “Творческий архив” у него тоже хранится в отдельном целлофановом мешке. Это штук 20 блокнотов и куча общих тетрадей. Итак, два мешка, архив и библиотека, но в этом что-то было знакомое: можно вспомнить мешок Хлебникова, потрёпанный чемоданчик Цветаевой, авоську Ксении Некрасовой и т.д. Вообще, мешок символичен, это, как и ведро, вечная русская мера, ибо только мешком в руке можно физически определить наработанное и созданное. Да и “философия” мешка проста: что унесёшь — то твоё. А вырезки изображений красивых женщин — это так просто и понятно: красота, в особенности женская, та же природа в своём высшем проявлении. Но если красивый рассвет, закат, цветы можно видеть едва ли не каждый день, то красивую женщину встретишь гораздо реже. Кстати, в одном из его стихотворений я сразу и наткнулся на развёрнутую метафору, сравнивающую цветок с женской душой: ...Может, это не цветок, а девушки твоей душа цветёт... Постоишь, полюбуешься на цветок, как с милой поговоришь... На вопрос, читает ли он вслух свои стихи, Рахманов рассказал, что увидел по телевизору, как это делает какой-то поэт, фамилию которого он забыл, и ему понравилась манера чтения. Стал осваивать. Уходил в баню и часами громко скандировал, надрывая голос. В конце концов “научился” выкрикивать свои 151 стихи, сильно рубя одной рукой, чем постоянно сейчас пугает свою жену. — Не так это просто — читать стихи, — говорит он, — духу надолго не хватает... По тому, как он это показывал, я догадался, что он видел по телевизору Вознесенского, и категорически запретил ему подражать этой гнусной и разнузданной манере. Он вначале не понял, ведь это показывает телевидение! — Там тоже полно всякой дряни, даже больше, чем кажется, — объяснил я, и это Рахманов понял, не вдаваясь в детали. Вообще, природный ум и чутьё у Рахманова необыкновенны, он всё понимает с полуслова. Фотографировал его на косьбе, у шахты, над Иртышом. Стоял он спокойно, не позируя, терпеливо делая то, что я ему говорил. На вершине горы, откуда открывался фантастически красивый вид на горы, прорезанные Иртышом, мы долго и откровенно беседовали о разном... Жена, не молодая, заработавшаяся, но стройная и сильная женщина, сердится на Никифора Фёдоровича, считая его творчество старческой дурью, не хочет, чтобы публиковался, стыдно перед соседями. “Стих” нападает на Рахманова примерно раз в месяц и всегда неожиданно. В это время он, бросая всю работу, дня 3–4 пишет. — Когда стих находит, — говорит он, — здесь только успевай схватывать, не успел — прошло... Кто-то ему сказал, что в стихах нужно обязательно писать о партии и о “светлом будущем”, иначе не напечатают (это было когда он начинал писать, ещё в 1986 году). Он послушался и этим испортил многие свои стихи. Мыслит и говорит просто, образно, превосходно зная жизнь, людей, умеет жить, работать, хорошо интуитивно чувствуя добро и зло, — воистину носитель глубинной народной культуры жизни, со здоровой философией, без заблуждений и комплексов. Никогда, кроме как по телевидению, не видел и не слышал пианино. Не видел ни одного живого артиста, писателя, художника. До поездки ко мне в Усть-Каменогорск совершенно не знал городской жизни. После посещения моей квартиры в Усть-Каменогорске сразу пошёл на соседний стадион и долго сидел, рассматривая пустое футбольное поле, которое тоже видел впервые... 152 Я ему рассказал немного о поэзии как искусстве, о её происхождении из песни и народных ритуалов, рассказал немного о состоянии современной поэзии (удручающем), и о том, что его стихи по форме являются свободным стихом, но чтоб он ни в коем случае не пытался нарочно рифмовать или ритмизировать и давать стихам непродуманные названия, т.к. стихи специально называют только в исключительных случаях. На вопрос, почему у Пушкина встречаются какие-то непонятные имена, я объяснил, что в то время была традиция использования в русской поэзии персонажей греческой и римской мифологии, рассказал о боге Солнца и Поэзии Аполлоне и его брате Асклепии, который стал лекарем-целителем, и что это является остаточным моментом шаманизма, когда шаман был одновременно и хранителем племенной памяти, т.е. поэтом, и одновременно лекарем...1 Оставил я Рахманову и стихи его, отредактированные мной и сброшенные на машинку. Он с удивлением рассматривал преобразившиеся стихотворения, узнавая и не узнавая их, а я посоветовал ему внимательно сравнить подготовленную подборку с оригиналами, чтобы он понял суть правки, которая, собственно, кроме грамматических исправлений, усечения некоторых длиннот и тавтологий, была предельно приближенной к оригиналу.2 Перед отъездом я дал ему ещё несколько простых, но необходимых советов: подписывать тетради, ставить даты под каждым стихотворением с пометкой, как и где оно написано, вести краткий дневник, т.к. он поможет потом ориентироваться в творчестве, не слушать советов случайных, далёких от литературы людей, не скандировать стихи, подражая бездарностям, и — продолжать писать, не обращая внимания на то, как к этому относятся окружающие... И уже на пороге, вспомнив о перепутанном номере дома, спросил об этом Рахманова. Ответил он как-то весело, даже озорно: — Да какая разница? У нас тут без номеров все друг друга знают... Почтальонша не на адрес глядит, а на имя. 1 Здесь нужно заметить, забегая далеко вперед, что и впрямь мы не знаем, «как слово наше отзовётся». Если бы я знал, как внимательно меня слушает и запоминает сказанное Рахманов, я бы тысячу раз подумал, прежде чем рассказывать этот миф об Аполлоне и Асклепии. Но об этом ниже. 2 Рахманов, надо сказать, хорошо понял этот урок, но продолжал писать почти так же: через своё не перешагнёшь... 153 И я вдруг понял своеобразное мышление Никифора Фёдоровича, его как бы сопротивление всем навязываемым ненужным условностям, которые процветают вокруг вопреки необходимости. Ведь и впрямь в маленьком рудничном посёлке номера домов не имеют никакого смысла. Я ведь и сам его отыскал не по номеру дома, а расспросив первую встречную женщину... Уезжал я поездом, весь переполненный размышлениями, радостными и грустными... Радостными от открытия, грустными от понимания, как трудно, почти невозможно опубликовать произведения Рахманова так, чтобы его поняли, прониклись этой непривычной для современного слуха поэзией, которая на самом деле многократно природней и свежей взаимоподражательной поэзии моих собратьев по перу... Я наугад раскрывал его тетради, то и дело натыкаясь на строчки, от которых теплело и свежело в груди, и не переставал удивляться чуду: Что ж, встретились мы с тобою — и пошли... И всё, что томилось внутри, потекло навстречу, наружу: моё — для тебя, твоё — для меня... И не знаешь, как вести себя: то не в ногу шагнёшь, то качнёт друг от друга, то навстречу качнёт. Но и видится уже, что немного, и сольёмся воедино, надолго, на всю жизнь: моим — для тебя, твоим — для меня... И, глядя в вагонное окно, беспрерывно думал о том, что многие наши литературно-профессиональные усилия кажутся ужимками и кривлянием, усталым вывертом людей, не отдающих уже отчёт, где начинается литературный театр и кончается правда жизни». 154 На этом заканчивается дневниковое описание моей поездки в Огнёвку летом 1989 года. После этого я поплотней засел за тетради Рахманова и тщательно отобрал те стихи, которые определённо могли бы быть приняты в печать. Пришлось поступиться многим, но я знал, что лиха беда начало. Больше всего я боялся, чтобы стихи не нарвались на какого-нибудь идиота с высшим образованием, с гнилым интеллигентским высокомерием: «Вот ведь, простой неграмотный мужик, а пишет...» Ощущать эту заведомость отбора было нелегко, но другого выхода я не видел. Но, к счастью, в этот раз повезло, и первая подборка стихов Никифора Рахманова появилась в журнале «Простор» уже в январе 1990 года. Нужно отдать должное «просторовцам»,1 они сразу поняли и оценили стихи, в чем, кстати, была заслуга того самого поэта В. А., которого выбросил когда-то из окна больной графоман (поэта, кстати, очень и очень неплохого, написавшего кроме нескольких книг стихов едва ли не единственный в мировой литературе двойной, взаимоотражённый венок сонетов «Зеркало»). Вот часть этой подборки («Простор», 1990, №1) с моим предисловием, где некоторые повторы уже сказанного не лишний раз помогут понять природу феномена Рахманова. ÏÎÝÇÈß ÍÈÊÈÔÎÐÀ ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Никифор Фёдорович Рахманов начал писать три года назад, когда ему, уже пенсионеру, шёл пятьдесят седьмой год. «Стих напал», — объясняет он причину своего неожиданного 1 Здесь к месту было бы заметить, что у нас почти неизвестна русская литература бывших советских республик, неизвестны их журналы и книги, огромная культуртрегерская работа русской творческой интеллигенции. А там, на национальных окраинах, в течение десятилетий терпеливо и упорно трудились сотни превосходных переводчиков, прозаиков, поэтов, создавая такую необходимую связь между великой материнской культурой и «островной», связь, которая сейчас уже оборвалась окончательно. Журнал «Простор», основанный ещё в 1933 году (!), отважно публиковал когда-то те призведения, которые немыслимо было напечатать в Москве, например А. Платонова, некоторые зарубежные произведения и пр. Культурологическая эпопея русской «островной» литературы требует и ждёт своего исследования, без нее немыслима вообще история русской литературы советского периода. 155 перевоплощения. И это полузабытое определение — стих, стихия — как-то по-новому заставляет понять его отношение к стихотворчеству, в котором важнее всего именно природотворчество. Свободный стих Никифора Фёдоровича почти лишён привычных внешних атрибутов поэзии — рифмы, размера. Впрочем, особый, глубинный ритм здесь присутствует — в строе предложений, в интонации, в повторах. Видно, что питающая основа подобной поэзии — не литература, но сама жизнь, народная речь, песня, речитатив сельской улицы, юмор доброго застолья. Прирождённый вкус и хороший слух позволяют Н.Ф. Рахманову выходить порою и к высоким лироэпическим обобщениям почти былинного настроя: И рос хлеб земной, и солнце всходило из-за горы высокой и грело землю живым теплом... А ночью звёзды ярко светили до самого утра... Всю жизнь — до самого утра... Родившийся на берегах Нарыма Н.Ф. Рахманов всю жизнь работал на приисках и рудниках — старателем, экскаваторщиком, машинистом подземного электровоза. Последние 30 лет живёт на руднике Огнёвка, в горняцком посёлке в излучине Иртыша. День и ночь смотрят окна его дома на величавую реку, отражающую в себе очертания родных гор, — и, может быть, поэтому во многих стихах Н.Ф. Рахманова вновь и вновь возникают и Иртыш, и горы, волнуя душу своей вечной, изначальной, как жизнь, сутью... Произведения Никифора Рахманова — истинная поэзия. Его стихи ценны тем, что, минуя литературные условности, они напрямую становятся словом, — из первых рук родной земли, родной речи, собственной судьбы нелёгкой. И, что тоже достаточно важно, эти стихи несут необозначенный упрёк распространенной ныне поэзии, которая больше всего озабочена своею внешней формой, забывая, что её призвание в конце концов — душа, живая, страждущая, человеческая. 156 МОЛИТВЫ 41-го ГОДА Те дни будто наяву, будто наяву вижу. Объявили нам, что немец под Москвой... И всё притихло сразу в деревеньке нашей, словно умер кто-то или при смерти... Детей не слышно стало, бабы стихли... А под вечер старики и старухи стали молитвы шептать: — Господи, помоги Москву отстоять от ворога... — Господи, не накажи внуков наших... — Господи, что же завтра будет... Собаки с вечера вдруг замолкли, и над деревней в мёртвой тишине всю ночь только эти молитвы висели. А утром подняли нас рано и объявили, что немца побили нещадно под матушкой-Москвой! И все кричали и смеялись, все плакали от радости, дети, старики, старухи... Да и как по-другому: в ту ночь вся Россия молилась. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ День тяжёлых мыслей настал, куда девать себя? То ли дальше думать?.. То ли ни о чём уже не думать?.. 157 Да и какой из меня мыслитель? — Всю жизнь землю лопатой ковырял... Это вот меня учили все кому не лень: — Трудись, трудись, — говорили, — не жалей труда для советской власти, трудись до седьмого пота... Вот и трудился я, а жизнь моя единственная всё куда-то уплывала, и лишь в руках оставалась всё та же лопата... Наверное, забыла меня советская власть, для которой я всю жизнь ковырял лопатой землю. Но я её никогда не забывал. Потому что если и я её забуду, никто её уж и не вспомнит, мою советскую власть. НАРЫМ Вот, старик, стою я у той самой реки, возле которой детство моё прошло... Вот долина моей родной деревни, где первый раз я увидел живые цветы. Может быть, это они взрастили во мне когда-то то, что душою зовётся... Всю жизнь они в глазах стоят... Вот взгорки те возле самой деревни, на которые в детстве карабкался я с таким трудом, и всё та же заросшая лесом гора, куда ходил я по дрова. 158 Какие я видел там могучие деревья: лиственницы, кедры, ели! Каким дивом в детстве всё это было для меня!.. И рос хлеб земной, и солнце всходило из-за горы высокой и грело землю живым теплом. А ночью в небе звёзды ярко светили до самого утра... Всю жизнь — до самого утра... В подборке было 12 стихотворений, из которых я здесь привёл только три наиболее характерных для Никифора Рахманова, хорошо иллюстрирующих главный настрой души его, метод (если так можно выразиться) переотражения сущего, а главное, ту глубинную природную мудрость сердца, которую, как говорят, не купишь, не заработаешь. Одно только стихотворение «Советская власть», полное горечи, надежды и веры, говорит так много, что над ним впору задуматься и некоторым современным философам-социологам, которые с торопливым захлёбом спешат оболгать и похоронить целое столетие великого народа. Стихотворение говорит не о мифологизированной народом «советской власти», а о том, что если бы не помешали, эта советская власть в конце концов и стала бы тем, что ждали от неё те, кто терпеливо, киркой и лопатой, работал на неё... Никифор Фёдорович стал иногда заезжать ко мне. Человек деликатный, он не хотел особенно обременять меня своими наездами и всегда тщательно готовился. Он привозил переписанные начисто стихи, под которыми теперь стояли и дата, и место написания, и заранее подготовленные вопросники, состоявшие, казалось бы, из самых простых вопросов, но на которые, как я вдруг почувствовал, мне не всегда было легко ответить. Один из вопросников я нашёл в своих архивах. 1. О чём нельзя писать? (Я вспоминаю, что отвечать мне было трудно, и прежде всего потому, что этому человеку нужно было говорить только правду или вообще ничего не говорить.) На этот вопрос я отвечал, что писать можно обо всём, но 159 истинный поэт никогда об этом не думает, он пишет лишь то, чем мучима душа, и только тогда, когда есть желание и настроение, которые называют в совокупности вдохновением. Единственно, в чём нужно себя сдерживать, это не писать, как говорят, «для хохмы», для посмешища и на т.н. «датские» темы, т.е. стихи к датам, событиям, навязанные и требуемые. Следует избегать т.н. фривольных тем, соблюдать этику, не похабить грубостью слово и т.д. 2. Можно ли один стих печатать в нескольких газетах? Можно всё, за что не будет потом стыдно или обидно. Но любому редактору или издателю нужно всегда сообщать, было или не было опубликовано то или иное произведение, — и пусть они решают сами. 3. Можно ли мне записывать что-то в тетрадь на людях, в поезде там или на теплоходе? (Интересно, что это был вопрос об этике пишущего, т.е. Рахманов всерьёз заинтересовался, как в этом новом своём качестве поместить себя среди людей, не теряя достоинства.) Не надо выпячиваться, но и не надо таиться, — кому какое дело, что там записывает человек в свою тетрадь? 4. Сколько стоят стихи? Мало, Никифор Фёдорович, бесконечно мало. Вот не стихи стоят дороже... 5. Сколько надо написать стихов, чтобы получилась книга? Книга стихов — это тоже как бы одно большое стихотворение. Когда возникает чувство законченности, нужно немедленно останавливаться, — и неважно, 20 это будет стихотворений или 120. А нарочно сделанные книги, их ещё называют сборниками, это чаще всего сырые и плохо связанные вещи. Кстати, весь основной т.н. «современный литературный процесс» состоит из этих сборников, мыльных пузырей литературы, и лишь три-четыре поэта (истинных поэтов всегда очень мало) терпеливо и спокойно творят поэзию и издают иногда настоящие книги стихов, цельные и стройные, как одно стихотворение. Но и книг у них бывает всегда немного... 6. Вот все мне говорят: ритм и рифма... Это специально так поэты делают или талант нужен? (Здесь я понял, что первые опубликованные стихи Никифора Фёдоровича вызвали неадекватную реакцию в посёлке.) Как пишется, так и пишите. Рифма и ритм — это определённая традиция не поэзии как таковой, а литературы. Самая ранняя поэзия, сохранившаяся сейчас только в шаманских 160 песнопениях, была безрифменной, а ритм был соразмерен речевым необходимостям. Вместо рифмы существовала т.н. анафора, повтор или сильное ударение (т.е. главное слово предложения), стоящее не позади фразы, а впереди её. Но и это приём нарочитый и чрезмерный. Сталин, например, в своих докладах и речах, далеко не поэтических, как раз использовал анафоры и усиленные повторы, потому все его речи становились событием и запоминались надолго. Злоупотреблять этим не следует, приём вылезет наружу, а это всегда плохо. Есть хорошие поэты, обеднившие себя злоупотреблением какого-то одного приёма, Владимир Соколов например... 7. Кому можно читать свои стихи? Не нужно никому навязывать свою душу, не нужно ничего делать нарочито, забалтывать родное, ведь сказано — «не мечите бисер перед свиньями», т.е. не потому, что желающий послушать стихи заведомая свинья, а потому, что чаще всего такая просьба — это проявление верхнего мимолётного любопытства, не более. Но и излишне капризничать тоже негоже. Кроме того, стихи не следует запоминать наизусть, возникает то, что у поэтов называется «остаточной эхолалией», т.е. бессознательным стремлением подражать своим удачам, что, безусловно, обедняет творчество. Нужно избегать всяческих подражаний, даже себе. 8. Бригадир мне сказал, что у писателей денег куры не клюют, так ли это? (Нет! — внутренне вскричал я. — Нет... Писатель или поэт, если он не халтурит, не лицемерит, не занимает должностей, чаще всего очень бедный человек, и не потому, что он не заработал денег, а потому, что ему некогда заниматься этим, жизнь ведь одна и её чаще всего катастрофически не хватает и на само творчество.) Но я не стал посвящать Никифора Фёдоровича в тошнотворную тему союзписательского быта, секретарских гонораров, липовых премий, очерёдности званий, номенклатурных окладов и пр. Я просто сказал ему, чтобы он об этом не думал... Новые стихи Рахманова, которые он мне привозил после своего журнального дебюта и наших с ним бесед, говорили о том, что он всё воспринимал очень глубоко и серьёзно, а мои советы усваивал надёжно и прочно, хотя сами стихи его почти не менялись: в этом возрасте активный словарь уже утверждается так твёрдо и окончательно, что его не переиначишь... Не 161 без интереса я прочитал стихотворение о себе, запечатлевшее, как я понял, нашу с ним прогулку по живописным горам Огнёвки: И стояли мы с тобой, учитель мой, на этой горной высоте. Ты указывал мне рукой: смотри, какая природа вокруг, как нежна её благодать. И всё это надо душой познать и умом сберечь да людям добрым передать, чтобы души забились в восторге. А иначе какой смысл в нашей поэзии? Стихотворение, как говорят, проходное, написанное на одном впечатлении, но в нём хорошо виден как бы сам «механизм» поэтических переотражений Рахмановым очевидных и знакомых событий. Он прост, даже безыскусен, но предельно правдив, точен, и именно в сердечном, душевном восчувствовании, не в материальном. Это глубоко национальное свойство поэзии Никифора Фёдоровича резко контрастирует с навязываемой поэзией некоторых липовых авторитетов бакалейно-гастрономического пошиба. Откровенно говоря, у меня возникало иногда желание почитать ему что-то из Пастернака или Багрицкого, но я сдерживал себя, понимая, что далее последует необходимость долгого разъяснения искажённой языковой ситуации в нашей литературе, где всё поставлено с ног на голову. Понять всё это Рахманову было бы невозможно, вернее, он понял бы всё, но был бы весьма озадачен и оскорблён таким положением вещей, ведь русским он был не по паспорту, а по всей своей сути и природе. Кстати, я нашёл у него несколько озорное стихотворение об этом. Русский — самый ехидный, самый зловредный, самый отчаянный, самый хитрый, самый смелый, 162 самый выносливый, самый терпеливый, самый находчивый в мире человек. Назад не любит отступать, препятствий для него нет, за дружбу умрёт, за любимую бросится в омут. Самый настырный, всегда впереди, за своё будет стоять до последнего вздоха, самый весёлый, самый умный, самый добрый... Вот такая русская скотина!1 Конечно, чтобы понять внутренний смысл этого стихотворения, нужно знать психологический контекст души русского человека, живущего, как принято говорить, на национальных окраинах державы (тогда ещё не разрушенной), где русским воистину нужно было иметь большой набор самых разнообразных качеств, порой противоречивых, чтобы утвердиться и не потерять достоинства. Вообще, юмор Никифора Фёдоровича, неназойливый, добродушно-щадящий, светлый даже, чисто русский по духу, разительно контрастирует с недобрым смехом всех этих современных эстрадных «юмористов», сбившихся уже в одну злобствующую, жадную, вненациональную стаю. Вот одно из характерных стихотворений Рахманова. ШЕСТЕРНЯ Шофёр свою машину знает наизусть, каждую гайку, каждую шестерню. Знает, какая из них ведомая, какая ведущая. Знает и промежуточную шестерню — паразитной зовут её. Она и впрямь паразит трудящегося двигателя: все крутятся, работают, а она... 1 В записи Рахманова это выглядит так: «Вот така русска скотина!», что если и неграмотнее, то безусловно сильнее... 163 А она обязательно что-нибудь да испортит, а чаще настроение шофёра... Вот везёт шофёр груз в гору, а машина встала. — Паразит, — говорит шофёр и лезет в двигатель. Это он опять паразит-шестерню вспомнил. И выкинуть бы её, убрать бы из машины вон, и вес легче бы стал, и машина быстрей бы пошла, да вот нельзя её убрать — такая механика... И мотает, мотает паразит-шестерня шофёру нервы, и нет покоя шофёру, и только и слышится по всем дорогам страны: — Паразит!.. Такая механика. По неискоренимой литературной привычке у меня постоянно возникало желание сравнить поэзию Рахманова с какойнибудь другой, уже давно и широко известной, чтобы, как говорят, настроить мысль читателя или будущего редактора на какую-либо привычную параллель. Точнее, даже не сравнить — для этого ещё не было достаточных оснований, т.к. произведений Рахманова, собственно, никто и не читал, — а поставить, если так можно выразиться, литературоведческий опознаватель. Параллель с Ксенией Некрасовой? Но она, в конце концов, была просто юродивой, вернее, юродствующей на потребу московских литсалонов, умело, порой и нагло подыгрывающей им. В её поэзии всё неорганично, надуманно, всё с нарочитым вывертом и сдвигом, что, впрочем, как раз и спасало её от разоблачения. Отсутствие большого поэтического таланта она ловко подменила талантом лицедейства, который в ней присутствовал безусловно... И здесь не было ничего общего ни с честнейшим и искреннейшим Рахмановым, ни с кристально чистой поэзией его. Хлебников? Но это тоже, в принципе, лицедей, причём предельно залитературенный и поднаторевший в том своеобразном ёрничестве (житейском и поэтическом), которое тоже было 164 на руку тем, кто разрушал национальную культуру под видом новых течений. И здесь едва ли можно найти общую линию. Кто ещё? Может быть, Уитмен, хотя это может показаться чрезмерным? Но, повторяю, я искал не сравнения, а лишь опознавательную параллель. Уитмен тоже был «из народа», писал необычные для тех времён стихи, которые не сразу были приняты и оценены. Сейчас он — национальный гений Америки... Но Уитмен в поэзии прежде всего живописец с почти фламандской школой — достаточно прочитать его «Подручный мясника...», «Негр крепкою рукою...» и т.д., чтобы убедиться в этом. Стихам же Н.Ф. Рахманова чужда живописность как приём, она возникает лишь из необходимости и крайне редко. Уитмен: «Я впитываю всё в себя для этой песни...» Рахманову впитывать всё для песни показалось бы скучным занятием, сама жизнь для него несравненно интересней. Уитмен развернул грандиозную картину Америки, подробнейшую в мельчайших деталях. Он — американец. Рахманов развернул картину души. Он — русский. Уитмен: «Уолт Уитмен, космос, сын Манхаттена...» Рахманов себя не определяет, душа не имеет имени... Уитмен: «Я думаю, я мог бы жить с животными...» Рахманов всю жизнь жил с животными: с коровой, лошадью, с собакой, овцой... Уитмен — телесность, плотскость, физиологизм. Рахманов — дух, душа трепещущая, бренная. Уитмен снаружи человека. Рахманов — внутри... Нет, и эта параллель не параллельна. И опять здесь хочется подчеркнуть, что я занимался не сравнением неведомого (и потому весьма ещё спорного) явления с именами известными, ставшими уже и некими вехами литературы. Это был поиск знакового адеквата, который никак не обнаруживался... О Господи, но что же там ещё, в его стихах сердечных? Встану с края поля, где растёт земная рожь... Поле — оно вроде бы то, да и не то всё же, что было в войну. 165 И колос тяжелее стал, и поле само — гуще, чище того, с которого мы, мальчишки войны, собирали колоски и каждому зёрнышку радовались как могли... Ветер рожь шевелит, гонит золотую волну двух полей моих, того, что здесь колосится так густо, и того, что в памяти... Рожь моя, земная рожь. А вот и ещё одно стихотворение, где произошла удивительная перекличка с Екклесиастом, которого Рахманов, конечно же, никогда не читал, перекличка со знаменитой мыслью библейского пророка: «Сердце мудрых в доме плача» (Екк. 7:14). Слёзы не нужно копить и скрывать. Слёзы — это дар Божий. Поплакал — и что-то душой приобрёл. Кто много плачет, тот много знает, тому и Бог помогает. Плач — не могота, а освобождение: от каждого плача всем другим легче... Плачь, милый, плачь... Однако, обрадованный открытием Рахманова, я сразу же после его нашумевшего дебюта в журнале «Простор» сделал одну 166 непростительную ошибку: вывел на него республиканских киношников. Подробно рассказав о Рахманове знакомому журналисту А. Р., человеку, поднаторевшему в своём деле, но мыслящему шаблонно и плоско, и заметив хищный блеск в глазах изголодавшегося по живым сюжетам журналиста, я особо не придал этому значения. Не насторожил меня и чрезмерно восторженный возглас его, повторённый несколько раз: — Стих напал! Ну надо же, напал стих! Вот сюжет! Киногруппа съездила в Огнёвку, с трудом договорившись с местным начальством: рудник был в оборонном ведомстве и, естественно, наглухо засекреченный. Несколько дней они снимали что-то и в конце концов сделали какой-то фильм, который потом несколько раз прогнали по республиканскому телевидению. К сожалению, мне так и не удалось его посмотреть, но встретив уже в Алма-Ате журналиста А. Р., я стал расспрашивать его о впечатлениях той поездки: — А-а, — отмахнулся тот, — что там снимать было? Наговорил мне всякого, а там... Я так и не выяснил, что произошло на съёмках. Никифор Фёдорович при встречах тоже помалкивал, грустно и мягко улыбаясь, и я, зная его честную натуру, не терпящую лжи и нарочитости, понял, что во время съёмок произошло то, что можно было бы предусмотреть, — мгновенно вспыхнувшая взаимная неприязнь, вызванная скорее всего высокомерием журналиста и хамством телевизионщиков... Да и что мог разглядеть легкомысленный и хищный журналист во всём этом, он и стихов Рахманова не разглядел толком... Но сетовать на случившееся было поздно... Кстати, фильм назывался бездарно, грубо и глупо — «Стих»... Может быть, как раз в те дни Рахманов и написал стихотворение, полное грусти, желания покоя и утешения. Жить бы всю жизнь под осиною горькой, не мешая никому... Нет же, всё что-то мучает, гнетёт... И жизнь прокатилась, как льдинка по голому льду... 167 Осень дышит всё реже тёплыми днями. На то и осень, чтоб приучить к тишине недалёкой последней зимы... Судьба очень скоро и надолго разлучила нас с Рахмановым. В Алма-Ате, куда я вначале перебрался из Усть-Каменогорска, гонимый не столько необходимостью души, сколько неким творческим капризом вперемешку с непреодолимым желанием перемен, свойственным поэтам, меня закидали вопросами: не придумал ли я Рахманова? Много ли я правил его? Не добавил ли своего в его стихи? Есть ли у меня его рукописи? Я показывал литераторам и рукописи его, и фотографии, мы сравнивали напечатанное и рукописное, но вопросы не иссякали — слишком уж неожиданным, а для некоторых даже обидным, было явление поэта, не только не окончившего Литературный институт, но едва ли окончившего семилетку и никогда не читавшего ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова... Собственные творческие заботы, а потом грянувший вседержавный раздрай и связанные с этим перемены, вынужденный переезд, почти бегство, в Россию, недуги и пр. надолго оторвали меня не только от ставших родными мест, но и во многом от прежних друзей, знакомств, от всего, к чему я был привязан более 20 лет. Как-то выпал из поля зрения и Никифор Фёдорович, нет, не из поля души, а как-то незаметно отошёл в те дали, в которые раздвинуло нас злое беспощадное время... Лишь иногда, уже здесь, в Новгороде, перебирая архивы, я вдруг выхватывал листочек со знакомым крупным почерком и, замерев душой, опять погружался в изумительно чистый и просторный мир старого поэта, почти не знающего, что он поэт: Уже и ноги приустали, а мысли гонят вперёд, чтобы жизнь чем-то новым продлить... Мысль ведь всегда живёт словно б завтрашним днём: вдруг что-то лучшее будет, просветлеет слегка... 168 И небо плывёт мелкими облаками, покрывая дробной тенью земную зелень, живущую той же надеждой на лучшую пору земли. 23 июня 91 года, 11 ч. дня, на горе. «На горе» — это значит Никифор Фёдорович был на малом огороде своём, на знаменитой горе, которая вся изнутри, как пористый сыр, изъедена штольнями и шурфами, а на поверхности была чистой и зелёной, лишь кое-где тронутой скальными ребрами пегматитовых жил да белоснежными выходами кварца. Там у каждого рудокопа (или, по-местному, — «бергала») имелась ещё и личная «закопушка», то есть небольшой тайный шурф в пегматитах, откуда добывались, вернее просто отламывались киркой, какие-либо красивые минералы, которыми была битком набита эта гора. По мере надобности, для подарка или коллекции, из «закопушки» выламывалась или друза горного хрусталя, или изумительной красоты турмалиновое солнце, или зеркально светящиеся спайки цветной слюды и т.д. У Рахманова тоже была такая закопушка, и он хотел мне подарить друзу дымчатого хрусталя, от чего я тогда категорически отказался.1 Вновь и вновь я перечитывал его стихи: и те, что лежали в архиве, и другие, написанные уже гораздо позже и попавшие мне разными оказиями, чаще — через казахстанских друзей, ставших беженцами. Можно и сиротою жить, меж своих крутиться... Но не дай Бог без родины остаться, томиться и биться среди чужих развалин, где каждый тебя норовит унизить, норовит наземь уронить... Молчи, молчи камнем чёрным, если у тебя нет родины. 1 Впрочем, через десять лет меня этот подарок всё-таки найдёт, о чём ниже. 169 Откуда у этого русского человека, никогда в России не бывавшего, это почти ностальгическое ощущение родного, родины, которое особенно остро возникло у него в последние годы? Конечно, нелёгкая судьба русских людей, и Рахманова в том числе, оставшихся оторванными от России, наглядна и очевидна, но стихи кроме отчаянья содержат и тот, если так можно выразиться, герметизированный, скрытый и страшный накал, которым сейчас переполнены живые души всех русских людей, брошенных и забытых, нет, не Россией, а её преступными главарями... Вот и вновь словно бы из библейской бездны Екклесиаста встаёт и звучит знакомая мелодия слёз людских, что копит в себе по каплям мира сердце мудрых: Плачь не плачь, а слёзы всё равно идут из души: слёзы радости, слёзы горести, слёзы собственные и чужой беды: все они одинаково мучают... А тело бедное всё в себе терпит. *** Десять лет спустя я решил наконец посетить те места, которые, по сути, были и остались родиной и моих стихов, моих первых книг, родиной души. Но я многое там не узнавал, не понимал. Великолепный некогда, чистый и ухоженный атомград покрылся, словно патиной отчуждения, пылью умирающего захолустья. Даже после обнищавшей России впечатление возникало удручающее. Далеко не всё было гладко в «датском королевстве», республика явно не справлялась с обрушившейся на неё самостийностью, никак не могла выбраться из-под гнёта навязанных политиками бессмысленных и саморазрушающих законов. Трудно было понимать это, горько было видеть опустевшие посёлки, заброшенные заводы, все эти города и городки, превращенные в одну большую, шумно торгующую барахолку... Я не знал, жив ли ещё Никифор Фёдорович (ему должно было быть уже за семьдесят), а если жив, не уехал ли он из Огнёвки, 170 которая, как мне сообщили, почти опустела, так как рудник встал, а шахты затоплены. Но я всё же решил поехать туда... Мы мчались в Огнёвку на великолепной скоростной «мазде» моего друга, который с печальной улыбкой наблюдал, как я провожаю глазами мелькающие пустыми окнами заброшенные посёлки, вереницы людей, идущих с котомками по трассе пешком (автобусы здесь давно перестали ходить), какие-то одинокие и неожиданные киоски на поворотах (там тоже чем-то торговали) — и ничего не говорил: всё было и так ясно... Всю дорогу я молил, заклинал, чтобы Рахманов был ещё жив и здоров, я не мог даже в мыслях представить, что его уже нет. Перед моим отъездом он прихворнул, лежал в больнице, и любое могло случиться со старым, изработавшимся человеком. Вот промелькнул пустой и вымерший Асу-Булак, некогда ухоженный, чистый городок, центр всей этой рудной провинции, и мы влетели в живописное скальное ущелье, которое через несколько поворотов вдруг неожиданно раздвинулось, и перед нами ярко заблистал серебристым мощным потоком Иртыш, к которому домами сбегала с горы Огнёвка. Она тоже была заброшена и страшно зияла пустыми окнами четырёхэтажек, где жили когда-то горняки. Мелькнул забутованным жерлом шахтный въезд знаменитого рудника, запетляли почти пустынные, безлюдные улочки, и я удручённо прошептал: — Мамай прошёл... Мой друг, очевидно, вполне привыкший к подобным картинам, вновь только грустно улыбнулся, но, увидев неожиданного прохожего, тормознул: — Спроси о Рахманове. — Рахманов? — почему-то удивился прохожий, когда я, несколько волнуясь, стал расспрашивать его. — Да здесь он, живздоров, что с ним сделается! Вон его дом с черепами! Я и впрямь как-то сразу увидел знакомый дом с окнами на Иртыш, которые почему-то были наглухо заколочены. На столбах ворот висели гирляндой черепа — то ли баранов, то ли коз, и всё это меня как-то смутило — такое было совсем не в духе Никифора Фёдоровича. Рахманова дома не оказалось: он сторожил свой огород на горе, как сказала его жена, совершенно меня не узнавшая. Сама она почти не изменилась, была всё такой же прямой и лёгкой, правда, уже заметно как бы смертельно уставшей женщиной... 171 На огородах, к которым мы влетели по каменистому серпантину рудничной трассы, в маленьком дачном домике наконец и произошла наша новая встреча с Никифором Фёдоровичем. Он был буквально ошарашен моим появлением, расплакался быстрыми старческими слезами, и мы бросились друг к другу, обнялись и расцеловались. Он отрастил бороду и в чём-то странно изменился, но дело было не в возрасте, а в другом, внутреннем, о чём я и узнал немного погодя. За столом, наскоро собранным, за бутылочкой хорошей водки, прихваченной моим заботливым другом, я узнал неожиданные, почти фантастические вещи: мой дорогой Никифор Фёдорович «переквалифицировался» и стал сейчас знаменитым на всю округу колдуном, как он сам выразился, т.е. знахарем-целителем. Сразу стали понятными и его неожиданная борода, и черепа на воротах, и книга с закладками «Русский колдун», которую я сразу заприметил на журнальном столике. В голове у меня всё это совершенно не укладывалось, пока Рахманов не объяснил, что после моего отъезда он долго размышлял над темой Аполлон — Асклепий, т.е. о совокупной духовной системе поэта и врачевателя, и постепенно пришёл к выводу, что нужно испробовать себя и на поприще Асклепия. Тем более стихи постепенно затихали, некому их было показать, почитать, публиковать их, естественно, отказывались, а душа неутомимо требовала заполнения... Лечит людей он «наложением руки», что продемонстрировал немедленно и на мне: «наложил» тёплую большую добрую ладонь мне на голову и, подержав немного, спросил: — Тепло чувствуешь? Конечно же, от ладони проистекало естественное человеческое тепло, и я не стал скрывать этого. — Теперь тепло пойдёт вниз по шее и спине, чувствуешь? Этого я не почувствовал и сказал ему. Никифор Фёдорович спокойно снял руку с моей головы, пояснив, что поэт поэта, как и колдун колдуна, не лечат, что меня тоже поразило, т.к., изучая когда-то мифологию, этнографию и шаманизм, я знал, что это так. На вопрос, платят ли за лечение, Рахманов сказал, что вначале он денег не брал. Но однажды к нему привезла своего сына, хиреющего и плохо говорящего мальчика, одна важная особа из района, жена какого-то местного вельможи, и приказала лечить. Мальчика он вылечил, за что ему положили на стол до172 вольно значительную сумму денег, от которой он по привычке отказался. Ему оскорблённо и сурово заявили, что дают не ему, а тому, кто свыше, — и показали пальцем в потолок. С тех пор Рахманов не стал отказываться от гонораров, хотя сам никогда на них не настаивал... В общем, это оказалось и кое-каким подспорьем в тяжелеющем и нищающим старческом быте. Когда наконец моё первое потрясение несколько улеглось, я отвёл его в сторону и тихо спросил: — А стихи? Он вздохнул с сожалением, сказав, что стал не тот, что-то навсегда ушло из души, однако записывает иногда что-нибудь по старой привычке, хотя и видит, что пыл иссяк... Всё это время нас с Рахмановым, незаметно, но споро, снимал мой всё понимающий друг, виртуозно манипулируя сразу и видеокамерой, и фотоаппаратом. Рахманов, обнаружив, что его снимают, вдруг вытащил из шкафа какую-то фотографию, сел на диван, прижал фотографию к груди и сказал: — Снимай так... Это была моя фотография 1989 года, которую он когда-то попросил у меня... У меня перехватило горло. Я понял, что он символически хотел запечатлеть не себя со мной, а тот праздник жизни своей, который давала ему поэзия, праздник, который пришёл и ушёл... Времени было в обрез. Мы попрощались, и, как оба понимали, навсегда. На прощанье он отдал мне все свои тетради со стихами и вручил великолепную друзу дымчатого хрусталя, вероятно, ту самую, что он выломал когда-то из своей «закопушки»: — Теперь-то — не откажись... Я не отказался. ...И потекла опять дорога, петлистая, неровная, непредсказуемая, как жизнь наша в этом мире, мире слёз, великой печали и редких, но незабвенных праздников души... Плачь, милый, плачь. Êëèìåíò ÏÅÐÂÓØÈÍ Ðèääåð ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÁÛËÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÍÈÊÓÄÀ Для каждого человека память о его детстве и юности со временем окрашивается в какие-то волшебные, сказочные цвета. Забывается всё незначительное и неприятное. Остаётся только светлое и радостное. Вот почему мы так трепетно относимся к тогдашним своим друзьям и знакомым, встреченным через десятки лет. И ещё в нашей памяти живёт любовь к тем местам, где мы начинали жизнь. Кажется, вернись туда, и ты узнаешь каждую берёзку, пихточку, каждый изгиб речушки, в которой пацанами ловили старой тюлью гольянов и бычков. Неудивительно, что мы нет-нет да и подумываем о посещении этих дорогих сердцу мест. Лениногорский леспромхоз, лесоучасток Сакмариха, посёлок Синюшонок. Многие, наверно, ещё помнят узкоколейку, маленький тепловоз и несколько вагонов, увозивших счастливых грибников, ягодников и охотников в таёжную глухомань к вершинам гор Голухи, Татарки, Синюшонка, откуда лишь ленивый возвращался без добычи. А для нас, живших на лесоучастке, это была дорога в большой мир, по которой те же тепловозы увозили составы, пахнущие пихтовой смолой алтайского леса, на стройки всей огромной страны. Впервые я увидел этот посёлок в сентябре 1959 года с гружённой нашим домашним скарбом железнодорожной платформы, которую тащил окутанный дымом и паром игрушечный паровоз. Отца нашего Семёна Леонтьевича перевели тогда из Поперечного директором Синюшонской восьмилетней школы. Конечно, после могучих Белков, Убы и просторов, на которых раскинулось родное село, в Синюшонке, зажатом в ущелье лесистых гор, всем нам было первое время тоскливо. Все шестеро 174 детей долго не могли привыкнуть к новому месту обитания. Даже у матери иногда набегали слёзы на глаза. Но время, особенно в молодости, быстро залечивает раны. Появились новые друзья, новые интересы. И теперь, спустя почти жизнь, я со светлой грустью вспоминаю и старую деревянную школу, и длинный ряд бараков, и дощатые тротуары возле постоянно разбитой колёсами лесовозов дороги. Наш клуб на пригорке, в котором важнейшим искусством для нас являлось кино, да еще танцы и бильярд. А память желудка хранит вкус хлеба синюшонской пекарни, вкуснее которого мне никогда не приходилось пробовать. За окошками нашего барака, через дорогу, кран «Дэррик» день и ночь перегружал с лесовозов на платформы длинные хлысты пихт, берёз и осин. То и дело слышались гудки тепловозов. Вся наша жизнь была связана с лесом. Все мы, поселковые ребятишки, хвалились друг перед другом умением пилить брёвна электропилой, сноровкой рубить витые комлевые чурки и с гордостью взирали на схожие с крепостными стенами поленницы к зиме, загромождавшие дворы. Летом же, до сенокоса, мы работали на сплавном в нижнем течении речки Сакмарихи точковщиками. Или в лесной опытной станции — её отделение долгое время находилось в посёлке. А потом сенокос, труд и поэзия которого воспеты многими большими писателями и поэтами. Сейчас я не знаю, где мои тогдашние друзья. До тридцати мы как-то ещё встречались, а теперь ни слуху ни духу. Где вы, Колька Сысоев, Леха Вавилин, Витька Гюнтер, Юрка Киселёв? Знаю, что это несбыточная мечта, а так хотелось бы встретиться, вспомнить одноклассниц, в которых влюблялись, как дрались из-за мелочей, как ходили за ревенем, черникой или орехами по россыпям на снежный Синюшонок. Как, расставаясь после школы, клялись в вечной дружбе. Случится ли это? Два года мы с Василием Черных собирались сходить на места нашей юности. Дважды не получалось. Работа, дела, а может, иногда и лень. Да и не пацаны всё-таки, обоим за полсотни перевалило. А дороги туда и обратно — около восьмидесяти километров. Но когда очень хочется, то всё получается. Не всё сложилось, как задумывали, однако 10 августа в 19.00 отряд из четырёх человек (к нам присоединились моя сестра Наталья Барашина и её подруга Галина Яблонская), нагруженные рюкзаками, оглянулись на последние дома Гавани и отправились в путь. В предвкушении долгожданного путешествия мы не заметили, как дошли до 6-го километра, тут нас подсадил трей175 лер, везущий бульдозер. В дороге водитель рассказал, что купил узкоколейку, и сейчас его рабочие разбирают её для последующей продажи в Китай. Я хорошо понимаю трудности нашего времени, но отчего-то горько стало на душе, как будто потерял что-то дорогое. На Крольчатнике нас высадили, и начался долгий путь по долине речки Журавлихи. Мои попутчики тоже угрюмо молчали, размышляя об услышанном. Потом пошли прожекты, какбы здорово можно было использовать узкоколейку для нужд города. Но быстро замолчали. Ни у кого из идущих «инвесторов» денег не было и не предвиделось в ближайшем будущем. Однако непростая дорога, красота реки и обступивших её гор быстро заставили забыть о грустных размышлениях. До наступающей темноты нам нужно было уйти подальше, чтобы на следующий день отрезок пути остался как можно короче. Дело в том, что Наталью и Василия в понедельник ждала любимая работа. На отдых у нас оставалось полдня и ночь. А речка Журавлиха вела нас вверх по ущелью, одна сторона которого поросла пихтой, а вторая кустарником, украшенным серыми скалами. Чем-то она напоминала мне долину реки Убы. Двигались мы быстро, удачно прошли несколько бродов. Начало смеркаться. Времени для выбора хорошего места для ночлега не оставалось. Возле первого попавшегося ручья начали готовить стоянку. Наломали сухих деревьев и только разожгли костёр, наступила темнота. Василий по дороге набрал грибов, и вот уже готов суп, пахнущий грибами и тушёнкой, а о вкусе его рассказать невозможно, нужно пробовать. За едой, разговорами наступила настоящая ночь, и мы расположились на ночлег. Рядом гремел ручей. А на тёмном небе светило неестественно близкое созвездие Кассиопеи. Утром умылись и, наскоро позавтракав, отправились дальше. Вскоре дорога и речка показали нам свою настоящую суть. Сто, двести метров — и брод. И так почти до самого перевала. На обратном пути мы подсчитали — более сорока бродов. Где-то возле бывшего селения Верхняя Журавлиха, многие жители которого стали потом первыми новосёлами Синюшонка, встретили вагончики лесорубов, валивших лес на левом склоне. Спросили у одного из них, далеко ли до перевала. — Перейдёте ручей, дорога пойдёт направо, вот там и начало перевала. Двинулись дальше, и за указанным ручьём дорога действительно пошла вверх. Вот здесь-то речка наконец оправдала своё 176 название. Откуда-то с луга взлетела большая красивая птица и не спеша сделала над нами круг, как бы благословляя наше путешествие. Мы долго смотрели вслед улетающему журавлю. Подъём оказался не таким уж крутым, хотя речка, превратившаяся в довольно большой ручей, то и дело заставляла нас или брести, или прыгать по камням. Ближе к вершине стали попадаться знакомые с детства места. Вдали замаячила одна из округлых вершин трёхглавой горы Синюшонок с остатками нерастаявшего снега. Мы с сестрой узнали распадок, где когда-то был покос дяди Саши Голдина, с семьей которого мы всегда совместно заготавливали сено. Здесь, у ключа, мы пообедали и отправились дальше. Разбитая дорога постепенно выводила нас к перевалу. И вот наконец-то долгожданный водораздел. Ручьи сзади стекали к бассейну Ульбы, а на спуске первый ключ начинал своё долгое движение к милой моему сердцу матушке Убе. Вокруг поднимался к небу могучий смешанный лес, по обочинам осыпалась с веток переспевшая малина, а стоило немного сойти в сторону — то тут, то там мелькали разноцветные шляпки подберёзовиков, подосиновиков, волнушек, рыжиков, белых. Шляпки некоторых экземпляров достигали тридцати сантиметров в диаметре. Но нас это сказочное изобилие не могло отвлечь от конечной цели маршрута. Рюкзаки становились всё тяжелее и тяжелее, как будто кто-то невидимый украдкой подкладывал туда груз. Надо отдать должное нашим спутницам: ни слова об отдыхе, ни одной жалобы. Наконец где-то в районе 35-го километра достигли железнодорожной линии, по которой хотели вернуться в город. Однако наши надежды на этот путь были разрушены. Узкоколейка настолько заросла кустарником и березняком, что никакой возможности двигаться по ней не было. В километре от нас мы увидели домик на разъезде 31-го километра. Здесь тоже когдато был посёлок, назывался он Городок. Это были родные места Василия Черных, где он ходил в начальную школу. До посёлка Синюшонок оставалось километров десять. И вот уже по речке Сакмарихе продолжаем путь. Все с нетерпением ждали узнавания очертаний знакомых гор. Наконец замаячила гора Павлычева, высотой около 1200 метров (в детстве мы называли её Палачиха), и перед нами раскрылась панорама всего, если можно так назвать, посёлка. В центре, как на военной фотографии, — стены разрушенной новой кирпичной школы, справа — такие же останки котельной с уцелевшей трубой, ещё правее — с десяток сохранив177 шихся частных домов. Всё такие же горы, только лес за прошедшие двадцать лет стал намного выше. Вспомнились строки: «Не возвращайтесь, мальчики, туда, где вам когда-то было хорошо...». Можете представить, что было в наших мыслях и сердцах, особенно понимаю Василия, ведь он в составе студенческого отряда строил эту школу и несколько коттеджей в последние годы существования посёлка. Вконец измученные, мы остановились у речки Синюшонок, напротив скалистой сопки, где когда-то стояла знаменитая пекарня, сбросили рюкзаки и упали в траву в надежде немного отдохнуть. Но на нашу «свежую» городскую кровь налетела туча комаров и мошки, так что отдыхом это можно было назвать с трудом. Увидев двух мужчин, приучавших к телеге молодую лошадь, мы с Василием пошли в сохранившуюся часть посёлка, надеясь встретить кого-то из знакомых. Но тщетно. Вернулись к своему привалу, немного полежали и стали искать места нашего бывшего проживания. Кое-как перебравшись по разрушенному мосту через Синюшонок, увидели заросшую травой до самой берёзовой рощи и далее долину. Постояли возле места, где была школа, которую мы закончили, полюбовались на школьную гору, где на переменах играли в нехитрые игры. Посмотрели на состарившиеся тополя, лет сорок назад посаженные возле нашего барака завучем школы Ираидой Михайловной, и пошли, палимые солнцем, искать ночное пристанище. Не успели подойти к жилым домам, к нам навстречу вышла худенькая женщина: — А мне мужики сказали, что пришли какие-то синюшонские, вот я и побежала спросить, нет ли кого знакомых. Это была Валентина Шумилина. Они с Василием сразу узнали друг друга, а мне пришлось назвать фамилию, и она сразу вспомнила отца и мать, а узнав, что и Наталья здесь, захотела её увидеть и пошла к нашей временной остановке. Поговорив с сестрой, она рассказала о себе. — Я ведь здесь кладовщиком была и при закрытии лесоучастка передавала все ценности леспромхозу, да так и осталась. Куда ехать? Хозяйство у меня, да и годы уже не те. Мы тут из коренных вдвоём остались: я да Валентина Немцева. А насчёт ночлега, так вон за речкой дом с голубыми ставнями, там мой брат жил, теперь пустует, ночуйте там, а вечерком за парным молоком приходите. Дом оказался добротным, даже стёкла в окнах все целые. Диван, две кровати с панцирными сетками, лучшего и не поже178 лаешь для прошедших долгий путь. Сходили на речку за водой, пора было подумать об ужине. Во дворе на нехитром приспособлении из четырёх кирпичей и железной решетки стали варить картошку, вскипятили чай. Тут к нам зашла женщина, поздоровалась. — Я вот пришла узнать, пойдёте ли вы на Пахотное? — Садитесь, бабуся, — пригласил Василий. — Ну какая же она бабуся, — возразила Галина, — женщине столько лет, на сколько она выглядит. — И сколько же вы мне дадите? — Да где-то около пятидесяти. Женщина засмеялась: — Семьдесят мне, это нынешняя зима меня омолодила, я за неё столько снега перекидала, вот и стала такая стройная. Зашёл разговор об освещении: керосиновыми лампами или свечами пользуются. — Мы про это не думаем. Просыпаемся — светло, а темнять начинает — спать ложимся. — А как продукты завозите? — спросил кто-то. — До нынешнего года у лесника нашего Николая Семёновича Клиновицкого пасека здесь была, так он помогал, а теперь на лошадях завозим. Мы дали ей две булки хлеба, она всё отказывалась, потом предлагала картошки, зелёного лука. Но продуктов у нас самих были излишки. В то же время зашёл ещё один гость, высокий худой мужчина в шортах и с видеокамерой. — А я с сегодняшнего утра вышел, видел ваши следы, думал, догоню, но не успел. Это был, как потом выяснилось, наш коллега по цинковому заводу Юрий Худобин. Фотограф и путешественник, влюблённый в природу нашего края. Он остановился у кого-то по соседству. В августе темнеет быстро. Поужинали, и я снова подумал: почему у нас в городе не получается такая вкусная пища? А здесь каждый становится великолепным поваром. Наталья надолго ушла куда-то, оказывается, она плакала на речке. О чём? Это известно только ей. Вася соорудил коптилку, при её свете мы недолго поболтали и легли спать. Я же долго ворочался на скрипучей панцирной сетке и думал об отце. Понятно, посёлки лесорубов строятся на то время, пока в ближайшей округе есть лес. Кончился лес — переезжай на но179 вое место, строй новые бараки — и история повторяется. Неизвестно, зачем нужно было возводить новую школу в бесперспективном посёлке. А ведь я помню, с какой гордостью он показывал гостям и классы, и спортзал, которых не было в некоторых городских школах. И вдруг — крах всем надеждам. (Потом, в городе, уже на пенсии, он всё равно работал учителем.) По-моему, эта трагедия и сократила его жизнь. Я не судья никому, тем более теперь, когда прошло уже много лет. И перед глазами прошло столько похожих трагедий. Взять только одну Колыму, где недалёкие людишки развалили сотни посёлков, где люди добывали и лес, и серебро, и золото. Права народная мудрость: «Ломать — не строить...» С этими грустными мыслями я наконец-то заснул. Утром стоял туман. Впереди предстоял трудный переход. Но, как известно, лошадь — и та домой быстрей бежит. На окраине посёлка остановились и посмотрели на старенькие, уцелевшие ещё дома. Прощай, наша юность, прощай, Синюшонок, кто знает, когда теперь увидимся и увидимся ли? Знакомая теперь уже дорога, только в обратном направлении. Зашли проститься с «бучилом», так называли мы небольшой водопад, под которым в детстве любили купаться, нырять со скалы в вырытый им за столетия неширокий, но глубокий омут. Крутой подъём на перевал одолели удивительно легко. Гдето на середине пути нас обогнал Худобин. Прошли вместе, поговорили. Он попрощался с нами. — Если я буду идти тихо, то быстро устану, — сказал он, и вскоре его фигура исчезла за ближайшим поворотом. С перелома открылся потрясающий вид на большую Синюху с её каменными воротами и снежными склонами. Теперь дорога до самого города — только вниз. Возле прошлой ночёвки решили остановиться пообедать. И бывают же на свете чудеса: мы ещё не успели разжечь костёр, возле нас остановился неизвестно откуда появившийся «уазик», нашим женщинам крупно повезло: до города они добрались на колёсах. Пообедали подогретой на костре тушёнкой, попили чаю и двинули налегке далее. Крольчатник, 6-й километр, всё ближе дом, ванна, отдых. Появились вдали трубы цинкового завода. И вот мы на остановке. Падаем возле забора и улыбаемся друг другу. Мы сделали это, Василий, мы осуществили свою мечту! Гаванский автобус вёз нас по улице Вокзальной. И вдруг такой похожий пейзаж открылся нашим глазам! Улица без домов, 180 а я ведь помню булыжную мостовую, по которой мы ходили с дедом. Потом развалины управления комбината, техникума, машиносчётной станции. Мистика какая-то. Остаётся утешиться: нет ничего вечного, созданного человеком. Главное, чтоб на месте разрушенного что-то строилось. ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÅ Старенький «пазик» еле тащился по разбитой «КрАЗами» и «КамАЗами» строящейся дороге из Риддера в Россию. Много копий было сломано в жарких спорах о том, нужна ли она региону. Защитники говорили о перспективах тупикового города. Многометровой ширины шоссе соединит Восточный Казахстан через Чуйский тракт с Алтайским краем, Кемеровской областью, на юге откроется выход в Монголию и Китай. И побегут через нас в обе стороны караваны машин с товарами. Нужны будут гостиницы, мотели, ремонтные мастерские. Дорогу нужно будет содержать в хорошем состоянии, значит, необходимы дорожно-ремонтные службы, а всё это, вместе взятое, — новые рабочие места и в итоге сокращение безработицы. Оппоненты упирали на экологию — ведь дорога пройдёт по территории Западно-Алтайского заповедника с его кедрачами, озёрами, немыслимой красоты горами, где сейчас медведи, косули, лоси, маралы чувствуют себя в полной безопасности. А на альпийских лугах среди щедро цветущих горечавок, троецветок, стеблей золотого корня беспечно пересвистываются сурки. И вот дорога строится. Победила коммерческая выгода. Тяжёлые самосвалы везут из карьеров породу, расширяют, наращивают полотно. Возводят через ручьи и речки новые мосты. Через каждый десяток километров видны станы механизированных колонн дорожников. Никогда ещё окружающие леса не видели такого скопления техники. Как бы там ни было, автобус, медленно пропуская гружёные и порожние машины, движется вперёд. Справа поблёскивают снегом остроконечные пики Ивановского хребта, до половины поросшие пихтачом и лиственницами, слева более низкие отроги хребта Листвяг. В до отказа набитом салоне все разговоры были о сенокосе. Дождливое лето поставило проблему: косить сейчас или ждать хорошей пого181 ды? Все пассажиры — или крестьяне, или горожане, корни которых, родители или родственники, оставались в деревне. Поэтому равнодушных не было. Незаметно мы приближались к цели путешествия, моей родине — старинному селу Поперечному, о котором ещё в 1910 году наш знаменитый земляк писатель Г. Гребенщиков в очерке «Река Уба и убинские люди» упоминал как о большой и богатой деревне. Неспешная езда склоняла к философским размышлениям о непредсказуемости жизни и судьбы, которая сводит совсем разных людей, с разных концов света. Появляются семьи, вырастают дети. Молодые находят друг друга, и снова всё повторяется. Никто не в силах изменить этот закон жизни. Мой дед Леонтий Дмитриевич, родившийся в семидесятых годах позапрошлого века, мальчишкой с матерью переселился из Пермской губернии в Сибирь, в Хакасию. Познал все прелести нищеты (за кусок хлеба был поводырем у слепых). После обучался плотницкому и столярному делу, построил дом, женился, народил трёх дочек и сына. В зрелом возрасте встретил Первую мировую войну, что, однако, не избавило его от призыва в армию. Правда, служил он в тыловой команде в Красноярске. После революции вернулся домой, где, отведав колчаковских плетей, вступил в партизанский отряд Лазо. После Гражданской войны вернулся к семье. Вскоре умерла жена. И начались скитания по стране в поисках лучшей жизни, которые в конце концов привели в Восточный Казахстан, в село Бутаково. Здесь семья встретила Отечественную войну. Тётушка моя Антонина Леонтьевна, оставив маленького сына на сестру, ушла на фронт, где прослужила в госпитале до Победы. Отца призвали в армию, и всю войну он находился на Дальнем Востоке. А в первые же дни войны с Японией был тяжело ранен. Старшая тётя Александра с маленьким племянником перебралась в Поперечное, где работала на молочном заводе. После Победы судьба начала собирать всех родственников в этой деревне. Из госпиталя вернулся отец. Приехала за сыном Юрой тётя Тоня, вышедшая замуж за фронтового товарища, ладожского шкипера Константина Ивановича. Лишь тётя Лиза из-за своего мужа, бывшего белогвардейского офицера, вынуждена была с семьёй постоянно менять место жительства и скитаться по Союзу. После педагогического училища была направлена в Попереченскую начальную школу Мария Максимовна Шестакова. И в результате появилась новая семья сельских учителей Первушиных. А когда пошли внуки, приехал дед со своей новой женой, 182 которая потом помогала матери поднимать шестерых детей и стала нам всем родной бабушкой Мотей... Автобус свернул со строящейся дороги и вырвался из тесного ущелья на простор. Значит, скоро моя деревня. Лет двадцать не был я на своей родине и невольно волновался. Меня всегда тянуло сюда, но подумаешь: ни родственников, ни знакомых. Сорок лет назад мы уехали из Поперечного. И, может быть, я ещё долго бы тянул с поездкой, если бы не мамина сестра, тоже Мария. У старообрядцев так бывает, имена раньше давали по святцам. Она и рассказала мне, что пока я ездил «за туманом» на Колыму, в Поперечном поселились наши родственники по деду Максиму — Шестаковы. Они во время коллективизации уходили в Китай, а после снова вернулись в Казахстан. Однажды я написал очерк «Русские, никогда не видевшие снега» о семье Рыжковых, живущих сейчас в Бразилии. И мне очень захотелось встретиться с теми, кто предпочёл Родину жизни на чужбине. Вот и Поперечное. Слева от дороги домаL старой постройки, справа коттеджи, похожие друг на друга, память о годах совхозного процветания. Вышел из автобуса, и если бы не седая борода, можно было подумать, никогда не покидал эти места. Вот отдельно стоящая гора Гребнюха — сюда, сюда совершали мы наши первые детские походы. Вдалеке три остроконечные скалы под названием Вилы. Всё так же на тысячеметровой высоте стоит, задумавшись, каменный Мужик, напротив Николайчиха с дорогой в седловине, с незапамятных времён соединяла она деревню с Риддером. Недалеко на пригорке стоял когда-то дом, в котором я родился. Теперь от него и следов не осталось. За Убой цепляются за скалистые горы облака, а в стороне, откуда мы приехали, охраняют покой широкой долины могучие вершины Ивановского белка. В детстве весной мы часто наблюдали с завалинки, как с их крутых склонов скатываются тысячетонные лавины. С деревней получилось сложнее. Долго припоминал, где была школа, где клуб. С трудом всё-таки сориентировался. — А я тебя сразу узнала, — встретила меня невысокая пожилая женщина, — видела на фотографии у твоей матери. Заходи в летнюю кухню, — распорядилась Фетинья Кирилловна Шестакова, ради разговора с которой я и приехал. — Одна осталась, дом большой, я его на лето закрыла, здесь живу, уютней, — продолжала она. 183 Летняя кухня была просторной. Печь, кровать, стол. Видно было, что хозяйка любит порядок. Мудрая женщина все разговоры оставила на потом. «Впереди у тебя целый день, поговорить ещё успеем. Сейчас пойдём к сыну Петру, познакомитесь. Жалко, Федя на рыбалку уехал. Ладно, не последний раз приехал. Да и по деревне, наверное, рвёшься пройтись, знакомых встретить. Вон в том доме, за речкой, Лилисоны Олег с Марией живут. Они родителей твоих часто вспоминают». Дорога до Петра не заняла много времени. У всякого человека, имеющего свой дом и хозяйство, всегда находится работа. Вот и сейчас он строил баню. Немного поговорив, мы ушли, не стали ему мешать. «Живут ребята неплохо, — рассказывала Фетинья Кирилловна, — сейчас ведь все мы стали фермерами. При распаде совхоза выкупили нужные для хозяйства механизмы. Сейчас бы сено заготавливать, да дожди не дают, Я сказала им, пока погода не установится, хоть в сентябре, косить не думайте. Пусть сено погрубее будет, зато не сгниёт. Травы здесь хорошие. Заготавливать можно до поздней осени». Когда вернулись назад, Фетинья Кирилловна призналась: «Горе у меня, корову украли, такая хорошая была. Молока много давала. Все окрестности исходила, искала. На Николайчихе нашла место, где её весь день на привязи держали, а ночью зарезали и сдали заготовителям. Я уже выяснила сама, кто резал. Деревня-то маленькая — ничего не утаишь. Милиция приезжала, я всё рассказала, никаких результатов. Видно, куплены они заготовителями. Ну ладно, заговорила я тебя. Иди погуляй по деревне, может, знакомых встретишь». По столетней лиственнице, лежащей поперёк речки Быструхи, я переправился на другой берег и пошёл к дому Лилисонов. История этой семьи заслуживает отдельного рассказа. Впервые я увидел Олега, когда он пришёл из армии. Мы, мальчишки, бегали гурьбой за солдатом, одетым в лётную форму. Как-то так случилось, что Николай Шмаков и Володя Серов — мои друзья детства — были один сводным братом Олега, а другой братом Марии, его невесты, а потом и жены. Так что течение этого романа проходило на наших глазах. Володя стал потом прекрасным музыкантом, руководителем оркестра. К сожалению, он рано умер, но его эстрадные пьесы исполняются до сих пор. С Николаем мы иногда встречаемся и вспоминаем детство. 184 Олег и Мария встретили меня, как будто мы только вчера расстались. — Пойдём в моё «кафе», — пригласил меня Олег, и вскоре мы сидели за столиком под вековыми деревьями. Мария принесла чай и пироги. — Потянуло на родину, к земле? — спросил я. — Да нет, это способ выживания. Знаешь ведь, какие у нас пенсии. В городе не протянешь. А здесь и молоко, и мясо к зиме будет. Дом Марии в наследство от деда достался. Помнишь деда Германца? Его прозвали так за то, что в Первую мировую был в плену у немцев. Построен ещё до революции, но до сих пор крепок. Только почернел — лиственница. Вот дочка с внуком из Москвы приехали. Решили сфотографироваться вместе на память возле исторического дома. Потом Олег показал прорези в стенах сеней гдето на полуметровой высоте. — Отгадай, для чего эти отверстия? Оказалось, в колхозные времена, когда даже за курицу брали налог, хитроумный дед Германец оставил ульи в сенях, а в стенах сделал отверстия для летков и благополучно избежал поборов за содержание пасеки. За своим братом, латышским стрелком, приехал в Казахстан отец Олега. Работал в Павлодарской области учителем, затем директором школы, а в 1937 году был репрессирован и погиб в сталинских лагерях. Мать Ираида Михайловна вышла замуж за председателя попереченского колхоза Сергея Александровича Шмакова. Так появились в русском селе маленькие латыши Олег и Орвиль. — Были мы с братом в гостях у родственников в Латвии, — говорит Олег, — но там уклад жизни другой. Они называют нас русскими, так что придётся доживать здесь. И я не жалею, посмотрите, какая красота вокруг. Я попросил показать, где находился наш дом. — Посмотри на тот берег. Видишь вагончик? Это Ганька Серов магазин там держит. Вот на этом месте и стоял ваш дом. Попрощались. И пошёл я к родному пепелищу. Ничто не напоминало место, где прошло моё детство, разве что заросли крапивы. Нет того пятистенка, что дед с отцом построили за одно лето. А ведь тогда и бензопил не было. Всё вручную. И рамы, и двери дед сам делал. Не обошлось и без «помочи», когда все соседи собирались стены поднять или стропила поставить, а после работы вечером пили домашнее пиво и пели ста185 ринные песни. Помню, дед говорил отцу: «Вот поставлю тебе, Сенька, дом и поеду в Новую Ладогу, Антонине помогу. У них тоже домишко старый». Потом спрашивал я у деда, сколько за свою жизнь домов построил. «Не считал, — отвечал он, — но, наверное, много. Мне ведь уже восемьдесят стукнуло». Умирают люди, умирают дома. Только природа остается вечной, думал я, шагая по селу. Пойду-ка я на Убу, под Висючку, там-то наверняка ничего не изменилось. Так называлась скала, нависшая над речным омутом. Это было любимое место летних наших развлечений. Переплыв Убу, мы забирались на утёс и ныряли оттуда, с многометровой высоты, кто «солдатиком», кто по-настоящему, «ласточкой», и хвалились друг перед другом своей смелостью. Вброд перешёл речку Поперечную и без тропинки, через пихтач, двинулся к заветной скале. Повинуясь какому-то звериному чутью, вышел на берег в нужное место. Вот она, эта высокая скала с небольшой пещерой в расщелине, куда мы както, наделав факелов, совершили незабываемый поход. Всё как прежде, вот только Уба изменила русло, нанесла на берег наших подвигов гальки с песком, а под отвесным камнем теперь лежали коровы, прячась от неумолимых лучей солнца. Оказывается, и природа изменчива. Грустно. День перевалил на вторую половину. Пора было возвращаться к Фетинье Кирилловне. Снова перебрёл речку, по полю прошел мимо кладбища. Никто из близких здесь не похоронен. Но кто знает, сколько знакомых покоится под этими покосившимися крестами? У каждого была своя жизнь, о которой я уже ничего не узнаю. Всякий человек, умирая, уносит с собой целый мир. Хозяйка встретила меня словами: «Ну, пойдём обедать, не обессудь, мясного у меня нет. Сейчас постные дни». За трапезой и начался рассказ о жизни Фетиньи Кирилловны и её родственников. Окончилась Гражданская война. Бравый красный командир Кирилла Макаров вернулся в родную деревню Черновая. Остались позади Первая мировая война, революция, ликвидация банд махновцев и других самостийных «батек» на Украине. Семья Кирилла была среднего достатка, поэтому, погуляв недельку, он включился в общие заботы, как тогда говорили, «не потопаешь — не полопаешь». И хлеб посеять, и картошку посадить. Потом сенокос пойдёт, следом жатва. Летом день год кормит. Но молодость брала своё. Пригля186 нулась парню красавица Лукерья, дочка местного богатея Елисея Студенкова. Да так приглянулась, что жизни без неё он уже не представлял. Но кто он был для Елисея, имевшего молочный завод, три стада маралов и несколько пасек! Отец Лукерьи даже на порог не пускал посылаемых сватов. А столетняя бабка Студенчиха стучала по забору палкой и кричала: «Ишь, голытьба, захотел нашу Лушеньку, и не думай даже, ничего у тебя не выйдет». Но настойчив был закалённый в боях красный командир. Тем более он уже знал, что и любимая девушка была к нему неравнодушна. Нет таких преград, которые не преодолела бы любовь. Благодаря настойчивости жениха, а может быть, и уговорам любимой дочери, на десятый, а может, на двадцатый раз Елисей принял сватов и согласился выдать Лукерью за Кирилла. Свадьбу сыграли пышную: с тройками, запряжёнными в кошевки, с дугами, перевитыми лентами, с протяжными кержацкими песнями. И зажили молодожёны своей семьёй. Обзавелись хозяйством, не без помощи тестя. С детства привычные к крестьянскому труду, работали не покладая рук, умножая богатство. Пошли дети, казалось бы, живи да радуйся. Но, как у нас в стране заведено было в двадцатом веке, «покой нам только снится». Началась коллективизация. В один день большинство семей в деревне стали кулаками. А кулаков надо было раскулачивать, а раскулаченных выселять или отправлять в лагеря. И побежал народ в Китай. Многих расстреливали пограничники, но ещё больше благополучно переправлялись за кордон. Пришлось сделать выбор и Кириллу с Лукерьей. Посоветовались с тестем. Он благословил молодых на дальнюю дорогу. Сам же наотрез отказался уезжать, бросать на произвол судьбы нажитое несколькими поколениями Студенковых богатство. На четырёх лошадях, с двумя малыми детьми, захватив только самое ценное, тёмной ночью они отправились в неизвестность. Труден был путь до границы, через горы, по бездорожью. Каждый всадник или группа казались врагами и заставляли прятаться и пережидать в самых глухих уголках алтайской тайги. Наконец благополучно перешли границу, казалось, всё страшное позади, но уже на сопредельной стороне напоролись на китайских пограничников, которые обобрали их до нитки. Хорошо, хоть не застрелили. Жизнь в то время ничего не стоила. Добрались до первой русской деревни. Старообрядцы ещё до революции в поисках Беловодья освоили Западный Китай. 187 Этот край представлял тогда смешение многих народов. Дунгане, уйгуры, казахи, монголы, китайцы, русские населяли тогда Синьцзянь-Уйгурский округ. Старожилы встречали новоприбывших неприветливо. А перед такими, как Кирилл с Лукерьей, которым и продать нечего, ворота зажиточных крестьян были закрыты наглухо. Начинать жизнь приходилось с нуля. Брались за любую работу, чтоб не умереть с голода. Трудно пришлось с двумя малыми детьми. Но работящий человек со светлой головой всегда найдёт выход из трудного положения. Понемногу обустраивались, обзаводились скотом. До былого благополучия было далеко, но жить можно. Вскоре пришло горькое известие: отца Лукерьи Елисея Студенкова расстреляли. Были тогда в НКВД агенты, завербованные из местных жителей, которых посылали за кордон с разведывательными целями. Они-то и были связующим звеном с родиной. Чекисты не учитывали, что в алтайских деревнях большинство жителей в родстве. И вот лазутчики, направленные за кордон узнать о настроениях русских беглецов, встречают родственника и рассказывают ему о судьбе близких. А возвращаясь назад, сообщают родным о том, как устроились в Китае брат, отец, сестра и другая родня. Могли и письмо передать. Такова была нерегулярная, но всё-таки связь с родиной. После обеда Фетинья Кирилловна повела меня в дом. Вошли в большую кухню, направо и налево две большие комнаты. Достала фотографии. Некоторые пожелтевшие от времени снимки сохранились с тех закордонных времён. — Ты знаешь, в Китае прошло моё детство и молодость, а вспомнить что-то хорошее никак не могу. Сколько мы там жили, столько шли войны. Самая кровопролитная — Дунганская. Иногда даже и не поймёшь, кто против кого воюет. Те же казахи: зимой живут рядом с нами, люди как люди, летом же, откочевав на джайлау, оттуда совершают набеги на сёла. Угоняют коров, лошадей. «Барымта» у них называется. Потом народноосвободительная война. У нас в родне дважды герой КНР есть. Мамин двоюродный брат Никифор Александрович Студенков.1 Вот живём в одной области, а с тех пор, как приехали в Союз, не 1 В начале 2007 года в одном из московских издательств вышла книга устькаменогорца Вадима Обухова «Синьцзянский излом», основанная на воспоминаниях трижды героя Восточно-Туркестанской республики Никифора Студенкова. 188 можем встретиться. Он в Миролюбовке обосновался, кажется, управляющим отделением совхоза работал. Жив ли сейчас, кто знает? Я поинтересовался, кого из родственников она знает по Китаю, кроме моего дядьки Маркела, проживавшего тогда в интернациональном городе Шерсуме. Никого общих знакомых не оказалось. Спросил о Лаврене Рыжкове, который одновременно с ними ушёл в Китай с внуком Никифором. А потом уже внук перебрался в Бразилию, и, по последним данным, в русской деревне Прима Вера живёт уже более сотни его потомков. Фетинья Кирилловна знала одного Рыжкова, но это уже, видно, другая ветвь древнего кержацкого рода. Моя собеседница, разложив передо мной гору снимков, сокрушалась, как мало осталось свидетелей той их жизни. Внимание привлекла одна фотография: большая группа людей под лозунгом, где восславляется очередная годовщина Октября. Оказывается, после войны Советский Союз взял в концессию несколько китайских рудников, завёз туда рабочих и инженеров. Так появились рядом с переселенцами посёлки со всеми атрибутами советской жизни. И русские потянулись к этим островкам далёкой родины. Тем более появилась работа, которая неплохо оплачивалась. Жизнь постепенно налаживалась, потом, уже при Хрущёве, разрешили желающим возвратиться в Союз. По деревне разъезжали агитаторы, расписывающие прелести жизни в Австралии и Америке. Советские пропагандисты тоже не отставали. К тому времени в жизни Фетиньи Кирилловны произошли большие изменения. Умер отец Кирилл Акимович, а в 1951 году она вышла замуж за своего земляка Антона Кирсантьевича Шестакова. В 1959 году и в Китай пришла коллективизация. Начали создавать в сёлах коммуны, обобществлять домашних животных и орудия труда. Семья собралась на совет. Как жить дальше? — Мама, Лукерья Елисеевна, была за то, чтоб ехать в Америку, я же сказала, что никуда, кроме родины, не поеду, — рассказывает моя собеседница, — остальные поддержали меня. Сдали хозяйство в коммуну и опять налегке, с колонной переселенцев, на автомобилях двинулись в сторону советской границы. Мужа назначили ответственным за порядок во время движения, поэтому Антона Кирсантьевича мы редко видели. Только в Зайсане оказались вместе. Родная срана не встречала нас пирогами, но везде была работа и какое-то пусть плохое, но жильё. Шесть лет мы прожили в Чубар-Агаче, затем перебра189 лись в село Язовое. Я ещё с Китая освоила профессию пчеловода, а муж занимался мараловодством. Повадился в маральник медведь. Пошли мужики наказать косолапого, но только подранили. А раненый зверь — это угроза и оленям, и людям. Вот мой Антон и пошёл добивать его. Охотник он был опытный. Мы никогда не думали, что может случиться несчастье. Но обиженный хозяин тайги становится очень хитрым и мстительным. Не углядел противника следопыт и был наказан. Изломал его мишка чуть не до смерти. Я только вертолёт увидела, который увозил его в Усть-Каменогорск. Много месяцев штопали его врачи. Кое-как собрали. Ни ходить, ни работать, ни есть сам он не мог. Только жидкое с ложечки, да и то я кормила. Большой силы воли был человек. Понемногу научился ходить, выйдет во двор и негнущимися пальцами берёт топор, он не держится в руке, но берёт его снова. Жалко было смотреть на его беспомощные попытки. Однако с каждым днём движения становились всё более уверенными, и в конце концов он одолел свой недуг. Вот только лицо было изуродовано. Кто-то сказал мне, что в Алма-Ате есть клиника пластической хирургии, что врачи там делают чудеса. И Антоша поехал туда. А в это время я встретилась с давним знакомым Виталием Мошаровым, который работал директором совхоза «Лениногорский». Зная, что я хороший пчеловод, он пообещал мне и квартиру, и зарплату. И вообще золотые горы, если я приеду и поставлю на ноги пчеловодство в его хозяйстве. Таким образом и оказались мы здесь, в Поперечном. Пасеку мне дали, а с жильём сложилось по поговорке: обещанного три года ждут. Если бы ты знал, сколько нервов истратила, пока не дали вот этот дом. Однако всё плохое проходит. Вернулся Антон Кирсантьевич из АлмаАты. Вот фотокарточка. Со снимка смотрело симпатичное лицо пожилого человека. Ничем не напоминавшее о недавней трагедии. Мы ещё долго рассматривали фотографии, Фетинья Кирилловна заочно познакомила со всеми своими детьми, а их у неё ни много ни мало — десять душ. И о каждом сказала что-то хорошее. Пётр и Фёдор живут рядом. Остальные — кто в Риддере, кто в Усть-Каменогорске, кто в России. Все при деле. Лентяев и пьяниц нет. Да и откуда они могут быть, если с детства воспитывались на примере своих родителей, которые каждый кусок хлеба зарабатывали своим умом, руками. — Потеряла я своего мужа по-глупому, теперь поздно когото винить, — горестно вздохнула она, — уехала к детям в го190 род, Антон с соседом после работы зашли к нам выпить и вместо водки осушили по стакану настойки, которую я делала, чтоб ноги натирать. Сосед жив остался, а у Антона сердце не выдержало. Обидно, Китай прошёл, после медведя, можно сказать, из могилы выкарабкался. И вдруг такая нелепая смерть. Я понимаю, у Бога всё расписано. Каждому свой век отмерен, и грех на судьбу роптать. Только привыкнуть к этому невозможно. Последнее время молиться больше стала, посты соблюдать. В городе искала своих одноверцев-беспоповцев, напрасно. Вот теперь, думаю, люди сами ставят себе какие-то заборы. Одни так крестятся, другие по-другому пальцы складывают. Бог-то один для всех, а все эти деления мы от гордыни своей придумали. Главное, чтобы душа была чистой и открытой для любви, как Господь завещал. Вот ты о бразильцах рассказывал, как они там хорошо живут. Что ж, пошли им Бог удачу. У них своя судьба, у нас своя. Теперь ты знаешь мою историю. Жизнь была непростой. Но никогда я не жалела о давнем выборе. Человек должен жить на своей земле. А уж как Господь распорядится, так и сложится его судьба. За разговорами прошёл день. Нужно было шагать на остановку. Уже потом, через стекло автобуса, я помахал ей рукой. Она одиноко стояла возле своего длинного дома с небольшой пасекой в саду. Маленькая женщина посреди непредсказуемого мира. Âèêòîð ÏÎÄÐÅÇΠÓñòü-Êàìåíîãîðñê ÃÅÐÎÉ ÔÐÎÍÒÀ На груди защитника Родины Николая Васильевича Молостова четырнадцать правительственных наград. Особенно дорожит и гордится фронтовыми орденами — Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Человек яркой и красивой судьбы оставил свой след не только на стене Рейхстага, расписавшись: «Я из Казахстана. Н.В.М.», но и в истории спорта нашей области. Организовал и возглавил коллективы физкультуры на УстьКаменогорской ТЭЦ и ПЭО «Алтайэнерго», инициатор создания спорткомплекса «Алтайэнерго» и его директор — тридцать шесть лет на спортивной работе. Отец тяжёлой атлетики и городошного спорта, он не только сам был многократным чемпионом ВКО и призёром республики. В течение пятнадцати лет — старший тренер области по штанге, наставник легендарного атлета Щепкина, судья всесоюзной категории по тяжелой атлетике, судья высшей национальной категории по гиревому и городошному спорту, получил звание почётного деятеля спорта Республики Казахстан. Всегда на почётном месте в судейской коллегии на всех соревнованиях по тяжелой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу. Русский солдат, старшина артиллерии Молостов с честью вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и оставил свою роспись на стенах поверженного Рейхстага. А сейчас силой духа побеждает болезни и недуги старости. В 78 лет, выступая на соревнованиях по силовому троеборью, показал следующие результаты: приседание и тягу по 100 кг, а жим лёжа — 60 кг. Старшина Молостов по-прежнему в строю — в строю спортсменов выходит на помост и своим примером учит науке побеждать. 192 ÔÐÎÍÒÎÂÀß ÎÄÈÑÑÅß Когда-то в стародавние времена прадед семейства Молостовых остановился со всем своим обозом на берегу реки, заросшей тальником, вырубил из куста острый колышек и своей рукой воткнул его в землю, сказав при этом: «Здесь будет деревня Таловка». Земли кругом были чёрные, жирные и плодородные — настоящие угодья, рай земной для крестьянина. Претендовать на них было некому — кругом безлюдная пустыня. До самого ближайшего селения — станции Рубцовка — было шестьдесят верст. Позже от села Таловки отпочковалась деревня Усть-Таловка. Некоторые родственники Молостовых устроились на работу в Колывано-Вознесенский рудник. Другие вели натуральное крестьянское хозяйство и были мастерами на все руки, а иначе в глуши не выживешь. Могли и без единого гвоздя сруб поставить, а из конопли (которую сейчас знают только как дурмантраву, синоним марихуаны) делали ткань и выжимали масло. Но жизнь крестьянства нельзя представлять себе в виде некой буколической идиллии. Град, засуха и неурожаи могли и самый великий труд оставить бесплодным. Тогда надвигались голод, болезни и эпидемии, от которых умерло немало родственников, сейчас только старожилы помнят те великие снега и свирепые морозы. Беспощадно жестокими были и социальные катаклизмы. Русского фермера уничтожили как класс. Молостовы перебрались в Риддер, который перед войной был переименован в Лениногорск. В начале 1941 года народ предчувствовал приближение беды. Жители Второго района, расположенного возле соснового бора, наблюдали странное явление. За неделю до начала войны жители улицы Партизанской все поголовно высыпали подивиться на зловещий закат. Вдруг на востоке, напротив захода солнца, зажглось разноцветное зарево, на фоне которого возникли три столба света: жёлтый, красный, голубой. Пятнадцатилетнему пареньку Коле Молостову запомнились горестные слова пожилой женщины, сказавшей, что это предвещает неминуемую войну. А через неделю чёрные тарелки репродукторов возвестили о вероломном нападении фашистской Германии. Торжественно проводили на фронт размещавшуюся в сосновом бору артиллерийскую часть, которая вошла в состав панфиловской дивизии и стала известна своим подвигом у разъезда Дубосеково под Москвой. 193 Коле Молостову пришлось прекратить учёбу. С самого начала войны работал в пригородном хозяйстве, возил воду для полива овощей. В конце 1943 года в очередной раз получил повестку. Обычно после комиссии его отправляли домой из-за нехватки возраста. Но на пятый раз Коля уже не вернулся домой — упросил призвать его. Сбылась мечта — многие ребята рвались на фронт. Ему исполнилось семнадцать лет, когда его отправили в Семипалатинск для прохождения курса молодого бойца. И только через семь лет Николай снимет серую солдатскую шинель. Семь лет ему будут сниться родные тальниковые рощи. В марте 1944 года был сформирован воинский эшелон, направленный на фронт в Великие Луки Смоленской области, которые только что были освобождены. Попал Николай в 234й стрелковый полк 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал-полковник И.Х. Баграмян. Получил обмундирование и боевое оружие — стал стрелком. Присягу принял, когда войне исполнилось ровно три года. И сразу в бой — в этот день началось наступление 1-го Прибалтийского фронта. Это была крупномасштабная Белорусская операция под кодовым названием «Багратион». Полк проводит разведку боем. Боевую задачу выполнили полностью: уточнили расположение огневой системы противника непосредственно на его переднем крае и выяснили ранее неизвестное расположение его артиллерийских батарей. Белорусская операция охватила огромную территорию более тысячи километров фронта. Уже на третий день наступления 43-я армия расширила прорыв до тридцати километров в глубину на девяностокилометровой фронтовой полосе. На правом берегу Западной Двины захватили участок в пятьдесят километров. В тот же день стрелковый корпус 43-й армии выдвинулся в районе Гнездиловичей и оказался в пяти километрах от наступавших навстречу войск 5-го гвардейского корпуса 39 армии 3-го Белорусского фронта. Выбили фашистов из Витебска, взяли очень много пленных. После окончательного захвата плацдарма стрелковому полку был дан приказ — с ходу форсировать реку Западная Двина на подручных средствах. Не было под руками ни лодок, ни понтонов, но нужно было стремительно развивать наступление. 194 Когда Николай Молостов добрался к реке, все сараи были уже разобраны и приспособлены под плавсредства другими бойцами. Тут в голову пришла спасительная идея. С крыши одинокой избы надёргал соломы, набил ею плащ-накидку, увязал покрепче шнуром, сверху пристроил автомат с двумя дисками. И, цепляясь за плащ-накидку, поплыл в холодной воде под свист пуль и разрывы снарядов. Переправу начал вместе со своими товарищами, но многие не достигли противоположного берега. Под сильным встречным огнём погибло много однополчан. Николаю посчастливилось — цепляясь за своё импровизированное плавсредство, преодолел полноводную реку и в числе первых выбрался на берег. Авангард бойцов автоматным огнём отогнал противника, обеспечив полку переправу. За этот подвиг, за мужество и находчивость Молостов был награждён солдатским орденом Славы III степени. Полк развивает наступление — на плечах отступающего противника овладевает большаком Витебск — Бешниковичи, окончательно замкнув кольцо витебской группировки противника. Группировка врага разгромлена, взято очень много пленных. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 1-му Прибалтийскому фронту продолжать наступление в направлении города Шяуляй. И погнали фашистов по семьдесят километров в сутки. Сбивали ноги до крови и волдырей. Долог был путь до Шяуляя — прошли юг Белоруссии и почти всю Литву. Много пыльных дорог прошагали кирзовые солдатские сапоги, а смерть всегда была начеку и всегда рядом... Уже в окрестностях Шяуляя погибло звено разведки во главе с комбатом, захотевшим лично оценить обстановку. Поверили словам пожилой женщины-литовки, указавшей, что немцы покинули деревню ещё неделю назад. В деревне нарвались на засаду и были окружены. Завязался неравный бой, в котором противник использовал даже танки. Прикрывая прорыв своих бойцов, погиб командир батальона, Герой Советского Союза, уроженец Кустаная Михаил Евстафьевич Волошин. («Он сердце не прятал за спины ребят», — пела о таких комбатах группа «Любэ».) Когда на выручку подоспел рассыпавшийся в цепь батальон, то удалось отбить лишь немногих оставшихся в живых разведчиков. В этом бою был тяжело ранен и Николай Молостов. 195 ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊ «ÁÎÃÀ ÂÎÉÍÛ» После излечения в госпитале был направлен уже на 1-й Белорусский фронт. В октябре 1944 года в гороховетских лагерях формировались группы разных видов войск для отправки на фронт. На построении объявили отбор добровольцев в артиллерийские части. По своему обыкновению, Николай сделал шаг вперёд — и попал в 80-ю гаубичную бригаду, стал разведчиком 4-го дивизиона. За крупный калибр — 152 мм — её называли бригадой разрушения. Разведчик артиллерийской батареи — это не просто шустрый и смекалистый боец, который всегда впереди на самом переднем крае, в траншее или на дереве, с неизменным биноклем и стереотрубой. Это глаза и уши артиллерии, способные находить огневые точки противника и давать точные координаты. Нужен был не только верный глаз и холодный расчёт. Исход боя зачастую зависел от быстрого и своевременного обезвреживания огневых точек врага, а для этого и разведчику нужно было хорошо ориентироваться в ходе боя. Гаубичная бригада разрушения вошла в артиллерийский корпус прорыва. Войска 65-й армии командующего генералполковника Батова пошли в атаку, форсировали реку Нарев севернее Варшавы, захватили важный плацдарм на её правом берегу, который должен был сыграть роль трамплина будущей наступательной операции. Сами гитлеровцы расценивали захваченные плацдармы на реках Нареве и Висле как «пистолеты, направленные в сердце Германии», любой ценой стремились вернуть их обратно, чтобы сорвать наступление и не допустить наши войска к границе Восточной Пруссии. Враг готовился одним ударом бронированного кулака сокрушить центр боевого порядка, выйти к реке Нарев и, по частям уничтожая войска, сбросить их в реку. Неделю яростных атак выдержали наши войска. Немцы пытались найти слабое звено в нашей обороне и сбросить с плацдарма. В результате ожесточённых боев 65-я армия не только остановила фашистские дивизии, но и нанесла им серьёзное поражение, прорвала глубоко эшелонированную оборону немцев и вышла на оперативный простор. Обходя крупные населённые пункты, превращённые в хорошо укреплённые очаги сопротивления, Красная Армия всё ближе подходила к границам Восточной Пруссии. И вот она — Германия!.. Стрелковые части заняли исходное положение, артиллеристы развернули бое196 вые порядки. Короткое затишье перед боем. Затем последовал сокрушительный удар нашей артиллерии и авиации по разведанным вражеским целям. Взломав мощную оборону противника, части корпуса с боями перешли границу Восточной Пруссии. А это означало окончательный перелом войны, которая теперь будет продолжаться на вражеской территории. Бойцы поздравляли друг друга, обнимались... День за днём всё дальше продвигался на запад 105-й стрелковый корпус, затем, повернув на юго-восток к реке Висла, вновь оказался на польской земле. Гитлеровцы изо всех сил препятствуют продвижению. Тогда артиллеристы дивизии наносят врагу короткий, но очень мощный удар, уничтожив десяток танков и 250 фашистских солдат. Фашисты «драпают» до самой Вислы, уже не оказывая существенного сопротивления. А вот Висла оказалась очень серьёзным препятствием. Это полноводная река шириною в нижнем течении более четырёхсот метров и глубиной до семи метров. Гитлеровцы приложили все усилия, чтобы не дать возможности форсировать её с ходу и захватить плацдарм на западном берегу. Фактически он наглухо был закрыт укреплениями, про переправу через мост нечего было и думать. И погода была на руку противнику. Морозов в начале января не было, река начала замерзать лишь к концу месяца. Лёд был ещё тонким — с трудом выдерживал переход одного человека. О переправе по льду грузовиков, а тем более тягачей, даже и с лёгкими орудиями, не могло быть и речи. Очень трудная сложилась обстановка — предстояло прорвать глубоко эшелонированную оборону врага и взять отлично укреплённый город Граудениц. Он был первым немецким городом в направлении нового нашего удара. (Не удивляйтесь — границы Третьего рейха тогда сильно отличались от современных и проходили не по Одеру, а по Висле.) Сорвалась попытка форсировать реку севернее города. Теперь остриё атаки ударит южнее. Раннее утро 27 января 1945 года. На берегах реки громоздятся разбитые немецкие танки и орудия. На белом льду тускло поблёскивают синеватые полыньи от разрывов снарядов. Стояла необычайная тишина, в которой угадывалась зловещая настороженность. В густом кустарнике противоположного берега противник не подавал никаких признаков своего присутствия. Ударила артиллерия — основательно обработала огнём западный берег Вислы. Затем рванулись по льду штурмовые отряды дивизии, несмотря на то, что лёд был сильно избит снаря197 дами и минами. И вот уже первые роты головного полка взобрались на крутой берег и зацепились за подножие высоты. Плацдарм взят! Теперь предстояла не менее трудная задача — не только удержать его, но и расширить, чтобы перебросить на него силы дальнейшего наступления. А пока не было на западном берегу ни одной пушки и ни одного танка — только матушка-пехота... Лишь когда установили несколько понтонных мостов, по ним переправили артиллерию. И тогда, невзирая на самое ожесточёенное сопротивление, был взят Граудениц — вражеский опорный пункт. В феврале тяжёлая артиллерия не поспевает за передовыми частями пехоты — так высок был темп наступления, который задавали танковые части своим стремительным маршем. Тяжёлые орудия перебрасывались тракторами, уже сильно изношенными и вдобавок прошедшими Сталинградскую битву. Уходило много времени, чтобы их ремонтировать и приводить в порядок. Февраль запомнился передислокацией войск. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÌÅÑßÖÛ ÂÎÉÍÛ А в марте направление атаки снова изменилось — корпус двинулся к Лауенбургу, который был взят на следующий день. Затем две бригады ушли с пехотой вперёд, а 80-я бригада заняла противотанковую оборону, прикрывая с севера левый фланг и тылы 19-й армии от возможных ударов противника. Заодно окончательно привели транспорт в порядок. Вы спросите, почему таким непредсказуемым выглядит фронтовой маршрут Николая Молостова? Ведь он воюет то на Сандомирском плацдарме на юге Польши, то атакует порты северной окраины Польши. Дело в том, что всюду, где нужно было взломать неприступные укрепления врага, в бой вступала тяжёлая артиллерия — «бог войны». Бригада разрушения делала своё дело на совесть — и доты и дзоты ровняли с землёй тяжёлые орудия. Их перекидывали не только с одного участка фронта на другой, но и по железной дороге с 1-го Белорусского фронта на 2-й Белорусский и обратно. Из Лауенбурга повернули на север — вперёд на Гдыню! Столь резкое изменение маршрута даже для бойцов бригады разрушения стало неожиданностью. Чем ближе продвигались к морю, к портовым городам — крупнейшим базам Балтики, — тем яро198 стнее сопротивлялся враг. Пленные рассказывали, что Гитлер любой ценой приказал удержать Гдыню и Данциг (Гданьск). Перед войсками Красной Армии поставлена нелёгкая задача — в самые короткие сроки разгромить фашистскую группировку противника, но при этом сохранить города Гдыню, Данциг, Сопот, а также порты Балтики. Ожесточённые бои вспыхнули на подступах к Нойштадту. Полоса густых лесов препятствовала наступлению, которое гитлеровцы намеривались остановить. Они надеялись спасти остатки Померанской группировки эвакуацией морем через Данциг и Гдыню. Но расчёты фашистов и в этот раз не оправдались — Нойштадт пал невзирая на самое отчаянное сопротивление, каждый метр приходилось брать с боем. Весна была в разгаре — на исходе месяц март. Фронтовые дороги размыты весенними потоками, но беспрерывное движение войск не прекращается ни на минуту. Продолжается массированное наступление. И вот 25 марта 1945 года взяты города Сопот и Олива. Немецкие войска охвачены с трёх сторон и прижаты к морю. Яростно сопротивляется немецкая группировка, разорванная на две части. Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский предлагает немцам, оборонявшим Гдыню и Данциг, капитулировать: «Железное кольцо моих войск всё плотнее затягивается вокруг вас, дальнейшее сопротивление в этих условиях бессмысленно и приведёт лишь к гибели не только солдат, но и сотен тысяч женщин, детей и стариков». Но фашисты не вняли голосу разума и гуманности и продолжали сопротивление. Войска 2-го Белорусского фронта провели тщательную разведку системы огня противника и подавили ее артиллерией. Так началась ликвидация Восточно-Померанской группировки гитлеровцев. Перед артиллеристами с занятых высот Гдыня предстала как на ладони, отлично были видны дома, где засели враги. За спинами артиллерийских батарей вдруг раздались реактивные орудийные залпы, над головами пронеслись реактивные снаряды. Город утонул в тучах пыли и дыма. После обработки артогнём окраин Гдыни пошли в атаку штурмовые отряды 40-го гвардейского стрелкового и 3-го гвардейского танкового корпуса. Город близок, но между ним и нашими войсками — городское кладбище, где за каждым кустом и за каждым памятником укрылись фашистские автоматчики. Нелегко было Николаю Молостову корректировать огонь в таких условиях. Ошибёшься на несколько десятков метров — в своих угодишь. Высокое мастерство помогло с честью справить199 ся с поставленной задачей. Так успокоили гитлеровцев, что им уже никуда не пришлось передислоцироваться с кладбища. Штурмовые группы, в которые включили и артиллеристов, в тяжёлых уличных боях освобождали квартал за кварталом. Так была взята Гдыня. А 29 марта 1945 года был зачитан приказ Верховного главнокомандующего, поздравившего войска 2-го Белорусского фронта со взятием Гдыни и Данцига. Частям дивизии были присвоены названия: «Гдыньская», «Данцигская» и «Померанская». Но враг продолжал упорное сопротивление, собрав остатки своих войск на плацдарме в восьми километрах к северу от Гдыни. Гвардейский корпус, взаимодействуя с артиллерией, перешёл в наступление и за два дня разбил эту группировку. В конце марта была окончательно разгромлена Восточно-Померанская группировка и вся Восточная Померания занята нашими войсками. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ Второго апреля 1945 года 1-й и 2-й Гвардейский фронты получили приказ на марш. Всеобщее ликование солдат — артиллерийский корпус перебрасывался к Берлину. Тяжёлые орудия перевезут железной дорогой, а лёгким предстоял марш-бросок в четыреста километров. Согласно приказу, весь корпус к 10 утра 5 апреля должен передислоцироваться в район города Ландберг, где перейдёт в распоряжение 1-го Белорусского фронта. Бригада совершила успешный марш-бросок в четыреста километров и укрылась в лесах восточнее Кюстрина. К вечеру 6 апреля подошли поезда с боеприпасами, материальной частью, тракторами и гаубицами в 152 мм. Закончив выгрузку, занялись подготовкой к операции и тщательной маскировкой своего расположения. Верховное Главнокомандование поставило задачу — нанести главный удар с Одерского плацдарма в направлении на Берлин и разгромить оборону противника на восточных подступах к столице. Затем, взаимодействуя с 1-м Украинским и 2-м Белорусским фронтами, окружить всю Берлинскую группировку и в кратчайший срок овладеть Берлином. В решении задачи большое место отводилось артиллерии — массированным огнём она должна проложить путь пехоте и танкам. Бригада разрушения вошла в подчинение 8-й Гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Поставлена конкретная боевая задача — 200 прорвать оборону противника на участке Гальцов — Заксендорф, развить наступление на Зеелов, Требниц, а на третий день операции овладеть рубежом Кольнберг, в дальнейшем пригородами Марцан, Карлхорет и центром Берлина. Артиллерийская группировка разместилась в первом и втором эшелоне параллельно линии фронта — это увеличит глубину одновременного подавления обороны противника во время артподготовки. Командующий 8-й Гвардейской армии генерал-полковник В.И. Чуйков разместил артиллерию на западном берегу реки Одер. Сначала нужно было найти самые выгодные места для наблюдательных пунктов и для самих батарей. Затем произвести рекогносцировку района и разведку огневых средств врага. Возле населённого пункта Штудлов 10 апреля сосредоточились наши дивизионы. При отступлении фашисты взорвали правобережную дамбу и плотину. Вешние воды залили не только русло реки, но и прибрежные поля, луга и дороги. За ночь предстояло оборудовать для каждого орудия огневую позицию, вырыть землянку, щель для расчёта и до утра успеть всё это замаскировать. Разведчики также должны оборудовать наблюдательные пункты. Обязанность связистов — проложить линейную связь между наблюдателями и огневыми позициями артиллерии. В ночной тьме весь плацдарм походил на растревоженный муравейник — строили, оборудовали, маскировали боевые порядки. Днём всё замирало — тишина, не видно ни одного танка, ни одного орудия, ни одного солдата, вся территория между тем была забита войсками до отказа, все дивизионы и полки на одной огневой позиции. Интервал между орудиями — 15–20 метров, что создавало определённый риск. Бригаду разрушения обеспечивали три наблюдательных пункта. Кроме того, работали передовые, боковые и подвижные наблюдательные пункты. А располагались они в боевых порядках пехоты — на максимальной близости к переднему краю врага, на расстоянии 200–400 метров. Хотя это было опасно, но зато обеспечивало точность полученных данных. Николаю приходилось отбиваться от немецких танков трофейными фаустпатронами. Немецкое командование решило сопротивляться до последнего и от реки Одера до Берлина создало мощную глубоко эшелонированную оборону. Нашим войскам предстояло прорвать три оборонительных полосы, укреплённых бронёй и бетоном. Общая глубина обороны достигала ста километров. Клю201 чом к Берлину была первая полоса — Зееловские высоты. С них хорошо просматривался весь наш плацдарм вплоть до Одера — противник контролировал дороги, ведущие к нашему переднему краю. Противник не хотел преждевременно раскрывать свою огневую систему — его орудия молчали. Лишь когда пошло передвижение наших частей, начались массированные огневые налёты по нашему переднему краю, огневым позициям, массовым скоплениям солдат и техники. Переправы разбивали новым оружием — самолётами-снарядами Фау-2. 12 апреля 1945 года — утреннюю дымку враз прорезали сотни ярких вспышек — ударили наши орудия и миномёты. По опорным пунктам врага, по зданиям, где засели фаустники, били снарядами с установкой взрывателей на фугасное действие (пробивного таранного характера). Эффективность огня была ошеломляющей. Перепахали всю оборону немцев, подавив их огневые средства и живую силу. И пошло наступление — через намеченные переправы непрерывно двигались автомашины, танки, орудия; шагала пехота. Тяжёлые бригады заняли огневые позиции в двух километрах от переднего края и поддерживали огнём наступающие стрелковые части. 15 апреля 1945 года. На западном берегу Одера сосредоточился весь 1-й Белорусский фронт. Считанные часы до решающего штурма. Конкретная задача была поставлена перед каждой батареей, ротой, батальоном и дивизионом. Артиллеристы бригад знали не только объекты, которые нужно было подавить огнём с началом наступления, но и в какой момент какая цель должна быть подавлена. Артиллеристы сделали наводку по заранее пристрелянным целям, боеприпасы подвезены, с наблюдательных пунктов батарей хорошо просматривается первая полоса обороны противника. Стрелковые и танковые части ждут на исходных рубежах... Накануне наступления на Берлин Военный совет 1-го Белорусского фронта обратился к солдатам, сержантам и офицерам с призывом выполнить свою историческую миссию, с честью сделать всё, чтобы в кратчайший срок добить фашистского зверя в его логове. «Боевые друзья! Пришло время нанести врагу последний удар и навсегда избавить нашу Родину от угроз войны со стороны немецких разбойников. Пришло время вызволить из ярма фашистской неволи ещё томящихся там наших отцов и мате202 рей, братьев и сестёр, жён и детей наших. Пришло время подвести итог страшным злодеяниям, совершённым гитлеровскими людоедами на нашей земле и покарать преступников. Пришло время добить врага и победоносно закончить войну!» Обращение вызвало новую волну боевого энтузиазма среди фронтовиков. Тёмная непроглядная ночь, изредка звучат одиночные выстрелы немецких орудий, автоматные очереди. На наблюдательный пункт 8-й Армии прибыл маршал Советского Союза Г.К. Жуков. И с ним колонна машин, в которых двести авиационных прожекторов для того, чтобы в момент штурма осветить местность и ослепить противника. Такую хитрость решил применить маршал Жуков. На всю жизнь Николай Молостов запомнит эту встречу и эту ночь. 16 апреля 1945 года — около трёх часов ночи. Никто не спит — напряжённое ожидание перед боем. В небе раздался гул моторов, который вскоре усилился настолько, что стало невозможно разговаривать. А вот и глухие раскаты — работа ночных бомбардировщиков. А ровно в три часа — содрогнулась и загудела земля от мощного залпа артиллерии. Огонь батарей нарастал с каждой минутой. Снаряды поднимали в воздух немецкие блиндажи и землянки. В эту ночь фашисты испытали на себе всю силу нашей артиллерии. Внезапным и сокрушительным стал удар по врагу — разрушили всю его прочную систему обороны. Вдруг всё стихло. Недолгая пауза поистине гробовой тишины. Белёсый туман вновь сменяет яркое зарево и страшный грохот. Тысячи «катюш», орудий, миномётов громят немецкие укрепления. И снова пауза. Затем по всему небу рассыпались гроздья ракет. Вспыхнули сотни авиационных прожекторов, ослепив противника, и снова обрушился шквал огня. (В некоторых военных мемуарах фигурирует сила света прожекторов —114 миллиардов свечей.) Такой свет не только ослеплял, но и ошеломлял и деморализовал противника. Осветили путь атаки стрелковым и танковым подразделениям, и артиллеристы теперь били прямой наводкой. Со стороны вражеских батарей не сделано ни одного выстрела. Из показаний пленного офицера дивизии «Берлин»: «Мы никак не ожидали, что ураганная артиллерийская подготовка будет производиться ночью». Другие пленные рассказывали, что захваченные врасплох в эту ночь целые подразделения в ужасе становились на колени и молили Бога о спасении. Пер203 вая линия укреплений действительно представляла страшное зрелище: обломки бетона, арматура, стволы орудий и пулемётов, исковерканные автоматы и множество трупов — всё вперемешку. Бой завязался лишь на второй полосе обороны — на крутых склонах Зееловских высот, труднодоступных и для танков, и для пехоты. На этом рубеже, имевшем большое тактическое значение, противник организовал мощную противотанковую оборону, стянув сюда и часть зенитных берлинских батарей. 16 апреля 1945 года. Всю вторую половину дня до самой темноты не прекращались жестокие бои за овладение второй оборонительной полосой. Артиллеристам пришлось усилить огонь и стрелять по площадям города Зеелов. Лишь к ночи части корпуса прорвали оборону и вышли на рубеж озера Вейнберг. 17 апреля — Зеелов полностью в наших руках. 18 апреля. Ночью подтянули войска к переднему краю, сделали разведку, а утром после артподготовки начался штурм третьей полосы обороны. Маршал Жуков потребовал подтянуть артиллерию как можно ближе к передовой, чтобы непрерывно поддерживать атаки пехоты. Колоны наших войск нескончаемым потоком двигались по фашистской Германии. Не было той силы, которая смогла бы их остановить. Напряжённые бои не ослабевали ни днём, ни ночью. Особенно упорное сопротивление встретили у города Мюхберг. На южных подступах нарвались на огонь немецких «тигров», вкопанных в землю. Под их огнём пехота даже головыL не могла поднять. Здесь на славу поработала бригада разрушения, оставила от «тигров» ножки да рожки. На левом фланге 29-й гвардейский корпус обошёл противника с юга, ворвался на окраину города и овладел им. ÄÀ¨ØÜ ÁÅÐËÈÍ! В ночь 22 апреля 1945 года 1-я батарея 1300 полка заняла новую огневую позицию. Командир батареи порадовал бойцов — фашистская столица стала досягаемой для наших снарядов. Новость вызвала всеобщее ликование. Следом же, выполняя приказ, заставили умолкнуть миномётную батарею на окраине Берлина — первая цель, уничтоженная на краю фашистской столицы. После мощной артподготовки главные силы корпуса форсировали реку Шпрее. В первых рядах Николай Молостов — с 204 противоположного берега корректирует артиллерийский огонь по центру Берлина. Условия боевых действий для артиллерии стали гораздо сложнее. Наблюдателям стало труднее ориентироваться в обстановке уличных боёв и выбирать закрытые огневые позиции. Берлин был превращён в неприступную крепость — улицы перегорожены баррикадами и минными полями. Подвалы и метро приспособлены для обороны. Здесь были сосредоточены все оставшиеся силы вермахта — до миллиона солдат и офицеров. Гитлеровцы ведут огонь из подвалов и окон домов, с крыш и балконов. Отчаянно сопротивляются остатки Берлинского гарнизона. Генерал В.И. Чуйков приказывает усилить артиллеристами стрелковые штурмовые группы. После жарких двухдневных боев 1 и 2 мая выбили фашистов из нескольких кварталов и заняли южную часть парка Тиргартен. Теперь небольшая передышка. В ночь на 2 мая — войска готовятся к последнему штурму. Танки и орудия подтягиваются к переднему краю. Артиллеристам приказано обеспечить огонь большой плотности по рубежам противника. И вот дана команда: «Огонь!» Шквал огня обрушился на врага. Артиллерия бьёт прямой наводкой по укреплениям Бранденбургских ворот и Рейхстага. На снарядах надписи: «За слёзы матерей», «За Сталинград». Ломая ожесточённое сопротивление врага в уличных боях, взяли Берлин. К утру стрельба в городе начала стихать. Немцы не выдержали и стали сдаваться в плен. Рейхстаг сдался последним. Полностью и безоговорочно капитулировали остатки гарнизона во главе с генералом Вейдлингом и его штабом. Весь день 2 мая части дивизии принимали пленных и отправляли в тыл. Ещё догорали костры пожарищ, когда Молостов на закопчённой стене Рейхстага вывел: «Я из Казахстана. Н.В.М.». ÎÒÃÐÅÌÅÂ, ÇÀÊÎÍ×ÈËÈÑÜ ÁÎÈ Вечером 2 мая артиллеристы слушали приказ Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, в котором говорилось о том, что войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта завершили разгром немецких войск и овладели Берлином. 205 На западе и на юге Германии ещё продолжались отдельные боевые действия, но уже при полном превосходстве наших сил. Для батареи Молостова бои закончились. По окончании войны она полностью именовалась так: 80-я гаубичная артиллерийская бригада разрушений, Померанская Краснознамённая орденов Кутузова, Суворова, Богдана Хмельницкого. Бойцы занимались мелким ремонтом, всевозможными текущими делами, приводили в порядок материальную часть, надевали чехлы на стволы гаубиц. Все были веселы, звучали песни. Домой на родину писались письма — надо уведомить близких, что жив-здоров солдат. А 6 мая 1945 года пришёл приказ отправляться на отдых. Длинная колонна пушек, миномётов и гаубиц потянулась по Берлиненштрассе. Возвращались по тем же дорогам, по которым наступали. Но теперь здесь было спокойно и тихо. Бригада остановилась в тридцати километрах юго-восточнее Берлина в местечке Альт-Розе. Раньше здесь размещался эсэсовский центр обучения отборного офицерского состава. Начался новый период мирной жизни — обыденной работы и боевой учёбы. А 9 мая 1945 года пришло сообщение, что гитлеровская Германия полностью и безоговорочно капитулировала. «Не было предела нашему ликованию, — вспоминает Николай Васильевич Молостов. — “Победа! Победа!” — только и было у всех на устах. А в столице нашей родины Москве прозвучал салют. Мы прослушали по радио победный салют: тридцать залпов из тысячи орудий. У нас тоже салютовали из имеющегося оружия. Был организован торжественный обед для всего личного состава». Неожиданное известие 20 августа 1945 года — перед строем был зачитан приказ о расформировании бригады. Пришла пора расставаться боевым друзьям-товарищам, прошедшим вместе много фронтовых дорог, сражавшимся плечом к плечу во многих битвах. Призадумались бойцы — жаль было разлучаться. Пушки были погружены на железнодорожные платформы и отправлены на Дальний Восток. А личному составу предоставили право самостоятельно присоединяться к любой из ближайших воинских частей, по собственному выбору. Разведчик Молостов был неразлучен со своим задушевным другом Алексеем Кузнецовым, который обеспечивал его на передовой телефонной связью с батареей. На фронт он был призван с Алтайского края. Собирались друзья продолжить службу вместе. Пошли куда глаза глядят в поисках ближайшего воен206 ного подразделения. Стояла жара, скинули сапоги, шлёпали босиком по мягкой пыли обочины дорог. На очередном перекрёстке увидели указатели. Одна стрелка показывала на Нойбранденбург, другая на Нойштремец. Кузнецов предлагает пойти в сторону Нойбранденбурга, а Молостов на Нойштремец. На этом перекрёстке они и расстанутся... Ровно на тридцать лет. Что же развело двух друзей? Возможно, каждый из них почувствовал своё внутреннее предопределение. Нарушая ход повествования, забежим вперёд на три десятилетия и расскажем, как случилась следующая их встреча. В 1975 году Молостов отправился в качестве старшего судьи соревнований в Лениногорск. Десятиминутная остановка на станции Черемшанка, где пассажиры всегда покупали знаменитые пирожки с калиной. На перроне Николай Васильевич увидел человека в форме с погонами старшего лейтенанта МВД. Они посмотрели друг на друга, мелькнула мысль: где-то мы встречались... В вагоне подошёл к Молостову, здесь они наконец узнали друг друга... обнялись!.. Они возобновили дружбу, всегда вместе семьями праздновали День Победы, вспоминали боевых товарищей. Не стало фронтового друга в возрасте семидесяти лет в звании полковника запаса. После победы Молостов ещё пять лет прослужил в гвардейской части. За это время исколесил всю Германию — чаще по служебным делам, а иногда как спортсмен и певец. Командир роты был заядлым спортсменом, поэтому Николай, как и многие другие, приобщился к спорту. Играл в футбол, выступал на первенстве округа по гирям в Потсдаме. Ох и тяжелы показались поначалу двухпудовые гири. В Потсдаме выступал и в составе солдатского ансамбля песни и пляски. Николай всегда был первым ротным запевалой, неунывающим весельчаком и балагуром. Этот тип русского солдата воспел Твардовский в «Василии Тёркине». «Молостов, запевай!» — такая команда всегда слышалась на марше. Песня помогала в трудных переходах, снимала психологическую усталость. Отец Николая был великим любителем песни, эта любовь передалась сыну по наследству. Песни с детства запали в душу, впитались в плоть и в кровь. Николай без труда все песни сразу же запоминал на слух. Они давали ему радость жизни и энергию, делали его более подвижным и весёлым. 207 Есть люди, которым больше дано от Бога — и силы духа, и смелости, задора и энергии. Николаю Васильевичу можно похорошему позавидовать — у немногих людей есть талант красиво прожить жизнь — с весёлой шуткой, лукавым озорством, задушевной песней и тёплым словом. Таков стиль его жизни. Общение с ним дарит радость окружающим. Он словно делится с людьми своим человеколюбием и дружелюбностью. Демобилизовался Николай в июле 1950 года. Домой летел как на крыльях. Сейчас состояние, охватившее его тогда, вспоминается ему под песню «Ехал я из Берлина». Навестил всех своих родственников. Проведал в Таловке дом, где родился. Он стоял нетронутым — как были заколочены досками окна и двери, так и остались. (Сибирские чалдоны всегда отличались чистотой нравов, когда-то в местных сёлах Тарханке и Отрадном не знали замков, уходя, вставляли щепку в щеколду — в знак того, что хозяев нет дома, и чтобы куры в сени не забрались.) Ñ ÏÅÑÍÅÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ А теперь немного о послевоенном быте и нравах. Очень неприхотливо в запросах было поколение победителей. Но оно совершило великие дела, подняло страну из разрухи, восстановило разрушенное народное хозяйство. Не копили мошну тугую, не скаредничали — их богатство было совсем иного плана, в любви к людям, в бесконечном песенном изобилии, которое действительно строить и жить помогало. Бесценно было у нашего народа богатство душевное — самые простые люди из народа по великодушию своему были истинными титанами. Они сознавали это — не только в подпитии, но и просто в разговоре, многие тогда с гордостью стучали себя в грудь: «Я простой человек!» Мало тогда в городе было коммунальных двухэтажных домов. Основная часть населения жила в своих домах в частном секторе. Я помню застолья послевоенных лет, нехитрую снедь, винегрет, холодец, солонину. Никого не удивляло, когда прямо из чугунка рассыпали по тарелкам картошку — от неё ещё шёл пар. Славно тогда выручала селёдка... Ах, какая тогда была маринованная селёдка — нежная и такая жирная, что покрывала потребность отнюдь не богатого населения в белках и жирах. 208 В своих домах за каждой печкой стояли лагушки с домашним пивом — резким и вкусным, настоянным на хмелю. Хмель и паслён росли тогда повсюду. В начале ноября зима окончательно вступала в свои права. Обильный снег громко скрипел на морозном воздухе под валенками. В частном секторе стоял истошный свинячий визг. К великому революционному празднику 7 Ноября по-буржуйски раскормленные хрюшки прощались с радостями жизни, заканчивая своё бренное существование. В хорошо промытые свинячьи кишки сами набивали фарш, а затем коптили домашнюю колбасу с чесночком. Бесподобная получалась колбаса — даже сейчас при одном воспоминании слюна захлёстывает. Аппетитнейший колбасный дух стоял и когда разгружали магазинную колбасу и собиралась нетерпеливая очередь. От современной колбасы, изготавливаемой из эрзацсои и обёрточной бумаги, в лучшем случае ничем не пахнет. А если пахнет, то далеко не аппетитно. Стол в послевоенные годы был очень скудным, но к шестидесятым годам стал гораздо лучше. А главным богатством было и оставалось богатство душевное. В том числе было и неиссякаемое песенное изобилие. И его мы умудрились растерять! За праздничным столом собирались, чтобы излить душу в песне, — такая была тогда потребность. Телевидение представлялось чем-то фантастическим, да и патефон с пластинками был далеко не в каждом доме. Хоровое пение по праздникам продолжалось дотемна. Каждый тогда был певцом и артистом. А кто не мог петь, дирижируя вилкой, управлял хором. Пели не только русские народные и украинские песни, «Бродягу» и нашего иртышского «Ермака». Что бы ни пелось, свято соблюдалась традиция — исполняли «Фронтовую застольную». С большим воодушевлением Николай Васильевич запевал родную маршевую песню: «Артиллеристы, Сталин дал приказ!». Позже добавились и другие песни: «Ехал я из Берлина», «Враги сожгли родную хату». Пользовались успехом и красивые песни: «Соловьи», «Подмосковные вечера». Песня сближала людей, словно обнимала всех сразу и грела душу. Там, где царила песня, никогда не было никаких скандалов, даже мелких ссор не возникало. В перерыве фронтовики делились воспоминаниями, тогда они были ещё свежи в памяти. А на прощанье «на посошок» исполнялась модная тогда «Шотландская застольная» и расставались на тёплом приливе братских чувств. 209 Наконец Молостов вернулся в Лениногорск. Встреча была радостной. Особенно ребятишки обрадовались заграничным подаркам. Многодетная семья (семь братьев и сестёр) была в затруднительном положении. Устроился в Лениногорский леспромхоз, работал на лесоповале. Труд был очень тяжёлым, бензопил ещё не было, пилили лес вручную. И на штабелёвке было не легче. А природа кругом была чудесная. Живописные места на горных перевалах. И не только прекрасный вид открывался вокруг. Кедровой шишкой изобиловали хвойные леса. Было великое множество малины и другой ягоды. Пихту и кедрач лесорубы не трогали — валили осину. Но на лесоповале работа была сезонная, а семья нуждалась в стабильном заработке. Вдруг попался школьный товарищ, который предложил ему устроиться на энергопоезда Усть-Каменогорской ТЭЦ, где он работал мастером. И уже в сентябре 1950 года Николай изучает новую профессию, работает учеником машиниста паровых турбин. ÏÅÐÂÛÅ ØÒÀÍÃÈÑÒÛ Первое время Николай проживал на квартире в районе Стройплощадки, рядом со стадионом «Металлург». Однажды, разминаясь на стадионе, он увидел сиротливо заброшенную в дальнем углу штангу. Начал регулярные тренировки с ней, поскольку уже имел опыт гиревика. Нашёлся напарник — лётчик В. Шендрик (позже ставший инструктором ДСО «Металлург»), затем присоединились геолог В. Липин, А. Маликов из СЦК. Пятнадцатилетним юношей пришёл Гриша Щепкин. Для начала Николай показал ребятам, как выполняются жим, рывок, толчок. С азов изучали технику упражнений, познавали методику тренировок. В то время большинство спортсменов увлекалось жимом, в ущерб темповым движениям. Считали, что жим — основной показатель силы, и он был более популярен. Поэтому тренировки страдали некоторой однобокостью и однообразием. Но с огромным энтузиазмом поклонники силы после работы спешили на стадион — покорять штангу, осваивать новые веса, наращивать свою мощь. Так с 1950 года начала работать первая в Усть-Каменогорске секция тяжёлой атлетики. Летом тренировались на стадионе, а 210 в холодное время переходили в подвал жилого дома по улице Бажова, 44. Поначалу тяжёлая атлетика была рабочим видом спорта. Природные силачи, закалённые физическим трудом, в отличие от обыкновенного обывателя, не боялись поднятия тяжестей. Поэтому первыми штангистами были крепкие рабочие парни из цехов СЦК, ТЭЦ и УМЗ. Играло свою роль и то, что в 1951 и 1952 годах ДСО «Металлург» часто организовывает соревнования. Выезжая на них, наши ребята, ещё зелёные атлеты, получают боевое крещение на соревнованиях в Свердловске, Москве, Ленинграде. Набираются бесценного опыта, растут и прогрессируют как спортсмены. Так и Николай Молостов именно в Ленинграде получил удостоверение III спортивного разряда, немного не дотянув до нормы II разряда. А тогда у спортивных званий и разрядов была совершенно другая цена. Не только школьники с гордостью увешивали свои вельветовые курточки значками спортивных разрядов. И у взрослых парней было престижно украсить модную олимпийку спортивными значками. На улице юноши показывали друг другу: «Гляди! Перворазрядник пошёл!» А драгоценнее всего было человеческое признание: «Ты вернул меня к нормальной настоящей жизни!» — так со слезами на глазах благодарил Геннадий Суровцев своего наставника. Под присмотром Молостова он не только упорными тренировками нарастил мышечный корсет, замаскировав небольшой горб, но избавился от комплекса неполноценности из-за угнетавшего недостатка и даже стал спортсменом и выступал на соревнованиях. В мае 1951 года Молостова перевели слесарем котельного цеха на ТЭЦ. А через год на профсоюзном собрании услышали голос Молостова — почему на таком престижном предприятии, как УК ТЭЦ, где работает много молодёжи, нет коллектива физкультуры? Его резоны возымели воздействие — организовали коллектив физкультуры и утвердили единицу инструктора производственной гимнастики. Им стал, конечно же, Николай Молостов. Городской комитет спорта, а в частности Галина Александровна Сидорина — руководитель учебного отдела физкультуры и спорта при городском Комитете спорта, узнав о появлении нового коллектива физкультуры, присылает ему положения о проведении соревнований по лыжам, конькам, волейболу и баскетболу. Так УК ТЭЦ подключилась к спортивной жизни го211 рода. А вот городошный спорт на ТЭЦ появился самостоятельно, без указки свыше, а только по инициативе Н.В. Молостова. В 1952 году состоялись новые назначения Молостова и инструктором спорта на УК ТЭЦ, и тренером сборной области по штанге. Перед этим Молостов провел первые официальные соревнования на первенство города по тяжёлой атлетике. А на Спартакиаде Казахстана 1952 года наши штангисты заняли не совсем почётное девятое место. Единственным перворазрядником в команде на то время был Олег Аксенёнко. Выпускник Алма-Атинского СХИ (сельскохозяйственного института) выиграл чемпионат Казахстана, отличался хорошим рывком — был «низкоседчиком», по выражению штангистов. К сожалению, не всегда мог принять участие в соревнованиях. Он работал в Зевакино механиком по сельскохозяйственной технике и в страдную пору никак не мог оторваться от своих прямых обязанностей. В неудаче сказывалось и отсутствие нормальных условий для тренировок. Жители дома, в подвале которого тренировались штангисты, выставили свои претензии к спортсменам. Диски тогда были необрезиненные, и грохот в спортзале стоял, что в твоей кузнице. Иной раз после толчка роняли на помост штангу хорошего веса. Следом прибегал какой-нибудь паникёр с глазами по целому блюдцу: «Вы нам весь дом развалите!» Жильцы по-своему были правы — лязганье металла за стеной квартиры никому не понравится, и их терпенье иссякло. А кому-то не нравилось, что возле дома постоянно крутится молодёжь, которую Молостов привлекал к тренировкам. Наконец управдом предложил освободить помещение. Крепко тогда засела в голове мысль: как решить проблему, где же найти подходящее место? Видимо, справедлива пословица: кто ищет, тот всегда найдет. Вновь выручила солдатская смекалка — Молостов нашёл выход. Совсем рядом, за стеной ТЭЦ, освободилось помещение насосной энергопоездов. Собрал Молостов штангистов на комсомольский воскресник. Весь день махали кувалдами, колотили молотками по ломам, бурам и зубилам. И за целый день наши признанные силачи и одного килограмма бетона не откололи! Вот какого качества тогда заливались фундаменты. И пошёл Николай по инстанциям — просить помощи. Во212 шёл в положение замдиректора УК ТЭЦ по хозяйственной части С.И. Ельцов. Посочувствовал ему и вызвал взрывников из Белоусовки. Они оказались опытными специалистами, настоящими мастерами своего дела. Когда на следующий день Николай вошёл в помещение, бывшие тумбы выглядели как кучи творога — и ни одной царапины на стенах! Когда объявили все титулы Виктора Бушуева, выступившего за горьковскую ГРЭС, то настроение у команды устькаменогорцев немного упало. Надеялись, что в полусредней категории Гриша Щепкин займёт первое место, а теперь таких шансов практически не осталось. Хотя трёхкратный чемпион мира (а в Риме он станет и олимпийским чемпионом) решил выступить в более тяжёлой, чем обычно, весовой категории, но всё равно сражаться с таким знаменитым атлетом — у кого угодно поджилки затрясутся. А Молостов с большой радостью отметил про себя: Гриша ничуть не обескуражен. Напротив, он завёлся не на шутку, проявив незаурядные бойцовские качества. Более того — он даже воодушевлён грядущим боем с грозным соперником. Теперь главное — не дать ему перегореть. Овации и симпатии зрителей полностью на стороне чемпиона. Он был в хорошей форме, с крепкой красивой мускулатурой. Гриша менее эффектен — он не жимовик, бугры мышц не рвут на нём кожу. Принадлежит скорее к типу Аполлона, а не Геракла. Поединок сильных противников на помосте всегда драматичен. Григорий поднимает в жиме свой предельный вес — 115 килограммов. Бушуев легко обходит его на целый десяток килограммов. А в рывке Гриша был королём, он не только отыграл упущенное в жиме, но и вырвался вперед на 15 килограммов! Всегда всё окончательно решает толчок, он расставляет всех по своим местам. И в толчке Гриша оказался силён — оба атлета поднимают одинаковый вес — 152,5 кг. Победа Гриши стала большой сенсацией. Этого не ожидал никто. Хмурое удивление не сходило с лица проигравшего чемпиона. Недооценил он своего неизвестного противника. И организаторы соревнований так же считали, что устькаменогорцы приехали с берегов Камы. Им так и слышалось — Усть-КАМеногорск. Никто не принимал нашу команду всерьёз. Подумаешь, какой-то кустарный коллектив физкультуры с ка213 кой-то ТЭЦ, а не энергетического комплекса. Интересно, что когда команда устькаменогорцев завоевала первое место, то у всех присутствовавших на этих соревнованиях знание географии изменилось в лучшую сторону. Ребята случайно услышали разговор в буфете: — Смотри, вот команда чемпионов прошла. — Откуда они? — Из Усть-Каменогорска. — А где этот Усть-Каменогорск? — В Казахстане, пора бы уже знать! Пять лет подряд Щепкин был чемпионом Казахстана. Внешне он производил впечатление человека спокойного и сосредоточенного, но это была натура взрывная и рисковая. Не занимать ему было азарта и лихости. В 1959 году на второй Спартакиаде народов СССР Щепкин штурмует рекорд «железного гавайца» Томми Коно. Сейчас подзабылось громкое имя звезды мирового спорта. Поэтому даю небольшую справку: Томми Коно (США) — олимпийский чемпион 1952 и 1956 годов. Шестикратный чемпион мира, имел 24 мировых рекорда в четырёх весовых категориях. В Тегеране после чемпионата мира по штанге выступил на Всемирном конкурсе культуристов и завоевал звание «Мистер Универсум» 1957 года. Трибуны затаили дыхание, и установилась мёртвая тишина, когда провинциальный штангист Щепкин посягнул на рекорд звезды. И силы, и резкости хватило Григорию — лихо взметнул многопудовый вес, моментально ушёл в подсед, но чуть-чуть впереди осталась штанга и упала на помост... Ничего не дала и вторая попытка — Григорий вырвал вес, но не зафиксировал. Рекорд устоял. На предельных весах даже микроскопическая погрешность в технике может стать непреодолимым барьером. Но рекордные попытки Щепкина и сейчас, спустя полвека, живут красивой легендой в памяти всех атлетов нашего города. В 1960 году на чемпионате Казахстана в Джамбуле команда ВКО заняла первое место. Это было последнее соревнование, где Молостов выступал в качестве участника. В тридцать четыре года он закончил выступления на тяжелоатлетическом помосте. Позади десять лет соревнований — от кустарных любительских до самых представительных. Выступал на уровне первого спортивного разряда, постоянный чемпион области, 214 многократный призёр республики. Есть что вспомнить первопроходцу тяжёлой атлетики. Это были последние соревнования Молостова и в роли старшего тренера сборной Восточного Казахстана. Начав с нуля, он подготовил множество штангистов, создал сильную команду, воспитал мастера спорта, легендарного атлета Г. Щепкина. Своими усилиями вывел сборную ВКО на первое место в республике и передал эстафету старшего тренера А. Небучину, выпускнику КазИФК, мастеру спорта, чемпиону Казахстана. В 1981 году Молостову присвоено звание судьи всесоюзной категории за безупречное судейство всесоюзных соревнований в Алма-Ате в качестве старшего судьи. А сейчас он судья по тяжёлой атлетике высшей национальной категории. Когда только начал развиваться гиревой спорт, удостоверение судьи первой категории под номером 001 в области было выдано Николаю Васильевичу Молостову. Затем было присвоено звание судьи республиканской категории по гиревому спорту. И сейчас, когда желают придать престижность соревнованиям, приглашают Молостова на почётное место в судейскую коллегию на соревнования по тяжелой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, силовому троеборью. ÂÎÑÒÎÐÆÅÍÍÛÌ ÂÇÎÐÎÌ... Теперь небольшое отступление от биографии Н.В. Молостова. А если точнее — воспоминания и впечатления юности — я попытаюсь передать, с каким восторгом мы, школьники, смотрели на пионеров и первопроходцев тяжёлой атлетики в нашем городе. У меня своя точка зрения — история спорта глазами художника. Всегда считал, что красота спорта противостоит многим уродливым сторонам жизни. Вспоминаю свою юность на одной и той же улице, в одних и тех же дворах и беседках, кто-то пытался вылепить себе фигуру Стива Ривса с помощью гантелей, а другие баловались чуйской коноплёй. Анаша тогда только входила с чёрного хода. Ей противостояло увлечение атлетизмом. До Стива Ривса образцами силы и красоты были вполне реальные штангисты, которых этими качествами наделило классическое троеборье со штангой. В памяти встаёт целая шеренга атлетов, которые будили у подростков жгучее желание стать такими же — Молостов, Небучин, Жуков, Семёнов. 215 Сейчас сознание подростков захватили герои видеоэкрана, среди которых преобладает типаж агрессивного супермена — глыба гипертрофированных мышц, олицетворяющая неукротимую стихию зла. А я вспоминаю пятидесятые — шестидесятые годы, когда мне встретились сильные люди совершенно другого склада — в основном, рабочие парни из цехов свинцово-цинкового комбината, от которых веяло надёжностью, добротой и порядочностью. «ÂÎÑÒÎÊ» ÏÎÝÇÈß ÑÈËÛ Самым первым из штангистов нашей области норматив мастера спорта выполнил Григорий Щепкин в 1957 году. Год спустя стал чемпионом ВЦСПС, в республике в течение пяти лет удерживал первенство в полусреднем весе. Чемпион Европы, мировой рекордсмен Ю. Дуганов предсказывал Григорию великие перспективы, считал его штангистом будущего. Республиканский и областной рекорды Щепкина в рывке продержались около двух десятилетий. Штангисты, как правило, сильны и в прыжках с места. Григорий, отличаясь исключительной резкостью и прыгучестью, не знал себе равных в этом упражнении. Ему не составляло никакого труда с места перемахнуть трёхметровый помост или гимнастический козёл высотой 125 см. А. Польшин вспоминает, как на спор Григорий перепрыгивал теннисный стол — с места в ширину, а с разбега в длину. На чемпионатах Казахстана его ожидала ставшая традиционной «заруба» с гигантами — тяжеловесами, в первую очередь с заводным Р. Эсамбаевым. С места прыгали вверх по лестнице — кто больше ступеней преодолеет. Но все усилия великанов были тщетны — Гриша оставался непобедимым. Даже видавший виды атлет мирового класса Н.В. Немчинов был потрясён, когда в Подольске на его глазах Григорий, прыгая вверх по ступеням парадного входа гостиницы, превзошёл самого себя — покорил десять ступеней. До сих пор вспоминают, как Григорий втайне от тренеров проделывал уникальный трюк. При его исполнении Гриша не изображал огнедышащего шаолиньского дракона, не делал мистических пассов с замогильным выражением на лице. Напоминаю, что это были пятидесятые годы и никто понятия не имел о восточных боевых искусствах. Словом, никакой барабанной дроби, нагнетающей атмосферу смертельного номера. Феномен из Черемшанки очень буднично раз216 бегался и делал несколько молниеносно быстрых шагов по отвесной стене спортзала. Его пример оказался заразительным — Балабанченко не успокоился, пока не повторил этот трюк. Гриша Щепкин, деревенский паренёк, выросший без отца, был щедро наделён природой спортивным талантом, необыкновенной взрывной силой и реакцией. За красоту фигуры многие сравнивали Григория с Аполлоном. Поклонник Щепкина, заядлый болельщик и знаток, энциклопедист спорта Ю. Каменецкий утверждал, что человечество потеряло великий шедевр искусства, поскольку не нашлось скульптора, увековечившего фигуру Щепкина для потомков. К сожалению, Григорий не успел полностью проявить свой спортивный талант. Серьёзная травма руки положила конец его спортивной карьере. Не меньше потрясал наше воображение его преемник в полусредней весовой категории, рекордсмен республики в жиме, мастер спорта Валентин Жуков — плавильщик СЦК. Не великан ростом и не сажень в плечах, но такая исключительная по своей крепости и жёсткости мускулатура была в него впрессована, что его торс выглядел стальным панцирем, а когда он шёл мимо в тяжелоатлетической сбруе, казалось даже, что скрипят не штангетки, а его мышцы. Затем в полусреднем весе его сменит выполнивший норматив мастера спорта уроженец Георгиевки Сергей Кариков. Его козырем была не сила, а резкость. На удивление красиво и элегантно Сергей работал со штангой, особенно в темповых движениях. Атлет Коробейников, восхищаясь его координацией движений, приводит следующий эпизод из поездок на соревнования. Решив размяться от долгого ожидания в аэропорту, Кариков перепрыгивает с места сдвоенные скамьи с одновременным разворотом в воздухе на 180 градусов. Но наиболее яркие воспоминания остались у меня о мастере спорта Николае Семёнове, рафинировщике СЦК. С ним довелось работать в одной смене. После вахты — душ. На свинцовом заводе хватало и здоровенных мужиков, и лихих флотских ребят, и спортсменов-разрядников. Но странным образом все они меркли и уходили на задний план, когда в душевой появлялся Коля Семёнов. Так среди серой гальки вдруг слепит блеск драгоценного камня. Словно вспыхивает невидимый прожектор, в лучах которого оживает сошедшая с пьедестала статуя античного божества. Сразу бросалась в глаза законченной безупречностью отточенная мускулатура римского гладиатора. Коля был жимовиком, обладателем всесоюзного рекорда (уста217 новлен в Алма-Ате 4 июня 1964 года) и именно жим отковал ему скульптурные мышцы. Во время службы в армии Коля был чемпионом вооруженных сил по классической борьбе и на ковре показывал каскады головокружительных трюков. А уж на соревнованиях в полной мере раскрывался его бойцовский характер. И даже если не брать во внимание самых именитых мастеров железной игры, а остановиться на втором составе, всё равно любо-дорого было посмотреть на богатырскую дружинушку команды «Восток» — перворазрядников В. Большакова, Резанцева, В. Исаева, В. Майкова и редкостного крепыша А. Конева. Про чемпиона области и призёра республики в тяжёлом весе Николая Маковейчука ходила даже легенда, что при аврале на производстве он занёс в отделение загрузки плавильного цеха на высоту пятиэтажного дома двигатель троллейкары старого образца, использовав профессиональные приёмы портовых грузчиков. Если это правда хотя бы отчасти, то такое проявление силы стоит многих и многих рекордов. ÂÅÐÍÀß ÐÓÊÀ Давайте ещё раз вспомним пятидесятые годы. Это было время, когда в парке Джамбула прыгали с парашютной вышки, из репродукторов звучали «Ландыши», а танцевали под духовой оркестр. Газировки ещё не было, в киоске торговали морсом, который был так же популярен в летнее время. Оживление было на волейбольной площадке, в бильярдной и шахматном павильоне. А к городошному корту невозможно было подойти из-за плотной толпы болельщиков. С городками все поголовно знакомились с раннего детства. Футбольный мяч — это огромный дефицит для того времени. Вся страсть детворы к игре доставалась городкам. Ребята играли и в «чижика», «клёк», «чушки», «круг», «осла». Городки были любимой в народе игрой, ею увлекались все от мала до велика. В простой и доступной игровой форме можно было испытать и развить свою меткость и точность, крепость руки, координацию движений и глазомер. Не зря же многие знаменитости и выдающиеся личности отдали дань городкам. Великий физиолог Павлов, певец Ф. Шаляпин, писатель М. Горький. Даже великий русский полководец А. Суворов слыл страстным городошником. Он так агитировал в пользу городков: «Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. Битою 218 мечусь — это глазомер, битою бью — это быстрота, битою выбиваю — это натиск». Играли в городки прямо на улице, на простых разметках на земле. Получше качеством были городошные площадки в местах культурно-массового отдыха. Впервые спортивные соревнования по городкам в нашем городе проведены Николаем Молостовым. Его и принято считать отцом нашего городошного спорта. На базе спортивного коллектива ТЭЦ он решил задачу: как без ущерба объединить народную игру со спортивными правилами и включить её в программу спортивных соревнований. Так и появился городошный спорт в области с июня 1953 года. Команда Казахстана на первенствах Союза всегда была в числе призёров. А в 1986 году прошли последние соревнования по городкам на первенстве республики среди металлургов. Затем была вспышка популярности городошного спорта, когда он был включён в программу сельских игр. Свои команды выставляли десять районов области. Возросло мастерство команд. И снова городошный спорт исключён из программ народных игр, прекратились соревнования в городах и районах. Всё же древние и вечно молодые городки возрождаются повсеместно. Есть игроки, которые проводят соревнования в Германии, Израиле, Швеции, Дании, Польше. Это уже даёт возможную перспективу. Вспомним, как на основе лапты после её модернизации явилась миру такая престижная игра, как бейсбол. Кроме штанги и городков, Молостов занимался лыжным спортом и даже имел первый спортивный разряд. Особенно полюбил слалом — за упоение скоростью на крутых склонах, лихие виражи и повороты, после которых сзади рассыпается шлейф снежных искр. С этим увлечением пришлось расстаться, когда на соревнованиях по слалому на Медео сломал ногу. Представим теперь себе сцену в аэропорту, когда герой-слаломист прибывает на костылях, а его встречает супруга Антонида Ивановна, женщина очень солидная и внушительная. Думаю, что здесь можно опустить встречную речь, обращенную к герою спорта и преисполненную торжественного пафоса. Любой женатый человек вообразит её без труда. Женился Николай Васильевич Молостов сразу же после армии в 1951 году. Вырастили детей и внуков, а недавно отметили 219 золотую свадьбу. Женитьба не помешала его спортивным увлечениям и жизненным планам. Напротив, Николай Васильевич подчеркнул, что ни разу не пожалел об этом и выбрал правильный путь. ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÊÈÑÒÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ Сейчас почти невозможно встретить такого чудесного человека, как Николай Васильевич Молостов. Непостижимым образом он очаровывает своим человеколюбием, дружелюбным обаянием. Его своевременная поддержка в тяжёлый трудный момент, юмор, шутка — всегда кстати. Не обошлось и без чёрных дней в его жизни — постигло огромное горе. Невозможно было смириться с потерей самых близких людей. Тусклым был Николай Васильевич в это время. Поблёкли когда-то весёлые глаза, даже ходил слепой походкой. Разительна была перемена во внешнем облике — от бравого и статного ветерана остались какие-то мощи. Железо и ещё раз железо, металл благословенный окончательно поднял Николая Васильевича на ноги. Когда мы вновь увидели его, это были уже не руины разрушенной человеческой личности. Сумел себя преодолеть Николай Васильевич всем на удивление. На тренировках и соревнованиях победная несокрушимость в каждом движении, весёлый задор и уверенность в себе. Грозное веселье старого солдата струилось из его глаз. Причём он не только тренируется. Вновь выходит на соревновательный помост... В семьдесят восемь лет! И показывает вполне приличные результаты: приседания и тягу штангой в 100 кг, а жим лёжа с весом 60 кг. Таких людей не согнёт никто и никогда. Они и из жизни уйдут победителями. Ãåííàäèé ÐÓÄßÃÈÍ ×åðíîâöû ÌÎß ÄÎÐÎÃÀß ËÞ ÂÈ ...Алекс — и гном, и бог, и великан. Он светится тихой улыбкой застенчивого, но всесильного мага. Самые строптивые женщины рядом с ним чувствуют себя девчушками с рогатыми косичками и находятся в состоянии предчувствия чуда. Любимое слово Алекса — «нормально». — Как там ненька Украина? — спрашивает Алекс-великан. — Стогне i cпiвaє, — отвечаю. Ответ Алексу нравится. Он застывает с куском мяса в руке, который уже нанизывал на шампур. — Стогне i cпiвaє? — зачарованно переспрашивает он. — ...Ух! Класс! Такие мы! Мастер спорта по художественной гимнастике Ульяна любит Алекса, как любят луч солнца в сырую погоду. Алекс старше Ульяны лет на двадцать — двадцать пять. — Ну-ка, девочка, скажи, — обращается Алекс-гном к влюблённой Ульяне, — кто у нас сегодня ведёт машину? — Я! — смеётся Ульяна. — Нормально! Значит, пью я!.. Нормально? Ульяна гладит его по руке. — Ты же знаешь, — говорит она. — Тогда ешьте вот окорок, буженину, пастрому, балык, икру, — говорит Алекс-бог. — Пока подоспеют шашлыки, картошка и кукуруза. Всё нормально, друзья. Всё о’кей! Пожалуйста, попробуйте салат из американской капусты! Я смотрю на Лю Ви. Она счастлива, как девочка на детской площадке. — Спасибо, Алекс! — говорю я негромко. — Что? — переспрашивает он, наклоняясь ко мне. — Спасибо за праздник для Лю Ви. — А-а, — отмахивается он. — Ерунда. Всё нормально. А океан... Что ж океан? Лужа, она лужей остаётся даже в Америке. Зелёно-мутная, медузная. Чёрное море, безусловно, лучше. 221 27 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Тридцать градусов жары. Влажно, душно и липко. Я — в белых брюках и в белой тенниске с изображением американского флага на нагрудном кармане. Лю Ви — в лёгком кремовом платьице. Мне грустно на неё смотреть. — О чём ты думаешь? — спрашивает Лю Ви. Я провожаю её до метро. — Мне жаль тебя. — Почему? — Ты — рабыня. Лю Ви делает вид, что не слышит меня. Она указывает на какую-то улицу. — Если вот так вот идти минут сорок, то можно прийти к океану, — говорит она, — к тому месту, где мы отдыхали с Алексом и Улей. — Что же будет, когда ты всех своих перетащишь сюда? — спрашиваю я. — Ты ведь знаешь, что я здесь не останусь. — Я приеду к тебе. Некоторое время мы идём молча. На Лю Ви засматриваются прохожие. — Мы видимся с тобой по два часа в сутки, — говорю я. — Для чего я сюда прилетел? Лю Ви касается моей ладони: — Чтобы видеться хотя бы по два этих часа. Бедная Лю Ви. Бедная девочка... Если и винить кого-то во всём случившемся, то, конечно, не тебя. 1 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Всю ночь в доме выла собака. — Это не собака, — объяснила Лю Ви потом. — Это больной человек. Весь наш дом населяют больные и немощные. Их квартиры — самые дешёвые в Нью-Йорке... Присмотр за этими людьми и уход осуществляется за счёт муниципальных властей. 2 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Очаровательная, светящаяся, полная любви к окружающим девушка восторженно говорила в лифте: — Вы должны обязательно посмотреть эту машину! Бело222 снежная, как белая голубка! Вся сверкает! Я её только что видела на улице! Посмотрите, посмотрите на неё непременно! Пассажиры лифта отводили от девушки глаза. Эта девушка живёт в нашем доме. Она — сумасшедшая... Здесь нет психушек. «Зажирела-таки Америка. Это определил исследователь Колорадского университета Джеймс Хилл, давший явлению название “Жировая эпидемия”. Она выражается в том, что сегодня 54 процента взрослых американцев весят больше нормы. И процесс развивается по восходящей. Главные причины две: американцы много едят и мало двигаются, у них малы физические нагрузки. Быть излишне сытым и толстым — не так-то безвредно. Ожирение увеличивает риск диабета, рака, сердечных заболеваний, других хронических расстройств.1 Выявлено, что около 60 процентов людей, рискующих умереть в результате того или иного заболевания, страдают ожирением. Излишний вес — не только личная забота. Ожирение среди американцев, по оценкам Американского института медицины, обходится Соединённым Штатам приблизительно в 70 млрд. долларов из-за снижения по этой причине производительности труда и расходов на медицинское обслуживание». «Статистика показывет, что, несмотря на обилие на рынке средств для удаления волос на теле, большинство из нас предпочитают это делать при помощи бритвы. Наверное, вы уже много лет бреетесь несколько раз в неделю. И, наверное, вы всё ещё выбриты не идеально. Но это поправимо. Существует достаточно способов, чтобы, воспользовавшись ими, вы оказались самой гладкокожей женщиной на пляже. Вот как выбирается оптимальная для гладкости бритва...». 3 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Наши два часа. Мы вместе. Лю Ви в полуулыбке дремлет. — Ты ноги не бреешь? — квакаю вдруг я. Лю Ви открывает глаза и несколько минут молча смотрит в потолок. — Ты что... сумасшедший? — говорит она. — Американки, оказывается, бреют. — Я же не американка. 1 В приводимых материалах из русско-американской прессы авторская стилистика сохранена полностью и точно. 223 — Но очень хочешь ею стать. — Ты опять... Чего ты добиваешься? — Хочу забрать тебя домой. — Но ты же понимаешь, что это пока невозможно. — А когда это будет возможно? — Я не знаю... Как только оформлю документы на своих. — Это — скоро? — Не знаю... Здесь ничего нельзя знать вперёд наверняка. Вот устроюсь на постоянную работу... Что мне делать? Я ведь Лю Ви хорошо понимаю. Как мне быть? 4 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК По телеканалу 5-FOX показали последствия автокатастрофы, которая произошла где-то в центре Нью-Йорка. Толпа встревоженных людей. Мигание и улюлюканье сирен спецмашин. Полицейские, долго растягивающие сплющенный автомобиль. Пожарные, врачи... Когда полицейские наконец вытащили из обломков автомобиля то, что осталось от пострадавшего, толпа, ликуя, зааплодировала. 6 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК На одиннадцатом канале американского телевидения ежеутренне, кроме субботы и воскресенья, транслируется ток-шоу Джерри Спрингера из Чикаго. Темы шоу такие: «Моя сестра украла моего мужа», «Моя мать сделала меня проституткой», «Я сплю со своим боссом», «Я увела любовника у своей матери», «Меня любят трое», «Я — лесбиянка» и т.д. Рубрика называется «Секреты и сюрпризы секса». Здесь под крики одобрения, хохот и свист многолюдного зала старые леди мутузят молодых, молодые, в отместку, демонстрируют упругие попки и груди. Джентельмены потрясают своими обнажёнными мужскими достоинствами и колошматят изменниц и соперников, старухи хвастают участками сохранившегося тела... Всё просто, беззастенчиво, естественно. Не зная языка, всё понимаешь. Трудно определить цель подобного зрелища. Разоблачение ханжеской сущности внешне добропорядочного улыбчивого общества? Развлечение для низших слоев?.. Поражает красота и женское очарование соперниц, готовых изничтожить друг друга из-за невзрачных, гадких мужиков. 224 По местной статистике, 80 процентов чёрных женщин и 56 процентов белых — матери-одиночки. 10 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК В каждом американском доме, заселённом жильцами, есть человек, именуемый супером (мастер на все руки). Он — доверенное лицо хозяина дома и несёт ответственность за состояние жилья. Производит побелку, когда надо, ремонт розеток, сантехники, газовых плит, уборку в коридорах, в лифтах и в фойе; меняет износившееся оборудование на новое. Этот человек, помимо зарплаты, получает в данном доме и квартиру... Супер дома 1815 — негр. Я долго не мог объяснить ему, что «наш» холодильник вышел из строя. Наконец, поняв, в чём дело, супер, не произнося ни слова, прошёл со мной в квартиру, пощёлкал выключателями и тумблерами... и через полчаса заменил старый холодильник новым. Денег за подобные услуги супер не берёт — запрещено. Во всяком случае, этот от чаевых категорически отказался... И вообще хочется об Америке думать хорошо. Если сюда бегут люди со всего мира, значит, в этом что-то есть? Но вот во всех американских школах — беспредел. Школяры употребляют наркотики, курят, пьют, насилуют соучениц и учительниц и стреляют друг в друга. Почти в каждой школе дежурят полицейские. А попасть туда в качестве учителя невозможно. Из-за большого притока в страну учителей-эмигрантов. Устраиваются только те, у кого есть хорошие связи. Лю Ви туда не устроиться никогда. Избегавшись по многим школам, имея на руках официальное направление от бордо-фэдьюкейшен (как наше гороно), она ничего конкретного и утешительного так и не добилась. Даже в негритянские школы её не берут. — Предлагают работать на подмену, — говорит Лю Ви растерянно и устало. — То есть? — Ну... в случае, если учитель математики или физики данной школы по каким-то причинам не выходит на работу, то вызывают меня. Все говорят, что по-другому устроиться на постоянную работу просто нельзя. Но я же не могу сидеть и ждать их телефонного звонка. Кто мне за это заплатит? — Плюнь! — решительно говорю я. — Не нужны тебе эти банды. Ты с ними не справишься. Я тут читал объявление... Поступай-ка ты на курсы программистов! 225 Ожившая Лю Ви вскидывает голову и улыбается. — А на русское телевидение пойдём? — спрашивает она. Эта глупость влезла ей в голову с самого начала. Ей кажется, что меня там только и ждут. Лю Ви прекрасна и наивна. — Нет! — отвечаю я. — Пойдём, — уговаривает Лю Ви. — Ты им понравишься. — С моей визой меня никто никуда не возьмёт. Я — турист. Ты это понимаешь? — Тебя возьмут, — говорит Лю Ви. — Возьмут, возьмут! Им такие люди нужны. Она устала. Спорить с ней бесполезно. «В ближайшие 10 лет в Америке легче всего будет найти работу компьютерщикам и работникам здравоохранения. Таков прогноз рынка труда. Положение на американском рынке труда диктуют сейчас два фактора: невиданные темпы развития компьютерной техники и увеличение количества пожилых людей. Ежеквартальник “Occupational Outlook” считает, что в Америке число вакантных мест для менеджеров в области электронной информации, программистов, компьютерных инженеров и системных аналитиков возрастёт в ближайшие годы на 103– 118%. Потребность в физиотерапевтах возрастёт на 71%, в реабилитационных терапевтах на 66%. Будут пользоваться повышенным спросом (на 59% больше, чем сегодня) специалисты по обучению детей с физическими и умственными недостатками, логопеды для людей с патологией речи — на 51%, помощники врачей — на 47%. Увеличится спрос и на финансовых консультантов, специалистов по размещению денег в ценных бумагах — на 38%. Но всё это вовсе не означает, что каждый из людей указанных профессий легко устроится на работу. Здесь большую роль играет опыт работы, характер и личные качества человека. — Из тех, кто участвует в конкурсе на вакантное место и пришёл на собеседование с нанимателем, больше шансов у человека с положительным взглядом на жизнь, — утверждает Джон Келли, консультант по устройству на работу из компании “K-Consult” в городе Альбукерке. Если вы на собеседовании плохо отзываетесь о своём прежнем начальнике и прежних коллегах, то может возникнуть подозрение, что у вас неуживчивый, скандальный характер, а таких людей берут лишь в последнюю очередь. 226 Келли советует ищущим работу “стереть” из своей памяти всё отрицательное и взять для рассказа о себе и своём трудовом прошлом только положительное. И ещё одна важная рекомендация. Не надо бояться даже на самом серьёзном собеседовании продемонстрировать чувство юмора. Работодатели знают, что работник, обладающий чувством юмора, меньше подвержен стрессам, панике на работе, он в случае неблагоприятных обстоятельств более гибок в принятии решений, открыт для творчества и нововведений, а это очень важные качества для работы в корпоративном мире. — Учреждения, в которых есть место для шуток, для весёлого настроения, более продуктивны, — говорит Джон Келли. — В них работники реже отсутствуют и лучше работают». 15 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Есть у Лю Ви хорошая знакомая, Алёнка. Она заканчивала с Лю Ви курсы английского языка и помогла ей перевезти пожитки в «нашу» квартиру. Бывший стоматолог. А у Алёнки есть муж Саша, бывший океанолог. Они два года тому назад, выиграв гринкарту, прибыли сюда из Ленинграда... Алёнка, как и Лю Ви, в настоящее время работает у старухи-американки, а Саша — в мастерской по пошиву беличьих шляп для ортодоксальных евреев — хасидов. В этих шляпах, похожих на гнёзда аистов, хасиды по пятницам празднуют шабат (шабас). Хозяева мастерской — тоже хасиды (с пейсами)... У Алёнки и Саши есть компьютер. Они помогли составить и отпечатать моё резюме (послужной список, что-то похожее на нашу трудовую книжку). И мы с Лю Ви поехали в Нью-Джерси, на русско-американское телевидение MNB. — Здравствуйте! Вам нужны творческие работники? — безнадёжно спросил я. — Здравствуйте! — приветливо ответил мне сидевший за столом тучный человек с подстриженной бородкой и мягким голосом. — Да, нужны. — Я принёс вам своё резюме. — Давайте его сюда... Садитесь, пожалуйста. — Вот мой паспорт, — сказал я, ошарашенный простотой приёма. — Зачем? — улыбнулся человек с бородкой. — Паспорт не нужен. 227 — Я хочу, чтобы вы взглянули на мою визу. — Не стоит. Да я в них и не разбираюсь, в визах... Тэк-с, ну что же тут, в резюме?.. Прекрасно. Вы и на телевидении работали? — Да. В Молдавии. В Кишинёве. — И в сценарной мастерской киностудии «Молдовафильм»... И телеспектакли по вашим пьесам были поставлены... Где вы живёте? — На Кинге Хайвей! — подсказала разрумянившаяся Лю Ви. Тучный человек с мягким голосом кивнул. — Я почему спрашиваю? — сказал он. — Мы работаем ведь круглосуточно. Порою и ночью придётся добираться домой... — Я бы всё-таки хотел, чтобы вы взглянули на мою визу, — сказал я, суя ему свой паспорт. — Да не нужен мне ваш паспорт, — отшатнулся тучный человек с мягким голосом. — Что вы в самом деле? Мы живём в Америке, в свободной стране. — Но у меня, по-моему, нерабочая виза, — сказал я. — Нет! — резко сказал тучный человек с металлическим голосом. — С такой визой мы никого не берём! — Но... — хотела вставить что-то Лю Ви. — Нет! — прервал её огромных размеров человек. Он, похоже, даже обиделся на нас. ...Слева от нашего окна — окно стариков-молодожёнов. Мы их называем Ромео и Джульеттой. Он — коренной американец, она — «наша» эмигрантка. Они никак не могут притереться друг к другу. На правах хозяина Ромео почти весь день орёт. Грубо, громогласно, бесстыже. — Ты расточительна! — переводит его визгливый ор Лю Ви. — Ты белоручка! Уходи! Я нуждаюсь в женщине, в красивой леди! Общий их возраст — где-то лет сто пятьдесят пять. — Ей нужно от него уйти, — говорю я. — Он — идиот. — А если она его любит? — спрашивает Лю Ви. 7 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Брайтон Бич авеню имеет в длину 980 моих шагов и в ширину, от бровки тротуара до бровки тротуара, — двадцать пять. Формой напоминает двустороннюю расчёску с длинными зубьями с одной стороны и с короткими — с другой. Короткие 228 зубья (стрит), протяжённостью метров по 150–200, упираются в набережную океана (бор-двок), а длинные — безмерны и убегают в дебри города, впрочем, и те и другие имеют одни и те же названия. Количество стрит, пересекающих авеню, — пятнадцать. Они называются просто Брайтонами: 1-й Брайтон, 10-й Брайтон и т.д. Расстояние между Брайтонами (кварталы) — 50– 60 шагов... Между 10-м и 11-м Брайтонами авеню Брайтон Бич протаранивает Кони Айленд авеню. Отсюда и до самого 1-го Брайтона включительно авеню Брайтон Бич укрыта полотном железнодорожного моста, по которому круглосуточно грохочут электрички наземного участка нью-йоркского метро (одного из участков). Здесь всегда полумрак и люди разговаривают значительно громче, чем, например, на 13-м Брайтоне, где крыши из моста нет. Легко считая шаги на Брайтон Бич авеню, все её магазинчики, рестораны, кофейни, кафе, пиццерии, маркеты, шопы и фруктово-овощные лавки одним махом счесть невозможно. Им несть числа. Благодаря чему на всей авеню нет ни единого унылого окна. Всё — в весёло-пёстром разноцветье витрин. Одуряющий запах жареного мяса стоит здесь с утра и до утра. Гул разноязычных голосов несмолкаем, всё дышит атмосферой предкурортной зоны. Тут на каждом углу поют человеко-оркестры и загадочные дамы скороговоркой предлагают русские лекарства... Этот район Бруклина облюбовали для проживания бывшие одесситы, черновчане, симферопольцы, сочинцы. Брайтон Бич в переводе с английского означает — Ясный (или Светлый) Берег. 15 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Алёнкин Саша заканчивает курсы программистов. Он уговорил меня занять его место в шляпной мастерской. Лихо управляя своим серебристым автомобилем, деятельный Саша сказал: — В Америке можно немного обманывать. Я хозяевам сказал, что вы на родине работали на заводе по изготовлению кинотехники... Курить у нас нельзя. Ланч — не более десяти минут. В пятницу и субботу не работаем. В пятницу у хасидов праздник. Они молятся, едят, пьют вино и в ночь на субботу зачинают детей. Каждый из них надеется, что в одну из таких ночей он заделает нового мессию, который будет лучше Иисуса Христа. Знаете, как это происходит? Жена накрывается про229 стынёй, в которой вырезано отверстие для входа члена... Так, через простыню, они и совокупляются. — А лицо? — спросил я. — Что — лицо? — Оно тоже накрывается простынёй? — Этого я не знаю, — признался Саша. — В самом деле... Чёрт! Надо будет спросить! Румяный молодой хасид внимательно слушал Сашу и косил красивыми глазами в мою сторону. Накручивал длинные пейсы на палец, раскручивал и снова косился на меня. В мастерской стоял едкий запах кислоты. Один из рабочих аккуратно растягивал и прибивал к доске беличью шкурку. Другой — электрофеном обрабатывал готовую шляпу. Третий строчил на машинке. — Откуда вы, ребята? — спросил я. — Из Ивано-Франковска. — О! Майже мої земляки! — А ви звiдки?.. Подошёл Саша. Высокий, поджарый. Он сделал замечание Ивану, который слишком часто выходит за дверь. — Ну что? — спросил я. — Всё в порядке, — ответил Саша из-под дымчатых очков. — Хозяин хочет посмотреть, как вы шьёте на машинке. Я долго смотрел в Сашины дымчатые очки. Саша был невозмутим. — Всё в порядке, — подтвердил он. — Хозяин хочет посмотреть, как вы шьёте на машинке. Я ещё постоял, потом простился с ребятами из Ивано-Франковска и ушёл. Саша бросился меня провожать. 28 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Молоденькая очаровательная Наташа прежде проживала в квартире, которую теперь снимаем мы. Она окончила юрфак МГУ. Отец её — процветающий московский бизнесмен. Наташа приходит к нам, когда на наш адрес по инерции приходят ей письма. — Самые пошлые, самые мерзкие и гадкие из всех «наших», — говорит она, — это — хозяева магазинов и ресторанов. Чтобы получить место в таких бизнесах, нужно с этой дрянью переспать. Обязательно! Всенепременно! В противном случае — «Уходи! Здесь тебе не место!» 230 Наташа работает в ночном ресторане. Официанткой. И продолжает учёбу в юридическом колледже. У неё есть бойфренд (любовник-сожитель). Он шофёр какой-то фирмы. Слушая эту высокообразованную красивую девушку, мы с Лю Ви не верим, что она прошла через всё, о чём рассказывает. Не хотим верить. А спросить её не решаемся. 30 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Прочитал очень завлекательную и симпатичную заметку в газете «Русская реклама». Некто инкогнито предлагает работу на дому. Невероятно интересную и прибыльную. Звоню. — Это правда? — Правда. — В чём заключается работа? — В телефонных переговорах. Вам придётся очень много творчески общаться со странами СНГ. Предлагать продукцию нашей фирмы. И всё. — Прекрасно. — Вы согласны? — А кто будет оплачивать мои разговоры? — Этот вопрос находится в стадии разработки. Вы согласны? — Да. После того, как стадия ваших разработок завершится. 11 НОЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК По объявлению в «Курьере» ездили с Лю Ви на небоскрёбный Бродвей, в офис по набору матросов на круизные суда и на нефтеналивные танкеры. Здесь всех устраивала и моя трёхгодичная туристическая виза, и сам я. — Но он не знает английского языка! — испугалась Лю Ви. — В коллективе, где говорят исключительно на английском, он его быстро освоит, — сказал офицер офиса. — Кроме того, получив паспорт матроса США, у него навсегда отпадёт проблема въездной визы в Америку. Кроме того, за два месяца вахты он заработает шесть тысяч долларов. Кроме того, он навсегда будет обеспечен работой. Но делать, конечно, придётся буквально всё: драить, грузить, носить. И без выходных. По двенадцать часов в сутки. Согласны? — Нет! — вскрикнула Лю Ви. — Да, — сказал я. 231 — Пожалуйста, внесите взнос за паспорт матроса. — Сколько? — Семьсот пятьдесят долларов. Таких денег у нас, конечно, не нашлось... Но мы чуть-чуть не расстались снова. — Какая замечательная погода! — сказала счастливая Лю Ви. Дул сильный ветер. 14 НОЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Ищу работу. 5 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Бывший Вениамин Львович (теперь — Бенчик) работал на Украине завхозом ПТУ. Работа ему нравилась. Он был влюблён. В молодого завуча училища Людмилу Петровну. А та ходила задрав нос и постоянно критиковала его на собраниях. Он, правда, кое в чём был виноват, но не настолько, чтоб ему прилюдно говорили «мошенник, шулер, расхититель». Но дело давно не в этом. Бенчик уже десять лет как в Америке, ему семьдесят лет, и у него очень больная жена Мара. А некогда родное ПТУ расформировано. Гордая Людмила Петровна начала там почти голодать. Бенчик вызвал её в гости. И теперь бывшая завуч ухаживает за больной женой бывшего завхоза. Он ей чтото платит. Почти так говорит старик Саша, у которого я обычно покупаю сигареты, а я наблюдаю за героями его рассказа у овощной лавки. — Марочка! — громко говорит Бенчик. — Не трогай руками картошку, а то запачкаешься! Это сделает Люда. Беленькая Люда сильно краснеет и, перебирая, аккуратно складывает картофель в целлофановый кулёк. 19 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Вот уже месяц как Америка сошла с ума — здесь появилось чудодейственное снадобье от мужской импотенции — «Вайагра». О «Вайагре» пишут в газетах, о «Вайагре» говорят по радио, «Вайагра» стала героиней телепередач. Голубая таблетка из доброго старого мерина делает страшного льва. Одна таблетка «Вайагры» стоит 80 (восемьдесят) долларов. 232 26 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Сегодня в газете «Новое русское слово» опубликованы три моих рассказа: «Про Мишку», «Лёшка-дурак», «Журавли». С иллюстрацией к первому рассказу... 27 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Есть отзывы. Шурик, врач-гинеколог из Махачкалы: — Поздравляю! Читал!.. Значит, Лёшку эта Люда всё-таки наколола? Лиля, бывший журналист Буковины: — По-моему, стиль Шукшина. Юрист-официантка Наташа: — Теперь я всегда буду читать «Новое русское слово». Лю Ви: — Фантастика! Еду в электричке нью-йоркского метро и читаю твои русские рассказы! Великолепно! Замечательно! 31 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Без двух минут двенадцать ночи созвонились с Лю Ви, которая, как всегда, ночует у старой Селии, чокнулись бокалами с шампанским о телефонные трубки. — С Новым годом, Лю Ви! — С Новым годом, любимый! — Будь здорова! — Будь здоров! — Ты выпила? — Да. А ты? — Выпил. — Спокойной ночи, любимый! — Спокойной ночи, любимая! 1997 ÃÎÄ 2 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК «Юный афганец хочет встретить особу женского пола той же национальности для интимных отношений и продолжения рода». 233 «Утеряна золотая серёжка, умоляю вернуть за вознаграждение. Это память. (718) 891-0384». «Сергей Карцев из Львова ищет друзей и знакомых. (917)3560457». «Разыскиваются потомки сестёр Унцер, давно поселившихся в Бруклине. Эстер и Хая умерли в России. (718) 743-6299». «Андрей Родионенко, позвони Татьяне. (718) 854-0934». «Кто попал к немцам в Володарске Житомирской в июле 1941 и убежал в августе, отзовитесь. (718) 259-1830». 21 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Фруктово-овощные лавки Брайтон Бич авеню и их лотки на тротуарах, как ослепительно яркие цветники во все времена года, особенно теперь, являются самым притягательным объектом всеобщего внимания. Здесь невозможно не постоять и не полюбоваться... Разрезанные на части арбузы, дыни, клубника, черника, клюква, яблоки, груши, сливы, вишня, черешня, персики, виноград, ананасы, апельсины, мандарины, белокочанная и салатная капуста, огурцы, редиска, помидоры, кукуруза в початках, морковь, буряк, перец сладкий и горький, укроп, петрушка, сельдерей, спаржа, лук зелёный и репчатый, чеснок, грибы, разносолы всех видов и мастей... Всё-всё тут есть. Нет дурманящего запаха земли и её плодов. Весь «урожай» напичкан гормонами, ускоряющими рост и созревание, и химикатами, сохраняющими свежесть. На пятидесятилетии Елены Соловей на сцене, арендуемой театром «Блуждающие звёзды», «американский» кинорежиссёр Слава Цукерман сказал: — Я Елену Соловей как актрису не знаю, потому что в пик её творческой славы уже жил в Америке, но онa мне напоминает другую великую актрису, которую я, к сожалению, тоже не знал, — Комиссаржевскую. 19 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Посещая колледж в Манхэттене (бывшие Бикмановские курсы программирования), Лю Ви молит Бога, чтобы с её старухой Селией ничего не случилось, чтобы она была здорова — иначе все начинания и мечты полетят в тартарары. Лю Ви необходима подстраховывающая поддержка. Ну хоть какой-нибудь 234 дополнительный доход. Заниматься Лю Ви придётся долго — полтора года. Причём сказал это толстый Слава на полном серьёзе, и «наши» зрители восприняли его заявление как само собою разумеющееся. Может быть, оттого, что Слава Цукерман давно «американец» и уже двадцать лет живет в доме, в котором снимают квартиры звёзды американского кино. Об этом Слава поведал прямо со сцены. Аплодисменты были сногсшибающие. ...А на «международном Пушкинском конкурсе» в Бронксе мы с Лю Ви увидели кучку евреев-пенсионеров, которые по очереди читали с тоже арендованной сцены собственные стихи. Особенно запомнилась рифма мясистого ветерана труда и войны: «крыш — нарцисс». Клуб «Станционный смотритель» прозвали мы с Лю Ви сей «международный» форум. ...Один по-настоящему американский режиссёр ввёл в свой телефильм персонаж еврейки-иммигрантки в косыночке, которая по ходу сюжета, озираясь по сторонам, пристаёт к отдыхающим американцам с единственной фразой-вопросом на русском языке: «Скажите, пожалуйста, где туалет?» «Наши» люди в восторге: — Вы видели? Это уже что-то! ...В русскоязычную газету какой-то шальной американец прислал критическое письмо, и главный редактор издания обратился к читателям с радостным призывом: «Если у вас есть знакомые американцы, просите их писать нам. Это замечательно, это прекрасно — американцев начинает интересовать наша с вами жизнь и содержание наших газет! Первая ласточка весны, естественно, не делает, но — всё же, всё же, всё же!» «...В Москву! В Москву!» — стенали в нью-йоркском театральном зале чеховские девочки из «Современника» Галины Волчек. И, как никогда прежде, разрывали сердце. — Это — драматург с Украины, — представила меня Алексова Уля. И я, прямо на огнедышащем ночном Бродвее, бросился целовать испугавшуюся Волчек. ...А московское телевидение во всём подражает американскому — даже искусственный зрительский смех (для недоумков) за кадром телефильмов и развлекательных программ и тот стибрило за океаном. «Смотрите русско-американское телевидение WMNB!» Именно этот канал да ещё RTN ретранслируют почти все московские передачи, большинство из которых — калька с американских передач «Персона», «Любовь с первого взгляда» и т.д. 235 «Мне 65 лет. Последнее время я из-за своей импотенции принимаю Вайагру и чувствую себя великолепно, давно махнул импотенции рукой. Но у меня возникла серьёзная проблема с женой. Мы живём вместе много лет, но никогда не были довольны друг другом в сексуальном вопросе. Я бы давно ушёл из дома, но понимал, что вряд ли смогу удовлетворить другую женщину. Теперь положение изменилось. Я снова мужчина и хочу быть счастлив. ВОПРОС: Как мне помягче сказать о своём желании жене? ОТВЕТ: У вас, похоже, ни капли совести. Многие годы вы были импотентом, и бедная женщина терпела такое недоразумение возле себя, а вы не уходили, так как понимали, что никому, кроме неё, не нужны. Теперь времена изменились, и вы собрались бежать. Моё мнение: вам следует остаться с женой, возможно, помочь ей найти свою “вайагру” и честно отблагодарить её за серые дни вашей совместной жизни». 17 МАЯ, НЬЮ-ЙОРК Просыпаюсь в 5.30 утра, в 6.00 сажусь в поезд метро — трейн-Q или Д. В тот, который подходит раньше: Q-трейн — экспресс, Д-трейн — обычный... Проезжаю станции Шипсюд Бей, Кингс Хайвей, Проспект Парк, Атлантик авеню... На Де Калб авеню делаю пересадку и еду дальше на N или Р-трейне... 9-я стрит, 25-я стрит, 36-я стрит, 45-я стрит... На 53-й стрит выхожу, вскакиваю из подземного перехода и иду налево, по 53-й стрит, до конца. Там, среди мрачно-бурых корпусов частных промышленных предприятий и складов,торчит узким серым особняком-пеналом семиэтажное обшарпанное здание. На последнем этаже этого ублюдка находится швейный цех разъевшейся до неприличия молодой и не по размерам грациозной мадам Карины из Ленинграда. У неё я — рабочий. По одиннадцать часов в смену чищу швы у готовых шорт, ночных рубашек, маек, шаровар и прочей непривлекательной продукции, которую выпускает цех; цепляю этикетки, сортирую, перетаскиваю и упаковываю изделия в целлофановые мешки. — Вы у меня будете зарабатывать 360 долларов в неделю, — сказала мне Карина при приёме... За первую неделю я получил 40 долларов, за вторую — 75, за третью неделю много обещавшая Карина не рассчиталась с рабочими вообще. У неё не оказалось денег. Не смогла готовую продукцию сбыть магазину. 236 — Уходи! — сказала мне Лю Ви. — Это же беспредел. Неслучайно у неё работают одни бессловесные мексиканцы. Брось! — Неудобно, — ответил я. — Она обещала. Может, всё наладится ещё. — Не будь наивным. В этом — весь её бизнес: заработать, не расплачиваясь за чужой труд. Уходи! Я проработал ещё неделю и ушёл. Ни с чем. — Заплатите мне за работу, — сказал я Карине. — Я вам перезвоню, — ответила она. — На следующей неделе. Или завезу вам деньги сама. Не позвонила и не завезла. «Разыскиваемый насильник Берт Роман, “специалист” по нападениям в сабвее, снова совершил преступление. В 2 часа дня, когда на станции Корт стрит в Бруклине было немного народа, негодяй потащил 28-летнюю женщину в дальний конец платформы с намерением содомизировать её. Но к счастью, люди увидели это и стали окружать его. Тогда преступник убежал. Установлено, что это был его четвёртый разбой с января этого года». 29 ИЮНЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ — Вообще-то я женщина аномальная, — говорит весёлая пенсионерка Галя из Санкт-Петербурга. — Когда среди жаркого лета меня пригласили судить соревнования по волейболу в Сочи, то вдруг пошёл снег. А когда летела сюда из Парижа, то оказалась какой-то там по счёту рекордной пассажиркой, и мне вручили приз — обратный билет до Санкт-Петербурга. Держитесь меня, и всё будет в порядке. Главное — держитесь меня! И Галя смеётся. Передних зубов у неё нет... Нас — десять. Я, Галя, молодая учительница из Москвы Тамара, её земляк строитель Павел, львовяне Катя, Саша и Олег, киевлянин Коля и две полячки из Кракова — юная Илона и бабушка Кристина. Нас везут в микроавтобусе в детский лагерь хасидов, что в Касткильских горах. Там мы будем работать два с половиной месяца... с бесплатным жильём и с бесплатным питанием. Но без выходных. — Да боже мой! — говорит киевлянин Коля. — Хоть круглосуточно! Я вот прислуживал одному старику-паралитику всего один день в неделю. И что характерно, тоже бесплатно ел. Но — пропади оно пропадом — то подмой, то подотри, а денег — ноль. Не для этого же я сюда приехал! 237 Коле шестьдесят два года. У него — ишемическая болезнь сердца, диабет и подагра. — Я с вами абсолютно согласна! — откликается молодая учительница Тамара. — Мне тоже пришлось помаяться с немощными стариками. Ну их! Не пропадём! Тамара — в коротеньких шортах. Она всё время прикрывает газетой голые ноги. Хозяин лагеря, колючий Хаске Розенберг, ещё в Нью-Йорке её строго предупредил: нельзя, чтобы это видели дети! — Как там мои донечки сейчас? — вздыхает львовянка Катя. — Ничего, ничего! — успокаивает её бабушка Кристина из Кракова. — Что делать? Я на работах здесь уже десять и пять лет. — Пятнадцать лет?! — ахает аномальная пенсионерка Галя. — Так, — подтверждает бабушка Кристина. — Десять и пять лет. Остальные молчат. За окнами мелькают синие ленты дорог, аккуратные указатели с названиями населённых пунктов, зелёные лужайки, красные скалы, леса, хасидские деревни с синагогами на площадях, с супермаркетами, с телефонами-автоматами на каждом углу и с чудо-домиками под цветной черепицей, с белоснежными верандами, с лесенками и с фонтанчиками на изумрудных лужайках. По ухоженным улицам деревень снуют, как муравьи в белых воротничках, все в чёрном — хасиды. В бородах, в пейсах, в шляпах, в чёрных чулках вместо брюк. Хасидов и их поселений так много, что, когда мы проезжаем какой-то сугубо американский посёлок, где люди ходят в шортах и в майках, Тамара вдруг громко кричит: — Наши! Смотрите, наши! ...Детский лагерь огорожен металлической сеткой. На сетке табличка с текстом на английском языке: «Частное землевладение. Охота запрещена». За сеткой — утопающие в зелени деревьев белые домики для семей воспитателей, и, отдельно, для отдыхающих детей. Эти помещения слегка напоминают казармы, только — с ванными комнатами, газовыми плитками, холодильниками и кондиционерами. Синагога, продовольственные склады и столовая с двумя кухнями (молочной и мясной), с тремя обеденными залами. Всё это мы чистим, моем, драим, подметаем до поздней ночи. «Шнель! Шнель!» — подгоняет сам Хаске и его многочисленные помощники. «Шнель! Шнель!» Ни присесть, ни передохнуть нельзя. 238 — Мы хотим есть, пить! — бунтует аномальная Галя. — Мы — не собаки! — Шнель! Шнель! Некогда. Завтра — заезд. Необходимо всё приготовить. — Да ну их к чертям! — говорят львовяне Саша и Олег. — Концлагерь какой-то! Мокрый, весь в жидкой глине москвич Павел убито смотрит на свои разодранные джинсы. — Он заставил меня заменить лопнувшую трубу под домиком, — говорит Павел, как бы не веря в то, что произошло. — Спецодежды не дал. Кто мне заплатит за джинсы?.. И тут появляется тот, о котором мы слышали ещё в офисе нанимателей рабсилы — абориген Толя. Он здесь второй срок, без перерыва. Зимой охранял пустовавший лагерь... Смуглый, сильный, в залихватски дырявой майке, с ожерельем из большущих булавок вокруг шеи, в высоких резиновых сапогах. Само олицетворение дикой свободы. — Ну что тут? Как? — забросали его вопросами новички. — Всяко! — широко улыбается Толя. — Только что негра обматерил. Ни хрена не понимает, скотина!.. И вдруг прячется за наши спины. — Хаске! — шепчет в панике он. — Не надо бы, чтоб он меня здесь видел! — И убегает, как перепуганный олень. — Всё понятно! — говорят львовяне Саша и Олег. — Мы уезжаем! — Я — тоже, — вытирает руки носовым платком москвич Павел. — А мы — нет! — говорю я приунывшим оставшимся. — Никакие унижения, никакая каторга нас испугать не должны. Помните, что нам нужны деньги. Только деньги. И мы их заработаем! — Мы избираем вас своим Спартаком! — радостно восклицает аномальная пенсионерка Галя. 1 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Шершавый Хаске нас разметал. Женщин отправил в девичий лагерь за пять километров отсюда, меня — в посудомойку, Колю — рабочим в мясную кухню. Прибыли дети. Одна тысяча человек... Работаем мы восемнадцать часов в сутки. Живём — втроём: я, Коля и абориген Толя. В домике, предназначенном для рабочих, в отдельной 239 комнате с холодильником и с вентилятором (переносным). Диабетик и подагрик Коля едва передвигает ноги. — Работаю на слезах, — жалуется он и глотает таблетки. — Не хрен было ехать сюда! — отвечает ему Толя. — Был председателем завкома, ну и оставался бы там! — Я пенсионер, — оправдывается Коля. — Ну и хрен с тобой! — говорит Толя. — Дай сюда твои сапоги! Толя вырезал для наших резиновых сапог мягкие стельки. Меня он почему-то называет батькой. — А вам, батьку, надо просить у Хаске второго посудомойщика, — советует мне Толя. — В прошлом году на вашем месте работали два пуэрториканца и то не справлялись... Загнётесь! 2 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Бывший председатель завкома Коля многого не может понять в жизни, в которой мы очутились. — Где это видано, — говорит он, — чтобы люди, работающие в общепите, да ещё с детьми, не проходили никакой медкомиссии? Ты ж посмотри, кого здесь только нет — и африканцы, и мексиканцы, и пуэрториканцы... А если кто-то болен сифилисом или какой другой заразной болезнью?! Ты проходил какую-то комиссию? — Нет. — И я не проходил... На что у нас сейчас дома бардак, а такого не увидишь даже в зачуханной забегаловке. 4 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Хаске — редкая сволочь. Тщедушный, в чёрной шляпе и в чёрной развевающейся свитке, он безжалостно настигает намеченную жертву в момент её минутного расслабления на рабочем месте и безапеляционно тычет пальцем в сторону выхода. — Бай! — говорит он спокойно, не опуская руки. — Байбай! (Пока-пока!) Хаске — мерзавец. «Одаривая» куревом отличившихся на работе пуэрториканцев, бразильцев, эквадорцев и мексиканцев, он швыряет пачки дешёвых сигарет на землю и с наслаждением наблюдает, как те расхватывают подачку. Он упивается своей властью и безнаказанностью. Хаске — профессионал. Он в совершенстве владеет техно240 логией приготовления всех блюд, до тонкостей знает оборудование и техническое оснащение лагеря... Хаске, похоже, не нравится болезненный вид Николая. Хаске на Колю постоянно и грубо орёт. Коля смиренно молчит. — Хорошо, что я ничего не понимаю, — радуется он. 5 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Сегодня слышал, как Коля на рабочем месте говорил во весь голос. Я выглянул из посудомойки. Заросший седой щетиной, в белом фартушке, Коля стоял на раздаче ужина в плотном оцеплении из членов семей воспитателей-хасидов, разводил в стороны руки и перепуганно кричал: — НиLма! НиLма! После смены, в нашей комнате, я его спросил: — Коля, на каком языке ты с ними общался? Если на украинском, то следовало говорить «нэмае, нэма», если на русском — «нету, нет», если на польском, то «нема». Лицо лежавшего пластом на кровати Николая собралось в смешливые морщины, рот раскрылся, и... Коля уснул. ...Утром видел, как молились перед завтраком хасиды. Повернувшись к стене, часто-часто кивали головами и раскачивались, что-то бормоча. Я опешил — так молился Шульц из моего первого американского сна. А я ведь до Америки ничего о хасидах не знал и, засыпая в студии-времянке, о их существовании не ведал. Как же всё это могло мне присниться? До мельчайшего жеста всё совпадает. 7 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Перед трапезой хасидские дети поют. Каждый день — новая песня. Их, песни, пишут отдыхающие здесь же старые хасиды — по-видимому, композиторы... Несколько минут песня, под руководством автора и с помощью подростка-солиста, разучивается. Потом её уверенно поют все вместе. Отдельные песни так прекрасны, а голоса многосотенного хора так чудны, что на мгновенье забываешь обо всем. — О чём они поют? — спросил я у Арона. — Благодарят Бога за ниспосланный хлеб. Толя в разбойничье-дырявой майке выходит из кухни в обеденный зал и тоже вдохновенно поёт. 241 — Эту песню я знаю! — говорит он. — Украинская. «Туман яром, туман долиною...». ...Получали первую недельную зарплату. Коля, склонившись над «чеком» с нехитрой закорючкой Хаске, вдруг сделал губы трубочкой и такую вывел собственную подпись, что аж стол задрожал. Натренированную, залихватскую, длинную, с завитушками и с хвостиками. Потом победоносно глянул на Хаске... Тот и глазом не моргнул. Коля сразу сник. Я посмотрел на сумму, проставленную на моей бумажке: 225. — Нет! — сказал я Хаске. — Нет! Я один работаю на две мойки. Нет! Через некоторое время ко мне в мойку вбежал Хаске и, воровато оглядываясь, написал авторучкой на внутренней стороне своей ладони: 325. И приложил палец к губам: — Тсс! Финиш сезон! Гуд? — Ты заплатишь в конце сезона из расчета 325 долларов в неделю? — спросил я. — Йес! Тсс! Расчёт! Финиш сезон! Гуд? — Гуд, — согласился я. Хаске похлопал меня по плечу. 8 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ — Вами Хаске очень доволен, — сказал мне Арон. — А вот Николай... Боюсь, как бы... — Если Хаске посмеет, — пригрозил я, — то я тоже уйду. Арон кивнул: — Думаю, что он не посмеет. Второго человека просить не будете? — Нет, — сказал я. — Пусть оставит Николая в покое. 10 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Три часа ночи. В пух и прах разбитый работой Коля не может уснуть. — Что за люди! — сетует он. — Что старые, что малые — всё одно. Из-за посуды дерутся, из-за еды дерутся. Всё им мало и мало, а всего хоть отбавляй... Я сегодня собственными руками выбросил в мусорный контейнер пятьдесят килограмм куриных ножек. Хаске показалось, что они чем-то пахнут. Нормальное мясо!.. А сколько жареного выбрасываешь ты! Детский садик можно легко прокормить. Арон говорит, что если б не был 242 евреем, то, глядя на хасидов, давно бы стал антисемитом. И что характерно — нас не видят в упор. Мы для них — неживые машины. Быдло. Рабочий скот... Видел, как сегодня во дворе Дэвид-проповедник детей лупцевал? А ведь родители за их отдых заплатили по тысяче долларов за каждого. Чтобы громила с бородой их, как котят, избивал? — Мы выдержим с тобой, Коля, — говорю я. — Мы всё переживем, мой родной. — Не знаю, не знаю, — задумчиво сомневается Коля. — Нe понимаю, как люди, пережившие за свою историю столько страданий, погромов... как они могут так по-зверски унижать других... Мне даже считают, сколько раз я в туалет ходил... 13 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ В какой-то миг все рабочие, обслуживающие лагерь, исчезли; попрятались по домикам и все хасиды. В молочную мойку влетел перепуганный Хаске. — Инспектор! — закричал он не своим голосом. — Инспектор! Оказалось, что место коллективного отдыха детей посетил санитарный инспектор, негр... Потом я видел смехотворный результат этого всеобъемлющего перепуга: стеллажи с посудой в мясной мойке были намертво оклеены прозрачной целлофановой пленкой так, словно мойкой никогда и не пользовались, а предназначена она исключительно для знакомства заинтересованных лиц с обеденной утварью ортодоксальных евреев конца XX столетия... Рабочих же Хаске разогнал, боясь, что инспектор потребует у них разрешение на право работы в Америке. — И что характерно, — заметил Коля, — они себя считают умнее нас. 15 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Толя получил долгожданный расчёт. И шесть суток отсутствовал. Сегодня под вечер, голодный, появился у меня, в мясной мойке. С жадностью набросился на оставшиеся на поддонах жареные куриные окорочка. Толя — в белой тенниске и в синей фуражке-бейсболке. — Где ты был? — спросил я. — В полиции. Сутки отсидел. 243 — За что? — Выпил банку пива в Манхэттене, перед полицейской машиной. — Зачем? — А хочу, чтоб меня депортировали. Не хочу тратить деньги на обратный билет. — Ну? — Эге! У них тут наручники снимают, как только переступишь порог полицейского участка! А какие параши!.. Не то, что у нас, — из нержавейки!.. Я стихи для жены сочинил. Почитать? — Почитай. — «Hi горiлки бiльше, нi скандала! Тiльки тебе я люблю, моя кохана!» — Толя загрустил. — Я ж перед ней, батьку, очень виноват. Я её топором порубал. — Ка-ак?! — Та не. Не очень сильно. Но порубал... Пришёл с бутылкой, сижу. А она — как пошла, как пошла!.. — Ты отсюда ей звонил? — Много раз. — Ну, и? — Всё спрашивает, не разлюбил ли я её. Она меня спрашивает, слышите? — А где же ты остальное время был? — Какое время? — Сутки — в полиции, а остальные пятеро? — А! Жил у пана Константина. Теперь поругался. Их сын — больной, дебильный человек. Взял и выбросил мой табак. Ну, родители, конечно, взяли сторону сына... Был суд. Русскоязычная адвокатша посоветовала, чтоб я признал вину. — Ну? — Эге! Тут суд не то что у нас! Присудили выплатить в мою пользу полтора доллара на метро. Они же не знали, что у меня в кармане — три тысячи зашито! Это — суд так суд! Всё — полюдски! 16 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Для рабочих в столовой — отдельный длинный стол. Его накрывают задолго до трапезы хасидских детей и их воспитателей. И этим пользуются взрослые хасиды из числа отдыхающих здесь семей воспитателей. Они врываются в столовую и, не обращая никакого знимания на сидящих за столом чёрных и бе244 лых парней, расхватывают разложенную на подносах еду, рассовывают её по кулькам и судкам и убегают. Потом являются на кухню за своей едой. — И что характерно, — замечает наблюдательный Коля. — Все мы — люди. 17 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Поздно ночью дозвонился до Лю Ви. — Я поменяла работу! — кричала она в трубку. — Селию забирали в госпиталь, после чего она засобиралась во Флориду, к дочке, и отказалась от моих услуг. Потом дочка ей отказала, но я уже нашла другую paботу — у старенькой Гасси. Ты почему мне не пишешь? — Потому что не сгибаются пальцы. Не удерживают ручку. — Боже мой! — воскликнула Лю Ви. — Боже мой! А я только-только вошла, вот только вошла, пришла из колледжа. Теперь я иногда ночую дома. Представляешь? Прогресс!.. Может, ты бросишь всё и приедешь? Над деревьями стояла огромная луна. В её свете чуть шевелились сочные листья. Оказалось, что на улице — лето. 18 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Хаске привёл в мойку, как на экскурсию, родителей, навестивших своих детей. Стоял, пыжился. В огромной беличьей шляпе, в чёрной свитке, в чёрных чулках. Покачивался с носков на пятки, с пяток — на носки. — Финиш сезон? — напомнил я ему. — Тсс! — просвистел Хаске. И показал мне большой палец... Потом пришли Арон и негр Бенни. Бенни — шофёр. Он возит обеды, приготовленные на нашей кухне, в девичий лагерь. Ходит Бенни, красиво приплясывая — Вам привет от Галины, Тамары и Кати, — сказал Арон и кивнул в сторону Бенни. Бенни расплылся в улыбке: — Йесс! Леди Галина, Кити, мисс Тамара. Привет! Потом тяжело прихромал Коля. — Не забыли! — сказал он растроганно. — Вот молодцы!.. И что характерно, мы же с ними почти незнакомы... Не разбежались. Значит, Галя вставит зубы и не напрасно страдает по дочкам. Не зря бедует и Тамара. 245 19 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Безымянная, но строгая старушка-повариха, хасидка, принесла в молочную мойку яблоко, почистила его большим ножом, разрезала наполовину. Одну половину протянула мне. Стояла и ждала, пока я не съел. Потом сказала: «Сенкью!» И съела свою половину... — Если б не разбежались наши ребята, — сказал Коля после работы, — меня б Хаске выгнал давно... Резали перцы сегодня. Я присел на ящик. Ка-ак он подлетит, ка-ак выбьет ящик изпод меня, как разбросает все перцы! Сидя работать нельзя. Жалко Колю, жалко. Но что я могу для него сделать? Ведь все эти почести по отношению ко мне — результат моей безупречной рабской работы. И только. Рабской! Вот в чём загвоздка. Я не могу, например, подойти к Хаске и через переводчика сказать: «Веди себя прилично, мистер». Не могу. Я, как и Коля, бесправен. 20 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ О, как хотелось присесть хоть на несколько минут! У меня развилась грыжа, целиком отвалился ноготь на большом пальце левой ноги, лопнули на икрах кровеносные сосуды; кололо в области сердца и мутилось в глазах. — Больше всего я боюсь, — признался я Николаю после работы, — что вдруг потеряю сознание, упаду и позорно обмочусь. — Не бойся, — успокоил меня мудрый Коля. — Ты же работаешь в воде. Обмочишься — никто не заметит. 25 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Ночью была оглушительная гроза с ливнем. Со всего лагеря, расположенного на взгорье, в просторныйдвор нанесло массу хлама. Низкорослый ласковый мексиканец Амиго, занятый уборкой, весь день копошится в грязи. Сам себе улыбается, чтото поёт. — Счастливый! — говорит Коля о нём. — Давно я не встречал счастливых людей. 246 26 ИЮЛЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Не приметив меня среди громоздившейся грязной посуды, в мойку вихрем ворвалась стайка рыскающих подростков-хасидов и набросилась на зернистый моющий порошок, что хранится в фанерном бочонке. Внешне жёлтый порошок напоминает концентрат для приготовления лимонного желе. Один из стайки налётчиков сунул в рот пригоршню порошка и вдруг увидел меня. Сомкнув жадный рот с раздувшимися щеками, удалился. Чинно, не спеша, напевая в нос что-то беспечное. ...В перерывах между переходом из одной мойки в другую, в основном между завтраком и обедом, меня стали приглашать на уборку домика матери Хаске (ещё одна почесть). В первый же день миссис Розенберг щедро налила для меня в фужер зеленоватого шнапса. — Нет! — качнул я головой. — У меня много работы. — Но? — удивилась старушка и не поверила собственным ушам. — Рашен? — Нет. Русский я. — Рус? — Русский! — О! — сказала миссис Розенберг. — О! — Йесс! Не рашен, не рус, а русский! — Ру-ски, — повторила миссис Розенберг. — Гуд! После двух посещений гостеприимной старушки я от уборки её домика отказался. Не было времени, не было сил. Недоумевающая старушка потрясала в воздухе пятидолларовой бумажкой и ничего не понимала. — Но? — вопрошала она недоверчиво. — Но! А среди ночи ко мне повадились хасиды с детьми на руках. Они забывали вовремя выключить в своих домиках электроприборы, к которым в пятницу, после восхода первой звезды, им по их вере прикасаться запрещалось. И я плёлся вслед за угодливо воркующим бородачом куда-нибудь к чёрту на кулички. Случалось, аж под самые под небеса... В домике глава многочисленного семейства снимал с головы беличью шляпу, потом — ермолку, которая находилась под шляпой, открывал холодильник, резко засовывал руку с ермолкой во внутрь аппарата, так же резко выдёргивал её из холодильника и, глядя на меня, по-детски улыбался. Пожимал пле247 чами и разводил руки в стороны, как бы говоря: «Выгнал чёрта. Что поделаешь, мы в это верим». И я отключал холодильник. На столе в стеклянных плошках горели свечи. Загадочно блестели в полумраке глаза отроковиц. Хасид брал из рук услужливой жены большую бутылку зелёного шнапса и хрустальный фужер. — Нет! — говорил я. — У меня — работа! Недоумевающий хасид выбегал следом за мной из домика, не выпуская из рук бутылки и фужера. — Шабас! — объяснял он. — Шабас! — Не могу, — отвечал я непреклонно. — Нет! — Рашен? — недоверчиво спрашивал хасид. — Нет, — отвечал я. — Русский! — О! — говорил хасид. — Вас из дас?.. Вскоре и старые, и малые хасиды называли меня «руски», будучи уверенными в том, что я принадлежу к какой-то совершенно неведомой им национальности, потому что рашен, не пьющий шнапса, конечно же не рашен. 6 АВГУСТА, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Хаске выгнал двух сильно пивших эквадорцев и вместо них принял трёх пьяных поляков. Сашку, Адама и Тадея. 12 АВГУСТА, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Несмотря на Хаскино «Тс-с!», рассказал Арону о нашей негласной сделке. — Верить ему или нет? — спросил я. — Вообще-то он человек слова, — ответил Арон. — А для чего такая таинственность? — Так принято. Здесь никто не знает о размерах зарплаты друг друга. Все во власти Хаске. Он может добавить, может урезать. Он — хозяин. 14 АВГУСТА, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ — Интересно, где теперь наш Толя? — спросил Николай. — Дома. — Дай Бог! А если бомжует? 248 14 АВГУСТА, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Я тоскую по душевному теплу и по уюту. Я мечтаю о доме, который, быть может, когда-то построю. В сельской местности. На Украине... Я смотрю на хасидских детей как на собственных. Как на родных. Они, похоже, не ведают ласки. Сегодня перекуривал на лавке во дворе. Поблизости, как цыплята, копошились в траве замурзанные, но хорошо одетые детишки. Годика по два, по два с половиной. Одну девчушку, с соской во рту, я поманил рукой. И она вдруг пошла ко мне, побежала. Я усадил её на колени, нежно-нежно обнял. Неподалёку бегала её встревоженная мать и, не подходя близко, кричала: — Хайке! Хайке! Нам с Хайке было на неё плевать. Мы с девчушкой смотрели на всё из окна моего сельского дома. 6 СЕНТЯБРЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Все хасиды уехали. 7 СЕНТЯБРЯ, КАСТКИЛЬСКИЕ ГОРЫ Уезжаю и я. Коля пока остаётся. Нужно привести в порядок опустевший лагерь. Коля с утра ушёл что-то скрести. Хаске выписал мне чек на 350 долларов. — А ещё тысяча? — спросил я и напомнил жестами его обещание заплатить мне в конце сезона из расчета 325 долларов в неделю. — Но, но, но! — замахал руками лживый Хаске и убежал. Я так растерялся, что, кажется, не попрощался с Колей... С Николаем Павловичем Новицким. 20 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Агентство «Лотос» трудоустраивает людей на позиции «помощник повара». — Я никогда не работал помощником повара, — говорю я. — Но это же лучше, чем посудомойщик, — возражает Лю Ви. — Что ты ухватился за посудомойщика? Хочешь здоровье угробить? — Не хочу... 249 Служащая «Лотоса» Элла взяла с нас двести долларов и сказала: — Если в течение одной недели вы не устроитесь, то деньги вам мы вернём, все до копейки. Так заведено у нас. И неделю я бегал по предложенным мне адресам. В русскую баню с богатой кухней, в рестораны «Приморский», «Чинар», «Парадайз», «Кабачок». То меня не устраивала мизерная зарплата, то не подходил хозяевам я. Хозяева увеселительных заведений Бруклина не верили, что я в их деле хоть на что-то гожусь. «У нас, к сожалению, не кино», — сказал мне хозяин «Чинара», не объяснив, что он имеет в виду. — Элла! — позвонил я в «Лотос». — Ничего не получилось. Я хочу зайти к вам и забрать деньги. — А на овощную базу вы не пошли бы? Там сейчас квасят капусту. — Хоть к чёрту в зубы, только бы платили не менее 250 долларов в неделю. — Перезвоните мне завтра... — Не получилось, — вздохнула Элла назавтра. — Тогда я иду к вам. — Сегодня вряд ли, — ответила Элла. — Шеф будет только завтра. Звоню завтра, звоню послезавтра, звоню неделю подряд... Наконец за дело берётся Лю Ви. — Я свяжусь со своим адвокатом! — пугает Лю Ви «Лотос». — Что это за безобразие!? Вы не держите данного слова! Сто долларов мне вернули. Остальные, сказали, вернут позже. Позже вернули ещё шестьдесят. Недовольный хозяин «Лотоса» Андрей пригрозил: — У меня тоже есть свои адвокаты! Мы ещё посмотрим, по какой визе вы здесь! — Ну, это, братец, ты брось, — сказал я. — С визой у меня всё в порядке. А вот если мы подадим на тебя в суд, то ты не только мне мои деньги вернёшь, но и за оскорбление личности заплатишь. А я за это дело запрошу тысяч десять, не меньше. Шеф «Лотоса» струсил: — Позвоните, пожалуйста, завтра! Удивительная вещь: я становлюсь наглецом и хамом. Это возможно стало только в Америке. 250 31 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК По другому объявлению другое агентство устроило меня посудомойщиком в ресторан «ROMANOFF». С четырёх часов сего дня я заступил на смену... до семи утра следующего дня. Я драю металлическими «мочалками» огромные кастрюли, сковородки, шампуры, противни; вручную чищу по шесть вёдер картошки, освобождаю от объедков тарелки и блюда, выношу по пятьдесят полиэтиленовых мешков пищевых отходов, мою плиты и полы огромного кухонного зала, принимаю тюки, мешки и ящики с товаром, разношу их по холодильным камерам. 3 НОЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Схлестнулся со старшим посудомойщиком здоровяком Юрой. Добрый, приветливый, ироничный, крепко пьющий Юра за время американских мытарств приспособился заискивать перед хозяевами и угодливо льстить чужому образу мыслей. И нарвался на меня. — Знаешь, что сказал Александр Матросов, падая грудью на амбразуру? — спросил он, блестя глазами в сторону «шефа». — Нет. — «Опять этот долбаный гололёд!» И упал. Я слышал, как у меня во рту заскрежетало. — Значит, вы уже и до наших мальчиков-героев добрались? — как можно спокойнее спросил я. Юра оторопел. — А ты кто? — спросил он. — Полковник Военно-воздушных сил Советского Союза в запасе. — Ов-ва! — охнул Юра. — То ж ты, конечно, коммунист? — подмигнул он окружающим. — Конечно, — ответил я. — А куда прячешь партбилет? В каблук какой туфли? — Это вы все прятались, — сказал я, сдерживая внутреннюю дрожь. — Зато теперь — как на ладони... Мой партийный билет, как всегда, в левом нагрудном кармане. У сердца. Юра сел. И т.д. 18 НОЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Выходя после работы из ресторана «Романов», мы часто ви251 дим красивую длинноногую негритянку. В расстёгнутом нараспашку пальто-макси, в белых туфлях на высоком каблуке, она, пружиня шаг, неторопливо прохаживается по линии, разделяющей сонную авеню на две половины. Загадочная, чарующая, манящая. Она так обворожительна, так одинока и так хороша... Мы не верим, что она проститутка. Нам не хочется, чтоб это было так. Поэтому мы делаем вид, что не замечаем её, и спешим поскорее разбежаться в разные стороны. Жора, Юра, я и молодые официанты... Сегодня в половине шестого шёл сильный дождь. И, пока мы застёгивали куртки и поднимали воротники, девушка подошла сама, и мы впервые услышали её голос. Точнее, музыку её нежного голоса. Высоко подняв зонт, решительно рассекая нашу стаю, загадочная девушка приблизилась ко мне. — Сигарэтте! Сигарэтте? — ласково заулыбалась она. Я порылся в кармане и протянул ей всю пачку. Продрогшая девушка отрицательно затрясла головой, вынула тонкими пальцами одну сигарету. — О! — радостно пропела она. — Кэмэл? О, Кэмэл! И, поджидая огня моей зажигалки, укрылась вместе со мной под зонтом. — Ов-ва! — ревниво сказал вдруг протрезвевший Юра. — Почему она подошла именно к тебе? А? — Потому что ты некурящий. — А как она узнала? Ты же тоже стоял, не курил! — Ну... это наша тайна. — Тайна? — обиделся Юра. — Да. Юра вмиг огрубел, разнуздался. — Ты что, спал с ней, а, полковник? Спал? — Нет, — ответил я, глядя на благодарную девушку. — Просто мы любим друг друга. Давно. 20 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК До 21 апреля старушку Гасси увезли во Флориду. Значит, Лю Ви теперь может полностью посвятить себя занятиям в колледже... Впервые за всё время пребывания в Америке я чувствую себя счастливым. Я — кормилец, глава семейства. Лю Ви будет замечательным программистом! 252 1998 ÃÎÄ 21 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Возвращаясь со смены в шесть утра, долго стоял, пережидая, пока пять лениво-сытых крыс перебегут авеню в районе 11-го Брайтона. Крыс и белок здесь тьма. Причём крысы похожи на белок своей пушистостью, а те на крыс — наглостью и прожорливостью... Какая-то американская старушка поймала в ловушку двух белок, перепотрошивших её подушки и перину. Старушку суд оштрафовал за недозволенное обращение с животными. На старушку донесли её соседи. 10 МАРТА, НЬЮ-ЙОРК Среди чёрного, не просыхающего от дождей асфальта расцвела черешня... Или вишня... Или слива. Напротив цветущего дерева, у винного магазина, сидит в инвалидной коляске, под огромным зонтом, старый толстый еврей из «наших». — Уже выпил четыреста грамм, — жалуется он. — Не берёт. — Не знаете, какой породы это дерево? — спрашиваю я. — Кто его знает?.. Пять лет не пахнет и плодов не даёт. 3 МАЯ, НЬЮ-ЙОРК С 1-го мая не работаю. Щемит грыжа, темнеет в глазах. Времени для наблюдений прибавилось. 10 МАЯ, НЬЮ-ЙОРК Безукоризненно профессиональны американские фильмы о природе и о животном мире. В них настолько велик эффект присутствия, что если на экране запечатлён летящий орел, то создаётся захватывающее дух впечатление, что в данный миг ты находишься на спине этой птицы; если бегущий бизон, то ты — на его рогах. А если хищный зверь преследует и затем терзает косулю, то ты испытываешь все гибельные ощущения несчастной жертвы (страх, безысходность, ужас, боль). И хочется кричать... от бессердечия создателей фильма. 253 26 МАЯ, НЬЮ-ЙОРК Миша Голер. Михаил Соломонович Голер. Некогда преуспевающий кинорежиссёр-документалист Молдавского телевидения, призёр многих всесоюзных кинофестивалей, умница, эрудит. Он привлёк моё внимание тем, что несколько раз заинтересованно взглянул в мою сторону, когда я поджидал на авеню Лю Ви, забежавшую в аптеку. Кругленький, пухленький, в бейсбольной кепке и в джинсах, он безуспешно что-то припоминал. Перехватив мой взгляд, он отвёл глаза в сторону. — Миша? — окликнул я его вопросом. — Да! — с готовностью откликнулся он. — Голер? — Да. Миша подошёл. Мы пожали друг другу руки. — Мир тесен, — сказал Миша, чтобы разговор не потух. — Тесен, — согласился я. — Давно здесь? — Семь лет. — О! Работаете? — Гидом. В экскурсионном агентстве. — Бог мой! — присвистнул я. — Да, — кивнул Миша. — Вначале пытался устроиться на русско-американское телевидение... Не взяли. Одновременно подошли Лю Ви и Мишина жена. Я представил Лю Ви Мишу. Он меня представить своей жене не смог. Похоже, забыл кто я. И немудрено. В те годы, лет двадцать тому назад, он был в фаворе, а я только начинал свой путь на телевидении и несколько раз представлял его новые фильмы в своей телепередаче «Встречи у киноэкрана». На прощанье Миша протянул мне свою визитную карточку: «MiKHAIL GOLER, TOUR GUIDE». Никогда-никогда-никогда Миша уже не снимет фильма о молдавских чудо-музыкантах. 1 ИЮНЯ, НЬЮ-ЙОРК Над улицей, по проводам, бежала белка. Никто не остановился, не сказал: «Смотрите, белка!» А может, люди здесь никогда не смотрят вверх. Или же привыкли ничему не удивляться. Или им на всё, кроме себя, наплевать... — Почему здесь нет сорок? — спрашиваю у хозяина фрук254 тово-овощной лавки Лёвы. Лёва подходит ближе, окидывает взглядом прилавки. — Чего нет? — спрашивает он. — Сорок. Лёва долгo смотрит на меня: — Вы говорите... сорок? — Да. Птиц. Белобоких сорок. Почему их в Америке нет? — А разве их здесь нету? — Нету. — Значит, нету. Зачем тогда и говорить? 24 ИЮНЯ, НЬЮ-ЙОРК Ночь. Шелестит кондиционер. Мигает красным глазом телефонный аппарат — днём женский голос на английском языке передал какое-то сообщение. Завтра, придя с работы, Лю Ви его прослушает... и либо обрадуется, либо огорчится. На рынке труда вот уже пять месяцев нет спроса на программистов. Разослав в четырнадцать фирм свои резюме, Лю Ви остаётся всё ещё невостребованной. Как и её подруга Леся, как и все Лесины подруги, все, кто окончил колледж в январе. 8 ИЮЛЯ, НЬЮ-ЙОРК На бордвоке обильно и пышно цветёт какой-то дикорастущий кустарник. Ночью, опьянённые медовым ароматом, мы с Лю Ви наломали веток с пушистыми метёлками белых соцветий, принесли домой, поставили в вазу... Приходила Сара, которая живет на Брайтоне уже двадцать лет: — Боже мой! Откуда такие шикарные цветы? Мы рассказали. — Не может быть! — не поверила Сара. — Они же пахнут! Это — не американские цветы! Нет, нет, нет! Не морочьте мне голову! Где вы их взяли? Всё живое здесь растёт на гормонах и химических добавках. Люди и скот от этого сильно жиреют, а цветы не пахнут и долго не стоят. Однажды я купил прекрасные на вид ромашки. Жёлтые и белые. Два букета. За ночь вода в вазах стала соответственно жёлтой, как хинин, и белой, как молоко. А ромашки завяли. Многие деревья и растения растут в бетонных кадках. Вся зелень, украшающая офисы, магазины, рестораны, залы ожидания 255 и т.д. — бутафорская, искусственная. Её не надо поливать. Она не требует ухода. И не нуждается в человеческой любви. 10 ИЮЛЯ, НЬЮ-ЙОРК На углу 11-го Брайтона, там, где я когда-то уступал дорогу крысам, открылся было ресторанчик под названием «Арагви». Помню, как глубокой ночью с 30 на 31 декабря его хозяева — муж и жена то и дело выбегали из украшенного гирляндами и ёлками уютного помещения на улицу, где стоял я, и со стороны любовались своим детищем. Женщина прижимала руки к груди, а счастливый мужчина то и дело похлопывал её по плечу. Теперь этого ресторанчика нет. Очевидно, прогорел, не выдержав конкуренции с другими. Теперь здесь новые хозяева проводят какие-то грандиозные строительные работы... А хозяин магазинов «Мясной привоз» и «Золотой ключик» — оборотистый, расторопный Петя из Одессы — открывает третий магазин под названием «Аркадия». Петя после восьми вечера снижает цены на все продукты на 15%. В его торговых заведениях — всегда толпа. Приезжают за покупками даже американцы из других районов города. ...У «Золотого ключика» человек-оркестр поёт «Лаванду». У ресторана «Приморский» другой человек-оркестр поёт «Рыбачку Соню». У кафе «Санкт-Петербург» пожилой аккордионист играет вальс «На сопках Маньчжурии». Перед каждым на тротуаре — раскрытый футляр инструмента, куда прохожие бросают мелочь. По Брайтон Бич авеню беспрестанно курсирует разукрашенный автофургончик мороженщика, привлекая к себе внимание звуками музыкальной шкатулки. Он останавливается перед любой заинтересованной полуобнажённой фигурой. Фигур таких — море. Они почему-то, блестя животами, вальяжно шляются по раскалённому асфальту, позабыв об океане. Им почему-то нравится здесь, а не на пляже. Они, наверно, все «наши». Им надо показать публике свои новые шорты. 3 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК В прошлом году сюда на постоянное жительство приехала любвеобильная Аринка. Хохотушка и симпатяга. Добрейшая душа. Её восторгам нет и не видно предела. 256 В первый же вечер она очаровала супера своего дома, и тот приподнёс ей букет из изумительных гвоздик. Потом она обнажённой купалась в океане. Потом её кто-то угощал аперитивом. Потом она с кем-то ездила в роскошный загородный дом. Потом она на улице познакомилась с красивым итальянцем. Потом она стала героиней телепередачи о любовниках и любовницах. Потом она покорила сердце нестарого профессора английской словесности. Потом из её квартиры украли все её драгоценности. Аринка смеётся: — Ерунда! — говорит она. — Это Америка меня испытывает! Она мне ещё всё вернёт. Мне от всей души жалко Аринку, но она серьёзно грозит мне пальцем: — Не смей обижать нашу страну (т.е. Америку)! 11 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Весь задушевный разговор «наших» людей вертится вокруг слова «хозяин». Хозяин пришёл, хозяин сказал, хозяин улыбнулся, хозяин похлопал по плечу, хозяин пожал руку. И столько благоговения, столько поклонения и трепета во всём этом, что порою думается: речь идёт о Боге... Ничего подобного. Речь идёт о владельцах магазинов, ресторанов, каких-то мастерских, агентств, где служит рассказчик... Дорогой Антон Павлович, расскажите про небо в алмазах! Сюжет. Уставшие от доли наши девчата. Кухня, чад, смрад, духота. Вдруг повар кричит: «Мистер такой-то пришёл обедать!» И все они, прихорашиваясь, с поваром во главе, бегут по крутой лестнице в кухонный предбанник ресторана, чтобы полюбоваться баловнем судьбы сквозь дверную щель... Мистер великолепен. Мистер щедр. Мистер очень красив. Только мистер не видит, не может видеть подглядывающих за ним лучших в мире девчат. Девчата от этого несчастны... Но несчастливее всех всё же та, которая через какое-то время выйдет замуж за повара. Повар ей этих смотрин не простит никогда. «А! Меня, значит, не видела, а под мистера сразу легла б!» и т.д. На всю жизнь. 257 12 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК — Здравствуйте! — говорю я в телефонную трубку. — Мне нужна Ганриетта. — Это я. А вы, наверно, Геннадий? — Да. Мне передали, что вы хотите со мной поговорить. — Это правда. — Слушаю вас. — Я выполняю поручение одного человека, — говорит Ганриетта. — Он — член российского правительства... Он просил меня найти автора его будущей книги. — Я вас не очень понимаю. — На самом деле всё просто, — говорит Ганриетта. — У него есть масса документов о современном положении России, о конкретных людях, но у него нет времени оформить этот материал в произведение. Мне сказали, что вы смогли бы это сделать. Это так? — Не уверен. Я ведь не документалист. — А мне сказали... Ему это необходимо сделать недели за три. Сроки до предела сжаты... Предыдущие кандидатуры ему не подошли. Он этим людям не верит. — А мне? — У вас хороший голос. Уверена, что ему нужны именно вы! — Надо подумать. — Думать некогда. Материал горящий. — И, похоже, разоблачительный? — Возможно. — Хорошо. Только в связи с тем, что меня здесь уже много раз обманывали, я прошу деньги вперёд. — Сколько? — Пятнадцать тысяч. Аванс. — О’кей! Я ему передам ваши условия. 17 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Как далеко всё идеальное от Брайтон Бич авеню, как много непонятного и чуждого здесь «нашим» людям! Немощные старики неслышно ропщут на отсутствие внимания в медицинских офисах и в приёмных покоях «скорой помощи», где встречи с врачом следует ждать по три-четыре часа. На засилие в медицине не знающих русского языка индусов. 258 Прибывшие на заработки родственники — на итальянскую мафию, поглотившую весь высокооплачиваемый мусороуборочный бизнес. «Наши» студенты, которые в Штатах котируются как самые способные, — на ещё более способных китайских студентов, которые «нашим» буквально дышут в затылок. Родители — на разгул школьной преступности. Женщины — на насильников, из-за которых страшно ездить даже в метро. Таксисты — на ночных грабителей... Но спроси каждого из вышеперечисленных, как ему живётся в США, и каждый непременно ответит: хо-ро-шо! Жизнерадостный косоглазый мясник Рома объясняет это так: — В Союзе я был рабочий, а здесь — раб Божий! — Не знаю, кем ты был в Союзе, — ворчу я, — но здесь ты раб хозяйский. Бессловесный и бесправный. При чём здесь Бог? Рома некоторое время безуспешно пытается сфокусировать на мне своё разбегающееся зрение. — Тоже правда, — соглашается он наконец. — И что? да пошли вы все... холуи! 19 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Неиссякаемы потоки писем с предложениями хорошей работы на дому. Сиди, например, на диване и клей конверты. Или мастери нехитрые шкатулки. Или сортируй почту. И получай, на здоровье, 800 долларов в неделю. Но прежде, правда, чтоб внесли тебя в список претендентов, вышли, пожалуйста, благодетелям 30–40 долларов. Всего-то. И все дела. Ты только вышли. Мани-ордером или чеком. Пожалуйста! И кукарекай до Второго Пришествия, дурак. Можно разбогатеть и по-другому. Можно за большие деньги читать вслух книги для престарелых и больных соотечественников. Изъявившему желание необходимо только снять трубку и позвонить по указанному номеру. Для получения интересующей информации, естественно. Минута разговора — 2 доллара 99 центов. Послушал десять минут автоответчик, и довольно. Завтра получишь счёт на 29 долларов 90 центов. Хочешь получить более расширенную доходчивую информацию — получай (нажми цифру 2), никто тебя не осудит. Потому что там знают, с кем имеют дело... 259 21 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Жарко. Из окна моего сельского дома мне видятся арбузы и дыни у невысокого плетня. Начали синеть сливы... Конечно, хорошо, что всё корыстолюбивое, легковесное добровольно покинуло нашу землю, что разбрелось, разъехалось по заграницам. Но было бы лучше лучшего, если бы на чистом месте у нас произросло нечто новое. А если не произрастёт?.. Тогда всё повторится сначала. Всё, всё, всё! От самого сотворения мира. 22 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Самая ходовая и самая популярная фраза наших эмигрантов: «На родине хорошо, а дома лучше». Многие на меня смотрят с жалостью. — Там ужасно, ужасно, ужасно! — внушают они мне. — Там — безработица, разгул преступности и голод! — Но там — мой дом, в котором «лучше», — отвечаю я. — И Родина, где «хорошо». 23 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК — Нам нельзя расставаться, — говорит Лю Ви и смотрит на меня. — Нельзя! — Мы и не будем, — отвечаю я. — Вот устроишь всех своих и приедешь ко мне. Лю Ви переводит взгляд на чашку с кофе. — Я должна сделать тебе все документы, — говорит она. — Зачем? — Чтобы ты мог сюда летать. — Сюда летать я больше не буду. — А как же я? — Прилетишь ко мне. Лю Ви опускает чашку на блюдце. — В селе я жить не смогу, — говорит она. — Почему? — Ну... не смогу, и всё. — Но я же смог. — Что? — Я же смог жить в Америке ради тебя. Лю Ви опять берётся за чашку с кофе. 260 — Ради нас, — уточняет она. — Пусть так. Но ведь смог? Почему же ты ради нас не сможешь? — Нам нельзя расставаться! — говорит Лю Ви и смотрит на меня. — Мы и не будем, — отвечаю я. 27 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Хозяева шикарного ресторана «Романов», кажется, разорились. Здесь идёт полным ходом ремонт, и на мраморном фронтоне здания появилась новая вывеска — «Император». А мне всё чудится пискливый бабий голос разнузданного стервеца-менеджера: — Почему, педерасты, стоите?! Давайте, давайте! Почему Жора сел? Всех уволю! Всех, всех, всех! Где теперь этот хам на крови? Кто орёт на него? ...Библиотека почти пуста — ещё лето. На стеллажах в девственном порядке стоят ряды произведений Аксёнова, Волкогонова, Есина, Розанова, Тополя. Их почему-то никто не тревожит ни летом, ни зимой. Нет, как всегда, Бунина, Чехова и Довлатова. На этих ребят во все времена года ведётся настоящая охота. Спит за читальным столом старик-негр. Громко переговаривается «наша» седовласая пара. Охранник-сикюрити в форме полицейского периодически обходит зал... 29 АВГУСТА, НЬЮ-ЙОРК Скоро ночь. Кто-то из новых жильцов привёз пианино и теперь пытается сыграть вальс Шопена № 7. Новый жилец, похоже, стар. Или же очень давно не виделся со своим инструментом. Вальс, ковыляя, то и дело спотыкается и вот-вот упадёт... Вообще же его надо играть в тихий дождь или осенью, когда падают листья. И не здесь. Город лживых дельцов — не место для исповедальных откровений трагически-печального поляка. А может, это играет ребёнок. 6 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК В начале декабря прошлого года мы получили на имя Лю Ви большой красочный конверт из крупнейшего в США издатель261 ства American Famili Publishers с оттиском фотографии его владельцев — Эда Мак-Махона и Дика Кларка. Оба они нам открыто и хорошо улыбались. «Готовы ли вы стать богатыми?» — спрашивали они в своём письме. И объясняли, в чём дело. Они, Эд и Дик, понимая все трудности нашего положения, предлагали нам одиннадцать миллионов семьдесят пять тысяч долларов. При виде этой цифры я пал духом. Я решил, что эти два стареющих весельчака-миллиардера таким образом хотят отбить у меня Лю Ви (слухи о её красоте давно уже бегают по НьюЙорку). А тут ещё и сама Лю Ви как-то подозрительно вдруг растерялась. — Господи! — сказала она упавшим голосом. — Зачем они это делают? Но потом выяснилось, что всё не совсем так. Потом выяснилось, что Лю Ви может выиграть эту баснословную сумму денег, если подпишется на два любых из сотни предлагаемых журнала. А 31 января 1998 года будет разыграна лотерея, и тогда в дневном телешоу канала NBC объявят имена победителей. — Да ну их к чёрту! — успокоилась Лю Ви, когда перевела весь текст письма на русский язык (для меня). — Обычная американская история. Обман. Но я уже по-другому смотрел на лица улыбчивых джентльменов. Лицо Эда на оттиске находилось слева, Дика — справа. Седовласый Эд был в очках и казался значительно крупнее Дика. Оба — в чёрных пиджаках, в белоснежных рубахах и при «бабочках». Оба — владельцы крупнейшего в США издательства (известный во всём мире «Плейбой» — тоже их журнал)... Под печатным текстом письма стояли их собственноручные подписи. — Нет, — сказал я. — Обманом здесь и не пахнет. В любом случае два журнала ты получишь. Если подпишешься на них. — Не подпишусь! — сказала решительно Лю Ви. — Из принципа не подпишусь! Хотят за наш счёт разбогатеть ещё больше! Знаешь, сколько денег они получат за эту аферу? Смотри: такие письма разосланы 150 миллионам человек. Подписка на два самых дешёвых журнала стоит 20 долларов. Умножь 150 миллионов на 20! Я умножил... и мы подписались. А 31 января 1998 года, когда должны были объявить по ТВ имена победителей, я работал и не мог видеть выступлений по ранее указанному каналу многочисленных участников лотереи. 262 — Они были возмущены до крайности, — рассказывала Лю Ви. — Оказывается, ни о какой лотерее на ТВ никто ничего не знал! А сразу же после 31 января мы получили ещё одно письмо от Эда и Дика, в котором, помимо предложения подписаться на другие два журнала, сообщалось о новых сроках подведения итогов — 31 января 1999 года, что произошло недоразумение и что выплата особо крупного выигрыша будет производиться чеком в продолжении тридцати лет, по 366 тысяч ежегодно. Плюс, как приз, — автомобиль. Лю Ви опять взбунтовалась, но я её опять уговорил... За минувшие девять месяцев подписывались мы уже семь раз, и, согласно присланным нам ордерам и квитанциям, на сегодняшний день, кроме 11 миллионов долларов выигрыша, мы можем иметь три призовых автомобиля — чёрный «кадиллак Катера», красный «кадиллак Севилья», белоснежный «Ягуар» и сто тысяч долларов наличными (кеш). Сегодня мы подписались ещё на два журнала... 8 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК — Вот же наглецы! — говорит Лю Ви и вертит в руках бандероль от Эда и Дика. — Теперь они от нас не отстанут. Бандероль содержит в себе две красочно изданные книги с названиями, аналогичными названиям двух журналов, выписанных нами недели три тому назад, и письмо с оттиском фотографии улыбающихся двух наших знакомых. В письме ненавязчиво предлагается доплатить к стоимости журналов 5.95. Тогда мы становимся владельцами присланных книг и, в случае победы в лотерее, — владельцами ещё одного автомобиля — белоснежного двухместного «форда Мустанг» с открытым верхом или 25 тысяч долларов наличными. Как захотим... 9 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Уходя в три часа на интервью, Лю Ви сказала: — Говорят, что американцы ценят в ответах претендентов шутку и юмор. Придумай ответ на такой вопрос: «Как вы реагируете на прессинг со стороны коллектива или руководства компании?». — Как золото, — ответил я. — Меняю форму, но неизменна в блеске. 263 ...На Штаты надвигается новый разрушительный ураган «Френсис». Билл Клинтон, признавший свою сексуальную связь с Моникой Левински действительной, имеет жалкий вид. «Сейчас я испытываю самые трудные дни своей жизни», — говорит он... Американскими медиками проведено исследование состояния здоровья детей местных женщин и эмигранток. «Наши» женщины и дети оказались гораздо здоровее «аборигенов», что привело исследователей в недоумение и замешательство. «Всем известно, что жизнь в бывшем Советском Союзе не могла не отразиться на нашем здоровье» — этими словами начинается вся медицинская реклама на русско-американском телевидении... Лю Ви успешно прошла техническое интервью в Манхэттене, в компании по трудоустройству. Теперь будет ждать собеседования с хозяевами-покупателями. Ей должны перезвонить. «В прошлую субботу в вагоне метро в половине двенадцатого ночи неизвестный, пользуясь тем, что поблизости никого не оказалось, ограбил и изнасиловал молодую женщину. Поезд следовал по линии «О» из Бруклина в Квинс; кондуктора, обычно находящегося где-то в одном из центральных вагонов, не было». 14 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Со времени пронёсшегося урагана прошло семь дней, а вывернутые с корнями деревья и обломанные ветки всё ещё валяются на чистеньких улицах и тротуарах. Причина этому — предельно узкая специализация работников американского коммунхоза. Человек или подметает улицу, или пакует мусор в полиэтиленовые мешки, или грузит эти мешки в машину по сбору мусора, или увозит их туда, куда положено увозить. Уборка же упавших деревьев в обязанности мусорщиков не входит... 24 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Неунывающие Эд Мак-Махон и Дик Кларк прислали очередное письмо, в котором подтверждают возможность нашей победы в лотерее. 25 СЕНТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК От рака желудка умирает Алекс — бог, гном, великан и смертный человек. Более недели врачи госпиталя держат его в бес264 сознательном состоянии с незашитой раной под прозрачной плёнкой. Все, зная о его будущем, пополняют свои знания в деле борьбы с болезнью века. Уля, приходя навестить его, утыканного датчиками и трубками, боится нарушить систему наблюдений и целует Алексу ноги. — Он скоро умрёт, — говорит Уля. — Ногти на ногах посинели. «В Филадельфии санитарная служба обнаружила высокий уровень содержания радия в питьевой воде, сообщает “Детройт Ньюз”. Врачи забили тревогу после того, как были получены результаты анализов воды. Учёные обнаружили в ней радия в несколько раз больше допустимой нормы. Сам же элемент является очень опасным и может вызывать даже образование раковых опухолей в организме человека. Врачи настоятельно рекомендуют местным жителям не пользоваться водопроводной водой при готовке и покупать в магазинах питьевую воду, только не местного производства». ...А я всеми мыслями уношусь в моё, ещё неведомое мне, село. Любуюсь жёлтыми листьями сада, беседую с приблудными котёнком и щенком, высаживаю саженцы новых деревьев. Сегодня купил на базаре абрикоску и две вишенки. «В продолжающемся сексуальном скандале с президентом Клинтоном почему-то забыли о его обманутой супруге. А ей сейчас ой как несладко... Как она переносит события последних недель? На людях Хиллари держится уверенно, всё ещё сохраняя хорошую мину при плохой игре. По возможности старается публично поддержать проштрафившегося Билла. Но одному Богу известно, каких усилий ей это стоит. Как сообщил американскому таблоиду “Нэшнл Ин-куайрер” источник из Белого дома, брак Хиллари и Билла того и гляди развалится окончательно. Как только закончится президентство Клинтона, жена, скорее всего, уйдёт от него. Тот же источник поведал о том, что когда Хиллари узнала из доклада прокурора Старра все подробности отношений её муженька и Моники, она устроила скандал прямо в спальне Белого дома. Мягких выражений Хиллари не выбирала: “Как ты посмел держать меня за второсортную жену, а за этой (Моникой) ухаживать по высшему разряду? Как ты мог дарить любовь, предназначавшуюся мне, ей? Вон из моей спальни и не смей в неё возвращаться!” 265 ...С супругой президента едва не случилась истерика, когда она узнала из доклада Старра, что Билл называл Монику “дорогая”, “сладенькая моя”. Она-то таких слов не слышала от мужа уже очень давно...». ...В 1995 году один симпатичный американец попал в автокатастрофу и с тех пор находился в госпитале в бессознательном состоянии. Сегодня по ходатайству жены ему отключили подачу воздуха. 4 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК В час дня умер Улин Алекс. «Читая “Унесённые ветром”, я не переставала восторгаться несгибаемой Скарлетт, — сказала по телефону Уля. — Теперь мне самой придётся в третий раз всё начинать сначала». Похороны шестого, в одиннадцать утра. Прощание по адресу: 1895 Фладбуш авеню, похоронный дом «Морис». Как туда добираться, Уля не знает. — Господи Боже мой! — восклицает потрясённая Леночкабиблиотекарь. — Да почему же в Америке остаётся жить одна шушера? Она тоже не знает, как добраться до похоронного дома. Она и Алекса не знала. Она просто по-человечески солидарна, потому что её сожитель — симпатичный и добрый, казалось, человек — оставил её с тринадцатилетним сыном и уехал в поисках чего-то в Северную Каролину. — Он — не добрый, — говорит Леночка. — Нет, нет! Он ищет женщину с деньгами, которая помогла бы ему стать на ноги. «Чернокожий нью-йоркский полицейский Джозеф Макколам в среду ранним утром тяжело ранил в Янкерсе 24-летнего белого Сина Келли. С пулевым ранением в живот Келли был доставлен в больницу. Пока коп даже не отстранён от несения служебных обязанностей, поскольку анализы крови не выявили следов алкоголя и наркотиков, а сам он заявляет, что был вынужден обороняться. По словам Макколами, он запарковал машину, когда к нему подошёл человек и, выкрикивая расовые оскорбления, стал гнать его прочь из микрорайона. Полицейский утверждает, что бежал 266 от Келли метров тридцать, затем, защищая собственную жизнь, вынужден был произвести два выстрела. Расовый мотив стал ныне очень популярен. Однако все, кто знают пострадавшего, не верят в правдивость версии полицейского. Келли всегда прекрасно уживался со всеми — белыми, чёрными, испанцами». 5 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Сегодня от весёлых старичков Эда и Дика получили ещё один конверт. Они просят избрать цвет автомобиля «кадиллак Севилья», который может нам достаться в качестве приза... и подписаться ещё на два журнала. — Хватит! — решительно сказала Лю Ви. — Всё! Довольно! Потом я её спросил, какой из предлагаемых цветов она предпочитает: коричневый, зелёный или песочный. — Песочный! — ответила она. ...Было четыре звонка из «контор» по трудоустройству, в которые Лю Ви отправила свои резюме. Все четыре компании приглашают Лю Ви на интервью. Она и радуется, и боится. Очень часто ей хочется плакать. ...С завидной лёгкостью и простотой Америка решает у себя языковую проблему. Не знаешь государственного языка — рабствуй за гроши у своих соотечественников-эмигрантов, знаешь — получай работу более достойную у коренных американцев. Никаких призывов, никаких угроз и злобы. Хочешь — живи, не хочешь — умирай. Поэтому иммигрантские дети даже в своих играх предпочитают говорить друг с другом только по-английски. 8 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК «Я прихожу с работы и в два, и в четыре часа ночи, — жалуется научный сотрудник Ирина Л. в журнале “От и До”. — Устаю ужасно. А утром снова на работу. Естественно, для женщины раздумья “что надеть” давно потеряли всякий смысл: все одеваются по американским стандартам — “унисекс” — в джинсах или линялых брюках, в вытянутых майках и свитерах, чистых, но неопределённого цвета. Если я оденусь так, как одевалась в Москве, конечно, никто слова не скажет, но выглядеть я буду нелепо... Времени нет ни для знакомств, ни для развлечений, ни для того, чтобы заняться собой... Когда сбылась моя мечта и 267 я приехала в Америку, мне стало ясно, что здесь никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Все боятся потерять работу... Америка — прекрасная страна. Она даёт возможность всем, кто работает, жить достойно... Но, как бы то ни было, рано или поздно перед многими встаёт вопрос — что это за жизнь, которая состоит из нескончаемой гонки, когда тебя подстёгивает страх лишиться работы... За несколько лет у меня практически не было ни одного выходного, когда бы я не приходила в лабораторию. Каждая моя новая статья приносит мне радость. И я никогда не признаюсь, что я боюсь... Я не могу себе позволить расслабиться даже на короткий срок, иначе, потеряв работу, я потеряю возможность нормально жить... Жаль, что общество, которое мы совсем недавно идеализировали, так далеко от совершенства. Может быть, мечтая о недосягаемой справедливой Америке, мы были счастливее, а?» Эд и Кларк прислали очередное письмо... «Лео! Я программист. Много работаю. За день очень устаю, когда возвращаюсь домой, только и могу уткнуться в телевизор, а затем отключиться и уснуть. В выходные тоже стараюсь немного отоспаться, так как в будни очень рано встаю. Да и дела кое-какие домашние надо сделать. А вот уделять внимание жене, детям ни времени, ни сил уже не остаётся. Давно уже никуда вместе не выбирались. Даже просто поговорить редко удаётся. Родители тоже обижаются. Давно у них не был. Только иногда позвоню — спрошу о здоровье. Уж не говорю о приятелях. Они и вовсе потеряли надежду со мной встречаться. Вот так и живу. Напряжённо, хотя и зажиточно. Но при этом меня постоянно мучает чувство вины. Вины перед близкими, что не уделяю им внимания. Всё время пилю, грызу себя. Но ведь ничего не могу изменить. От этого становится ещё хуже. Как же избавиться от этого неприятного чувства? Семён, 49 лет. Дорогой Семён! Легче всего было бы посоветовать Вам умерить нагрузку на работе, больше отдыхать, бывать чаще на природе. Но понимаю, что не всегда это оказывается возможным. Тем не менее серьёзно задумайтесь о необходимости всего этого для Вашего здоровья. А пока давайте подумаем о том, как хотя бы приглушить Ваше обострённое чувство вины. Для этого надо попытаться 268 проанализировать его. Постоянное чувство вины чаще всего — это своеобразный вид самозащиты, прикрытие для заниженной самооценки. Человек кажется себе недостойным, эгоистичным, невнимательным или недоброжелательным по отношению к окружающим, и это порождает в нём чувство вины. Что бы ни послужило поводом: неудовлетворённость собой, отношения с близкими, как идут дела в бизнесе — всё это вызвано заниженной самооценкой. Итак, чтобы избавиться от чувства вины, необходимо пересмотреть отношение к самому себе, попытаться повысить собственную самооценку. А для этого необходимо учиться прощать себя. Неужели Вы не простите того, кто искренне сожалеет о содеянном? Тогда почему не попытаться простить самого себя? Только познав прощение, в том числе и самого себя, можно обрести достаточно уверенности и мужества и по-новому с “очищенной” душой относиться к себе и окружающим. Лео Леей, психолог». 11 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Лю Ви работает у американской старушки Гасси вместе с прелестной женщиной — кандидатом наук из Москвы — Ниночкой. Лю Ви работает в пятницу, субботу и воскресенье, а Ниночка во все остальные дни недели. Она, Ниночка, старшая, т.к. работает у Гасси уже три года. Бережливая и расчётливая, Ниночка за это время смогла скопить 50 тысяч долларов и приобрела реального претендента на свою руку и сердце — интеллигентного миллионера, бывшего журналиста, ныне пенсионера Н., который жаждет с ней соединиться. Ниночка его не любит, но ей с ним уютно. Одно время Ниночка хотела дать ему отказ и пойти учиться на программиста, но её отговорили, сказав, что программист — профессия очень сложная, требующая большого напряжения ума, съедающая всё свободное время. И расчётливая Ниночка заколебалась. Тем более, что испугавшийся потерять её миллионер Н. предложил ей открыть собственный бизнес, который он полностью оплатит. Кажется, Ниночка уже согласна. И тащит у старушки Гасси всё, что попадается под руку, — стиральные порошки, зубную пасту, шампуни, продукты. И уверена, что Лю Ви делает то же... Я не желаю Ниночке счастья. Я хочу, чтобы жизнь её наказала. — Ничего у неё в этой жизни не будет, — говорю я плачущей Лю Ви. — Ничего! 269 — Господи! — всхлипывает Лю Ви. — Что такое ты говоришь? Только такие всегда всего и добиваются. Она уже добилась! — Ничего у неё в этой жизни не будет! — повторяю я и опускаю телефонную трубку. Лю Ви звонила от Гасси. 13 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Всё утро в нашей квартире звучит английская речь. Филл из Олбани просит Лю Ви обязательно позвонить ему в течение дня, т.к. для неё имеется свободная позиция (вакансия), Кейсбенгер из Нью-Йорка просит его извинить за вчерашнее отсутствие по случаю Дня открытия Америки и тоже ждёт её звонка. Их голоса записаны на мэсэдж, и Лю Ви прослушивает запись по несколько раз. Её беспокоит, что Филл ни слова не сказал о Лесе. Почему он ей не звонил? Наконец, переговорив с ним, Лю Ви звонит Лесе: — Лесенька, привет! Ты причёску сделала?.. Оказывается Филл тебе не звонит, потому что в твоём резюме отсутствует вторая страница, потерялась... А какой силуэт?.. Мужу понравилось?.. Короче, ты должна в срочном порядке выслать по факсу свое резюме. Конечно! Конечно!.. Нет, тебе подойдёт золотистый. Нет, тёмный цвет тебе не к лицу... О чём ты говоришь! Разумеется! Будем работать в Олбани!.. А какой длины стрижка?.. Ну что ты! Плащ шикарный! Очень богатый!.. Я у него спросила, сможем ли мы работать вместе. Он говорит: конечно. Тьфу! Тьфу! Тьфу!.. Я не смогла рассмотреть. У нас слишком темно в квартире. Нет! Нет. Скорее, малиновый. А подкладка!!! Ты читала? Там же 100% шерсти!.. А чего ты боишься? Скажи, что Лю Ви мне передала. Он же знает, что мы хотим вместе работать... Лесенька, слушай меня внимательно! Гена говорит, что плащ вообще королевский. Да. Потом перезвони мне. Нет. Кейсбенгера опять не оказалось на месте. Я им обоим ещё буду звонить... Ну пока! Пока!.. Да, Лесенька! Ну как сынуля? Хорошо? А мы так и не отправили свои резюме в Вашингтон. Мы должны что-то делать, я чувствую... Какой ужас! Боже мой! ...Из вечерних новостей узнали, что крупнейшая компьютерная компания Мэрил-Линч сократила 3,5 тысячи программистов. Сокращения специалистов профессии Лю Ви ожидаются и в других компаниях. Рассчитывать Лю Ви и Лесе почти не на что. 270 «Учёные Аризонского университета на протяжении полугода приходили в гости к 15 семействам городка Тусон, чтобы обследовать их жилища на предмет наличия в них бактерий. В результате самым чистым предметом в домах американцев оказался... унитаз. Его поверхность даже до обработки дезинфицирующими средствами была почти не заселена отвратительными мелкими существами, вызывающими болезни. Другое дело святая святых каждой хозяйки — кухня. Все они оказались буквально кишащими вредоносными бактериями. На разделочной доске их проживает примерно 50 тысяч штук, а в губке для мытья посуды — миллион. — Мы пока сами не понимаем, почему так происходит, — сказал руководитель научной группы Пэт Рузин. — Возможно, всё дело в том, что унитаз, как правило, снаружи всегда сухой, а влажная, тёплая и изобилующая органическими соединениями кухня служит идеальной средой для размножения микроорганизмов. Среди бактерий, найденных на кухнях чистоплотных жителей Аризоны, обнаружены и сальмонелла, и кишечная палочка. Поэтому, для того чтобы чувствовать себя в собственном доме в безопасности, учёные рекомендуют каждый день обрабатывать все кухонные поверхности дезинфицирующим раствором». 14 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Тяжко, так тяжко моей дорогой Лю Ви. Но вот приходила овдовевшая Уля. Сидели, пили чай. Говоря о перспективах и возможностях американской жизни, обе разрумянились, развеселились. Похоже, что ничем другим их вовек уже не соблазнить. 16 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Лю Ви на грани нервного срыва. Когда я позвонил ей на работу и дал послушать запись сообщения из компании, где она вчера с Лесей проходила интервью, то долго не мог дождаться её ответа. — Что случилось? — спросил я, услышав наконец её голос. — Не знаю, — ответила Лю Ви. — У меня, кажется, выпала из рук трубка... Не помню. — Что сказали тебе? 271 — А? — Что передала тебе эта женщина? — Женщина?.. Сейчас... Она сказала, что интервью я прошла успешно. Попросила перезвонить в понедельник... Принеси мне, пожалуйста, валерьянку. «Миссис Бебе Даниэльсон из Кливленда со слезами на глазах поясняла судье, что в жестоком обращении с ней муж достиг высочайших вершин изобретательности. Зная, что она обожает детективы, он похищал только что начатые ею книги и странице эдак на 20-й писал имя преступника. Суд удовлетворил просьбу женщины расторгнуть брак в связи с вышеизложенным и дал развод “по причине особенно утончённо-жестоких истязаний мужа”». 19 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Украинка Лида работает бебиситером (уход за детьми). Она умолила своего мужа-еврея переселиться в Америку. И, будучи женщиной без предрассудков, каковой и следует быть истинной американке, разрешила общей дочери восемнадцати лет легально сожительствовать с двадцатилетним пареньком. Дочь и паренёк спали в первой, проходной комнате квартиры, Лида с мужем — во второй, непроходной. Паренёк был очень порядочный и хороший. А муж-еврей вдруг запил и даже ушёл к другой женщине. Потому что был несовременный, почти советский, плохой. Недавно ночью его убили бомжи. Дочь Лиды стала сожительствовать с другим пареньком. Этот был хуже первого. И Лиде всё надоело. Дочке и её новому пареньку она предложила съехать со своей квартиры, а в освободившуюся комнату впустила квартиранта, мужчину из Канады. Очень приличного. Сегодня Лида позвонила Лю Ви. — Я, кажется, влюблена, — светским голосом поведала она. — Как мне быть? Я люблю его как мужчину! Я Лиду видел как-то. Ничего баба... была б, если б не носила американские шорты, из которых торчат её упитанные синие ноги. 22 ОКТЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Свистят осенние скворцы. К Ване из Кицманя, работающему мясником в русском ма272 газине, обратилась вежливая негритянка. Она хотела что-то купить. — Говорите, пожалуйста, по-русски, — ответил Ваня, не знающий английского. Очередь, состоявшая из «наших», громко рассмеялась. Симпатичная чёрная женщина чуть не провалилась сквозь землю. Выскочила из магазина, так ничего и не купив. А могла бы купить. Если бы хоть кто-то из «наших» перевёл её вопрос Ване на русский язык. Никто не перевёл. Не пожелали. А ведь все знают английский. «На днях в Нью-Йорке вновь отличились иммигранты из бывшего СССР. Да как! Когда 28-летняя Мария Жаркаускас сняла квартиру в бруклинском районе Бенсонхерст на Бей-парк-вей, хозяева — супруги Марина и Марат Имасы — потребовали оставить им в залог российский паспорт жилички. Когда же в минувшую субботу она решила съехать и известила об этом лендлордов (домовладельцев — Г. Р.), те назначили ей встречу. Мария приехала после полудня, вернула ключи и попросила отдать ей документ. На что “крутые” 34-летние супруги ответили требованием заплатить за паспорт выкуп — 7–10 тысяч долларов. У женщины, которая долгое время не могла найти работу, такой суммы не было, о чем она весьма вразумительно поведала Имасам. Но жадность, видимо, окончательно помутила разум четы. Марию усадили в машину, связали и отвезли на Стейтен Айленд. Здесь, на Детройт авеню, у Имасов собственный дом. Они отвели пленницу в гараж и приковали наручниками. После чего сами уехали — то ли по делам, то ли развлекаться: то был, напомним, субботний вечер. Каким чудом удалось Марии высвободиться и бежать на улицу — остаётся только гадать. Известно лишь, что в наручниках она спряталась в кустах. Здесь её и обнаружил один из сердобольных соседей, тотчас позвонивший в полицию. В понедельник похитители уже предстали перед судом». 26 НОЯБРЯ, НЬЮ-ЙОРК День Благодарения. Дождь. Мы стоим на автобусной остановке. Я, Лю Ви, девушка-испанка, седеющий мужчина средних лет и старая женщина. Мокрые улицы почти пусты. 273 — Молодцы американцы! — восторженно говорит седеющий мужчина. — Слышали вчера в новостях? Тридцать восемь миллионов на своих машинах уехали на отдых. В аэропортах — очереди. Умеют жить, не то что наши. — У нас тоже были праздники, — отвечает Лю Ви. — Майские, октябрьские, Новый год. Выезжали на природу. Грибы собирали, ягоды, цветы. В лыжные походы ходили. Разве нет? Седеющий мужчина поглядывает на девушку-испанку. — Да, да, — осторожно соглашается он. — А отпуска?! — подхватывает старая женщина. — А дома отдыха?.. За двенадцать рублей я ежегодно отдыхала по четырнадцать дней. Не как здесь — одна неделя отпуска, и всё... Друг к другу ходили, песни пели! — Да боже мой! — прорывает и седеющего мужчину. — Казалось, ещё шаг, и мы в раю! Не дали, не смогли, сгубили. Дождь. Чужой праздник. Утро. Я провожаю Лю Ви на работу. 4 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Два месяца Лю Ви ждала результатов своего интервью в медицинском центре Бронкса (район Нью-Йорка), которому требовался программист. Наконец ей сообщили по телефону, что она пока что лучшая из всех претендентов. Потом, по тому же телефону, сказали, что, к сожалению, позиция занята. Потом позвонили ещё раз: «Приходите на интервью к менеджеру! Человек, которого хотели принять, ушёл на другую работу. Надеемся, что вы в другие компании параллельно не обращались?» — Нет! — автоматически соврала Лю Ви. — Не обращалась. А как же можно не обращаться, если тебе сказано, что позиция, на которую ты претендовала, занята? Чего же ждать? Конечно, обращалась и проходила интервью, но там всё ещё молчат. Там — неизвестность, а здесь вот зовут. — Не обращалась, — говорит трепещущая Лю Ви. — Нет, нет! Это не в моих правилах. — О! — восторгаются на другом конце провода. — Феноменально! Приходите, пожалуйста, во вторник, в среду или в четверг. Когда вам удобно? — В среду, — лепечет Лю Ви. — О’кей! И Лю Ви пять дней находится в предсмертном состоянии, потому что, как всегда, неизвестно, о чём её будут пытать на этот раз. 274 — Не волнуйтесь! — говорят ей сведущие знакомые. — Это формальность. Менеджер хочет видеть, с кем он будет работать. Вы должны быть предельно раскованной, милой и остроумной. Но Лю Ви опять зубрит, волнуется, дрожит... И в среду идёт на заключительное интервью окончательно разбитая. А там и правда — простая формальность. Ни единого вопроса по специальности. Но и конкретного ответа — берут? не берут? — тоже нет. Значит, опять ожидание, опять нервотрёпка. Попробуй-ка в такой ситуации быть раскованной, милой да ещё и остроумной! 6 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК — Как тебя зовут? — Настя. — Откуда ты приехала? — Из Минска. — Кто ты по национальности? — Еврей. — Что же в тебе еврейского? — Ничего. — Почему же ты — еврей? — Потому что я живу в Америке. Это — видеошапка еженедельной телепередачи Ефима Гальперина под названием «Кто мы?», в которой автор добросовестно пытается пробудить духовное и гражданское сознание переселившихся за океан наших евреев. — Русские первой волны эмиграции начинали свою новую жизнь со строительства церкви, — говорит он. — Евреи первой волны эмиграции начинали свою новую жизнь со строительства синагоги. А наши единоверные современники, прибывшие сюда из бывшего СССР, первым делом строят рестораны под эфемерными названиями «Император», «Распутин», «Романов»... 7 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК На почти гарантированное Лю Ви место в «Медикал центре» почему-то принят другой человек. Почему? Никто не объясняет. Не принято. Так сказать, этикет высшего порядка. Значит, Лю Ви в очередной раз нужно всё начинать с чистого листа и ждать, ждать, ждать... 275 Старушку Гасси опекуны хотят отправить на всю зиму во Флориду. Над истерзанной Лю Ви нависла угроза безработицы. А фруктово-овощные лавки пестрят разноцветьем товара, над авеню горят предрождественские гирлянды, деревья облеплены мириадами крошечных электрических лампочек. Всё блестит, сияет, светит... 20 градусов тепла. 12 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Кажется, приоткрылась тайна ежедневных громогласных скандалов, происходящих между стариками Ромео и Джульеттой. Похоже, для Джульетты этот брак был единственной возможностью избежать дома для престарелых. Поэтому она рабски сносила грубость разнузданного Ромео, во всём потакала ему, прислуживая как нянька, как служанка, и напрочь забыла о том, что она женщина, новобрачная, жена. Ей это и в голову не приходило. Буйствующий старик Ромео после многомесячных нервных метаний, невнятных упреков и экивоков наконец прокричал со всей определённостью: — Я хочу получить тебя! Я хочу секса! 16 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Супер нашего дома Пабло украсил холл рождественскими электрогирляндами... А так долго красневший, потевший, лепетавший что-то в своё оправдание «оральный шалунишка» Клинтон в пять часов вечера по местному времени зверски бомбил крылатыми ракетами Ирак. В Ираке было чуть больше двенадцати ночи. 29 ДЕКАБРЯ, НЬЮ-ЙОРК Из душа тугими струями бежит вода. Тонкие пальцы закручивают кран. Одинокая тяжёлая капля, повисев на сетке душа, падает на плиточный пол... Выкупавшаяся женщина закутывает голову махровым полотенцем, вытирает ладонью запотевшее зеркало — на зеркале проступает изображение весёлого Эда в неизменных очках. Женщина прикасается к зеркалу слева от себя, потом — справа. Отовсюду прорезается и смотрит на неё шаловливый Эд... На крик женщины в ванную комнату вбегает встревоженный муж... На весь экран — знакомый нам с Лю Ви конверт с цифрами: 11.000.000. 276 Так Эд Мак-Махон и Дик Кларк начали широкомасштабную телевизионную рекламу своей лотереи, розыгрыш которой состоится 31 января 1999 года... Снег в Нью-Йорке растаял, высох, исчез. 1999 ÃÎÄ 1 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Наконец-то дозвонился: — С Новым годом, Олесенька! — С Новым годом, Тотошенька! — С Новым годом, Сергей! — С Новым годом, родная земля! 3 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК «На головы американцев всё продолжают и продолжают падать различные предметы с неба. На этот раз весёлая история произошла в городке Самерсет, штат Массачусетс. Донна и Энтони Перрис мирно беседовали дома за чашечкой кофе, как их идиллия была прервана громким шумом, донёсшимся из гаража. Версий было много: упал метеорит, ветер снёс крышу, врезался автомобиль. Но всё прояснилось, когда хозяева обнаружили, что крышу их гаража пробил ком обледеневших человеческих экскрементов, упавший с борта пассажирского самолёта. Предусмотрительные Перрисы решили сохранить кусочек “астероида”у себя в холодильнике в качестве доказательства. На случай, если им удастся выяснить, какой авиакомпании принадлежит та “железная птица”, которая так бесцеремонно “сходила” на их гараж». 8 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Падал снег. Голос Лю Ви спросил: — В библиотеку ходил? — Ходил. О чём так кричит твоя Гасси? — Она смотрит в окно и радуется снегу. — Ты в Даллас звонила? — Да. Тим сказал, что со мной хочет провести интервью главный менеджер. 277 Под влиянием моей агитации Лю Ви со своей подругой Лесей решили устраиваться на работу в любой штат Америки. В какой примут, в тот и поедут. Снег падал на пожарную лестницу, на уличный фонарь, на тротуар. 9 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Шёл дождь. Голос Лю Ви спросил: — Никто не звонил? — Нет. Дождь растопил снег на пожарной лестнице, на уличном фонаре, на тротуаре. Всё почернело опять. Голос Лю Ви переспросил: — Никто-никто? — Никто. — Тим обещал перезвонить, назначить время телефонного интервью. — Теперь уже перезвонит в понедельник. — Да. Наверно. Сегодня же только суббота. Сегодня суббота? — Суббота. — Вот и хорошо. Лю Ви снова в волнении. Минул год со дня окончания ею колледжа. Год прошёл безрезультатно. 11 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Лю Ви говорит с Вашингтоном, с представителем Всеамериканской компании «Бел Атлантик». Лю Ви проходит телефонное интервью. Двадцать минут она отвечает на вопросы, потом кладет трубку, и её трясёт. — Что? — спрашиваю я. — Не знаю. — Ты на все вопросы ответила? — На все. — Значит, нет причин для волнений. Лю Ви не может унять дрожь. — Мне это интервью не понравилось, — говорит она. — Почему? — Вопросы были какие-то несерьёзные, ни о чём. Я обнимаю её за плечи. Её дрожь передается мне. У Лю Ви в глазах слёзы. 278 — Он разговаривал со мной пренебрежительно, — говорит Лю Ви. — Я не понравилась ему. Он был во мне не заинтересован. Начиная со мной интервью, он уже был предубеждён... Мы одеваемся и идём на Шипсэд Бей, к каналу. Мокро. Отчуждённо горят фонари. — Плюнь! — говорю я. — Глупо так волноваться, зная, что скоро будешь владеть миллионами. Лю Ви смотрит на меня из своего далёка широко открытыми глазами и зябко поёживается. — Да, да! — говорю я убеждённо. — Не сомневайся. Скоро мы их получим. Все одиннадцать. Посмотришь! Лю Ви смахивает со лба повлажневшую от непогоды чёлку, недоверчиво и робко сопротивляется. Но ей хочется верить. Очень! Особенно сейчас, когда все безнадежно и мерзко. — Ты... серьёзно? — спрашивает она. — Абсолютно! Тебе и Америка эта будет не нужна. Зачем она, Господи? Поедешь с мамой жить во Францию. Там — Европа. Всё рядом. Я буду приезжать к вам на рейсовом автобусе... Купите виллу где-нибудь в Шампани или в Нормандии. Ты будешь рисовать. Виноградники, сады, море, маму. Лю Ви слушает. — Ты никогда в жизни не будешь зависеть от агентов и юзеров, от менеджеров и прочей швали. Ты будешь свободна. А шампаньские козы будут на своих рогах приносить тебе пестрых бабочек. — Прелесть! — кивает головой Лю Ви. — Я в Париж хочу. — Нет ничего проще! Дом в зелёной купели, из бело-розового туфа. Бирюзовый газон. Фонтан из радуги. Клумба. — И чтобы садик был... небольшой, — наконец улыбается Лю Ви. Я благодарен плутоватым Эду и Дику уже только за это. 21 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Бесчисленные штормы и торнадо, бушующие в штатах Америки, пригнали в Нью-Йорк воробьёв: — Жив-жив! Откуда вы, драгоценные пташки? Из какого села? Из какого района? 279 22 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Мара с мужем владеют винным магазином. Мара и её муж — люди скупые, и рабочих в магазине не держат. По утрам Мара сама моет витрину. Делает это она и сегодня. Рядом останавливается приветливая дама в лисьей шубе. — Доброе утро, Мара! — кричит она на весь Брайтон. — А где ваш мужчина? — На Канарах! — кричит Мара в ответ. — Решил недельку отдохнуть! — О! И я теперь одна! Мои с Юдашкиным и с Кобзоном в Париже! Конечно, дама в лисьей шубе могла бы просто сказать: «Зачем вы врёте, Мара? Я вижу голову Фимы в подсобке!» Но тогда и Мара могла бы ответить: «Не морочьте мне голову, мадам! Где Юдашкин — где Париж! И какое отношение ваши кустарипортняжки имеют к Кобзону?». А так среди «наших» на Брайтоне не принято. Все «наши» здесь — исключительно состоятельные и известные в мире люди. 23 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Лю Ви давно мечтала обновить своей старушке Гасси гардероб. Уж очень бабушка поизносилась за время «царствования» преподобной Ниночки. Сегодня Лю Ви купила Гасси халат, ночную сорочку и тапочки. Гасси весь день плачет и целует руки Лю Ви... Гасси не помнит, что она миллионерша. Она думает, что Лю Ви купила ей всё это за свой счёт. Вместе с Гасси плачет и Лю Ви... 30 ЯНВАРЯ, НЬЮ-ЙОРК Несколько часов подряд истеричный Ромео резал уши соседей своим мерзким голосом и терзал сердце старенькой Джульетты. Я позвонил в его квартиру и увидел вжавшуюся в стену беспомощную женщину. — Почему вы не бросите его? — спросил я у старушки. — Но мне же некуда идти, — заплакала она. — Не смей обижать наших женщин! — закричал я на бегавшего по комнате пузатого Ромео. — Не смей! Не смей! Не смей! 280 11 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Наша старенькая Джульетта в поношенном пальтишке с меховым воротником и с двумя колясками-сетками из продовольственного магазина, гружёнными нехитрым скарбом, сегодня покинула американского дурака Ромео. Куда она ушла? К кому?.. Дул пронизывающий ветер, скрипели колёсики продовольственных колясок... Сгорбившись, бабушка ушла из рабства. В никуда. 16 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Звонил в Москву, сестричке Оле. Мы с нею вспомнили, как в заснеженное утро одного далёкого года шли на предзащиту её кандидатской диссертации. Голодные, холодные, мы пели: «У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя...». И вот, она давно кандидат наук, я — вроде бы писатель, кинодраматург, драматург. И что же?.. «Не питай, чого в мене заплаканi очi. He питай...» 17 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Мы затосковали по серьёзной музыке и отправились в Карнеги Холл на концерт нью-йоркского струнного квартета в составе Гарри Левинзона, Дженнифер Тиборис, Вероники Салас и Лутса Рота... Ничего подобного мы никогда и нигде не слыхивали. Вначале мне почудилось, что исполнители произведений Дворжака, Сметаны, Джона Таневера накануне концерта свои инструменты тщательно вымачивали в воде — так глухо звучали скрипки и виолончель. Потом все они напомнили мне самодеятельность сбежавших с троллейбусного парка кондукторов. Потом, когда на сцене, дребезжа, скрипела виолончель солиста господина Рота, а за нашими спинами вдруг грянул хор, расположившийся почему-то на заднем балконе, мы с Лю Ви, испуганно переглянувшись, едва не умерли от смеха. Так и остался он, концерт, в нашей памяти как смехотворный. 281 18 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Все мои американские знакомые, прибывшие с Украины на постоянное жительство, родившиеся, выросшие, выучившиеся там и тем не менее не знающие ни единого украинского слова, здесь уже лопочут по-английски... Не могу найти определения данному явлению, которое не обидело бы в общем-то славных людей. Только мне кажется, что это — страх. Никто в США с ними нянчится не будет. Это — не братья-славяне. 19 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК На углу Брайтон Бич авеню и Кони айленд авеню есть тесная конторка, где размножают копии документов, проявляют фотоплёнки, перезаписывают видео- и аудиокассеты «союзного» производства на американские и наоборот, фотографируют на удостоверения, травелпаспорта и на гринкарты, снимают отпечатки пальцев, рассылают факсы и т.д. Там работает женщина по имени Мирра. Часто встречаясь с Лю Ви, которая то и дело рассылает своё резюме в многочисленные компании, Мирра прониклась к ней сочувствием. Она отправила факс с резюме Лю Ви своему знакомому программисту Мише в Техас, а тот, не видев Лю Ви в глаза, устроил ей телефонное интервью с представителями компании, где работает сам. Неизвестно, чем всё закончится, но абсолютно ясно одно — дух коллективизма и взаимовыручки убит не во всех «наших» людях. После покойного Алекса Мирра и Миша — единственные, о ком я здесь думаю как о наших людях, без кавычек. 20 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК В предвечерние часы ясной погоды брайтоновский бордвок напоминает Дерибасовскую или Кобылянскую старой доброй поры. Здесь «наши» люди гуляют, демонстрируя себя и свои наряды. Громко говорят и крепко пахнут духами. В их вальяжных проходках — и чувство гордости, и чувство достатка, и покой. Но теперь они говорят не о бизнесах, не о хозяевах, а об Украине и о России. Всё лучшее у них, конечно же, осталось там. На предвечернем бордвоке их всех объединяет одиночество. Несказанное и безысходное. 282 21 ФЕВРАЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Долго слушаю длинные гудки. Потом говорю: — Извините, пожалуйста. Уже более полугода я не вижу в газетах объявления юного афганца. Скажите, мальчик нашёл ту, что так долго искал? — Ничего я не искал! — недовольно дребезжит голос с одесским акцентом. — Мне нужно было, чтобы хоть кто-нибудь мне иногда звонил. Понятно? Всё! «В Сенате США в прошедшую среду сенатором Сусанной Коллинз был внесён законопроект о наказании организаторов лотерей, которые обманным путём заставляют участников подписываться на ненужные журналы и другие товары по почте. Законопроект предлагает штрафовать таких мошенников на сумму до 2 млн. долларов. Организаторы подобных лотерей должны ясно указывать, что приобретение подписок или товаров не является обязательным для участия в лотерее...». Ай да Эд с Диком! Ай да плутишки-миллиардеры! Ай да хрюшки! ...Оборотистый, предприимчивый и процветающий хозяин магазинов «Мясной привоз», «Золотой ключик» и «Аркадия», конечно же, имеет целый штат надсмотрщиков. Сегодня вечером один из них находился в состоянии повышенного беспокойства. Он то и дело выходил из торгового зала «Золотого ключика», посматривал в сторону соседнего корейского магазинчика, уходил назад, потом с тем же беспокойством появлялся снова. Наконец застыл в бойцовской стойке: от корейцев вышел высокий сильный парень — рабочий «Ключика». Парень шёл с покупками, которые произвёл перед концом рабочей смены у конкурентов-корейцев. Шёл усталый и расслабленный... Увидев хозяйского служку, парень широко заулыбался. — Исчезни! — вдруг процедил сквозь зубы служка и преградил собою вход в «Золотой ключик». — Исчезни! Ты здесь больше не работаешь! Звонил из Техаса Миша. — Сможет ли Лю Ви прилететь к нам на смотрины одиннадцатого марта? — спросил он. — Сможет! — не раздумывая, выдохнул я. — Хорошо, — сказал Миша. — Телефонное интервью она прошла успешно. Билеты ей закажут, позвонят. 283 5 МАРТА, НЬЮ-ЙОРК День рождения Лю Ви! 18 МАРТА, НЬЮ-ЙОРК А за окном... Как же давно я не смотрел из окна моего сельского дома! Там уже, конечно, потекло. Время мастерить скворечни... Эх, не надо бы нам равняться на чужую жизнь! Это только кажется, что солнце — одно на всех. Для каждого в нём — своя, особая частица, определённые лучи. Поэтому южане мёрзнут на севере, а северяне задыхаются на юге. И пальма не растёт в украинском селе. 24 МАРТА, НЬЮ-ЙОРК Неверный муж, несостоятельный любовник, лживый человек господин Клинтон в два часа дня по восточному времени отдал приказ своим сатрапам бомбить Югославию — вылил собственную грязь на головы чужих детей. Пройдёт немного времени, и этот поступок будет расценен всемирной историей как начало конца последней империи уходящего века. Так будет. Да будет так! 29 МАРТА, НЬЮ-ЙОРК Есть новость. Утомлённые ожиданием родственники Лю Ви в Америку ехать не хотят. Они будут проситься в Германию. Там лучше, считают они. Там им предоставят государственную квартиру, обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием и т.д. Там не будет американской волокиты, не будет «палок в колёса», там все устроятся как люди. Лю Ви безмолвно смотрит на меня. За окном воркуют голуби, ревут машины. Терлинькает музыкальная шкатулка мороженщика. — А как же я? — спрашивает Лю Ви. — Выходит, все мои старания напрасны?.. Ты уверен, что я устроюсь? Что меня ещё примут? Ты в это веришь? — Конечно, верю! Ещё как! Я поглаживаю её трепещущую руку, нежно прижимаю к себе: «Ах ты бедолага! Ах ты ласточка в вороньей стае!» 284 1 АПРЕЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Первый день еврейской Пасхи — «Пейсах». И, как по расписанию, сеется меленький дождь. — Сегодня все «русские» магазины будут закрыты, — сокрушается Лю Ви, собираясь на работу. — Где я куплю мацу для Гасси? — Почему же они будут закрыты? — В прошлом году в этот день они не работали. Помнишь? — Нет. — А я помню... Это же такой святой еврейский праздник! — Только не для торгашей. — Какая разница — торгаши, не торгаши. В этот день евреи освободились от египетского плена. — Но не от плена денег. Какой дурак откажется ради праздника от дневной выручки, например, продовольственного магазина? — Ты не прав, — говорит Лю Ви. — Святой день — для всех святой. Надо было мне об этом подумать вчера. Я лишила Гасси её любимого праздника. Она о нём, конечно же, не помнит, но — я-то, я!.. Ей было бы так приятно. Ты ведь знаешь, что она у меня еврейка. Ах ты боже мой, боже мой! Мы выходим под праздничный дождь, идём вдоль кишащих людьми магазинов. — Странно, — говорит ожившая Лю Ви. — А в прошлом году... Ты помнишь? — Нет. — Господи, как хорошо! — радуется по-детски Лю Ви. — Теперь я устрою Гасси настоящий праздник! ...Идёт дождь. В одиннадцать утра юный китаец принес экспресс-почту... — Тебе пришло приглашение на работу из Далласа, — говорю я в телефонную трубку. — Уже?! — теряется Лю Ви. — Уже. Лю Ви молчит. — Тебя берут на позицию программиста-аналитика, — говорю я. Лю Ви молчит. По проводам за окном бегают дождевые капли... Пусть будет благословенна еврейская Пасха и люди, что вырвались из плена! 285 «Малая эффективность ракетно-бомбовых ударов по Югославии вынудила НАТО наращивать мощь ударной авиации и использовать при этом новейшие виды оружия. Как сообщил официальный представитель Пентагона Кеннет Бейкон, США приняли решение перебросить в Европу с базы ВВС в Южной Дакоте 5 бомбардировщиков Б-1Б. Каждый из этих сверхзвуковых монстров, поступивших на вооружение США во времена “холодной войны”, и предназначавшихся изначально для ядерных бомбежек Советского Союза, может нести до 84 бомб по 225 кг каждая...» «В редакцию НРС1 попала копия ответа Конгресса русских американцев — старейшей иммигрантской организации с центром в Вашингтоне — Алану Блинкену, председателю Комитета по празднованию 50-й годовщины НАТО. Приславший эту копию Джон Гончар из Нью-Джерси предлагает убедиться, что в связи с военным конфликтом в Сербии “агрессорами американцев называют не только советизированные россияне в России, но и американизированные русские в США”». «Глубокоуважаемый г-н Блинкен! — говорится в ответе Конгресса русских американцев, подписанном его президентом П. Будзиловичем 15 марта сего года, то есть за 9 дней до начала бомбёжки Сербии. — Благодарю вас за приглашение стать почётным членом комитета по празднованию пятидесятой годовщины НАТО. К сожалению, я должен уклониться от вашего приглашения, так как считаю, что нет никаких оснований для праздненства. Я убеждён в том, что сегодняшний НАТО далёк от той организации, которая была основана 50 лет тому назад... он превращается из защитника демократии в агрессора. Конгресс русских американцев (КРА) присоединяется ко многим выдающимся государственным деятелям в их протестах против расширения НАТО...». 14 АПРЕЛЯ, НЬЮ-ЙОРК Поздно ночью из церкви пришла Лю Ви с кучей свячёных продуктов в кошёлочке. Стройная, румяная, красивая, светящаяся счастьем: — Христос воскрес! 1 НРС — «Новое русское слово» 286 18 АПРЕЛЯ, ТЕХАС Я стою у широкого, высокого, светлого окна. Тёплый ветер приносит запахи скошенной травы и поля. Щебечут скворцы, воробьи и малиновки. И всё наконец хорошо. Только вот кудрявое деревце неизвестной породы, что стоит под окном, не в силах заслонить собой мою абрикоску. — Почему ты хочешь уехать? — недоумённо спрашивает Миша. — Купи с Лю Ви участок земли и твори там что хочешь. — У меня, Миша, есть Родина, — говорю я. — Никогда не понимал людей, рвущихся к амбразуре, — потирает затылок Миша. — А я никогда не понимал людей, безропотно сидящих в гетто и ждущих, как бараны, когда их зажарят! — восклицает вдруг беженец из Карабаха Самвел. — Не понимал и не пойму! 20 АПРЕЛЯ, ТЕХАС С первой почтой городское информационное агентство прислало нам служебные телефоны полиции, пожарной части, скорой помощи, библиотеки, департамента школ и сенаторов от республиканской партии Фила Грема и Кая Бейли Хютшинсона. А почтовое агентство в особом обращении просит во избежание ошибок при доставке корреспонденции прислать имена и фамилии всех жильцов квартиры. Ещё какие-то чудаки, думая, что кто-то из нас одинок и свободен, предлагают ответить на вопросы анкеты, чтобы получить возможность подобрать каждому из нас достойную пару... Лю Ви успешно осваивает физкультурные снаряды спортзала. 21 АПРЕЛЯ, ТЕХАС Жилой комплекс, в котором мы обитаем, спроектирован и построен по санаторному типу. Всё — беленько, красненько, зелено. Вход к каждому дому — через теремообразную беседку с остроконечной крышей под красной черепицей. Все пешеходные дорожки из белого бетона. Комплекс отгорожен от внешнего мира металлическими прутьями в прочной раме. Изгороди нет только у озера с тыльной стороны комплекса. С двух огороженных сторон комплекса — непролазные заросли из кустов и деревьев. Там живут журавли и буйно цветёт бузина. 287 23 АПРЕЛЯ, ТЕХАС В одиннадцать утра позвонил Миша, и, покашливая, сообщил, что ему неожиданно повысили зарплату на 600 долларов в год, охарактеризовав его как исключительного специалиста, и что ещё одну тысячу обещают заплатить в конце года за то, что он рекомендовал компании Лю Ви. — Сегодня все мы, кроме Вики, уезжаем в Хьюстон, на день рождения моего родственника, — сказал Миша. — У вас продукты есть? В три часа дня позвонила Наташа. Ей, в отличие от Миши, хвастаться было нечем. На этот раз. — Если вам что-то будет нужно, — сказала она, — не стесняйтесь, обращайтесь к Вике. У вас продукты есть? В три сорок Лю Ви сдала на водительские права (лай-сенс). 29 АПРЕЛЯ, ТЕХАС Что-то не ладится у Лю Ви на работе. Чего-то она там не знает или не понимает. — Миша сказал, — обречённо говорит она, — что если за два дня не усвою, то меня выгонят. — Балаболка твой Миша, — вступаюсь я за неё. — Он объективен, — возражает Лю Ви. — На кой чёрт его объективность, если он не умеет тебе чегото там объяснить, как официально назначенный наставник? — Он объясняет, — говорит Лю Ви, — но делает это очень раздражённо и быстро. Я не успеваю ухватить. — Что ж ты ему об этом не скажешь? — Мне стыдно. Завтра Лю Ви будет сидеть за компьютером и после работы, до ночи. Ей необходимо во всём разобраться без раздражённых подсказок. 30 АПРЕЛЯ, ТЕХАС Как трепетный друг прославленного медвежонка ВинниПуха румяный поросёнок Пятачок в минуты страха мечтает убежать куда-нибудь далеко и сделаться там юнгой флота, так я мечтаю сделаться пассажиром самолёта, следующего в Киев. Я боюсь за Лю Ви-техаску, которая во имя достижения цели 288 уже терпит мат-перемат, оправдывает то, чего оправдать невозможно, становится бессловесной угодницей. Боюсь, боюсь, боюсь. 1 МАЯ, ТЕХАС Лю Ви-черновчанка вдруг говорит: — Когда человек умирает, то его душа ещё долго видит своё гниющее тело. Ведает ли она, о чём говорит? А ведь это — исчерпывающая характеристика любого эмигранта с ещё действующим сознанием. Такой бедолага ещё понимает, что свято, а что — грех, он ещё страдает душой. Но так будет недолго. Победит общепринятая здесь бездуховность. 2 МАЯ, ТЕХАС По мере того как медленно и робко становится на ноги Лю Ви, растет активность её нетерпеливых родственников. — Какие у Гены планы? — спрашивает сегодня по телефону мама Лю Ви. — Какие у тебя планы? — передает мне её вопрос Лю Ви. — Она приезжает — я уезжаю, — отвечаю я. — Тогда он должен прислать мне доверенность на право самостоятельной выписки его из квартиры, — говорит мама Лю Ви. М-да... 3 МАЯ, ТЕХАС В Нью-Джерси прибыл мой старший брат Пётр. Он — в гостях у бывших соседей, ныне владеющих собственным домом и прибыльным бизнесом. Восторгам брата моего нет предела. — Дома все думают только о еде, — говорит он по телефону. — Чем накормить семью, что перекусить самому. Ни у кого нет денег. — Ничего, — обещаю я. — Вот приеду, заведу хозяйство, всех накормлю. 4 МАЯ, ТЕХАС Пронёсшийся мимо торнадо замкнул электропроводку пожарной сигнализации «нашего» дома. В два часа ночи мы были 289 разбужены истошными воплями квартирной сирены. Потом прибыли пожарные, всё отключили. В четыре утра вопль в квартирах дома зазвучал с новой силой. Утром небо было обложено грузными тёмными тучами в зловещих красных подтёках. — Не выходи из квартиры! — звонит мне с работы встревоженная Лю Ви. — По радио предупреждают о возможной новой волне разрушительного торнадо. 6 МАЯ, ТЕХАС Лю Ви купила машину — белую «тойоту». Белоснежную, как белая голубка. «Вся сверкает, — радовалась некогда в нью-йоркском лифте очаровательная сумасшедшая девушка. — Я её только что видела на улице! Посмотрите, посмотрите на неё непременно!» Такая «птица» теперь в трепетных руках Лю Ви. Приобретена она в рассрочку на 3,5 года. Потом Лю Ви, тоже в рассрочку, купит дом. Потом ещё что-то желанное. Потом ещё... Американский торнадо только набирает силу. — Не выходи из квартиры! — просит моя любимая Лю Ви. — Не выходи! Не выходи!.. Þðèé ÑÀÏÎÆÊΠÌèíñê ÀÍÄÐÅÉ ÌÀÊÈÍ: «ÌÛ ÂÑÅ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÄÓÕÀ» Однажды на Франкфуртской международной книжной ярмарке я зашёл во французский павильон. Два молодых человека сидели за столиком у роскошного стенда с литературными новинками. Мне нужно было узнать, как приобрести авторское право на выбранную для перевода книгу. Увидев её у меня в руке, молодые люди приветливо встали, но, услышав английскую речь, сразу поскучнели и развели руками, давая понять, что этот язык им неведом. Можно ли было поверить в это? Что, они приехали во Франкфурт в радостной надежде, что весь мир говорит только по-французски? Этот случай как-то сразу всплыл в памяти после разговора по телефону с сотрудником французского посольства в Беларуси, который отвечал за программу пребывания в Минске Андрея Макина, знаменитого французского писателя, родившегося в Новгороде и тридцать лет жившего в России. На чисто протокольный вопрос, на каком языке будет наша беседа и нужен ли переводчик, Алексис-Жилль Гранд, он же директор Франко-белорусского зала информации областной библиотеки имени А.С. Пушкина, слегка замялся: «Минуточку, я спрошу у господина Макина» и через несколько секунд продолжил: «господину Макину легче беседовать по-французски, но для “Всемирной литературы” в порядке исключения…». Прямой аналогии с эпизодом на Франкфуртской книжной ярмарке, конечно, не было. Там, скажем так, было проявление языкового патриотизма молодых уроженцев Франции, здесь нечто другое. Может быть, привычка, ставшая второй природой человека, который из своих сорока шести пятнадцать лет всё-таки говорил и писал только по-французски. И всё равно было чему удивиться. 291 У моего собеседника, высокого, симпатичного, чувствуется, уверенного в себе человека, доброжелательный взгляд серо-голубых глаз. Короткая спортивная стрижка. Без аккуратной бородки, с которой, судя по его рекламным портретам, прежде никогда не расставался, он выглядит даже более респектабельно. Безукоризненно сидящий светло-серый костюм, светлая в крупную клетку рубашка, сдержанной расцветки галстук. Конечно же, Андрей Макин ничуть не отвык от русской речи. Наоборот, мне показалось, он соскучился по ней. Периоды фраз, как волны, обгоняют друг друга и, кажется, рассыпаются в конце, потеряв амплитуду, — как те же волны, измельчав на прибрежном песке. Позже эти хвосты мне придётся по нескольку раз прослушивать на магнитофонной ленте, сохранившей голос писателя. Я не ожидал, что мне будет трудно сосредоточиться на разговоре. Мешает тот молодой человек из знаменитого ныне романа «Французское завещание», его главный герой Алёша, который, убежав из России, обрёл во Франции вторую родину. А точнее сказать — первую. Ещё в России освоив её язык, впитав в себя её культуру, признавшись ей в любви. Роман, скорее всего, автобиографичен, и я теперь пытаюсь совместить два лица. — Андрей, можно я Вас буду называть по имени-отчеству? В глазах Макина на мгновение появляется удивление. Больше чем уверен: уже много лет никто не называл его по отчеству. Перед беседой я подошёл к работникам библиотеки имени А.С. Пушкина: отчества Андрея Макина не знал никто. На западе достаточно одного имени. В принципе, имени достаточно везде. — Меня зовут Андрей Ярославович, — мягко сказал он. Так началась наша беседа. Мои вопросы были, конечно, заготовлены заранее, но перед самой встречей я узнал, что Макин приехал в Минск не только для того, чтобы получить приз. В его творческих планах — написать о защитниках Брестской крепости. — Почему Вы заинтересовались этим? — Для меня это больше, чем тема. Моя духовная составляющая. Я уже писал о Брестской крепости. В романе «Реквием по Востоку» есть глава, посвящённая её защитникам. Точнее, эпизод, рассказ в рассказе. Два солдата штрафной роты у костра говорят о людях, первыми встретивших войну. А вообще меня с детства поражал героизм защитников Брестской крепости. 292 Обожжённые, израненные, без воды и пищи, как могли эти люди столько продержаться в огне! Мальчишкой я приезжал на руины форта, от них пахло гарью. Тогда они ещё не охранялись и, кажется, были живые. Поражает, что во Франции об этом ничего не знают. Абсолютно. Когда говоришь о Сталинграде, начинают хлопать в ладоши. Для них Вторая мировая — это Сталинград. Поворот войны. Когда же говоришь «Брест», думают, что это Брест-Литовск. «А, Брест-Литовск, ну как же, знаю, знаю». И далее обязательно следует упоминание о Троцком. А сейчас меня замучили продюсеры: съезди в Россию, напиши что-нибудь о России. Но что о России? Новые русские меня не интересуют. Другое дело — поколение людей, которые могут рассказать, что пережили, от первого лица. Поколение, которое почти ушло. Я подумал, почему бы не сделать документальный фильм об этом? Маленькие эпизоды из истории блокады. — В одном из интервью западным журналистам Вы сказали, что видите свою творческую задачу в том, чтобы защитить, «отстоять» ветеранов войны. Защитить от чего? — От забвения. От унижения бедностью. Мой первый роман, написанный во Франции, называется «Дочь Героя Советского Союза». Сюжет его завязывается такой сценой. В «Березку» (помните, конечно, так назывались спецмагазины дефицитных товаров) приходит ветеран, Герой Советского Союза. «Здесь только по чекам», — бесцеремонно говорит ему продавщица и отворачивается. Возмущённый ветеран пытается её пристыдить, показывает удостоверение Героя, даже золотую медаль на пиджаке. «По медалям не выдаём, — почти грубит продавщица. — Только по чекам». Когда я вижу нынешних ветеранов, понимаю, что роман, к сожалению, ещё актуален. — Замысел этой вещи родился в России или уже во Франции? (Признаюсь, вопрос был с подвохом. Я хотел подвести Андрея Макина к разговору, который он, судя по западной прессе, не любит: почему писатель попросил политического убежища во Франции. Примешивались ли к этому решению творческие соображения? Скажем, не давали печататься. Хотя роман с таким названием — «Дочь Героя Советского Союза» — вполне мог быть опубликован в Москве. Тем более в «перестроечные» времена. Наверное, Андрей Макин не придал значения моей просьбе об уточнении родословной замысла романа.) 293 — Мне кто-то рассказал этот трагианекдотический случай, — сказал он, улыбнувшись. — Остальное я додумал. Дочь, других персонажей. Но зерно замысла обычно возникает из какого-то факта, действительно имевшего место и чем-то сильно зацепившего меня. — Я читал, что Ваше решение покинуть Россию Вы связали с тем, что у Вас «не было ничего общего с новыми русскими», появившимися в последние годы советской власти. Скажите, писали ли Вы в то время, печатались ли? Насколько Ваше определение советского опыта, приобретённого Вами в те годы — «выносливость, умение довольствоваться малым», — приложимо к Вашему тогдашнему писательскому труду? Иначе говоря, были ли, кроме политических, творческие причины в пользу столь крутой перемены жизни в тридцать лет? — Это было взаимосвязано. В те годы я писал стихи и, если бы развивал в себе эту способность, поддерживал в себе эту страсть, возможно, стал бы неплохим поэтом. Но печататься было практически невозможно. Коррупция в журналах, идеологическая цензура, проталкивание «своих», многолетние очереди, чтобы попасть в издательские планы… Факт даже газетной, не говоря уже о журнальной, пусть малюсенькой, публикации, — Макин берёт журнал, лежащий перед ним на столике, наугад открывает и показывает какое-то стихотворение в две строфы, — воспринимался как событие жизни. Нет уж, увольте. А тут всё новые и новые разоблачения, связанные с культом личности, с изнанкой коммунизма. В который я искренне верил. Как не верить в то, что добыто такой кровью. У меня никогда не было установки хорошо жить во Франции. И я был готов к трудностям ради литературы. Звучит несколько непривычно для слуха, но что делать? — было время, когда приходилось ночевать в склепе в восточной части кладбища Пер-Лашез. Зато стал публиковаться. Правда, тогда это было легче, чем теперь. Сейчас напечатать что-нибудь во Франции труднее, чем в России. Особенно первую вещь. Скажем, очень хорошему поэту Николаю Сарафанникову это удалось только за свой счёт. Все пять книг за свои деньги. Он снимал в Париже крохотную квартирку. Еле сводил концы с концами. И не выдержал — вернулся в Россию. После двадцати лет жизни во Франции… (Андрей Макин вздохнул и ненадолго замолчал. Уже не первый раз я слышу, что во Франции русским литераторам несладко. Несмотря на то, что русская диаспора там насчитывает 120 тысяч человек, читателя практически нет. Живут не книгой 294 — другой материей, заботой выживания. Два года назад среди этих писателей (всего их около трёх десятков) возникла идея анкеты по Интернету: кто над чем работает, какие видит проблемы в реализации творческих планов. Я выписал только два отклика. Вот они. «Русский Париж превратился в город-некрополь, город-архив, куда ездят за сбором материалов для очередной статьи о Бунине, Цветаевой, Мережковском. На их фоне современные русские авторы, живущие в Париже, напоминают то ли бомжующих на шикарном кладбище самозванцев, то ли бедных родственников покойного, пришедших со скромным букетом на его похороны… Андрей Лебедев». «Можно ли говорить о существовании живого глагола в устах дюжины робинзонов, выживших на крушении общего корабля при повсеместной безграмотности туземцев, отсутствии хотя бы одного Даниэля Дефо (судья ему Бог), одной типографии, книжной лавки и читателей с желанием хотя бы украсть, не говоря уже о наличии средств приобрести… Алексей ИвинКонь».) — Мои первые два романа, — прервал молчание Андрей Макин, — мне пришлось представить как… переводы с русского. Издательства отказывались верить, что романы сразу написаны на французком языке. Пришлось представить «оригиналы». Три недели по шестнадцать часов в сутки горбился за машинкой, перепечатывая тексты на русский. Самая дикая работа, которую когда-либо выполнял. — И с тех пор Вы возненавидели собственные переводы ваших вещей на русский. В отличие от многих именитых. На французском языке, например, в основном писал Сэмюэл Беккет, а затем переводил себя на английский. — Оставим переводчикам их хлеб. Это их специальность. Они же шизофреники по натуре своей. То есть они сумели разделить свой мозг надвое. Одна часть принадлежит одному языку, другая — другому. У меня такого типа шизофрении, пусть благородной, нет. Можно, конечно, натренироваться и научиться мгновенно переходить от одной реальности к другой. Но это будет не то. Мне это ни к чему. Поэтому жду своего переводчика на русский. Присылают пробы — нет, что-то теряется. Я не почувствовал, чтобы Макин избегал каких-либо тем. Открытый, щедрый собеседник. Кажется, умение держаться просто и естественно и в то же время чуточку отрешённо, на не обидном, но всё же расстоянии, надёжно защищает его «прай295 васи». После «Французского завещания» лучи неожиданной славы ударили ему в глаза (как ударило вдруг октябрьское солнце в окно, у которого мы беседуем), но, судя по всему, не ослепили. Вот и сейчас он правильно сел, спиной к солнцу, а я щурюсь. Заметив это, Макин предупредительно задёргивает штору. Я говорю ему о том, что только что стоял у библиотечной витрины с его книгами. Их с десяток, в мягкой и твёрдой обложках, разного объёма и формата. Но почти всех объединяет одно: русские названия, которые хорошо читаются по-французски. Вспоминаю слова одного из персонажей «Французского завещания», Альбертину, которая говорит своей дочери о России: «Такая уж эта страна. Приехать легко, но вырваться невозможно». Подтверждает ли эти слова судьба автора романа, да и произошёл ли вообще его отъезд из России, если она и во Франции держит его своим притяжением? — В самом деле, — охотно откликается Макин, — гравитация России огромна. Интеллектуальная, духовная. Россия, Украина, Белоруссия — славянский универсум какой-то. Я хотел бы подчеркнуть это целое, без его территориального деления. Притяжение у него необыкновенное. Потому что есть мессианский дух. Стремление неистовое, иногда просто чудовищное к духовности. Почему чудовищное — потому что жажда этой духовности, стремление к ней в материальном мире сопровождается порой или выливается в преступление. Это сильнейший магнит, всё в его поле. Род всемирного тяготения. Оно имеет универсальный характер. Россия — это Запад и Восток. Россия — это Юг и Север. Она совместила все черты универсума. Это не восточная страна, но и не западная. Но одновременно та и другая. Это славянская страна, но и Германия, и Скандинавия… — Макин не решился прибавить сюда и Францию. — Очень много намешано в этой России. Значит, всё-таки ностальгия. Несмотря на то, что Франция для молодого литератора из «Французского завещания» — а все критики и литературоведы ассоциируют этот образ с самим Макиным — страна, без которой он задыхается в сумрачной России, огромной как в просторах, так и в жестокости. Но почему-то его прабабушка, время от времени навещая Париж, стремится назад в Россию — страну-мачеху, где в конце концов и умирает. Я не говорю ему обо всём этом, чувствуя, что он не захочет выйти из своего имиджа, из образа, в котором нет места такому чувству, как тоска по Родине. И сюда он приехал как 296 французский писатель. А может быть, ностальгия для него — просто синоним слова «притяжение», о котором только что говорил? Но можно спросить по-другому. — Андрей Ярославович, тема диссертации, которую Вы защитили в Сорбонне, «Поэтика ностальгии в прозе Бунина». Почему Вы взяли именно её? — Прожив некоторое время во Франции, я с удивлением обнаружил, что там очень плохо знают Бунина. Остановите любого француза на улице, спросите — знакомы ли ему имена Гоголя, Достоевского, и он скажет — о, да, да. Но не Бунина. Моя диссертация как бы приоткрыла дверь для других исследований о нём и вообще пробудила интерес к Бунину, как я того и хотел. Создано Общество друзей Бунина. Издали три тома его новелл. Сейчас интеллигент, не читавший Бунина, никогда в этом не признается. Несправедливость хотя бы частично устранена. Бунин один из любимых писателей Макина. Он часто говорит о том, что, не эмигрируй во Францию, тот никогда не написал бы «Жизнь Арсеньева». Может быть. Но «Арсеньева» Бунин писал на русском, и там, несмотря на ностальгию, нет мучительной раздвоенности духа: весь, без остатка он пребывает в России. Во «Французском завещании» всё иначе. Здесь впечатлительный, тонкой духовной организации мальчик, будущий писатель, ощущает свою русскость как выбор, сделанный без него, на уровне генов. Французскость же — обожание Франции, любовь к ней, стремление к её культуре, поэзии… то, что в тексте называется «французским привоем» — родилось благодаря воспитанию. Благодаря бабушке-француженке. Может ли то и другое стать одной природой, спрашиваю я у автора романа. Мне невольно вспоминается там эпизод, когда, подсматривая на заброшенной, пришвартованной к берегу барже в два соседних иллюминатора за женщиной, занимающейся любовью, в одном из них мальчик видит только её лицо, словно бы кивающее невидимому собеседнику, а в другом только орудие любви. Потрясённому подростку никак не удаётся соединить эти две картинки в одну. Не образ ли это мук русского писателя, пишущего по-французски: как совместить два полюса? — Да. Это вполне может стать метафорой, объясняющей пафос романа, то есть метания человека, ищущего свою Атлантиду, разрываясь между двумя берегами океана. Но это не муки. Писать по-французски вовсе не муки, — убеждённо повторяет, 297 даже настаивает Макин. — Сегодня, кстати, во Франции мода на иностранных писателей, предпочитающих язык этой страны, — неожиданно добавляет он. — Но я хотел бы поразмышлять об истоках раздвоенности моего героя. Всё дело, по-моему, в различии цивилизаций Востока и Запада. Первая — космична. Мы, славяне, напрямую беседуем с Богом, Космосом, Вселенной, Природой. Наш мозг, мировидение привязаны к космогоническим явлениям. Такая цивилизация первична. Отсюда наши непосредственность, желание сказать своё «Я», добраться до души другого человека, что, наверное, не совсем хорошо. Французскую цивилизацию я бы назвал отражённой. Она культурологична. У нас в изголовье дикая русская равнина, у них — просвещённая Греция. Они родились уже на подготовленной, благодатной почве. Француз никогда не скажет: «Я думаю, что…». Он скажет: «Сенека думал, что…». Замените Сенеку на Канта, Вольтера, Флобера. Схема «оригинальных» суждений останется та же. Цитату всегда предпочтут собственному мнению. И никогда не пойдут дальше предела, определённого этикетом. Кто-то сказал, Ключевский, кажется, что французы разговаривают друг с другом как два рыцаря, каждый из своего замка, через крепостную стену. У нас стен нет вообще. Что же лучше? И то и другое. Россия вместила в себе Восток и Запад. Создала открытую цивилизацию. Вот Пушкин. Не перестаю удивляться чистоте его французского в стихах, в письмах к жене. И в то же время трудно найти более русского, чем он. Поэтому когда ты пишешь, ты сидишь сразу на двух стульях. Менталитет западного человека и азиата одновременно водит твоей рукой. — Вы не оговорились, сказав о моде во Франции на книги иностранцев, написанных на французском языке? Вы имете в виду Кундеру, того же Беккета, Чорана? Но ведь они популярны и у нас. — Чоран ... — почти благоговейно протянул Андрей Макин. — Это другое дело. Эмиль Чоран — гений. Нет, я имею в виду то, что особенный успех у читающей публики сегодня имеет современная зарубежная литература во французской, что называется, языковой упаковке. Например, начался ажиотаж на китайскую прозу. Людей интересует экзотика, философия жизни, мудрость, тайна души китайца, мистика. — Откуда же у таких писателей французский, чтобы писать на нём? У всех французская родословная? У каждого своя 298 бабушка Шарлотта, как у героя Вашего «Французского завещания»? — Всё гораздо проще. Китаец как может пишет черновик, затем нанимает литературного раба, который за определённую сумму всё переписывает на правильном французском. Книга выходит в свет, на титуле стоит китайская фамилия. Это обеспечивает спрос. Чем не индустрия? — Но «правильный» язык в литературном произведении — сомнительное достоинство. — Верно, я только констатирую факт. Он свидетельствует о востребованности обществом литературного ширпотреба. Более девяноста процентов книг на полках парижских магазинов — такого свойства. — Во «Французском завещании» есть формула настоящей литературы — «это непрерывное удивление течением речи, в которое переплавляется мир». Значит, непрерывное удивление языком. Вот Ваши чёрные бабочки летающей сажи в «обугленном» Минске, который видит Алёша, спасаясь от войны. Или ветви деревьев, ощетиненные инеем. Очень точные, объёмные метафоры. В то же время будущий писатель в романе мечтает о языке-посреднике, универсальном языке, даже о межязыке. Вряд ли мир способен переплавиться в язык-посредник. Что всё-таки имеется в виду? (Чувствуется, что Андрей Макин ждал этого вопроса. Он давно уже стал коньком его критиков. Вот и Татьяна Толстая в своём «Русском человеке на рандеву», равнодушно проходя мимо очевидных достоинств романа «Французское завещание», с удовольствием останавливается возле неловких диалогов, подтверждающих, по её мнению, ошибочность теории о языке-посреднике.) — Перевод романа, опубликованный в «Иностранной литературе» и который разбирает Толстая, к сожалению, очень плох, — со вздохом говорит писатель. — Я даже не дочитал до конца. Скажите, — вдруг обращается он ко мне, немного помолчав, — существует ли какой-либо язык между двух языков? Я утверждаю — да! Есть ли у человека периоды жизни без языка? Есть. Когда ему год, два или чуть больше. В самом начале он владеет бессловесным языком. Он его как бы видит глазами, слышит и чувствует, не произнося слов. Позже — переносит смыслы предметов, которые постигает, на другие, похожие по форме, цвету. Это и есть мышление образами. Наш, взрослый 299 язык ужасно затёрт. Значения слов сузились до номинальных. Бывает ли у нас ощущение, которое невозможно выразить? Боже мой — сколько угодно! Кажется, вот слово, на кончике пера, а напишешь — какая плоскость! «Прошла девушка, как будто прошелестела ветвь цветущей яблони» (Олеша) — изумительно точно. Но разве иначе этот образ будет звучать на китайском, японском, испанском? Да нет же! Это и есть универсальный язык. Язык поэзии. (У Голдинга в «Наследниках» неандертальцы понимают друг друга в полной мере лишь тогда, когда изъясняются не словами, а образами. Но стихи, а особенно проза, вряд ли могут обойтись только метафорами. Раствор, перенасыщенный сладким, приторен. Но я не стал перебивать Макина.) — Все национальные языки по отношению к этому высшему языку есть диалекты, — продолжал он развивать свою рискованную мысль. — Когда вы хотите изваять скульптуру, то материал — золото, мрамор, бронза, гипс — вторичен по отношению к форме. Владеете идеей, формой — вы владеете миром! А золото, бронза и прочее — это наши национальные языки. Я уверен, что и те чёрные бабочки сажи, и щетинку инея на ветках и другие метафоры, если они точны, можно перевести на любой язык без всяких потерь. Такие слова, как, скажем, «холод», «боль», «тревога» у людей разных национальностей вызовут абсолютно одинаковые ассоциации. С их помощью и, разумеется, таланта рождаются образы, которые всем понятны. В этом смысле чужого языка не бывает. Вначале, только знакомясь с ним, невозможно чуждым, вам кажется невероятным, что на нём можно думать, писать. Вы уверены: нет! Никогда! это невозможно… Однако с преодолением языкового барьера исчезает и психологический. Конечно, при этой трансформации вы что-то потеряете. У мрамора, например, есть прожилки. В бронзе их не будет. Но появится, скажем, блеск, монументальность … Как-то невольно, вопреки всему, что я уже знал об Андрее Макине, вдруг подумалось: не о себе ли он только что сказал? Да, была французская бабушка. Образованная, интеллигентная, тонко воспринимавшая красоту, поэтическое слово, сама в душе поэт. Иногда речь её — почти готовые стихи. Был «сибирский», а лучше сказать, французский чемодан с вырезками из газет её молодости. Была одна книжка — на родном для неё языке. Но достаточно ли этой минисреды для накопления языкового багажа внука, который благодаря этому багажу станет в одноча300 сье французским писателем? Может ли рыбка, выращенная в аквариуме, почувствовать себя в морской стихии как в своей родной? А что, если феномен Макина и в другом… что, если он совершил ещё больший подвиг? Такой же, как, скажем, Эмиль Мишель Чоран, выучивший французский уже в зрелом возрасте, овладевший им настолько, чтобы не просто писать, а создавать выдающиеся произведения, пророчествовать (так определили критики стиль его прозы) на нём и тем не менее однажды на весь мир признаться: «Навязчивый страх ошибиться портит мне всякое удовольствие от писания на французском... Пророк, парализованный грамматикой». Может быть, и Макин, приехав во Францию, как приезжают туда тысячи других безъязыких, или почти безъязыких, начал, в отличие от них, с титанического труда постижения французского? Может быть, потому и возникла теория языка-посредника, доказанная им впоследствии на собственном опыте — ведь он уже переведён на десятки языков? Поэтому и не удержался однажды, обронив западному журналисту, что заслужил Гонкуровскую премию? Да и была ли вообще бабушка? Может быть, и она — лишь удачный ход, приём, плод писательской фантазии? Услышанный короткий сюжет, в котором проницательный прозаик увидел роман? Вполне в его творческой манере. Между тем теория универсального языка в устах Андрея Макина неожиданно приобретает белорусский колорит. — У меня вчера была встреча с белорусскими писателями. Они мне сказали поразительную вещь. Я был в шоке. Они уверяли меня, что писатель, родившийся в Беларуси, никогда не станет великим русским писателем. Что существует особый национальный ген, который не совместим с чуждой языковой средой. Я им говорю: но вы же легко говорите по-русски, мыслите по-русски. Что ещё надо? Остальное — дело за талантом. Но они продолжали стоять на своем. Я категорически это отказываюсь понимать. Если моя догадка верна, думал я, слушая Макина, он уклонится от вопроса, насколько автобиографичен его роман. Нет, это ничего не изменит в моём отношении к нему как читателя. Он написал прекрасную вещь, а победителей не судят. Понятней лишь станет, на какие ухищрения приходится идти писателю, чтобы угодить публике. Что ему стоит придуманный сюжет выдать за автобиографию? Один из персонажей «Истории мира в 10 главах» Джулиана Барнса мог стать головой в бочку с селёдкой, лишь бы сорвать аплодисменты аудитории. Вот и во 301 «Французском завещании» Андрей Макин рисует фантасмагорически жуткие картины больной, голодающей, озверевшей России двадцатых годов — мумифицированная девушка в окне; валяющаяся на дороге голова человека с откушенным ухом; дрейфующая по Волге баржа с тифозными больными, её отталкивают от берега длинными шестами всякий раз, когда она хочет пристать; Берия, охотящийся на хорошеньких женщин в машине с тёмными стеклами; поножовщина безногих инвалидов, прозванных «самоварами»… Что в этих сценах, увиденных глазами бабушки, возвращающейся из Парижа в Сибирь, от документа, что от вымысла, спрашиваю я Макина. Говоря его же словами, «тяжёлое дыхание русского мира» в романе кажется слишком уж непереносимым, чрезмерно тягостным, скорее — эпатажем, рассчитанным на французского обывателя, стремлением оправдать ожидания публики. Так ли это? Андрей Макин искренне смеётся: — Почитайте современную французскую прозу, напичканную кошмарами Армагеддона. Мои по сравнению с ними — детские штучки. В описании ужасов мне никогда не превзойти своих французских коллег, нет... (Пожалуй… Как раз сейчас на тумбочке у моей кровати лежит новый роман популярного во Франции Венсена Равалека «Ностальгия по чёрной магии», который просто сумасшествие читать на ночь.) — ...Все описанные в романе истории правдивы. Мне думается, изображая тёмную и жестокую Россию, я не переступаю границу, допустимую искусством. Вы упомянули безногих. У меня до сих пор в ушах звук от железных набалдашников на их палках. Но от чего-то и я оттолкнулся шестом. Всё начинается с верности правде жизни, но очень скоро, с первых же шагов, вступает в силу другой закон — верность искусству. — Кстати, у Джулиана Барнса в его «Истории мира» есть глава о странствии парохода с евреями-беженцами из нацистской Германии 1939 года, которых не принимает ни одна европейская держава, опасаясь гнева Гитлера. Сорок дней и ночей в открытом море они голодают и молят о помощи. На глазах всего мира. Чем не Ваша баржа-лепрозорий? Случайна ли такая перекличка? — Неужели был такой факт? Я давно читал «Историю мира», не помню. Но ничего удивительного в этом нет. Есть блуждающие сюжеты. Мы все ходим вокруг одного и того же и делаем 302 одно общее дело. И когда между писателями возникают перестрелки, мне смешно. Я всегда думаю, что наша индивидуальность растворяется в каком-то общем опыте. Но писатели как смерти боятся повторов. А ведь они — сама жизнь. Мы все пишем историю духа, а это цепь невероятных совпадений и повторений. С этим нельзя не согласиться. Особенно часто подтверждает себя феномен так называемых в науке парных случаев. Почти сразу после «Французского завещания» по какому-то наитию я беру с полки книгу Андрея Битова «Неизбежность ненаписанного», изданную в 1996 году, и на первых же страницах нахожу… бабушку с французским чемоданом и внука, страстно мечтающего заглянуть вовнутрь. Битов нигде раньше не публиковал историю своей родословной, как заготовка для возможного рассказа она ждала своего часа в дневнике писателя. Ни сном ни духом не мог знать об этом и его тёзка в Париже. И вот пожалуйста — идеальное совпадение... как идеальное убийство, поскольку такое сходство ситуаций в литературе всё-таки убийственно для авторов. Невольно закрадывается подозрение: кто у кого взял? Но в большинстве случаев загадочной синхронистичности (с удовольствием ссылаюсь на К.Г. Юнга) «не существует даже отдаленной возможности причинно-следственной связи между совпадающими событиями». Кстати, странная вероятность дублирования последних хорошо известна не только философам, но и врачам. Жаль, что не пришлось поговорить с Макиным о его литературном двойнике, но, кажется, он к нему вполне индифферентен. Во всяком случае, отвечая на вопрос студентов, с которыми ежедневно встречался в Минске, о наиболее интересном, на его взгляд, русском прозаике, Битова Макин не назвал. Он упомянул Анатолия Кима и его «изумительную» «Белку». — Вас не записали ещё в постмодернисты? Хронотоп Вашего романа — своеобразные качели Времени. Коронный приём постмодернистов. Вы постоянно возвращаете своих героев в прошлое. Вернее, их самих манит эта бездна забытого или полузабытого. И всякий раз в уже освоенной читателем картине появляется что-то новое: деталь, цвет, запах, которых не было раньше. Прошлое вживляется в настоящее, как электрод в ткани, поражённые амнезией. Он раздражает клетки и где-то глубоко в подсознании пробуждается прапамять человека. — Нет, меня пока всё время сравнивают с Прустом. «Пруст 303 российских степей» — вот один из моих брэндов. Но, как уже не мной сказано, сравнения хромают. Для меня в романе главное — эстетическая тональность. И ещё то, что делало когда-то писателя в России «высшим властителем. От него одновременно ждали Страшного суда и Царства Божия». Так говорила внуку Шарлотта Лемоннье. И тут я просто не могу не задать наконец давно мучивший меня вопрос: — Андрей Ярославович, в среде русских писателей во Франции что-то вроде переполоха. Признавая Ваш успех, тем не менее пытаются уколоть Вас Мандельштамом, который (всего-то, должно быть, под обаянием рифмы) просит у Франции «жалости и милости», её «земли и жимолости». Один из исследователей русской литературной жизни во Франции пишет: «Необычность ситуации, принёсшей книге успех, заключается в авторской стратегии. Макин радикально меняет привычную оппозицию “аборигены/эмиграция”; в его книге повествователь — чужак (и ассоциирующийся с ним автор) не противопоставляет себя первым, но подчёркнуто манифестирует своё желание стать одним из аборигенов. Маугли покидает джунгли, оказавшись не просто белым человеком, но к тому же ещё и французом». Это — один из немногих русских аналитических откликов на Ваш роман. В основном же он медиатизирован французскими критиками. В устных же дискуссиях среди русской диаспоры разговор почти всегда сводится к Вашей личности. Чаще всего задают вопрос: была ли бабушка? Вот и я всё хочу спросить: насколько автобиографичен Ваш роман? В глазах Андрея Макина разочарование. Ведь он меня уже предупредил: лезть в душу по-русски — признак плохого тона. Писатель встал с кресла и развёл руками, как бы говоря: не всё в моей воле. Да, он был не свободен от образа, который создал. — Опасный вопрос, — словно извиняясь, сказал он. — Я предпочитаю на него не отвечать. Боюсь обрадовать одних и разочаровать других. Когда говоришь, что бабушки не было, на иных лицах скука: ах, это всё выдумка, как жаль. Скажешь, что да, конечно, она была, в ответ слышишь: ну вот, опять мемуары. Поверит ли поэту жена, что все его стихи о любви — о любви к ней, только к ней? Но и убеждать в обратном её не нужно. У писателя, как и всякого человека, может быть своя тайна. И он не выпускает её на волю не потому, что боится огласки. Нет, просто он сжился, сроднился с ней, она стала живой час304 тью его души. Неужели реальность вам никогда не казалась фантазией, а самая смелая фантазия — реальностью? — Что бы Вы хотели, пользуясь случаем, ответить своим критикам или тем, кого разочаровали? — Поблагодарить за внимание. За время, которое они провели за чтением моих романов. Может быть, понравятся в следующий раз. Ведь это лучше, чем наоборот. Вы упомянули критическую статью Татьяны Толстой «Русский человек на рандеву». Это её второй отклик на «Французское завещание». А первый… Звонит мне мой американский издатель: тут о тебе статья Толстой появилась, хотел её как-то использовать, но нельзя: слишком уж хвалебная. Что тут сказать? Загадочная русская душа… Может быть, мне только показалось, что при этих словах глаза французского писателя смеялись. Ô¸äîð ÑÊÐÈÏÍÈÊΠÊðûì ÊÎÂ×Åà ÍÎß Õðîíèêà è ðàçìûøëåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà Когда я впервые прочёл Библию, для меня открылся новый мир интереснейшей истории, родилось возвышенное стремление к познанию и самосовершенствованию. Более всего в Ветхом Завете меня заинтересовало создание мира, бывший в глубокой древности Всемирный потоп и притча о Ноевом ковчеге. Крымские горы — начало гряды кавказских гор… Эта горная цепь имеет продолжение большой и малой горами Араратскими. Особенно выделяется большая гора Арарат, её высота 5165 метров над уровнем моря. Эти горы вулканического происхождения, теперь их можно назвать сопками потухших вулканов. Будучи на пенсии, я имел возможность уделить внимание международным свидетельствам по этому вопросу, а затем решил отправиться в Армению, к советско-турецкой границе, в ближайшую к большой горе Арарат точку для визуального изучения всей горы от подошвы до её снежной вершины. Там я надеялся сфотографировать гору Арарат в хорошую погоду, а также встретить людей — новых друзей и единомышленников и узнать от них, пытавшихся подняться или даже поднимавшихся на вершину горы, характер меняющихся условий при восхождении. Я мог получить от них координаты начала дороги, построенной на вершину Арарата русским царём Николаем II в 1916 году. Всё это должно было мне понадобиться в случае восхождения, если бы удалось получить туристическую путёвку на поездку в Турцию для посещения раскопок Ноева ковчега, которые должны были начаться в июле 1988 года. Перепечатка с сокращениями из журнала «Предвестье» (№ 6). 306 Для разработки маршрута восхождения я начал свои поездки в район монастыря Хор-Вирап и бывал там с 1982 года несколько раз. Монастырь находится на расстоянии двух километров от советско-турецкой границы и в двадцати восьми километрах от горы Арарат. …Наш поезд подходил к городу Еревану, когда справа по ходу внезапно появилась гора Арарат. Она была освещена лучами восходящего солнца и казалась чисто золотой. Нагромождённые скалы прижимались друг к другу, словно родные сёстры, как бы восторгаясь и ужасаясь всходящему светилу. Тут же от попутчиков я узнал, что видел только часть горы, которая вскоре скрылась от наших взоров. Так впервые я увидел место, к которому стремилась моя душа. События, происходившие со мной во время поездок в ХорВирап, могли бы составить целую книгу. Меня неоднократно арестовывали, так как я заходил без пропуска в пограничную зону. Советско-турецкая граница проходила здесь по реке Аракс, которая была предварительно разделена на ровные участки по длине для удобства пользования речной водной системой и другой стороной. Пропуск же получить не мог по причине отсутствия родственников или близких знакомых в пограничной зоне. В первой поездке у меня украли все деньги и документы. Домой я вернулся ранним утром, неожиданно. Жена стояла у дверей веранды нашей квартиры. Она меня узнала только по одежде и вещам. «Ты, — сказала мне жена, — похож на заключённого, списанного из тюрьмы по состоянию здоровья». Я пожал её ослабевшую от неожиданности руку и поцеловал в щёку. Разные люди встречались мне во время поездок, и в своих размышлениях я всё чаще возвращался к мысли о том, что, какими бы разными ни были люди, все они из одного корня, все потомки Ноя и сыновей его. *** Был ли Всемирный потоп? Сказание «О Всемирном потопе и Ноевом ковчеге» многие люди до сих пор считают легендой. Научную версию о Всемирном потопе мне довелось услышать на последнем курсе института. Там однажды состоялся свободный урок-дискуссия. На нём присутствовали желающие дипломанты. Сначала лектор рассказал нам много интересного, а затем 307 разрешил задать ему несколько вопросов. В числе других был вопрос «О Всемирном потопе и Ноевом ковчеге». Версия о Всемирном потопе запомнилась мне приблизительно так: нашей цивилизации предшествовала другая, достаточно высокоразвитая, которая подготовила и осуществила испытательный взрыв водородной бомбы. Но в расчётах была ошибка. Началась неуправляемая реакция, вследствие которой на Земле прошли непрерывные осадки в виде непрерывного дождя. Дождь продолжался до тех пор, пока сфера разделения компонентов реакции не стала достаточно широкой и реакция приостановилась. Для этого, по-видимому, понадобилось сорок дней и сорок ночей. О Ноевом ковчеге преподаватель не упомянул. По библейской истории Ноев ковчег строился сто двадцать лет, а всемирный потоп имеет совсем другое начало. — И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; — и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. — Ной же обрёл благодать пред очами Господа [Бога]. — Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом. — Ной родил трёх сынов: Сима, Хама и Иафета. — Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. — И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. — И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. — Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. — И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. — И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его, устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё]. 308 — И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; всё, что есть на земле, лишится жизни. — Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жёны сынов твоих с тобою. — Введи также в ковчег [из всякого скота и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. — Из [всех] птиц по роду их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся на земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых... — Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею. — И сделал Ной всё: как сказал ему [Господь] Бог, так он и сделал. <...> — Ной же был шестисот лет, когда потоп водный пришёл на землю. — И вошёл Ной и сыновья его, и жена его, и жёны сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из скотов чистых и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыкающихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как [Господь] Бог повелел Ною. — Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. — В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый [27] день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; — И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. <...> — И продолжалось на земле наводнение... и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землёю... и ковчег плавал по поверхности вод. — И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; — на пятнадцать локтей поднялась над ними вода... — И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле... и все люди; всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. <...> — Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. — И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, [и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,] бывших с ним в ковчеге; и навёл Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. 309 — Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. — И остановился ковчег... на горах Араратских. — Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор. — По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега — и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли вода с земли,] который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. — Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашёл места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег... — И помедлил ещё семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. — Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. — Он помедлил ещё семь дней других и [опять] выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. — Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. — И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. — И сказал [Господь] Бог Ною: — Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жёны сынов твоих с тобою; — Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. — И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принёс во всесожжение на жертвеннике. — И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: — Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. — И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; 310 — Да страшатся и да трепещут вас все звери земные... всё, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; — Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё; — Только плоти с душею её, с кровью её, не ешьте; — Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу её от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; — Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек создан по образу Божию <...>. — И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: — Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землёю. <...> — Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет боле вода потопом на истребление всякой плоти. <...> — Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. — Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ноев ковчег существует и поныне, по библейским данным, 5508 лет! С начала новой эры и по настоящее время около двухсот пятидесяти человек видели Ноев ковчег своими собственными глазами. Среди них историк первого века нашей эры Иосиф Флавий, а спустя полстолетия после него — известный путешественник Марко Поло. Первые посетители большой горы Арарат поднимались ещё до Рождества Христова, да и много позже ходили на гору собирать (обдирать) с Ноева ковчега смолу. Из неё лепили всевозможные фигуры священного характера, церковные сосуды. Потомки Ноя приносили в ковчег труды ремесленного производства, а также цветы и продукты. Курды в прошлом столетии были хорошими проводниками иностранных экспедиций и случайных одиночек к стоянке Ноева ковчега. В 1850 году французская экспедиция в составе шестидесяти человек была направлена на вершину большой горы Арарат. На высоте 4000 метров начался снег. Грузчики и сопровождающие курды, а также спутники-казаки отказались идти 311 выше. Руководитель экспедиции решил идти сам. Вершина приближалась. В четыре часа утра высота была уже 4500 метров. В это время он нашёл доску длиной 1,25 м и толщиной 12 см, на этой высоте не растут никакие деревья. Найденная доска выглядела как деталь, обработанная высококвалифицированным человеком, сообщал начальник экспедиции. В 1856 году экспедиция под командованием Роберта Чиркана без местных проводников-курдов достигла вершины Арарата. Близ вершины в узком ущелье после усиленного труда был обнаружен хорошо сохранившийся Ноев ковчег. С трудом удалось проникнуть через вход. В начале коридора увидели стойла для животных, высотой до пяти метров в трёх отделениях, другие три отделения были заполнены льдом… Турецкое правительство осталось недовольно этим открытием и запретило подниматься на вершину горы экспедициям с целью исследования состояния Ноева ковчега. В 1883 году турецкое правительство официально сообщило о существовании Ноева ковчега: 10 августа 1883 года команда специального правительственного назначения сообщила турецкому правительству: «Обнаружили гигантское строение, но боялись войти в него, так как из окна его выглядывал злой дух». В 1902 году десятилетний мальчик поднялся на вершину горы Арарат со своим дядей. Его дедушка был священнослужителем и часто рассказывал мальчику о Ноевом ковчеге. Мальчик с интересом слушал дедушкины рассказы и имел большое желание подняться на вершину горы… ...Сели они с дядей на осла, предварительно уложив груз на него, добрались на высоту 2, 5 км. Выше осёл идти не стал, не мог. Тогда дядя разгрузил осла и отпустил его. Поднимались на вершину восемь дней. В тот год на горе было мало снега (каждые двадцать лет накопившийся на вершине горы снег тает). Когда добрались они до ковчега, дядя поднял мальчика на плечи и велел взобраться повыше. Оттуда, сказал дядя, возьмись за борт крыши ковчега и поднимайся на неё. Там мальчик должен был найти большое отверстие и заглянуть в него. Перед отверстием он стал на колени и начал рассматривать всё внутри, но кроме зелёного мха ничего не мог увидеть. Крыша ковчега была покрыта большим слоем снега. Вдоль крыши располагались поперечные отверстия — щели. Мальчик насчитал их более двадцати. В них тоже было много мха. Дядя снял ружьё и выстрелил в стену ковчега, но не мог пробить её пулей, так как стена была толщиной в метр. Тогда он отрезал кусок дерева от ковчега ножом. 312 Рассказывают, что позже мальчик видел Ноев ковчег во второй раз. Он выглядел огромным. В нём не было никаких дверей и не видно было следов гвоздей. Весь верх плоский, похожий на кровлю баржи. В августе 1916 года, когда Россия и Турция были в состоянии войны, лётчик Ростовецкий во время разведывательных полётов в районе горы Арарат случайно обнаружил Ноев ковчег, через носовую часть которого ветер гнал волны воды, другая часть его обледенела и была покрыта снегом. Ростовецкий сфотографировал Ноев ковчег, записал дополнительные ориентиры местонахождения и послал курьера с этими сведениями к царю Николаю II. Царь без промедления направил рабочих для строительства дороги — от подошвы горы до её снежной вершины. Вскоре после этого была направлена научная экспедиция в составе Петербургской академии наук, государственных чиновников и духовенства с обслуживающим персоналом — всего сто пятьдесят человек. Эта экспедиция была направлена вслед за строительством дороги. Но в это время наступила поздняя осень, гора быстро обледенела. Дверь ковчега открыть не смогли. Экспедиция сфотографировала несколько объектов, собрала множество предметов — деревянных остатков приспособлений ковчега, ограждений, предметов обихода на вершине горы. Когда научная экспедиция вернулась в Петроград, уже началась Октябрьская революция. Л.Д. Троцкий приказал уничтожить все реликвии, принесённые экспедицией.1 В 1922 году два альпиниста прошли через Иран в Турцию и поднялись на Арарат, отпилили от Ноева ковчега частицу размером в десять квадратных сантиметров. Впоследствии экспонат был обследован лабораторным путём. Возраст древесины определили в пять тысяч лет или даже больше… Это совпадает с известными библейскими данными. Восходители сообщили о характере подъёма и погодных условий: вся площадь вершины, по их данным, была покрыта снегом и занимала несколько квадратных километров. 1 В 1933 году англоязычный журнал «Новый Эдем» опубликовал статью бывшего русского авиатора Владимира Ростовецкого с подробным описанием его находки. По непроверенным данным, Ростовецкий опубликовал также книгу «Ковчег — реальность». Редакция «Предвестья» обратилась за помощью к специалистам Московского историко-архивного института — ответ отрицательный: книги в библиотеках нет. Судьба и местонахождение отчётов о царской экспедиции 1916—1917 годов также неизвестны. 313 В 1944 году во время проведения Тегеранской конференции стран антигитлеровской коалиции советские лётчики из Москвы в Тегеран и обратно доставляли дипломатов и журналистов. Авиамаршрут определил сам И.В. Сталин. Маршрут пролегал через турецкую территорию, в том числе и через вершину большой горы Арарат. Советские лётчики видели на вершине горы Арарат силуэт Ноева ковчега, покрытый льдом и снегом. В 1945 году после Великой Отечественной войны сведения о результатах исследований русской экспедиции стоянки Ноева ковчега стали известны в Америке (Калифорния) по рассказам участников экспедиции или их родственников. В 1955 году состоялась третья французская экспедиция под руководством археолога Фернана Наварры. Наварра взял с собой своего одиннадцатилетнего сына. Французская экспедиция принесла с собой при возвращении пять кусков дерева гфер, обработанного руками специалистов высшей квалификации. В экспедиции участвовало одиннадцать человек… Наварра спустил своего сына по канату в ущелье, и там сын увидел через прозрачный лёд ковчег. Когда сын сказал отцу об этом, то отец от радости чуть не упал в обморок… В 1965 году Фернан Наварра на том же месте нашёл кусок дерева длиной 40 см. Группа учёных полагает, что Ноев ковчег разломан на части и они ползут по движущемуся леднику вниз со скоростью один метр в год. В свете всех упомянутых свидетельств, почерпнутых отчасти из источников письменных, отчасти из прослушивания радиостанции «Земля и небо», отчасти из рассказов жителей Армении в приграничной зоне и многого другого, что мне довелось собрать в течение без малого двенадцати лет, Ноев ковчег, без сомнения, существует. Библейская дата Всемирного потопа и Ноева ковчега до Рождества Христова 2850 лет. *** 10 октября 1982 года в газете «Правда» в статье «Приезд в Турцию» сообщалось, что Турцию посетил астронавт Джеймс Ирвин, которого любезно встретила турецкая общественность. Но на другой день он потребовал от турецкого правительства вертолёт, оборудованный новыми навигационными приборами, для поиска Ноева ковчега. Турецкое правительство отказало ему в этой просьбе, так как гора Арарат находится рядом с советско-турецкой границей, а это могло бы ухудшить наши 314 добрососедские отношения. Но Джеймс Ирвин решил самостоятельно подняться на вершину. В походе его настигла беда. Он сломал ногу и был вынужден вернуться в Америку. 16 октября 1983 года «Радио Канады» из Монреаля сообщило о том, что ЮНЕСКО готовит экспедицию в составе двадцати человек для восхождения на Арарат к стоянке Ноева ковчега. Как позже я узнал от священнослужителя Армянского патриархата, в первой половине 1984 года ЮНЕСКО снарядила две научные экспедиции, состоявшие соответственно из 20 и 243 человек. Однако обе экспедиции вернулись, не достигнув цели. После этого готовилась третья экспедиция, которая определялась в сорок человек команды. В эту экспедицию просился и я в своих письмах, заявлении и телеграмме на имя генерального директора ЮНЕСКО господина М. Боу. Но ответа не получил. Писал и новоизбранному директору ЮНЕСКО господину Федерико Майору Сарагоса, но то же самое — ответа не получил. 13 сентября 1983 года состоялся телефонный разговор между мной и заместителем генерального директора ЮНЕСКО, его личным секретарём господином Нельсоном Гарсия (Париж) на русском языке. На мои вопросы Нельсон Гарсия отвечал следующее: «ЮНЕСКО планирует научную экспедицию, предназначенную для восхождения на вершину горы Арарат к стоянке Ноева ковчега, не ранее как в начале девяностых годов. Что касается ваших писем и телеграмм, то ЮНЕСКО не нашла нужным отвечать…» 1 марта 1986 года, из передачи «Клуб путешественников»: «В городе Стамбуле (Турция) имеется величественный храм Святой Софии, дверь которого изготовлена из деталей Ноева ковчега…». 1987 год, из передачи «Радио Канады»: «Вопреки установленным спутниками данным, которые определяют местонахождение Ноева ковчега под снежным наслоением, новая экспедиция Кофорда, с разрешения турецкого правительства и с ведома ООН и ЮНЕСКО, определила новые уточнённые данные местонахождения, размеров и наслоений. Эдварда Кофорда и Франца Бернарда в интересах безопасности при восхождении на вершину сопровождали турецкие полицейские. Они были снабжены рациями и поддерживали связь через равномерные промежутки времени с пунктом, находящимся у подножья горы. 315 Все исследования и фотографирование проводили на расстоянии 4000 метров от ковчега. Найдены многие предметы». Все отчёты экспедиции были переданы турецкому правительству и Константинопольскому патриархату, а также в ООН и ЮНЕСКО. Раскопки и извлечение Ноева ковчега из ущелья Эрш и озера Кал должны были начаться в июле 1988 года силами правительства Турции, под руководством и с участием Эдварда Кофорда и Франца Бредада. Эдвард Кофард — фундаменталист лютеранской церкви. 28 октября 1988 года газета «Известия» в статье «Приглашают туристов» писала: «По сообщениям из Стамбула, легендарная гора Арарат вскоре превратится в туристический центр Турции. Представители властей объявили, что в будущем году Арарат откроется для иностранных туристов. Туристические комплексы будут построены в районе Узенгили». 25 декабря 1988 года газета «Крымская правда» в статье «Диснейленд в Стамбуле» сообщала: «Красочная церемония закладки “Диснейленда” состоялась в Стамбуле. Он будет состоять из трёх разделов: истории и развлечений, легенд и мифов, волшебства и открытий. Посетители Стамбульского “Диснейленда” могут совершить путешествие по Босфору… к модели Ноева ковчега, оказаться среди героев сказок Шехерезады, прокатиться по головокружительному серпантину американских горок…». *** Всемирный потоп был. Вот ряд подтверждений… При обработке ископаемых, добытых археологическими экспедициями, встречаются скопления костей рыб и наземных млекопитающих животных в одном месте. Так, например, на острове Сицилия было обнаружено несколько тысяч животных и морских рыб. Среди них обнаружены шерсть, чешуя и другие останки кожных покрытий. При анализе нескольких пластов грунта были найдены стволы деревьев смешанных пород, достигающих длины до 25 метров. Их вершины были сцеплены друг с другом. Давление превращало их в уголь. Результаты доказывают, что до потопа растительности было больше, чем в настоящее время, в особенности деревьев, то есть до сего времени растительность и леса намного отстают по количеству и качеству от допотопного периода… 316 В семидесятых годах нашего века учёные университета Майами (Флорида, США) изучали колонки донного грунта со дна Мексиканского залива. Анализ концентрации кислорода показал, что на определённой глубине количество ряда изотопов резко падает. Произойти это могло в результате сильного опреснения морской воды. По расчётам, подъём уровня моря мог достигнуть при этом нескольких десятков метров. Многие современные деятели науки, инженеры, учёные взвешивали, рассчитывали, каким образом в то далёкое историческое время могли люди построить ковчег с таким техническим совершенством. Угадывали форму ковчега и предполагали её прямоугольной. Позже строили корабли по описанию ковчега, то есть длина должна относиться к ширине как 6:1, а высота 30 метров. Третье поколение фараонов строило корабли каменным топором, хотя и были уже известны металлы (медь, железо) и перевозили грузы по 15000 тонн. По предложениям некоторых специалистов, в нижних этажах ковчега находилась пресная вода для всей живности, на втором этаже — вся живность (молодняк), а в верхнем — третьем — жильё, там же хранился корм для всей живности, а также продукты для семьи Ноя. Животные, которых грузил Ной в ковчег, приходили к нему сами по инстинкту: Ной брал животных и диких зверей только в детском возрасте. Эти животные и вся живность могли быть обращены Ноем в спячку на случай продолжительного дрейфа ковчега или на первое время (высадки) вывода животных из ковчега. …Площадь трёх палуб ковчега составляла 11250 м2. Санар, отверстие вверху ковчега, был сведён Ноем в локоть. Итак, по подсчётам специалистов и по данным размеров в Библии, ковчег был внушительным судном. Он мог вместить груз 579 товарных вагонов. Идеально подходящий для этой цели ковчег имел чистый груз на борту 28826 тонн и погружался всего на пять метров осадки. Был снят фильм об испытании и устойчивости модели Ноева ковчега. Ковчег оказался исключительно устойчивым: морские волны высотой в 60 метров не могли его перевернуть. Самые большие волны (цунами) высотой в 30 метров наблюдались в Тихом океане у берегов Японии. На ковчеге не было руля, румпеля, вёсел. От места построй317 ки до Араратских гор ковчег прошёл 1000 км. До сегодняшнего дня люди не знают, из какого дерева построен ковчег: гфер, кипарис, древний кипарис, египетский кедр или белый дуб. Белый дуб оказался лучше всех древесных материалов. Место произрастания его — от Мёртвого моря до Персии. Строился ковчег на территории Вавилона, где в большом количестве была смола. Смесь смолы со щебёнкой или мраморной крошкой (асфальт) издревле известна на Востоке. Такой смолой была оклеена корзинка, в которую, по преданию, был положен младенцем еврейский пророк Моисей. В этой местности, где ныне находятся ближневосточные страны (нынешние мировые нефтедобытчики), смола могла быть нефтяного происхождения. …Египетские пирамиды строились тридцать лет. На этой работе было занято сто тысяч человек. Сколько людей работало у Ноя на строительстве ковчега? В то время Ноя считали выжившим из ума, чудаком, странным человеком. Над ним смеялись, некоторые бросали работу. Смеялись над его непонятной затеей. На какие средства он строил ковчег? Это пока остаётся загадкой. Чем питались Ной и его семья? Ною было пятьсот лет, когда у него появились дети. Учёные и религиеведы с мировым именем высказывают догадки, что у Ноя были дети и раньше. Эти дети могли погибнуть при какихлибо обстоятельствах или во Всемирном потопе. До потопа люди питались главным образом растительной пищей: зёрна злаков и изделий из них, фрукты, бахчевые, ягоды, виноград, орехи, овощи, пчелиный мёд и другие дары природы, о которых мы, по-видимому, не имеем представления, кроме известных теперь. Всё это в сочетании с нетронутой природой, доброй совестью и верой во Единого Бога способствовали долголетию человека на земле. Продолжительность жизни была девятьсот лет и более. Всемирный потоп стал границей жизни человека в очередной цивилизации. После потопа наступило резкое снижение продолжительности жизни человека: патриарх Авраам прожил только 350 лет, его жена Сарра 130 лет. В шестой главе Первой книги Моисей пишет: «И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет». Однако продолжительность жизни в настоящее время намного ниже той, что определил Бог тем людям, которые его возмущали своим поведением. Нужно ли объяснять, в силу ка318 ких причин в настоящее время продолжительность жизни людей упала даже по сравнению с определённым сроком? У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Все они говорили на одном языке, на одном наречии. Увы, скоро обнаружилось: новые люди не лучше тех, что жили до потопа. Возгордившись своими знаниями и умениями, они решили прославить себя и построить такую башню, чтобы вершиной она доставала до самого неба. И начали строить. Тогда Господь сошёл, чтобы посмотреть на город и на башню. И, видя упорство и гордыню строителей, наказал их тем, что смешал их языки. С тех пор люди стали говорить на разных наречиях и не могли понять друг друга. Строительство приостановилось, и люди разбрелись по всему миру. Город же, где строили башню, расположен на берегу реки Евфрат, и называют его Бабель (Вавилон), что означает «смирение». Как свидетельствуют археологи, высота башни была около девяноста метров. И поныне некоторые люди подобны строителям Вавилонской башни. Находясь в плену у гордыни, хотят они показать всему миру плоды своего ума и вершат порой вовсе ненужное и вредное. Но Господь Бог являет вновь и вновь нам Своё могущество. Источники Библия. Изд. Московской патриархии. 1956 г., стр. 9, глава 6. Радиостанция «Земля и небо», Канада. Из сообщений разных лет. Рассказы жителей Армении в пограничной зоне. Записки протоиерея Стефана Ляшевского. 1958 г. Изотопы о потопе. Эврика-78, М., 1978. С. 34, 36. Åëòàé ÒÓÐËÛÁÀÅ Óñòü-Êàìåíîãîðñê ÇÅÍÈÒ×ÈÖÛ И ночью, и днём, И в дождь, и в туман, И в зной, и в мороз, и в пургу Бойцы ПВО на местах постоянно, Бойцы ПВО — начеку. Наступило лето. Всё зазеленело и расцвело. Каждый вечер в городском саду, который получил имя Жамбыла, играла музыка. Молодёжь танцевала. Третий год как город стал областным центром. Появились первые организации, о которых горожане раньше ничего не знали. Началась подготовка к строительству электрической станции на Иртыше. Это была одна из трёх ГЭС, которые должны быть построены по решению XVIII съезда ВКП(б). Начали мостить улицу. Писали, что по улицам города будут ходить троллейбусы. Улица Ушанова на окраине города упиралась в большую яму, которая образовалась в результате того, что здесь многие годы брали землю для изготовления кирпичей. Теперь планировали засыпать её и перенести сюда городской базар. В субботу в комполитпросветтехникуме состоялся выпускной вечер. Вместе с другими с замиранием сердца получила диплом и семнадцатилетняя Майра Ахмадиева. Перед ней открывались все дороги во взрослую жизнь. Всё ей виделось в розовом свете. Она решила, что в понедельник пойдёт сниматься с учёта, а потом поедет домой. Отдохнет, а там видно будет. Но в воскресенье после полудня город был взбудоражен: началась война. Проведя бессонную ночь, девушка пришла к выводу — она едет на фронт. Дядя погиб в войне с белофиннами. Теперь Германия напала на нас. Её надо проучить как следует. Как же ей, комсомолке, не принять в этом участие. И она пошла в военкомат. 320 — Я поеду на войну! — решительно заявила она. — Закончила техникум, прошла военную подготовку, ворошиловский стрелок. В подтверждение своих слов она выложила диплом и удостоверение. Маленькую ростом, хрупкую девчонку с интересом выслушали и сказали: — Все правильно. Но как ты будешь винтовку таскать? Сейчас иди работай. Людей с образованием везде не хватает. Подрастёшь немного — вызовем. Огорчённая своей первой неудачей, Майра вернулась в аул, колхоз «Талапкер». Здесь она родилась, выросла, кончила начальную школу в соседнем ауле. Затем училась в городе. Работать она никуда не пошла. Отец постоянно был на колхозных работах. Брат пошёл в третий класс. Майра помогала матери по хозяйству, брату готовить уроки. Вскоре пришла «похоронка» на второго дядю, последнего брата отца. «Кто пойдёт мстить за погибших? — думала девушка. — Единственный мужчина — маленький брат. Пока он вырастет, война кончится». Майра пошла в сельсовет. — Агай, — обратилась она к председателю. — Мне нужно попасть на фронт. Исправьте, пожалуйста, мой год рождения на двадцать второй. Очень прошу вас. Председатель Шакабай молча смотрел на сидящую перед ним девушку и думал: «Молодая, красивая, окончила техникум. Чего ей ещё надо? Работала бы да наслаждалась жизнью. Не-ет, ей надо на войну! Туда, где убивают и калечат. Непонятно! Или я чего-то не понимаю? — Ему до слёз стало жалко её. — Попытаться уговорить её отказаться от этой вздорной мысли? А если она поедет в район? Да расскажет где-нибудь об этом. И я могу оказаться “врагом народа”. Эх, дорогая ты моя! Ты же, как ночная бабочка, летишь на огонь...» Тяжело вздохнув, он сказал секретарю: — Подай хозяйственную книгу «Талапкера»! — Открыл нужную страницу и увидел, что в семье только двое детей. «Да, Ахмади, не богат ты потомством», — подумал Шакабай и исправил последнюю четвёрку на двойку. — Ну вот, сразу стала на два года старше, — сказал он. — Рахмет, — поблагодарила она. — Только об этом никому не говорите, агай, ладно? — Майра посмотрела на председателя и секретаря. Те молча кивнули головой. 321 После Нового года Ахмадиеву призвали в армию. 17 июня выпускники средней школы имени Ленина проводили выпускной вечер. Время было уже трудное. Страна перешла на семидневную рабочую неделю. Скудно стало с продуктами и мануфактурой. Но молодёжь не унывала. Прошли десять лет учёбы. Все эти годы они сидели за партой в одном классе. Были в пионерских отрядах, проводили чудесные летние месяцы в пионерских лагерях. Потом стали комсомольцами, купались и загорали на протоке Иртыша и в Ульбе. Дружили, играли, росли. И первые юношеские чувства родились в школе. Тамаре Гречухиной было восемнадцать лет. Перед ней открывалась дверь в большую жизнь. Через пять лет она мечтала стать врачом. Весть о вероломном нападении фашистской Германии обрушилась на всех как гром среди ясного неба. В глубине души люди понимали, что война с ней будет трудной. Все тогда пели: «Если завтра война...» и были уверены, что Красная Армия «малой кровью, могучим ударом» разгромит врага. Тамара и несколько её подруг решили ехать на войну и написали заявление в военкомат. Им отказали. Гречухина уехала в Алма-Ату. С абитуриентами была проведена экскурсия по институту, показаны лаборатории. Когда Тамара увидела, чем занимаются медики, у неё отпала охота. Она поступила в юридический. В институте и в общежитии было холодно, на карточки выдавали 400 граммов хлеба. Девушка голодала. Самой бросить учёбу не позволяла гордость. Она сказала об этом матери, которая телеграммой вызвала её домой. Гречухина опять написала заявление в военкомат. Её направили на курсы радиотелеграфистов, а потом призвали в армию. В понедельник группа девушек, среди них была и Настя, которые только что окончили среднюю школу, написали заявления и пришли в военкомат. — Девчата, да как вам с косами-то не жалко расставаться?! — ответили на их заявления. Косы у девушек действительно были толстые и длинные. Они посоветовались и решили их обрезать. Не откладывая назавтра, гурьбой пошли, несмотря на уговоры парикмахеров, все подстриглись под «польку». Назавтра опять пошли в военкомат. Сначала их не узнали. Посмотрели на их заявления и ахнули: — Мать честная! Да вы ли это? — Взяли заявления и сказали: — Ждите, вызовем. 322 Фашистское правительство протянуло свои щупальца на Ближний Восток. Оно нашло общий язык с националистическими кругами Ирана и при попустительстве руководства страны стало создавать в Северном Иране военные склады. Затем потихоньку стали прибывать военные специалисты. Чтобы обезопасить свою южную границу, Советский Союз на основании договора 1921 года в августе 1941 года ввёл свои войска на территорию Северного Ирана. Юг Ирана оккупировали англичане и закрыли доступ гитлеровцам в Индию. Это дало возможность Советскому Союзу отправить на фронт несколько свежих дивизий. Положение в сорок втором году вновь осложнилось. В июле гитлеровцы захватили Ворошиловград, а неделю спустя вновь овладели Ростовом, откуда были выбиты прошлой осенью. Угроза Кавказу оказалась горазда серьёзнее, чем в прошлом году. Упорные бои в большой излучине Дона означали, что немцы рвались к Волге, чтобы перерезать сообщение между югом и центром страны. Это вынудило Комитет обороны принять меры к укреплению противовоздушной обороны центров коммуникаций. В августе 1942 года в посёлке Табаксай, в сорока пяти километрах от Ташкента, на базе 86-го запасного зенитного полка начал создаваться 731-й зенитный артиллерийский полк. Командиром его был назначен подполковник М.П. Ботин, заместителем по политчасти — майор М.А. Яновский, начальником штаба — майор Л.Ф. Танковский. Личный состав полка пополнился командирами-артиллеристами, прибывшими из госпиталей, выпускниками Бакинского артиллерийского училища, младшими командирами, уже побывавшими в боях и излечившимися после ранения. Вскоре стало известно, что из Казахстана, Узбекистана, Киргизии едут девушки, среди них много эвакуированных из России, Украины и Белоруссии. Эту весть командиры и сержанты восприняли скептически. Они недоумевали, как будут командовать девчонками, которые в жизни не видели военную технику?! Командир полка и комиссар собрали мужчин и провели с ними беседу. Майор Яновский сказал: — К нам едут не девчонки, а девушки-комсомолки, которые решили сражаться с врагом. В военкоматах их предупредили, какие трудности их ждут на фронте. Но это не остановило комсомолок. Поэтому встретить девушек мы должны 323 доброжелательно, обучать военному делу без грубости и раздражительности. — И навсегда забудьте матерщину. Это будет караться по закону военного времени, — строго предупредил подполковник Ботин. Беседа возымела действие. Встречали девушек спокойно, распределяли по дивизионам, батареям, взводам. Вскоре мужчины убедились, что девчата не хуже их овладевают сложной техникой, добросовестно несут службу, выполняя разнообразные обязанности. Они стали телефонистами, радистами, разведчиками, прибористами, дальномерщиками, орудийными номерами, водителями грузовиков. Их присутствие заставляло мужчин более требовательно относиться к себе — они стали чаще чистить сапоги, подшивать подворотнички, аккуратно стелить постели. Выход гитлеровских армий на Северный Кавказ и пребывание их в районе Сталинграда угрожало воздушному пространству каспийских портов Астрахани, Баку, Махачкалы, Красноводска. Чтобы обеспечить их охрану, 731-й ЗАП перебазировали в Красноводск, который был перевалочной базой, через которую непрерывно шло снабжение фронтов вооружением и продовольствием, а на восток эвакуировались промышленные предприятия Украины, юга России, люди из западных районов страны, раненые. *** — Ира, иди, за тобой приехали, — сказала бригадир. День был на исходе. Утром она должна быть в военкомате. Домой добрались около полуночи. Ей уже приготовили верховую лошадь. — Ну почему только тебя призвали в армию? — сокрушалась мать. — Не плачь, мама. Я писала заявление, вот и пришла повестка, — объяснила дочь. Ей объяснили, как ехать, где оставить лошадь. — Спешить не надо, езжай потихоньку. Утром будешь в Никитинке, — сказал на прощание старик-конюх. Была тёплая летняя ночь. Дорога шла по просторной долине между гор. Ярко светила луна. Вспомнилась прошлая весна, когда она, закончив школу с похвальным листом, съездила в Ленинградский электротехнический институт и сдала докумен324 ты. Её сразу зачислили студентом первого курса. На обратном пути в Орше её застигла война. Мечта о беззаботном отдыхе вместе с друзьями и подругами превратилась в дым. Об учёбе тоже нужно было забыть. Что делать? Где её место сейчас? С этими мыслями она вернулась в свой пограничный город Ярцов Винницкой области. Отец ушёл на фронт. — Я пойду в партизаны, — заявила Ира матери и сестре. — Ты что, бросишь нас в беде? — всполошились мать. — Доченька, давай уедем отсюда вместе, — стала уговаривать её она. Сестра поддержала мать. Уговоры подействовали. Она не решилась бросить мать и сестру на произвол судьбы. Поезда уходили набитые людьми. Договорившись со знакомым машинистом, на тендере одного из последних паровозов они вырвались из зоны войны и приехали в родной город Крюков на Днепре. Через две недели военком настоял, чтобы они ехали дальше. Месяца три работали в совхозе станицы Новозотовской Ростовской области. Война догнала их и здесь. В конце октября их эвакуировали в Сталинград, потом в Астрахань. Затем в трюме военного корабля добрались до Красноводска. Но и здесь долго не задержались. В теплушках через всю Среднюю Азию их привезли в Восточный Казахстан, а затем доставили в посёлок Таргын. Здесь Ира стала работать мастером на фабрике взрывчатых веществ. Это было секретное предприятие, расположенное далеко в горах. Тогда она отправила заявление в военкомат. И вот её желание исполнилось. Она едет на фронт. Матери и сестре ничто здесь не угрожает, доживут до победы. Сейчас она работала на лесозаготовках. Лес, в основном хвойный, рос на склонах высоких гор. Работали молодые женщины, девушки, а также были рослые подростки. Воздух здоровый, работали весело... Проехала мимо разбросанных домиков. Кричали петухи. Кое-где лаяли собаки. Переехала речку и проехала небольшой спящий аул. Когда взошло солнце, она въехала в Никитинку. Районный центр был небольшой, с невзрачными саманными завалюшками. Ира заехала на заезжий двор, сдала лошадь, попила с хозяевами чай и в восемь часов была в военкомате... Из областного центра выехала группа девушек. Бойкие и шустрые городские стали знакомиться друг с другом. Из УстьКаменогорска ехали сёстры Беляевы, Женя Могилевская, Ира Парханова — из Уланского, Раиса Орлова и Варя Пазюк — из Таврического районов, Наташа Догаткина — из Лениногорска... Городские всю дорогу тараторили. Варя — белокурая девушка 325 в длинном белом шёлковом платье — сидела и молчала, напротив неё так же молча сидела и Наташа. Они молча глядели друг на друга. В Алма-Ате в их вагон сели молодые командиры. Они всё подшучивали над Варей, а она только смеялась. Их компанию привезли в Ташкент. Здесь им остригли волосы, вымыли в бане, откуда они вышли в военной форме. На них надели поношенное мужское бельё, брюки, гимнастёрки, сапоги. Всё было большое, мужское, неуклюжее. Такие же большие были шинели и шапки. «Разве мы об этом мечтали!» — роптали девушки, некоторые приуныли, некоторые плакали. Курсы радистов Гречухина заканчивала уже в Чирчике. Она сдала на третий класс. Её направили в 344-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, который дислоцировался в Красноводске. Парханова и Ахмадиева попали в 10-ю батарею. Ира стала телефонисткой, Майра — наводчицей. Зенитная пушка, калибр ствола которой был 85 миллиметров, достигал самолёты противника на семикилометровой высоте. Двухколёсная ходовая часть легко приводилась в боевое положение. Пушка подвижная, её снаряд легко пробивал броню немецкого танка. Орудийный расчёт тренировался напряжённо. Заряжающие набивали мозоли, перекидывая во время тренировок до сотни пудов снарядов. Командиры доводили действия номеров до автоматизма. Вскоре полк передислоцировался в Красноводск. 344-й ЗАД вошёл в состав полка под четвёртым номером. Прибыло и новое, специально сшитое для девчат обмундирование. Быстро переоделись, и сразу стало легче на душе. Берта после окончания школы поступила на литературный факультет Ростовского пединститута. Когда она заканчивала первый курс, началась война. Девушка подала заявление в военкомат. Ей предложили пойти на курсы военных специалистов. Она закончила вечерние курсы телефонистов, а потом медсестёр. Горелова попала в Среднеазиатский военный округ. Из Ташкента их направили в Красноводск. Она прибыла телефонисткой в управление Четвёртого дивизиона. Её встретила дневальный — маленькая, плотненькая, в хорошо пригнанном обмундировании. — Я Тамара Гречухина, — назвалась она. — Я Берта Горелова, — ответила новенькая. Тамара вдруг весело улыбнулась и сказала: «Теперь не я буду стоять последней!» 326 Красноводск щедро дарил им своё тепло. Температура достигала сорока градусов. Очень хотелось пить, но пресной воды в городе не было, а опреснённая была невкусной. Правда, танкерами привозили из Баку питьевую воду, но её не хватало. Хлеб был чёрный, плохо выпечен. Из него можно было лепить игрушки. Но девушки не лепили. Четыреста граммов представляли собой небольшой комочек. Не пропадала ни одна крошка. В столовой роем носились огромные мухи, которых бойцы не успевали вытаскивать из котелков. Несмотря на жару и нехватку питьевой воды, жизнь зенитчиков шла по строгому распорядку: подъём, физзарядка, утренний осмотр, занятия, ночные марш-броски с полной выкладкой, тактические выезды с окапыванием, с учебными стрельбами, прокладкой телефонной связи, с походной кухней. Старшина взвода Шевченко объявил построение. Все схватили свои винтовки, противогазы и стали в строй. Берта смотрит: Тамара снимает штык своей винтовки и затыкает его за ремень. Она сделала так же. Старшина медленно обходит строй, осматривает гимнастёрки, как подшиты подворотнички, начищены сапоги. Вот он доходит почти до конца строя, останавливается и смотрит на штык Гречухиной, потом переводит глаза на неё. Горелова чувствует, что старшина с трудом сдерживает свою улыбку. Потом приказывает: — Гречухина и Горелова, выйти из строя! Они делают три шага вперёд и поворачиваются лицом к строю. И вдруг все начинают хохотать. Ничего не понимая, Берта и Тамара смотрят друг на друга. — Да кто же штык затыкает за ремень? — спрашивает старшина, уже не сдерживая улыбку. — Как вы в рукопашном бою будете бить фашистов? Одной рукой с винтовкой, а другой со штыком?! Ах вы, Аника-воины! Тамара весело рассмеялась, а Берта чуть не заплакала от стыда. Постепенно девушки втянулись в армейскую жизнь. Жить в землянках, где вечерами тускло мерцал огонёк из гильзы, котелки, ранний подъём, физзарядка на воздухе в любую погоду — всё это оказалось не таким страшным. После отбоя потихоньку пели довоенные песни о том, как уходили комсомольцы на гражданскую войну, о матросе Железняке, навеки уснувшем под курганом, об Орлёнке, Сулико... Лена Панкратова подружилась с Бертой. Обе они были телефонистками, дежурили у телефона, сменяли друг друга, спали рядом. 327 ...Воскресный день июня. Аудитория Харьковского машиностроительного института. В группе паровозников второго курса идут экзамены по математике. Лица у студентов сосредоточены. В углу за отдельным столом сидит старичок-профессор. Перед ним худощавая высокая девушка. Это Лена Панкратова. Она отвечает бойко — ведь математика — её любимый предмет. Час спустя весёлая компания студентов направляется в общежитие. Предстоит ещё один экзамен. А впереди — каникулы, родной городок Рубежное, весёлые прогулки, катание на лодке с друзьями-одноклассниками. Но что это? ...Перед репродуктором, висящим на столбе, тихо стоит толпа людей. Выступает Молотов. Он говорит о том, что немцы бомбили наши города... Война! Берта была незаурядной девушкой. Она, как и многие, добровольно пошла в армию, хотя была студенткой. Была очень начитанна. В свободное время, особенно перед сном, рассказывала подругам мифы Древней Греции и Рима, на вопросы отвечала очень обстоятельно. Девушки прозвали её ходячей энциклопедией. У неё был прекрасный почерк, поэтому начальник штаба дивизиона (в штатном расписании эта должность называлась адъютант старший) назначил Берту писарем. Кто-то в шутку назвал её «адъютантом младшим». Шутка понравилась. И часто все к ней так и обращались, на что она не обижалась. Потом её назначили редактором стенгазеты. Для художественной самодеятельности она сочиняла монтажи, юморески. Девушки удивлялись, как в ней совмещалось столько умения. Лена заметила, что Берта как-то сразу изменялась в лице, когда к ним в телефонку под каким-нибудь предлогом заходил командир орудия сержант Василий Белов. Это был высокий, широкоплечий, очень симпатичный парень. Многие девчата засматривались на него. Батарея находилась недалеко. Пользовались одной столовой, где иногда демонстрировались кинофильмы. Если Василий приходил раньше, то занимал два места — для Лены и Берты. Как бы в шутку он объяснял, что занимает место Лене как комсоргу, а Берте как адъютанту младшему. Как-то Лена спросила у подруги, нравится ли ей Белов. — Нравится, — ответила она. — Но таким ребятам нужны другие девушки. Да, внешне они не подходили друг другу. Берта была маленького роста и вовсе не красавицей. Однажды во время ночного марш-броска вдоль по берегу 328 моря, когда все шли при полной выкладке: шинель-скатка, вещмешок, винтовка, противогаз, Берта оступилась и подвернула ногу. Опираясь на винтовку, она с трудом шла. И вдруг сильные руки Василия подняли её и понесли к санитарной машине, которая следовала за колонной. Берта обхватила его шею руками и прижалась к нему, но быстро убрала руки и, смеясь, сказала: — Спасибо, сержант, за товарищескую помощь. — Поправляйся скорей, адъютант младший, — ответил он, посадив её в машину, и побежал догонять свой расчёт. Лена видела всё это и утром спросила у подруги: — Небось приятно было на руках у Белова? Берта подумала и сказала: — Да, приятно. Мне нравятся крепкие ребята. Но это ничего не значит. В красноводский порт приходило много кораблей с различными грузами и людьми. Среди них было много танкеров, нефть из которых перекачивалась в цистерны и отправлялась на восток. Часто по вечерам со скалы, где находился КП дивизиона, девушки наблюдали за этими судами. Как-то до них донеслись слова песни: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море...». Командир взвода управления старший лейтенант Жужукин взял гитару и стал подбирать мотив. Потом где-то достали слова песни и запели её. Девушкам казалось, что родилась песня здесь, на Каспии, и моряки, поющие ее, прощаются с портом и с ними, девчатами-зенитчицами. Однажды начальник штаба лейтенант Гриднев собрал всех девушек и провёл штабную тренировку, где каждая должна была выполнять свои обязанности. Лена внимательно следила за работой всех членов оперативной группы. Особенно её заинтересовала работа Ани Жеребцовой на планшете... И вскоре она добилась, чтобы её зачислили вторым планшетистом. Эта специальность требует внимательности, особой собранности, точности в действиях. От того, насколько точно будет отражена на планшете воздушная обстановка, зависят дальнейшие действия командира. В 1943 году из только что освобождённого Краснодарского края прибыли парни 1926 года рождения. Девушки стали обучать шестнадцати-семадцатилетних парней своим профессиям. После разгрома немцев под Сталинградом угроза воздушному пространству над Каспием отпала. Полк из далёкого Туркменистана стал готовиться к отправке на фронт. Упаковывали теле329 фонные аппараты, радиостанции, чехлили орудия, приборы. Бойцам выдали новое обмундирование, среди которого были синие сатиновые трусы. Они шились на мужчин и были большими. Берта отрезала нижнюю часть и стала что-то мастерить. — Ты что делаешь? — спросила Лена. Берта улыбнулась и сказала: — Кисет. — Зачем он тебе? Задумала на фронте курить? — Может быть, пригодится. Она где-то раздобыла цветные нитки, вышила на кисете весёлый букетик цветов, а сверху вышила слова «Пусть тебе помогает, от пуль оберегает». — Ну и кому же ты его подаришь? Берта серьёзно посмотрела на Лену и спросила: — Могу я доверить тебе тайну? Дай честное слово, что никогда никому ничего не скажешь. Лена пообещала. — Тогда постарайся пробраться в землянку к Белову и положи ему под подушку. Но чтобы ни один человек не видел. Сможешь? — Смогу. Когда все были в столовой, пользуясь случаем, Лена выполнила просьбу подруги. Как реагировал на это сержант, девушки не знали. Ни словом, ни взглядом они не выдали себя. Вскоре полк погрузился в железнодорожные вагоны и отправился, как понимали солдаты, на фронт. Личный состав ехал в теплушках, а пушки и приборы везли на платформах. Около них стояли часовые, а когда вошли в прифронтовую полосу, несли боевое дежурство орудийные расчёты, прибористы, телефонисты и разведчики. Путь был долгий. Девушек везли через всю страну: сначала на север, потом на запад. Времени было много. Заполняли его песнями, воспоминаниями о прочитанных книгах и просмотренных кинофильмах. Периодически в вагон приходили командиры, политработники сообщали последние известия о положении на фронтах. Замкомандира по политчасти майор Яновский был очень хорошим рассказчиком. От него девушки узнали много интересных рассказов о героизме воинов. Однажды он спросил: — Девушки, кто из вас курит? Кто-то признался. Он укоризненно покачал головой: 330 — Зачем вы это делаете? Привыкнете, а потом всю жизнь будете курить, гробить свое здоровье. Бросайте! — Товарищ майор, а можно нам вместо махорки давать шоколадные конфеты? — спросила Женя Рапопорт. — Это идея, — ответил майор. — Не знаю, найдём ли мы шоколадные конфеты, но какие-нибудь найдём. Даю вам честное слово. Своё слово он сдержал. Правда, ребята были недовольны, ведь девушки отдавали им свою махорку. При свете лампы «летучая мышь» хорошо было мечтать. У Берты тогда родилось желание когда-нибудь написать книгу о фронтовых друзьях, а главное — о девчатах. Они были такие разные, о каждой можно было написать что-то интересное. Все пришли в армию из разных городов страны, у каждой были свои увлечения, свои радости и горести, свои мечты на будущее. По мере приближения к городам, уже освобождённым от оккупантов, девушки видели изуродованную технику, свою и немецкую, — пушки с изогнутыми стволами без колёс, танки с перебитыми гусеницами, самолёты без крыльев, сгоревшие вагоны, сожжённые и разрушенные дома. Во время кратковременных остановок к вагонам подходили истощённые женщины и дети. Девушки отдавали им свой хлеб. По пути следования на эшелон несколько раз нападали немецкие самолёты, но дружные залпы пушек отгоняли фашистов. Их бомбы падали то с правой, то с левой стороны состава. Вот тогда девушки поняли, что «до смерти четыре шага». В один из дней передали приказ: «Эшелон приближается к Днепру. В вагонах двери не открывать!» Днепр! Как можно было не увидеть Днепр, во время форсирования которого отдали свои жизни тысячи людей? Поезд замедлил ход и тихо поехал по мосту. И тут во всех вагонах широко распахнулись двери. В начале года, когда полк переселился в военный городок, зенитчики впервые услышали «Песню о Днепре». И вот теперь, когда поезд шёл по мосту, неизвестно в каком вагоне, зазвучала эта песня. Её подхватил весь эшелон: Ты увидел бой, Днепр, отец-река... Мы в атаку шли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жив в веках, Коль сражался он как герой... 331 Это был единственный случай, когда личный состав не выполнил приказ командования. Но никто не был наказан. Видимо, старшие офицеры поняли, что песня стала как бы клятвой отомстить за тех, кто навсегда остался в водах реки... С первых дней пребывания на украинской земле зенитчикам пришлось отражать налёты вражеской авиации. Командование полка волновалось, так как зенитчики не имели боевого опыта. Одно дело стрелять на полигонах по конусам, и совсем другое — отражать атаки германских стервятников, которые готовы в любую минуту сбросить свой смертоносный груз. Но тревоги оказались напрасными. Особенно донимала «рама» — воздушный разведчик «фокке-вульф-189», прозванный так за двухфюзеляжную конструкцию. Он зависал над городом на недосягаемой высоте для зенитчиков и фотографировал объекты. Только рассветает, а «рама» уже тут как тут. Задача была защищать переправу, находиться в постоянной готовности. «Снарядов не жалеть!» — гласил приказ. Днём переправу прикрывали истребители. Посты ВНОС (воздушного наблюдения оповещения связью) следили за небом. Все знали: фашисты мост в покое не оставят. Каждую ночь «лидеры» развешивали фонари — осветительные бомбы, спускаемые на парашютах. Их мертвенно-бледное свечение на пятнадцать минут разрывало темноту, обнажая рельеф местности, изгиб реки и саму переправу. Осколочно-трассирующие снаряды рвали ткань парашютов, фонари падали вниз, но вместо сбитых появлялись новые. Ветер не успевал сгонять пороховую гарь, от непрерывной стрельбы докрасна накалялись стволы, а фашисты волнами накатывались на переправу, заходили с разных сторон, пикировали с надрывным воем... У зенитчиков кружилась голова, их тошнило, рвало... ...Холодный порывистый ветер, перемешанный с водой, больно бьёт в лицо. Днепр кажется серым, как небо. А над ним всё гуще и гуще нависает лавина фашистских самолётов с чёрными крестами на крыльях. — Воздух! — старается перекричать заунывный вой «юнкерсов» усталый командир батареи. Это уже пятый налёт, или шестой. Ещё «не остыли» от последней бомбы. — Воздух! Батарея!.. Зенитки открыли огонь. Небо очертили огненные трассы. Голос дальномерщика тонет в хлопках орудий. Над батареей полыхают зарницы, а вверху все чащё появляются рваные хлопья белого дыма. Майра слышит голос только командира, крутит 332 ручки, устанавливая указанную цель. «Готово!» — кричит она. «Огонь!» — орудие, содрогаясь, выплёвывает очередной снаряд. Ахмадиева ничего не замечает вокруг, ей некогда смотреть. Только в минуты редкого затишья видит своих потных и усталых подруг. Летят вниз капли-бомбы, поднимают фонтаны воды, но не у моста — в стороне. Беспорядочно сбросив свой смертоносный груз, немецкие бомбардировщики уходят с курса... Сколько бессонных ночей провели зенитчики у орудий, приборов, телефонных аппаратов, постов ВНОС и СОН (станция орудийной наводки). Приходилось под бомбёжкой восстанавливать связь, подвозить на батареи снаряды, вести наблюдение за самолётами противника. Очень помогали орудийщикам прожектористы. Лучами мощных прожекторов они схватывали в клещи немецкие самолёты, ослепляли лётчиков и умело вели по небу, давая возможность орудийщикам вести прицельный огонь. Самолёты вспыхивали и взрывались в воздухе. На счету полка пять сбитых самолётов. Всем на фронте было тяжело. Особенно девушкам. Да, было очень трудно. Случалось, что и плакали украдкой. Ведь никаких скидок на слабый пол не было. Спали в холодных землянках, если не смогли обеспечить себя топливом. Но чтобы всётаки не замёрзнуть, девушки собирали поваленные деревья, распиливали их, топором кололи, натирая мозоли. Ходили в гарнизонные и внутренние наряды. Промокали под дождём и не могли переодеться, так как сменной одежды и обуви не было. Иногда поверх одеяла укрывались лёгкой шинелью. Девушки радовались, когда были обильные снегопады и метельные дни. В такие дни фашисты оставались на своих аэродромах. И это давало возможность запастись дровами. Иногда приходили помочь ребята, а девушки расплачивались махоркой. Однажды днём, когда особенно бушевала метель, к девушкам пришли ребята из расчёта Белова. На самодельных салазках они привезли ворох пиленых дров. — Принимайте, девчата, наши подарки к 8 Марта, — сказал заряжающий Бабенко. — Цветов ещё нет, не выросли, так мы вам дрова подбросили, чтобы не замёрзли. — Спасибо, ребята! Это лучше цветов! — зашумели девушки. — Какие вы молодцы! 333 — Передай нашу благодарность сержанту Белову, — за всех ответила Маша Азарова. — Ведь это он вас послал. Когда ребята ушли, Маша обвела всех внимательным взглядом. — Здесь дело нечисто, — сказала она. — Просто так Белов не прислал бы нам дровишки. Признайтесь, кому конкретно мы обязаны таким вниманием? — Конечно не мне, — сказала радистка Саша Ковалёва. — И не мне, — поддержала её химинструктор Ксеня Зеленева. — Ну, Татьяна ему тем более не нужна, — решила Маша, — очень уж рыжая... Лена Панова — комсорг, в неё влюбляться нельзя. Берта Горелова — где ж ей, дюймовочке, покорить такого парня... Подождите, подождите, осталась я, может быть, как раз мне сделан этот подарок? Чем я не подхожу? Блондинка, весёлая, частушки про любовь пою. Точно, девчата, это для меня! Пойду по телефону поблагодарю Белова. О чём она говорила с сержантом, девушки, конечно, не узнали. Но в землянку Маша вернулась не очень весёлая. — В общем, девчата, сказал, что всем прислал. Вот и хорошо, чтобы обидно не было. Пусть чаще присылает. *** Кто-то постучал в дверь. Девушки не успели сказать: «Войдите!», как в землянку вошёл телефонист и почтальон по совместительству Серёжа Гончаренко. В одной руке он держал небольшую ёлочку, а в другой — ведро с землёй и какие-то коробки. Это было так неожиданно, что все молча смотрели на него. — Что, девчата, не рады ёлке? — спросил он. — А где ты её взял? — тихо, как будто боясь нарушить сказку, спросила Таня. — Это военная тайна. Если вы не забыли, как это делается, откройте эти коробки и украсьте ёлку. Сергей быстро воткнул ёлку в ведро с землёй. Девушки открыли две коробки из-под обуви и ахнули: при свете коптилки в их руках засверкали нитки «дождя», гирлянды, шарики, зверушки, красная звезда. Но больше всего девушек обрадовал дедмороз и кукольная Снегурочка. Они быстро украсили ёлку и поставили её в свободном углу. — Сейчас в Москве Кремлёвские куранты... — начала было Тамара, как вдруг раздались частые удары по рельсу. 334 — Тревога! Быстро по местам! — крикнула Женя. Набрасывая на ходу шинели, все побежали к телефону, в радиорубку. В морозном воздухе слышались доклады командиров орудий о готовности расчётов. Киев перестал быть фронтовым городом. Бои проходят уже далеко на чужой земле. Но следы войны видны повсюду. Чернеют пустые глазницы полуразрушенных зданий, по вечерам улицы погружаются во мрак. Ещё не отменено затемнение. Воины по-прежнему несут службу разведки, выходят на боевые дежурства, изучают заявки на полёт своей авиации, сигналы. Майра прислушивается. Её чуткое ухо слышит шум вечернего города. Где-то промчался трамвай, а вот разносит слова Совинформбюро мощный репродуктор. Диктор перечисляет трофеи наших войск. — В воздухе нет цели! — кричит она телефонисту и шагает по площадке. Улетают наши самолёты на боевые задания — на бомбёжку фашистов, а у зенитчиков объявляется готовность номер один, то есть все должны находиться на своих местах. Бомбардировщики возвращаются с задания, девушки внимательно смотрят в небо, считая самолёты. Авиаторы сообщают им, сколько машин вылетит на задание. Иногда не все они возвращаются. Девушки с болью в сердце думали, что в чей-то дом постучит почтальон и принесёт похоронку. Но оставалась надежда: может быть, приземлился где-нибудь... Весть о победе пришла к девушкам в ночь на девятое мая. Дежурные телефонисты всех подразделений своим радостным криком «Победа! Победа!» подняли всех с постелей. Девушки, полуодетые, выскакивали из землянок, кричали, смеялись, обнимались. Всю ночь никто не спал. Киев сразу озарился пламенем лампочек в квартирах, уличных фонарей. Загудели заводские трубы. Им отвечали гудки кораблей на Днепре. В воздух летели трассирующие пули. День Победы! Как долго его все ждали! Девушек и мужчин старших возрастов демобилизовали. С Василием Берта перед отъездом не встретилась, так как он был в гарнизонном наряде. — Жалко, не попрощались, — сказала она Лене. — Значит, не судьба... Лена и Берта вернулись в родные края: первая — в Воронеж, вторая — в Краснодар. Обе почти одновременно окончили ин335 ституты, вышли замуж. Но семейная жизнь у них не сложилась. Берта осталась с сыном, Лена — с дочерью. Иногда переписывались. Работа, учёба, семья заполняли каждый день. Тот радостный день 9 Мая сорок пятого всё дальше и дальше уходил в прошлое. Он становился историей для детей и внуков фронтовиков. Берта Михайловна всё чаще обращалась мыслями в боевую молодость. «Где они, фронтовые друзья? Как сложилась их судьба?» — всё чаще задавала она себе вопросы. Много раз хотелось взяться за поиски тех девушек, с которыми жила в одной землянке. Ведь тогда они были самыми дорогими и близкими. Но где искать, когда не знаешь, куда они уехали, какую фамилию носят... Шли годы, десятилетия, но желание разыскать подруг не проходило. И все же 9 мая 1975 года, через тридцать лет после победы, отложив все дела и сомнения, начала писать письма: «Отзовитесь, друзья!» Потом потянулись дни ожидания. Первой пришла весточка из Алма-Аты от Ани Хмельниковой... Затем письма посыпались. «Дорогая Берточка! Где же, думала, наша писательница, которая хотела написать книгу о девушках-бойцах? И вот через тридцать лет ты подала голос», — писала из далёкого Усть-Каменогорска Тамара Гречухина, теперь её фамилия была Михнюк. Письмо обрадовало Берту Михайловну. Её она тоже вспомнила. Тома всегда ходила военным шагом, даже когда это не требовалось. Не знала, добровольно или её просили офицеры, но она всегда стирала их обмундирование, предварительно проверив, все ли пуговицы хорошо пришиты. Потом тщательно выглаживала большим допотопным утюгом, который разогревался древесным углём. Аккуратно сложив всё стопочкой, на вытянутых руках относила хозяину его вещи. При этом у неё было такое довольное лицо, как будто эта работа доставляла ей огромное удовольствие. На самом деле она не очень любила стирать. Мокрую юбку и гимнастёрку трудно было выкручивать маленькими руками. К счастью, жаркое красноводское солнце помогало ей сушить эти вещи. В Киеве Тамару отправили в другую часть. Больше о ней ничего не знали. И вот в письме она рассказала, что попала в 88-ю артиллерийскую дивизию, которую перебросили в Германию. «Там нам досталось, жарко было. Неподалёку от нас была окружена немецкая группировка. Фашисты хотели вызволить своих из “котла”. Трудно передать словами, что там творилось. Но кончилось, конечно, нашей победой. В конце войны меня наградили медалью “За боевые заслуги”. Демобилизовалась в августе сорок пя336 того. В Алма-Ате встретила знакомую. Она меня агитировала остаться там и поступить в университет. Тогда принимали без экзаменов. Но как я могла остаться, когда четыре года не была дома?! И я уехала в свой Усть-Каменогорск. Сейчас тружусь в облпотребсоюзе начальником отдела хлебопечения и производственных предприятий. Заочно окончила кооперативный техникум. У меня две взрослые дочери. Муж — шофёр автобазы. Живём в центре города в трёхкомнатной квартире. Имеем машину». Горелова была рада, что жизнь Томочки сложилась удачно. А вот из неё писателя не получилось. Зато она стала журналисткой. Часто встречалась с интересными людьми, в том числе и с девушками-бойцами. Писала о них, печаталась. Всё больше писем... Каждый, кто писал, спешил поделиться своими радостями и огорчениями. И всё больше звучала просьба — давайте встретимся, посмотрим друг на друга. Берте Михайловне и самой хотелось организовать такую встречу. Но как это сделать?.. Она преодолела и это. И вот однополчане в столице Украины. Здравствуй, Киев! Их встретил возрождённый из пепла город. Они ходили по улицам, любовались красивыми зданиями. Искали места, где находились их батареи, но не нашли. Там выросли большие дома, скверы. Восьмого мая самолётами, поездами, автобусами приехали около ста человек. Это была самая радостная, самая трогательная встреча. Все радовались, что нашли друг друга, хотя не сразу узнавали, кто есть кто. Действительно, это был праздник со слезами на глазах. Объятиям и поцелуям не было конца. Берта была, конечно, в центре внимания. Все понимали, что без неё эта встреча не состоялась бы. Лена не видела свою подругу, как и всех, с самого сорок пятого. За прошедшие тридцать лет она поправилась, похорошела и не казалась такой дюймовочкой, какой была раньше. Она вся светилась от радости, что ей удалось собрать столько однополчан. И вдруг однополчане услышали голос, который заставил всех быстро обернуться: — А можно и мне поцеловать адъютанта младшего? Это был Василий. Он подошёл, нагнулся и поцеловал Берте руку. Подруги смотрели на него и не узнавали. Это был худощавый и совершенно седой мужчина (он был всего на три года старше Берты). — Это ты? — тихо спросила она. — К сожалению, это я, — так же тихо ответил он. 337 Вечером в ресторане они сидели рядом, но разговор не клеился. Было шумно, играл оркестр, пели песни военных лет, танцевали. Когда банкет окончился, Василий взял Берту за руки и повёл в сквер. Она потянула и Лену за собой, как будто боялась остаться с ним наедине. — Об этой встрече я узнал по радио... Спасибо. Иначе мы никогда не встретились бы... Я часто вспоминал тебя... Неужели ты не догадывалась, что я был влюблён в тебя? — А как я могла догадаться об этом? Ты даже не намекнул ни разу... — Я понимал, что я тебе не пара. Ты была студентка, умница, а я деревенский парень. Не знал, что со мной будет после войны, может быть, придётся вернуться в деревню. Но меня послали на офицерские курсы, потом в училище. Дослужился до майора. Обзавёлся семьей. Жизнь сложилась неудачно, но пришлось терпеть ради детей. Теперь уже дед... — И я тебя очень любила, — тихо сказала Берта. — Но скрывала свёе чувство. Думала, что такому красивому парню нужна другая девушка... А тот синий кисет подарила я... — Ты! Ты! Если бы я знал это, всё в нашей жизни сложилось бы по-другому... Если бы я знал!.. — Теперь поздно говорить об этом, — сказала Берта, вытирая глаза. — Значит, не судьба... А поиск продолжался. За два-три года нашлись около четырёхсот человек. Встречи проходили через год. Пять встреч в Киеве, по одной в Красноводске и Ташкенте. Каждое общение с фронтовыми друзьями вливало в ветеранов заряд бодрости, они забывали свои годы, болячки (привозили с собой лекарства на всякий случай). Пели, танцевали. Всем хотелось отметить полувековой юбилей в Киеве. Но — увы! С распадом Советского Союза встречи прекратились. Òàðàñ ÔÈÑÀÍÎÂÈ× Ãàìáóðã Ò¨ÒÊÀ После Второй мировой войны государственные деятели многих стран, светские и религиозные идеологи, националисты и жаждущая крови прочая дрянь используют любые возможности, чтобы раскачать и разрушить устои мирной жизни. Воюют то там, то тут: стреляют, взрывают, бомбят. В то же время бесконечно множатся статьи, романы и фильмы о том, что написанное по свежим следам о прошедшей войне — пропаганда, что всё было не так жутко и мерзко, что количество жертв и их муки преувеличены, что военные преступники и изуверыпалачи тоже люди, старые и больные, нуждающиеся, ну ладно, не в любви, но уж во всяком случае, в понимании и прощении. Да и были ли перемолотые в щебень селения, концлагеря, массовое истребление мирного населения и военнопленных? Был ли холокост? Вместо всеобъемлющей оценки прошлого звучат бесконечные призывы возлюбить ближнего. А под оставшимся после войны пеплом, на котором пытаются культивировать добро добро, тлеет и готово полыхнуть всемирным пожаром скрываемое до поры зло зло. Такие размышления выстраивались у меня под неспешные рассказы моей двоюродной тётки Натальи Алексеевны Петровской-Рейно. Тётя Наташа живёт в Ниоре, старинном французском городе в Центральной Франции, примерно в сотне километров от города-крепости Ла Рошель, что на Бискайском заливе. Я сижу в квартире у тётки, среднего роста весьма худощавой и очень подвижной женщины (тогда 85 лет) со скуластым славянским лицом. Странно слышать её русскую речь с заметным французским акцентом. Забывшись, она переходит на французский. Тогда приходится её останавливать, и мы, посмеявшись, продолжаем беседу. Вообще-то тётка говорит одна. Я напряжённо слушаю, стараясь запомнить хотя бы узловые моменты её рассказа. Изредка задаю вопросы, уточняю. 339 Вся тёткина и моя родня по материнской линии в предреволюционные и послереволюционные годы жила в городе Бердянске на Азовском море или в его окрестностях: Самойловы, Петровские, Поддубные, Извековы, Вязмитиновы, Бурьяновы — почитай, четверть населения Бердянска довоенных лет. Город Бердянск расположен на ровном, как стол, берегу Азовского моря. От зимних ветров с севера город защищает некогда бывшая морским берегом гора — высокое плато, оставшееся после обмеления моря в доисторические времена. Многокилометровая песчаная коса спасает береговой урез от ударов штормовых волн в осеннее и зимнее время. Речка Берда, впадающая в море рядом с косой, образует небольшой лиман. Здешние лиманные грязи известны лечебными свойствами. Два века их применяют для лечения больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь выстроен курорт. Добрая слава о курорте приводит в Бердянск многочисленных страждущих из СНГ и дальнего зарубежья. Основанный в 1827 году, Бердянск в середине XIX века стал уездным городом, известным своим хлебным портом, через который за границу ежегодно вывозили до десяти миллионов пудов зерна. Градоначальником Бердянска в 1876 году был защитник Севастополя контр-адмирал П.П. Шмидт, отец Петра Петровича Шмидта, лейтенанта, возглавившего в 1905 году восстание на учебном крейсере «Очаков». До революции в городе работали три завода (сельскохозяйственных машин, канатный, свечной) и три фабрики, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, судоремонтные мастерские, электростанция, паровая мельница, пекарня. Была подведена железная дорога. Действовали мужская и женская классические гимназии, промышленное училище, мореходные классы, приходские школы. Окружающие сёла в достатке снабжали горожан мясом, молоком, фруктами и овощами. Море в те годы изобиловало рыбой. Дед тётки Антон Севастьянович Самойлов и бабка Агафья Николаевна (мои прадед и прабабка по материнской линии) владели десятиной земли (немного больше гектара) в Колонии — предместье Бердянска за косой, в те годы заселённой колонистами-немцами. Десятина была засажена виноградом и фруктовыми деревьями. Это обеспечивало прожиток старикам. Прабабка умерла в 1927 году. Прадеда во время коллективизации раскулачили и выгнали из собственной хаты. Спасибо, не выслали, и до смерти в 1933 году старик жил у дочери в городе. 340 Мать тётки Мария Антоновна Тягунова (урождённая Самойлова), оставшись после смерти мужа, торговавшего зерном, с двумя малыми детьми на руках, Леонтием и Константином, бедствовала. Через четыре года вдова сочеталась браком с овдовевшим крестьянином Алексеем Ивановичем Петровским, у которого от первого брака тоже было двое детей, Татьяна и Алексей. Новая семья продолжала пополняться детворой. Наташа (о которой этот рассказ) родилась в 1919 году. Потом родилась Мелания и ещё через три года самая младшая сестра Нина. Детство тётки протекало в Бердянске и в Колонии у деда, сад которого оставил у неё много радостных воспоминаний. Расположенный неподалёку от берега моря, сад был местом сбора и игр детворы многочисленных родственников вплоть до раскулачивания деда. Именно там сложились крепкие дружеские отношения у Наташи с моей матерью Еленой и её братом Всеволодом Бурьяновыми. Матери и дяди уже давно нет, и вот теперь от тёти Наташи мне довелось услышать о них много добрых слов. Стоит только вспомнить историю СССР конца двадцатых — начала тридцатых годов, чтобы понять: жизнь многодетной семьи Петровских была очень трудной. Подраставшие дети рано начинали самостоятельную трудовую жизнь. В голодном 1932 году, ещё не окончив семилетку, Наташа вынуждена была искать рабочее место. Выручило умение красиво и грамотно писать. Её приняли в контору бердянской биржи труда. В 1935 году, получив в вечерней школе свидетельство о семилетнем образовании, она перешла на работу в Рыбпотребсоюз, где зарплата была заметно выше. Рыбпотребсоюз объединял десятки рыболовных артелей, расположенных на северном побережье Азовского моря от Таганрога до Сиваша. Рыбаки зачастую пытались утаить от государства часть улова, чтобы с большей для себя выгодой продать рыбу на рынке. Контролируя вылов рыбы, Наташа постоянно бывала в разъездах. Эти, в общем-то, неподходящие для юной дивчины условия работы требовали от неё изрядной самостоятельности, умения устанавливать нужные контакты и, находя верный тон, получать необходимую информацию. Так формировался инициативный и стойкий характер. Разъездная жизнь не устраивала Наташу. Хотелось продолжать образование. Да и создать свою семью в этих условиях было проблематично. В феврале 1941 года она перешла на работу в бухгалтерию бердянской мельницы — достаточно крупного и стратегически значимого предприятия. Знаний бухгалтерского 341 учёта у неё не было. Пришлось самоучкой доходить до всех тонкостей этого дела. Постепенно освоившись, стала дельной помощницей главного бухгалтера, самостоятельно проводя учёт выработки и госпоставок различных сортов муки, манной крупы, отрубей. Отдавая дань времени, вступила в комсомол. Бердянск — украинский город, но его жители говорили по-русски, и только в окрестных сёлах можно было услышать украинскую речь. Для Наташи же, чьё детство большей частью протекало вне города, проблем с обоими языками не было. Поэтому в качестве комсомольской нагрузки ей поручили ежедневные читки газет на русском и украинском языке. Рассказывая, тётя Наташа и теперь без затруднений переходит на украинский. Немецкие войска оккупировали Бердянск 7 октября 1941 года. Мельницу они сразу же запустили на полную мощь: немецкой армии требовалась мука. Наташу, комсомолку-активистку, уволили. На её место оккупационные власти назначили молодую немку из проживавших в Колонии немецких колонистов. Гражданское население снабжать продовольствием немцы не собирались. За попытку выйти в море на рыбную ловлю — расстрел на месте. Хотя новая власть возвратила прежним хозяевам ранее принадлежавшие им земельные наделы, но до лета и связанных с ним надежд на овощи и фрукты предстояло как-то перебиваться. Морозы доходили в ту зиму до тридцати градусов. Семья голодала. В 1942 году умер отец Алексей Иванович Петровский. Затем пришла новая беда. Немецкие власти составили списки бердянской молодёжи, предназначенной для отправки на работу в Германию. О масштабе этой акции в небольшом Бердянске говорят цифры — списки включали одиннадцать с половиной тысяч человек. Наташа попала во второй список, а её младшая сестра Нина — в четвёртый. Об этом Наташе сообщила её знакомая немка, работавшая переводчицей в городской управе. Спрятаться было невозможно: другие члены семьи являлись заложниками, которых немцы хладнокровно расстреливали, если кто-то из включённых в списки делал попытку скрыться. Один такой случай произошёл в соседнем доме: немецкий унтер-офицер, не найдя внесённую в списки молодую женщину, застрелил её престарелую мать. За два года оккупации в Бердянске погибло более шести тысяч жителей. Единственное, что удалось сделать, это упросить переводчицу-немку внести Нину в тот же список, в котором была Наташа. Всё-таки более приспособленной к самостоятельной жизни 342 Наташе было уже двадцать три года, тогда как Нине только семнадцать. Группа молодёжи, в которую попали Наташа и Нина, состояла из нескольких сотен девчат. В Мелитополь 3 июля 1942 года их погнали пешком, так как железная дорога была разрушена бомбёжками, а автомобильный или гужевой транспорт оккупанты сочли излишней роскошью. Путь протяжённостью в 110 километров они проделали за два дня. В тех, кто делал попытку убежать, падал от усталости или отказывался идти пешком, стреляли. Шагая из последних сил, девушки бросили свои чемоданы и котомки: жизнь была дороже. Потом в Германии им очень недоставало выброшенных вещей. В Мелитополе их по сто человек затолкали в вагоны для скота и повезли на Запад. В Германию они прибыли 21 июля 1942 года. Наташа и Нина были направлены на небольшую фабрику в Бушюттен (Buschütten) в округе Зиген (Siegen) земли Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen). Фабрика изготовляла мелкий бытовой и сельскохозяйственный инвентарь: вилы, лопаты, кочерги и т.п. Хозяин фабрики Гартманн, активный член НСПГ, сразу объявил девушкам, что будет жестоко наказывать за попытку отлынивать от работы или за любое проявление недовольства. Затем прибывших разбили на тройки. Их тройке надлежало вручную переносить из склада в цех тяжеленные стальные пластины и разрезать их на заготовки специальными ножницами опять же вручную. Ежедневная двенадцатичасовая работа, очень тяжёлая, совершенно неподходящая для женщин, к концу рабочего дня доводила до полного изнеможения. Ввиду военного времени фабрика работала без выходных, и лишь в дни общегерманских праздников можно было получить передышку. Заболевших не освобождали от работы и не лечили. Только инфекционных больных помещали в больницу одного из лагерей для военнопленных, откуда они не возвращались. Кормили невероятно скудно: утром эрзац-кофе и ломтик хлеба, в обед миска баланды с редкими кусочками картофеля и капустных листьев и ломтик хлеба, на ночь травяной чай. Все мысли были только о еде. Чтобы как-нибудь уменьшить муки голода, девчата подбирали всё мало-мальски съедобное, где бы оно ни валялось. Выход в город не разрешали. За самовольную отлучку с территории фабрики, где в одном из бараков жили остарбайтеры, наказывали. Общение с местными жителями и немцами, работавшими на фабрике, запрещалось под угрозой 343 строгого наказания. За этим следили. Изредка некоторым сердобольным немкам удавалось тайком сунуть русским девушкам яблоко, морковку или луковицу. От полного истощения Наташу и Нину спасло знакомство с французским военнопленным Луи-Рене-Жозефом Рейно. Пленные французы работали в других цехах этой фабрики и пользовались относительно большей свободой передвижения, нежели остарбайтеры. Кормили их много лучше. Кроме того, они получали продовольственные посылки из дома. Луи явно симпатизировал Наташе. Время от времени он приносил овощи или какую-нибудь другую снедь. Это позволило сёстрам продержаться более года. Спустя год обеих сестёр направили на работу в Нидершельден (Niederschelden), где девушки должны были ремонтировать баки для авиационного бензина. Опять изнурительная многочасовая работа, большие нормы выработки. Паять баки надо было в холодном помещении, дыша испарениями от использумых кислот и припоев. Чтобы получить хоть какую-нибудь передышку, измученные работой Наташа и Нина решили спрятать запасы припоя в сугробе за бараком. Надсмотрщик заметил их проделку. Сестёр, правда, не били, но арестовали и в качестве наказания направили на несколько месяцев работать в крестьянском хозяйстве. Питание там было немного лучше, да и спали они не в ледяном бараке, а в относительно тёплом хлеву. Таким образом, наказание обернулось некоторым облегчением невероятно тяжёлых условий существования. Через пару месяцев девушек вернули в Нидершельден. Потом их перевели на работу в мастерские городка Айзерфельд (Eiserfeld), где им надлежало очищать от ржавчины и складировать изделия из стали и чугуна. Это была тяжёлая и грязная работа. Здесь они тоже были разбиты на тройки. Третьей была Ольга, молодая женщина из Польши. Луи и тут разыскал Наташу. Общались они на ломаном немецком языке. Их дружба постепенно переросла в любовь. Спустя некоторое время Наташа забеременела. Несмотря на беременность, от работы её не освободили и рабочую нагрузку не уменьшили. Обычно английские и американские лётчики не бомбили небольшие города и посёлки, но Айзерфельду не повезло. Бомбёжки становились всё более частыми. Укрывались от них в большом бомбоубежище, вырытом у подножья горы на другом берегу речки Зиг (Sieg), протекавшей рядом с мастерскими. Хозяин мастерских распорядился перегородить мост металли344 ческой решёткой с воротами, запиравшимися на замок. В целях увеличения рабочего времени ворота открывали только тогда, когда самолёты уже заходили на бомбёжку. Как-то, стараясь поскорее оказаться в безопасном месте, беременная Наташа попыталась перелезть через решётку и уронила в реку ботинок. Другой обуви ей не дали, и до прихода англо-американских войск она вынуждена была заматывать ногу в ветошь. Наташа родила мальчика 4 марта 1945 года. Назвали ребёнка Луи в честь отца и оформили соответствующие документы. Остарбайтеров при приближении войск союзников 11 марта 1945 года отправили пешком в глубь Германии, в Марбург (Marburg), но с полдороги вернули ввиду бессмысленности мероприятия. Теперь их перестали гонять на работы, поскольку мастерские были разрушены прямыми попаданиями бомб. Никакой еды не давали. Водоснабжение было нарушено. Воду брали из речки, но кипятить её было негде. У Наташи иссякло молоко. Вошедшие в город союзники открыли городские хранилища и раздали остарбайтерам по двадцать банок мясных консервов. Из-за плохой воды и жирной пищи, от которой её организм отвык за три года голодной жизни в Германии, Наташа заболела тяжёлой формой энтероколита и несколько дней находилась между жизнью и смертью. Когда она пришла в себя, её малыш Луи был уже мёртв. Пока Наташа болела, освободители срочно отправили всех французских военнопленных во Францию, чтобы там сформировать из них вспомогательные войсковые части. Хорошо, что Луи Рейно предусмотрительно оставил Наташе адрес своей сестры. Немного оправившись от болезни и потрясения, вызванного смертью ребёнка, Наташа оказалась перед выбором: искать Луи или вернуться вместе с Ниной на родину. Не зная ни француского, ни английского языка, она вряд ли смогла бы найти Луи, если бы не работавшая с Наташей Ольга и другие девушки из Польши. До войны эти молодые польки много лет жили во Франции и свободно изъяснялись по-французски. Они рассказали представителям французского командования, прибывшим в округ Зиген за французскими военнопленными, историю Наташи Петровской, Луи Рейно и обстоятельства гибели их ребёнка. На основании их свидетельских показаний французский Красный Крест выправил необходимые бумаги, и Наташа получила разрешение отправиться во Францию на поиски Луи Рейно. Нина же должна была уехать в Бердянск. Сёстры смогли увидеться только через двенадцать лет во времена хрущёвской 345 «оттепели», когда Наташа получила разрешение советских властей навестить родных. До этой поры многочисленные письма Наташи к её родственникам не достигали адресатов. Это почти невероятно, но Наташа каким-то чудом, порой по наитию, без денег и провианта смогла добраться до сестры Луи, жившей в вандейской глубинке. О ней там уже знали от Луи. Встретили Наташу сердечно, как-то объясняясь с помощью жестов и улыбок. Через два дня приехал Луи. Они оформили брак. Так для Наташи начался перемежающийся многими трудностями и сравнительно редкими счастливыми моментами французский этап её жизни. Она самостоятельно выучила французский язык: свободно говорит, пишет, много читает. У тёти Наташи двое детей, сын и дочь. Для того чтобы дать детям приличное образование, ей и Луи пришлось очень много работать. Поставив детей на ноги, они смогли купить себе небольшой дом с садом на семи сотках в вандейском городке Фонтэн ле Комт. Тяжёлая работа сказалась на основательно подточенном германским периодом здоровье тёти Наташи. В 1969 году ей удалили большую часть желудка. Плен и тяжёлая работа сказались и на здоровьи Луи. После длительной болезни он умер в 1992 году. Тётя Наташа не могла продолжать жить в доме, где всё напоминало ей о муже. Продав дом, она переехала в Ниор, где купила недорогую квартиру. Её дети теперь живут и работают в Париже. У них свои взрослые дочери, подарившие тёте Наташе правнуков. Дети часто навещают Наташу. Порой вместе с ней они проводят неделю-другую на одном из курортов Бискайского побережья. Тётя Наташа и сама любит путешествовать. Она побывала в Испании, Италии, Бенелюксе, Англии, объездила средиземноморское побережье Франции, несколько раз бывала в России (Ленинград, Москва, Сибирь), на Украине и в Средней Азии. Единственная страна, куда она никогда не поедет, это Германия. Что определяет бытие, в том числе жизнь человеческого общества? Мудрецы Востока говорят о жизненной силе Ци и её мужском и женском образующих янь и инь. Под эту космобиологическую схему подгоняют исторические, политические и экономические коллизии, научно-производственный, социальный, культурологический и бытовой полиморфизм взаимоотношений в мире. Поперву их объяснения вроде бы убедительны. Но стоит только вспомнить о войнах, прошедших и нынешних... Какой янь? Какая инь? Безудержная ненависть и робкая любовь — вот ключ к разгадке истории человечества. 346 Именно они, отталкиваясь и сплетаясь, переполняют мир, обуславливают все его пертурбации и правят нами, не согласуясь с намерениями, интересами и желаниями индивидов, невзирая на национальность, возраст и пол. Войны начинаются и заканчиваются. Движущая их ненависть, обуглив всё подвернувшееся — противостоящее и сопутствующее, угасает, провидяще сохранив под толстым слоем пепла тлеющие угольки. На смену ненависти приходит дотоле робевшая, изголодавшаяся в неупотреблении любовь. Она пышно разрастается на удобренной трупным пеплом почве и цветёт, постепенно истощая стимулирующее её рост начало, пока не обожжётся о лежащие под спудом угли. Тогда оробевшая любовь скукоживается, а на смену ей приходит разъярённая ожиданием ненависть. Такая вот диалектика. Не согласны? Всмотритесь хотя бы в нашу относительно недавнюю историю. Первая мировая война перемолола более десяти миллионов человеческих жизней. Мир было успокоился, поголодал, переболел революциями и экономическими кризисами и, оправившись от разрухи, начал было расцветать в любви и всепрощении, как тут же разразилась Вторая мировая война. Шесть лет пылала Земля — 52 миллиона жертв, вдребезги разрушенная экономика Европы, России, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Затем наступил мир. Невероятным напряжением сил люди с любовью стали строить нормальную, благополучную жизнь. И что же? Ô¸äîð ÓËÜÁÈÍÑÊÈÉ Ìîñêâà «ß ÂÎÈÍ ÁÛË, ÖÅÍÈË ÌÅÍß ÊÎÌÁÀÒ...» Слово о Павле Черепанове — Значит, думает ещё русский человек. — Только русский человек и думает. Из разговора Не думать Павел не мог. Из врождённой деликатности он редко высказывал свои мысли, больше слушал других. Мало кто из друзей разглядел в нём философа. Но выстраданные его мысли требовали себе собеседника. «Решил написать тебе еще одно письмецо, чтобы заполнить душевную пустоту, которая образовалась сегодняшним вечером». Хорошо было в Москве зачитать такое письмо за дружеской бутылочкой для большей содержательности беседы. Хорошо было представить его выдающегося кота: «Артисту, как ты наказывал, привет передал. Но артисты — народ высокомерный. Бурную радость он выразил на кильку, а не на привет. Удивляюсь, как он меняется, лишь чуть поголодает. Сразу в друзья набивается. Сяду читать, он чуть не на голову мне лезет и все мурлыкает. Я сегодня даже на почту ходил, думал, не затерялось ли где письмо. Нет, говорят, нету. Пришел домой... Думаю, помолиться надо. Почитал молитвослов через силу и пошел на улицу от тоски. В воротах встречаю почтальона: “Вот Ваше письмо. Только Вы ушли, привезли почту”. Почту, конечно, и так привезли бы, без молитвы, но все равно... поучительно». И после такого предисловия — то главное, ради чего и писалось: «...Брюхо, значит, у меня сытое теперь, а на душе пусто... 348 Напишешь письмо, кажется, дело сделал. А мысли и так в голове ворочаются, без спросу... Надо им некую деловитость придать. Хотя и это... о двух концах. Отправишь письмо и думаешь, так ли написал, то ли написал. Ну что ж, если не то, ты меня извиняй, тем более что чтение письма не займет много времени». Или, в другой раз, ещё определённее:«Помню, в общежитии ты задавал такой вопрос: “Почему наш Усть-Каменогорск стал напоминать о себе в последнее время?” Ответа я не знаю, но опасаюсь, что ты какой-нибудь неверный вывод сделаешь поспешно...». Прибережём человеческие воспоминания до лучших времён, когда, быть может, удастся дописать его неоконченную пьесу о русских исканиях, когда жизнь примет его немногочисленные песни. Он вообще успел сделать не много. Но это был человек общерусского масштаба, как и, наверное, всякий человек, честно стремящийся к истине. Мы попробуем показать, какой ценой становятся в России поэтами, когда действительность, не спрашивая человека, требует высказать себя. И потому мы поведём разговор о самом трудном периоде жизни Павла Черепанова, начавшемся после того, как он покинул родину — Рудный Алтай. Он поступил в Литературный институт ради крыши над головой. Никогда не занимавшийся литературой, написал свою первую пьесу «Линия» — о современном казачестве. В институте Павла заметили и полюбили. Его глубокий и своеобразный взгляд на прошлое России оценил авторитетный историк А.С. Орлов, который хотел привлечь Павла к научной работе. Но каково было ему, воевавшему в Приднестровье, повидавшему жизнь в её тектоническом разломе в родном Восточном Казахстане, оказаться теперь на одной скамье с вчерашними школьниками!.. Всё чаще появлялись мысли об ошибочности выбранного пути: Что-то обдумать решил, да не вспомнил. Что-то поведать спешил, да забыл. Что же забыл я и что не исполнил? Слово... завет... откровенье судьбы?.. Сны ль не разгаданы, песня ль не спета? Нить потерял — ни концов, ни начал. Где-то, ослушавшись мудрых советов, Вечную вечность на час променял, 349 Жизнь порастратил... Окончилось лето. Мир всё загадочней и холодней. Мутное небо... Плохая примета, Что у природы, что в жизни моей. Эти строки первого его стихотворения рождены не столько обязательствами перед Литинститутом, сколько другим спросом, который предъявляет ему судьба. Тогда же, уже во втором стихотворении, завязывается драматургия его отношений с малой родиной, вернее, с внешними её приметами, с тем ореолом, которым окружено легендарное Беловодье: Далеко огни родных селений, Сердцем завладели муть и хмарь. Мой священный Камень, мой Алтарь, У кого просить мне исцеленья? Думы, думы — что гора крутая, Мгла садится, закоряжен путь... Я б хотел к подножию прильнуть Моего далёкого Алтая. И при полном отсутствии случайных деталей в третьем стихотворении появляется образ ночи: Ночь такая чёрная, и где-то В далеке далёком милый край... Неудивительно, что выходом из этой мглы ему показалась покупка собственного дома во Владимирской области. Выбрал он его, дом с садом, как только и мог выбрать Павел Черепанов: захотел стать садовником на этой земле, захотел, чтобы приезжали к нему для общей радости друзья, для которых и вынашивал бы он свои лучшие думы: Солнце встанет, накрыт уже Стол для гостя, что долго не был... А печали нет на душе, Как ни облачка нет на небе. 350 Славно пожили на земле, Всё же мы не мудрей, чем дети... Сон ли снится?.. сквозь бездну лет Снова солнышко в сердце светит. Чем приметен среди людей? — Чудаком прослыл, это просто... Каждый знает, в избе моей, Словно празднику, рады гостю. Расставаться придёт нам срок. Ах! Не всё, как мечталось, вышло... Солнце село. И ветерок У калитки ласкает вишню. Это стихотворение — одно из последних, мы привели его теперь, чтоб показать, что эта покупка дома была не случайной. Здесь ему предстояло выстоять свою главную битву. Так получилось, что после затеянного по-черепановски «широкомасштабного», но неоконченного ремонта дом и вправду стал напоминать окоп. В некотором роде разрухой своей после такого «ремонта» он отражал то внутреннее состояние, в котором пребывал Павел. Более того, теперь уже можно говорить: этот дом стал образом сегодняшней России. Я в заброшенном доме живу... Такие не ставшие стихотворением строки — свидетельство той борьбы, которой была жизнь Павла. Сколько работы взвалил на плечи... Невозможность справиться с этой работой в одиночку рождала горькое: Всякий в мире — будто пассажир — Выбирает место, что получше. Даже тот, с кем много пережил, Всё же был не больше, чем попутчик. Когда-то Павел, расшифровывая фамилию Черепановы, сказал, что в ней главное — не значение, а впечатление от звучания 351 — люди лопатят свою работу, будто колодец вычерпывают. Таким вычерпыванием бездонного колодца стал теперь его внутренний спор с отцом. Николай Борисович стал прообразом старого казака в первой пьесе Павла: «А я их не считаю за казаков, — говорит он о сегодняшнем казачестве. — Так, пустомельство одно. Из пустого в порожнее переливают... Извести под корень весь род — вот и вся программа». И как бы ни желал Павел доказать свою состоятельность, из глубины вырывались строки: Ах, отец! Я упал при дороге. Ах, сынок! Поверни, дотяни. Вот потому его песню «За окошком темно...» нужно воспринимать не только как личную исповедь, но как голос тех молодых сегодняшних казаков, чья неприкаянность в Отечестве — одна из главных, не замечаемых трагедий нашего времени. За окошком темно, Шум промокшего сада... Разогнать бы вином Скуку ранней прохлады И уйти напролом В эту темень сырую... Заберите мой дом, Я о нем не ревную. Нет тепла на земле, Нет ни звёздочки в небе... За вином веселей Оглянусь — был как не был. Не дождавшись уйду Ни любимых, ни близких, Только ветер в саду По ночам будет рыскать. Под иконой моей Пусть за вас горят свечи, Чтобы мы в темноте Не терялись навечно. 352 «В стихотворении с “технической стороны” много недостатков, а всё-таки хорошо, — написал в своём отзыве симпатизировавший Павлу литературовед С.Р. Федякин. — Даже не могу сказать чем. Хорошо, что не “мокрого”, а “промокшего сада”. “Разогнать бы вином” — обычно, но “скуку ранней прохлады” — хорошо. Вроде бы много банальностей, но и они както неожиданно сплетаются во что-то свежее, как в казачьей песне: “Не для меня придёт весна”». «Во мне есть композитор — надо очищать... от шелухи», — так напишет Павел в своих бумагах. Сергей Федякин не зря упомянул в своём отзыве казачью песню. Россия с некоторого времени выбрала себе другого героя — хахаля. Отражением этой общенародной ситуации было отчасти то, что Павел, умный, красивый, похожий на Гришку Мелехова, не был счастлив в любви. Любовь улыбнулась ему в Приднестровье, где люди подобной породы были самыми необходимыми. Вспоминается день рождения Павла на даче его подруги под приднестровской Рыбницей. Гуляя с Татьяной по улицам посёлка, Павел набрёл на двух местных охотников до приключений. Когда ударом своего могучего кулака он «вырубил» одного, на его месте, как в сказке о Змее Горыныче, появились ещё двое. Но и эти после «знакомства» с Павлом решили сбегать за кувалдой. Не помогла и кувалда. Павла остановил только направленный на него автомат. «Всё, пилорама», — так, признаваясь потом, подумал он. Оказалось, однако, что это не опоновцы и не «скорпион» (румынские диверсанты), а местный милицейский патруль. Само собой разумеется, что и поверил этот местный патруль не Павлу, а своим. Как свидетеля для установления личности Павла привели под автоматом в милицию меня. Здесь, в милиции, капитан нехорошо отозвался о Татьяне. Навсегда запомнилась картина: Павел, схватив капитана за грудки, бьёт его головой о стену, а товарищи в форме ничего не могут поделать из-за стреляющего из-под руки Павла пистолета. Спас нас тогда, конечно, только приднестровский миф о казачестве: на выручку своих батарейцев придут такие же отчаянные ребята. Но есть воспоминание, которое приходит в связи с Приднестровьем самым первым. На могучем приднестровском закате наша миномётная батарея, в отмену всех уставов, расселась 353 кружком вокруг Павлухиного окопа. Он, обнажённый по пояс, со своим миномётом — в центре. Просто и легко, будто всё само собой делается, подаются мины, и Павел одну за другой отправляет их из братского круга в сторону противника. Это он, Павел Черепанов, убедил меня, а следом и других в Усть-Каменогорске, отправиться постоять за Святую Русь, как мы её тогда понимали. В долгие зимние вечера садился напротив и начинал разговор: «Если не мы, то кто же?» Вот потому он ни капли не соврал в своей песне: Мы так похожи, Ваня, в восемнадцать. И я водил в атаку за собой. И от чьего имени — от имени ли самого Павла, от имени ли того внутреннего, идеального, несгибаемого казака, который жил в душе каждого потомственного воина, написана другая его песня, в которой тоже нет ни строчки фальши? Старые раны болят к непогоде, Ночи без сна длинны, Воин бывалый теперь не пригоден В строй для святой войны. Свечку поставил, стоит пред иконой, Бедный и скорбный вид. В землю родную ушёл бы спокойно, Знал бы, что враг побит. Мы для Отчизны себя не щадили, Честно несли свой крест. Было бы легче лежать мне в могиле, Знал бы, что смена есть. Я не увижу: в святые равнины Встанет за брата брат, Хочется верить: сыночки родные Имя не посрамят. Лёг и затих он, его не разбудишь. Пусть ему снятся сны: Снова он воин и вечно им будет В главном строю страны. 354 Понятно, как разнилась высота этой песни с той разрухой, в которой находился теперь его ундольский дом; и которая только усиливалась с каждым приездом друзей. Можно только догадываться, что одинокая строчка «Я воин был, ценил меня комбат...» была его внутренним оправданием перед посторонними, а ещё вернее — помогала снова и снова подниматься после падений продолжительных запоев. Эти запои тоже были своего рода битвой, попыткой прорыва из того окружения, почти плена, в котором находится с некоторого времени вся наша страна: Ах, прикажи, комбат, — поедем на войну. За родину свою, за Веру и за Правду. Ещё за тех — кому все это ни к чему... Теперь его отношения с родиной в черновых набросках выражены почти в том же стихотворном размере-размышлении: На родине моей не будет оправданья — Там без меня хоронят мне родных. Он допускает возможность возвращения: Всё одолеть смогу — суму, тюрьму и травлю... Но предельная искренность его стихов делает это возвращение до времени бессмысленным: Оставил отчий дом и не стремлюсь обратно. Осудит кто-то — пусть! Дай Бог, ему видней... На родине моей не будет мне отрады, Мне правды не найти на родине моей. Слово «правда» в черновике написано с маленькой буквы. Быть может, это оттого, что отсутствие Правды в душе человека в общем итоге выливается в неправду государственную, но эта неправда теперь волнует его не в первую очередь. «То, что сейчас в истории момент переломный, мне кажется бесспорным. Во что все это выльется, угадать невозможно, но небезразлично. Ты как христианин, конечно, на всю его “раз355 вертку” имеешь ответ “желательного” и “верного”. Для Православной культуры все есть, только нет “статуса в обществе” тех, кто ею “занят”. Нет подобающего статуса самой религии. Проще: нет Веры, или “есть неверие в Благодать”. Как-то ты рассказывал о пареньке, который, поступая в семинарию, ничего не знал об учении Церкви. Только на остановке подобрал листок, где было написано: “Так возлюбил Бог человека, что отдал Сына Своего на распятие”... Слова эти определили его судьбу. Экзаменатор оценил его духовный опыт (положительный). Если бы изменилось отношение людей к духовному опыту, а значит, и к людям, им обладающим, изменилось бы все... Важно, что каждый человек не лишен его (или... может иметь), и еще, по сути своей, предполагается радость, что и другому человеку открыта истина, хотя бы ее часть, и что я, или ты (или еще кто) друг без друга истины имеем меньше. Не первенство тут главное, а дополнение». В черновиках Павла Черепанова встречается мысль о том, что культура — тоже война. Война эта только начинается. Но какое оружие приготавливается для этой войны? «...В том, что роль поэта, художника, певца и т.д. теперь меняется, я уверен. Прежде Художник был певец свободы, герой, “пророк”. Теперь нужен собиратель Высшей Правды, свободы опыта. Геройство тут не главное, а крест Пророка и примерять нечего. Прежде поэт над толпой, теперь — только среди людей и можно собирать братство, по человеку, зато братство не юридическое, а сердечное, с ближним, и потому в каждом остается Тайна, лицо от Бога. Вот эта Тайна и есть дело художника (в идеале), хотя в нем меньше становится “творца”, но больше “соработника”...». «Поэтому поэт “окрашивает” мир — не абстрактного Человечества, а ближнего, определенной местности, которая может “откомандировать” куда угодно, на какой угодно срок, чтоб поработал на Смысл». «Ты умудряешься как-то искусственно себя вычленить из всего, чем живешь и как. Даже стихи о матери пишешь не как сын, а как поэт... Поэтическое философствование оправдано, если оно не уводит от реальности, а в конечном итоге, наоборот, поворачивает к жизни, делает необходимым все». «Вновь головой покачает сосед», — так охарактеризовал Павел в одном из стихотворений реакцию соседей на своё житьё. Это ещё пока плохо уживалось: не дающая покоя мысль и 356 необходимый каждодневный ремонт, чтение книг по философии и истории и послушание тому, что посылает жизнь. И всётаки уже сейчас его письма кажутся более долговечными, чем любое человеческое жилище. «Порассуждаю малость об истории... В Московском княжестве сложилось военно-административное сословие, служилые люди, которые якобы не отличались свободолюбием... Настоящему интеллигенту не приходит в голову, что люди тех времен мыслили иначе, мозги их не были затуманены идеологиями и действовали они без оглядки на них. Они сердцем понимали, что объединение вокруг Москвы несет большую цельность, т.к. митрополиты поддерживали московских князей. Но и это не главное. (Тверской князь, соперничавший с Дмитрием Донским, был очень набожным). Главное, что служилое сословие... воспринимало этот процесс цельно и действенно. Можно было поступиться даже национальной независимостью, т.к. Василий II (Темный) был более зависим от татар, чем его соперники (скажем, Дмитрий Шемяка). В моральном отношении все они друг друга стоили. Но московские князья, завоевывая земли (пусть они даже на разбойников походили), собирали Народ-Государство-Церковь. Эта внутренняя цельность двигала ими и оправдывала их, и собирала сторонников. Народу нужна была не столько национальная независимость (хотя, конечно, была нужна), а религиозная... При Василии II отвергается Флорентийская уния. Веру народную править было немыслимо». Вспомним снова стихотворение «Старые раны болят к непогоде...». Образ старого воина вобрал в себя и память о служилых людях прошлого с их цельностью, завещанной и нам. Жизнь Павла не становилась легче. Но даже в обрывочных его строчках появляется мудрая светлая свобода: Идите, если любите дорогу. И если раньше его свечи горели одиноко в заброшенном доме, теперь появляется упование на любовь ближних: Пора в поход. Командуй, командир. Кто любит нас, в церквях засветят свечи, Чтобы навек никто не уходил, Чтоб каждый шёл до новой Светлой Встречи. 357 «Стихи Павла Черепанова лирически распевны, широки, интонация выдержана. Он знает о чём и как писать. Это — поэт. И обещает многое, о чём говорят... стихотворения о любви и природе», — разглядел родную душу семиреченский казак Владимир Цыбин. Сам Павел не считал себя поэтом, но относился к стихам по-особенному серьёзно, как к чему-то необходимому. И всё-таки это был поэт. Не только потому, что предсказал в стихах свою судьбу — в его стихах уже осуществляется то, что в жизни только начиналось. Не только потому, что ушёл в возрасте поэта в 37 лет, но главное — потому, что с некоторого времени само бытие начинает выговаривать себя через него: Дом догнивает в болотной низине. Здесь проживу, нелюдим, одинок. Здесь, отбранив непогоду и глину, С миром уйду в неизвестный мне срок. Со стихами Павла Черепанова странно согласуется и не согласуется его же собственная мысль: «Напоследок извлеку еще мудрость: поэзия, как баба, будет любить того, кто поставит ее на свое место. Кожинов говорит, что ей нужно бросить под ноги все. Это красивость. Кому нужен такой несчастный поэт? В общем, двигаться надо от художества словом к осуществлению словом...». Не берёмся описать, как произошла главная Встреча Павла. Скажем только, что случилось это за несколько месяцев до кончины. С этого времени его не покидает молитва «Богородице Дево, радуйся...», которую он распевал на собственный мотив, полол ли траву на огороде, ворочал ли на сеновале, задыхаясь от аллергии, фермерское сено, прогуливался ли по берегу Клязьмы, успокоение от молитвы, то настоящее, без экзальтации, почти не покидало его. Битва так битва — зубную боль Павлуха побеждал тоже с помощью молитвы. Кто слышал его тёплую, доверительную интонацию при упоминании Пантелеймонацелителя — не забудет её. Та главная Встреча разрешила и его отношения с родиной. Свои мысли он доверил главному герою незаконченной пьесы. О них извещают черновые наброски: «Дальнейший путь Юрия не отрывается от Беловодья — именно, — отбрасывая мифы и фантазии, любить землю как она есть... Нет никаких пророчеств и доказательств прародины и особой священности. Есть соб358 ственный долг-выбор-работа-вера-правда-покаяние. Поэтому Беловодье везде, везде рай». Сейчас можно заметить, что эти слова через дефисы — вехи пути самого Павла. Путеводным смыслом просветляется теперь его ночь — прежде «такая чёрная»: За эту большую звезду, что над крышей... «Много знать о промысле Божьем вредно — нет подвига доверия», — находим мы в его записях. «Привези мне горсть земли, — попросил он перед моей поездкой на родину, — разбросаю её по огороду, всё роднее будет». Ничего он не разбросал — эту горсть из-под иконы высыпал я в его могилу. Пригодилась для похорон и пришедшая как бы случайно казачья гимнастёрка. Его похороны совпали с проводами в последний путь погибшего милиционера, и прощальный салют в честь молодого воина прогремел над Павлом. Нет, Павлуха, не зря этот ундольский дом ты приобрёл с помощью православной женщины. «Унылый дол, унылый дол, каприз судьбы сюда привёл // Владимирской дорогой» — это единственная неправда в твоих песнях, потому что не по капризу судьбы успокоился ты на родовом кладбище Суворова, через речку от церкви Казанской иконы Богородицы. Успокоился, приняв смерть после исповеди со слезами, во время которой за окнами больницы светилась осенняя радуга, через два часа после причастия. Перед кончиной жизнь Павлухи осветила любовь. Осветила изнутри, как изнутри просветлели его ночи. Помню его молитву в слезах о даровании доброго супружества. Его женитьба получилась как в казачьей песне: «Калена стрела венчала нас средь битвы роковой, вижу, смерть моя приходит, чёрный ворон, весь я твой». Кто ответит — с того или этого света оставшиеся нам стихи? Этот вечер чем-то необычен. Тишина, сияние луны... Часто мы таинственного ищем В откровеньях светлой тишины. Просто надо вслушиваться сердцем, Чтоб оно, уставшее в груди, 359 У ночных светил могло согреться Вестью о блаженстве впереди. Этот вечер чем-то необычен... Сколько раз я этот путь прошёл — Доверять начертанному свыше Не умел унылою душой. Но грустить о пройденном не надо, Чтоб навеки в сердце уловить Под луной открывшуюся радость Веры, и Надежды, и Любви. Ñâåòëàíà ØÓÂÀËÎÂÀ Óñòü-Êàìåíîãîðñê ÇÀÏÈÑÊÈ ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÊÈ 1 Когда-то думала: «Будет и у меня золотая осень — заслуженный отдых, книги, прогулки по парку, воспоминания, сказки внучатам...» Кажется, не будет ничего, кроме воспоминаний. Впервые «на панели», то есть — у подземного перехода. На импровизированном столике — книги из моей библиотеки. Жалко смотрятся среди изобилия рыночного барахла. Кто их купит? «Господи, сделай, чтобы никто из знакомых не прошёл сегодня по этой улице! А пройдёт, пусть не повернёт головы в мою сторону, пусть не узнает! Чтобы не пришлось, напряжённо улыбаясь, объяснять, что наступил тот чёрный день, когда...» Ну вот — моя ученица! Быстро отворачиваюсь в сторону от книг. «Я не я, и хата не моя». Слава Богу, прошла мимо! Стыдто какой! Не ворованным же торгую! Подходит старушка, приглядывается: — Почём детектив? — Прошу двадцать пять. За двадцать? Ну что ж, берите. Почему, проделав несколько шагов, она оглядывается на меня? Передумала? Ах нет, её интересует, почему я продаю свои книги. — Наверное, потому что моя зарплата меньше вашей пенсии и получаю я её реже. — Вы так считаете? — Ведь вы ещё покупаете книги, а я их уже продаю. — Может быть... — качает головой старушка. Она, как и я, ещё не привыкла к обилию уличных торговцев с интеллигентными лицами и манерами. 2 «Грех уныния — величайший из грехов, и я — великая грешница», — так я написала в дневнике в июне 1994 года... 361 — Это что — «Раффаэлло»? — На большом фарфоровом блюде испеченные мною пирожные «безе». — Какая красота! — восхищаются другие прохожие и — покупают. Благо — дешёво. Третьи, кинув презрительный взгляд на безешки и высокомерный — на меня, цедят сквозь зубы: «А-а, самоделка!» Ладно, стерплю. «Взялся за гуж...» Широкая соломенная шляпа и тёмные зеркальные очки прячут мои глаза: боль и безысходность. Домашняя библиотека поредела, вот и пытаюсь извлечь выгоду из своих небольших кулинарных способностей. Я не умею печь «Раффаэлло», да, собственно говоря, и не знаю, что это такое. И пекут ли их? Но безешки у меня получаются замечательные. Правда, с продажей день на день не приходится. Когда всё продам, когда и домой половину принесу. Иронизирую сама над собой: «Торгово-убыточный дом “Светлана” работает круглосуточно, без выходных». Стоп, кажется, солидный покупатель... Весь с иголочки, выбрит, подстрижен, с новеньким чёрным дипломатом... Расстегивает замки, наверное, деньги достаёт. — Сами пекли? — слышу вопрос. — Сама, — улыбаюсь радушно. — А разрешенье есть? — Из дипломата он достаёт не кошелёк, а удостоверение санитарной полиции. Всё — влипла! Разрешения не имею, удостоверение не читаю. — С вас штраф — тысяча тенге! Ого! От такой суммы мне стало почти весело. Моя зарплата за четыре месяца! В руках столько никогда не держала. Нахально интересуюсь, как же он с меня их возьмёт. — А мы будем высчитывать прямо из вашей зарплаты. Где вы работаете? — А может, легче меня сразу в землю? Инспектор понимает: взять с меня нечего. На первый раз отпускает: «Ещё раз увижу...» Солнышко светит, птички щебечут. Безешки — в сумке... Плетусь по дороге домой, пряча слёзы за тёмными очками. Шепчу цветаевские строки: ...зубы втиснула в губы. Плакать не буду! Самую крепость — 362 В самую мякоть. Только не плакать! Но копятся слёзы, но катятся слёзы... Безешек осталось штук десять. Вот и знаменитое в нашем городе торговое место — «цыганская тропа». Может, здесь допродам? И всё, конец моему «частному предприятию». Только разложила на блюдо, только поставила на прилавок, слышу: — Вы что, не поняли меня? Тот же. Шёл за мной по пятам, не надеясь на послушание. Дерзко в ответ: — А вы что, так и ходите за всеми следом? — Да. Добивать — так уж до конца, — ухмыляется. Взрываюсь: — Да откройте глаза! Все вокруг спекулируют — сигаретами, водкой, лимонадом... Их почему не штрафуете? Или свой труд уже не в почёте? — Торгуйте, пожалуйста, лимонадом. А своей кулинарией вдруг отравите? Он не знает, что безе отравиться невозможно — такая уж тут технология. Но что тут докажешь? У него инструкция, он отрабатывает свой «хлеб». Оставшиеся пирожные бесплатно, у него на глазах, раздаю детям. — Хотите и вы? Отказался. Но угощать всех подряд, оказывается, можно. 3 «Забудьте о прошлых бедах, не думайте о будущих несчастьях», — советуют в книгах психологи. Ну ладно, допустим, забыла... Но что делать со страхом перед будущим, если точно знаю — что оно преподнесёт? «Наслаждайтесь сегодняшним днём» — совет для богатых и здоровых, которые от скуки создают себе проблемы. А если в сегодняшнем дне нет причин для радости?! Если больно и страшно каждое мгновенье?! Если всё сильнее ощущение приближающейся катастрофы? Раннее утро, стою у окна. Роются в мусорных контейнерах бомжи, нищие — старики, дети. Кто-то смело, кто-то с оглядкой — ещё стесняется. «Мне до них — полшага...». 363 Уже две недели после провалившейся операции «Безе» сижу дома, зализываю раны. Но инстинкт выживания заставляет всё же искать выход. Не для себя даже — для дочери. Ей постоянно нужны лекарства, диетическое питание... Сахарный диабет — диагноз пожизненный. А значит — деньги, деньги, деньги — нельзя ни отказаться от лечения, ни потуже затянуть пояса. Туже — некуда. Никто не поможет, никто не спасет её, кроме меня. Так что, покуда есть силы... и даже когда их нет... Сами собой складываются слова молитвы: «Помоги, Господи! Укрепи мою волю! Дай силы надеяться и бороться!» Что же ещё могу я продать? Вот эту маслёнку? Нам она ни к чему — на масле поставлен крест — не по карману. Вышла, постояла — купили. На булку хлеба хватило. Нотные тетради санитарке тоже ни к чему... Старинное, с облупившейся краской пианино? Нет, его — в последнюю очередь! А больше и продавать нечего. Что я могу делать? В молодости, во время большого летнего отпуска, разносила телеграммы... «Извините, — говорят мне теперь, — телеграмм стало намного меньше, так что и своих-то работников сокращаем». Пробовала торговать газетами — в убыток себе... Несколько лет пела в церковном хоре... Сокращения коснулись и его. От хора, состоявшего из профессионалов-музыкантов, осталась жалкая кучка певчих. Моя работа, теперь уже на полставки, только отнимает время. С кем ни поговоришь — работать на производстве смешно. Знакомая торговка так и сказала: «У меня пособие по безработице больше, чем твоя зарплата!» Уволиться совсем? Прежнее воспитание приучило где-то числиться, общаться — вроде бы ещё не выброшена за борт. И всё же, переступая через себя, соглашаюсь. Спекуляция. Самый быстрый и надёжный источник дохода сейчас. Всё ещё говорю «спекуляция», хотя все называют это новым словом — «коммерция». 4 «Несчастье — самая плохая школа», — написал в своё время А.И. Герцен. Герцена прочла ещё в школе. Почему-то в то беззаботное время запало в душу это высказывание. Может, предчувствие судьбы? Кое-кто считает меня сильной — не опускаю рук, борюсь, барахтаюсь... Что же ещё остаётся?! Или — или... Третьего не 364 дано. Нельзя расслабиться, остановиться, передохнуть, переждать... Ну, благословите меня, Силы Небесные! Покупаю в оптовке небольшую партию колготок — для перепродажи. Стою на улице, повесив на руку. Молча... В глазах — растерянность и мировая скорбь. Прохожие — потенциальные покупатели — инстинктивно сторонятся чужого горя. Наверное, придётся вспомнить уроки актёрского мастерства, искусство перевоплощения. Когда «я — не я, а...». Надо бы сделать веселое лицо. «Ну подумаешь, продажа колготок?! Ну-ка, ещё раз!» Но не спасает напряжённая улыбка — нет в ней уверенности, беззаботности, лёгкой наглости. — Что стоишь как бедная родственница? — сжалилась одна из торговок (жвачки, шоколад). — Давай смелее! Иди-ка сюда! Подхватывает мои колготки и — во весь голос: — Ко-ол-готки! Дешёвые! Прочные! Нарядные! Расхваливая мой товар, останавливая прохожих, за пару минут продаёт несколько штук. — Поняла? Теперь сама, да не стесняйся! Я — умоляющим, тихим голосом: — Женщина, вам не нужны колготки? — Не нужны! — резко в ответ. Да, видно, ничего я не поняла, бог торговли — не мой бог. Не помогают и маленькие хитрости, к которым прибегают опытные торгаши — не торгуясь, отдать первую вещь, а вырученными деньгами помахать над остальным товаром. Не верю этой ерунде, но машу незаметно. «А вдруг?» Сердце упало — рядом, пока спиной ко мне, остановился старый знакомый. Выбирает нарядный букет. Когда-то он тоже писал стихи, мы часто встречались на заседаниях литературного объединения... Теперь он — большой начальник. Сейчас обернёется... — Здравствуй, Света. — Здравствуй. — Щёки покрылись красными пятнами. — Как дела? — окидывает он меня взглядом. — Всё в порядке? Ему тоже неловко видеть меня в такой роли. Ах, если б это была только роль! — Да не совсем, — пытаюсь улыбнуться, — какой уж порядок, если стою здесь?! 365 — А-а, ну счастливо. Пока... — Пока. Уходит — нарядный, ухоженный — к какой-то счастливице. Сталкиваю как попало в сумку эти ненавистные колготки. «Всё! Домой! Не могу! Не хочу!» Только бы сдержать слёзы, хоть до дверей подъезда! Вот она — спасительная дверь... Поворот ключа — моя прихожая, и моя «Стена Плача» в ней. Выкрашенная голубой краской, гладкая, прохладная... Лбом к ней! Затылком к ней! «Не могу больше! Не пойду больше!» Но знаю — пойду. Эта роль — надолго. Дай Бог, чтоб не навсегда. Выучу, отрепетирую, привыкну. 5 «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что даст мне сей день. Какие бы я ни получил известия в течение его, дай мне принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя» (молитва преподобных отцов и старцев оптинских). Приклеила её на «Стене Плача» и каждое утро, собираясь на работу, читаю — уже наизусть. Читаю, проговариваю, настраиваюсь: «Дай же Бог...» И всё же — ропщу, обижаюсь, унываю... Твоя ли это воля, Господи, что в мире правит зло? Что процветает нелюдь, живущая по волчьим законам? Что не в почёте Совесть, Добро, Любовь? Неисповедимы пути Твои, Господи. «Дай мне с душевным спокойствием встретить всё...». Прилавок хлебного магазина, небольшая очередь. Всё как всегда. Но что-то настораживает. Очень уж долго топчутся у прилавка покупатели, нерешительно достают деньги, пересчитывают, переспрашивают... Громко возмущается бравый старичок: «За что воевал?» Жалуется бабушка: «Девчонкой была — едва на свекле выжила! Теперь и на старости лет придётся с голоду пухнуть». Закусила губы молодая женщина с малышом на руках. Второй сынишка, чуть постарше, канючит: «Мама, купи жвачку... Купи...» И я... Нет, не плачу — нет сил уже на слёзы. Проста причина всенародного расстройства. Повышение цены на хлеб. Неожиданное, без предупреждения. И какое! Вчера булка серого стоила 1 тенге, сегодня с утра — 16!!! Не выросли только наши зарплаты и пенсии... Пришлось нам с доченькой исключить из своего рациона фрукты и сладости, затем — колбасу, сыр, сметану. Урезали до 366 минимума масло и овощи. Что осталось? Вермишель, картошка, лук, гречка. Мимо прилавков продуктовых проходим, даже не оглядываясь, знаем — это не для нас. На хлеб с молоком, правда, хватало. Так бы и дальше. Но оплата квартиры, газ, свет, но «постоянная статья расходов» — лекарства. Не поднялась у меня рука купить в этот день хлеба. Есть немного сухарей. Растянем насколько сможем. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — пела в церковном хоре. «Хлеб наш насушен» — так петь теперь? Сухарей хватило на три недели. 6 Стихов почти не пишу — нет ни сил, ни времени. Да и о чём? О беспросветности? Страданиях? Сколько можно?! И кому нужно? А притворства в стихах не терплю. О природе? Я едва замечаю её: «Осень... Листопад... Первый снег...» Не восторгаюсь, как прежде. Не замирает сердце. И всё же... И всё же иногда, очень редко, случаются стихи. Стихи, для которых не ищу ни тему, ни форму, ибо они приходят сами. Откуда? Не знаю. Их надо только почувствовать, услышать, найти и выстроить в нужном порядке. НАТАЛИ Свечей сияние и глаз, Полвздоха только до любви... Танцует вальс, танцует вальс В одеждах белых Натали. Ей не понять (ах, кабы знать!) Предназначение своё. Не изменить, не избежать. Над Чёрной речкой — вороньё... Померкли свечи, замер вальс... Полвздоха... Как душа болит! Ах, Пушкин! Вот глядит на Вас В одеждах вдовьих Натали. А музыка? В забвении — не пою, не играю. Крышка пианино открывается два раза в неделю ровно на один час. Столько времени занимаюсь со своей ученицей. Удалось-таки отыскать одну. 367 «Раз и, два и... фа диез...» — отголоски прежней жизни. Музыкант, санитарка, поэтесса, уличная торговка... И снова день. Стою с картонной коробкой — жвачки, печенье, сигареты... Дождь со снегом... Покупателей нет. Наконецто хоть один! Странный какой-то... Парень изрядно «подшофе». Сразу видно — не городской, хоть и делает бывалый вид. Держится развязно. Вернее, нагло. Краткое пояснение для непосвящённых: с отделением России от Казахстана этот термин всё чаще стал встречаться на страницах газет и журналов, в речах министров и депутатов. «Коренные» — «не коренные» — избранные и изгои! Тяжело и тем, и другим. Потянулась из разорённых сёл и аулов в город коренная молодежь. Девушки — торговать на базарах и улицах. У парней выбор чуть шире — их охотно принимают в полицию, контролёрами на базарах и... в рэкетиры. Все родня, все друзья — друг другу работать не мешают. Кто есть кто — сразу не разберёшь. Даже если ещё совсем никто и одет в штатское — неважно. Главное — права качать. Махнуть перед носом перепуганной торговки любым удостоверением, можно даже студенческим билетом, а затем смело хватать с её «прилавка» всё, что приглянется: «Ладно уж, торгуй... Но впредь смотри не попадайся!» И пинок ногой по коробке! Чтобы дальше летела, чтоб товар по земле, да в разные стороны!.. Этот парень как раз из таких. Рассматривает мой товар, ухмыляется: — А за место платили? — Язык едва слушается его, да и порусски говорит плохо. Скорее догадываюсь, чем понимаю. — А ты кто такой, чтобы спрашивать? — пытаюсь поставить его на место (как осмелела!). Машет неопределённо рукой: «Да я... здесь работаю». — Где «здесь»? Прямо на тротуаре? — Не-е.... здесь... — вытаскивает из кармана кончик какогото удостоверения. — Покажи-ка! — требую я. Мигом прячет обратно: — Не положено! Я не обязан каждому показывать! — Ещё как обязан! Это я не обязана отчитываться неизвестно перед кем. — Сейчас старшего позову, — пытается угрожать этот «работничек». — Зови, зови... С ним и поговорим. 368 Я взбешена, но не подаю вида. Неверный шаг, интонация, взгляд — и всё полетит. Может и ударить. Заговариваю зубы: — Ты откуда приехал-то? — Из Асу-Булака, — смягчается. — В гости, что ли? — Не-е, в полиции работать. — Почему же именно там? — Друг позвал. Говорит, приезжай, здесь в полиции хорошо работать. — Ну и как, хорошо? — Да я ещё учусь. — Заметно. И где же всё-таки? — В вытрезвителе. Смеюсь: — Постоянным клиентом, что ли? Пьяный, а юмор понял. Расслабился, заулыбался, отошёл. А моё и без того неважное настроение — к нулю. Выползет на Божий свет всякая мразь и правит бал! Что дальше-то будет? Вот с этого паренька, не заработавшего ни одной трудовой мозоли? Он, как тысячи других, учится пока одному — наглости, обману, мошенничеству, умению брать взятки и давать их. Где же они — умные, честные, порядочные? Они не бродят по улицам в поисках лёгкой добычи. Их меньше, их не видно. Не стала я больше торговать в этот день. «Зубы втиснула в губы...». «Господи, дай мне с душевным спокойствием...». Не смогла — со спокойствием. 7 Образ жизни отражается на лице взрослого человека. Иногда достаточно беглого взгляда, чтобы понять, кто перед тобой. Убеждаюсь в этом сама, глядя на людей. Что я, кто я сейчас? Такая же уличная торговка, как сотни других?! Ни уложенной причёски, ни изысканной косметики. Простая, дешёвая одежонка, обута почти что в тапочки — легче ногам при многочасовом стоянии. Обычная тётка с немудрёным товаром. Тощенькая, правда, — ветром качает. Да глаза... Боль в них, стыд, остатки гордости. То и дело останавливается на мне чей-нибудь любопытный взгляд. Прохожий будто споткнётся вдруг. Замедлит шаг, глянет в лицо, пристально — в глаза, затем — на мой товар и снова 369 в глаза... Ещё и оглянется. Самые любопытные и общительные останавливаются. «Непохоже, что торговля привычное для вас дело!» Вежливо улыбаюсь: «Что делать?!» Знать, неважно справляюсь с ролью. Не желаю врастать в неё окончательно и навсегда. Будь это действительно только роль — на час, два — я бы постаралась... Даже увлеклась бы. Отзвучат аплодисменты, закроется занавес, долой грим, костюм! «Да здравствую я! Настоящая! Да здравствуют искусство, поэзия, любовь! Да здравствует жизнь!» Мужчине, который нерешительно топчется возле меня, слегка за пятьдесят. Немного навеселе, но — не весел. Старается держаться с достоинством. Думающие, внимательные глаза, некоторая манерность жестов. Наконец осмелился: — А я думал, такие, как вы, не сдаются! Намёк понятен — такие должны умереть, но не опуститься до мелкой спекуляции, до «панели». Пусть голод, холод, болезни... С гордо поднятой головой... — А это и называется — не сдаваться. Барахтаться, пока хватит сил, пока есть для кого. Проще всего сложить руки... — Вы, наверное, правы, — соглашается. — А хотите скажу, кто вы по профессии? Ещё внимательнее всматривается, особенно в глаза. — Что-то, связанное с образованием... или... или с медициной. Ого! Не бровь, а в глаз. Двадцать пять лет преподавала и три года санитарю — почти медик! Я не стала гадать, кто он, просто спросила. Оказалось — тоже музыкант, потерявший работу. Он нашёл другой выход, не разлучивший с любимым делом. Три-четыре раза в год устраивает сам себе турне по ближайшим российским городам — Барнаул, Бийск, Новосибирск... Играет на аккордеоне в подземных переходах и метро. Двухнедельного заработка хватает на несколько месяцев сносного существования. Не спрашиваю, зачем так далеко ездить. И так понятно: там он безлик. Некого стыдиться, не перед кем оправдываться. Значит, всё же страдает и мучается. Накипело, вот и подошёл ко мне. Показалась тем человеком, которому можно открыться. — Поёте? — поинтересовался вдруг. — Пою. — Так, может, мы могли бы... — Не могли бы! — отвечаю слишком поспешно. — Жаль... Ну, до свидания. 370 — Прощайте. Ушел, а я вспоминаю: «От сумы да тюрьмы не зарекайся!» 8 Конец декабря. Дождь со снегом. Поздний вечер, темнота. Городские фонари не горят — отключены, лишь от «комка», работающего и ночью, падает слабый свет. На этот светлеющий пятачок, как бабочки (зимой), слетелись уличные торговки и торговцы. Водка, сигареты, семечки — самый ходовой товар в это время. Из «комка» периодически выходит полицейский, нанятый коммерсантами разгонять спекулянтов, дабы не создавали конкуренцию. Тем более что в «комке» все товары намного дороже. Ссоры, скандалы... С полицией особо не поспоришь, хотя её работа здесь сродни труду дворника, чистящего дороги во время снегопада. Стоит ему отойти, всё тут же возвращается на круги своя. Возле торгующих мам крутятся дети — тоже работают. Вот чей-то сынок-дошколёнок бойко предлагает каждому прохожему: — Дядя! Купите шоколад! Вкусный! С орехами! А лимонад вам нужен? А сок? Может, и правильно — учить детей с малолетства не изящным искусствам, а науке выживания. Но щемит сердце при виде этой картины! На автомашинах всевозможных марок подъезжают к «комку» толстосумы, нагружаются дорогими коньяками и винами, импортными сигаретами... И непременно — пицца. Примитивный символ благополучия. Я — скромненько в уголочке с пирожками. Меня всё ещё опекают бойкие «подружки», зазывая покупателей. — Пирожки! Горячие пирожки! С картошкой! Странно, но летом их брали лучше. Сейчас холод, слякоть, а в руках у многих — мороженое. Сколько там ещё пирожков осталось? Почти половина! Шевелю в сапогах пальцами, притопываю, прихлопываю, но согреться уже не могу. Ещё пять минут и — продам или нет — домой. За эти пять минут успеваю сочинить песенку: Мужики — те, что покруче, У киоска вьются тучей. Ах, какая важность в лицах! На свиданье едут с пиццей! 371 Мои пирожки их не интересуют. Вот студенты — другое дело. — Пирожки! С картошкой! Горячие! Свежемороженые! — пытаюсь шутить, едва шевеля замёрзшими губами. Ладно, съем сама. Бегу домой — чай, горячая ванна... До следующего рабочего дня остается восемь часов. Господи! Жить-то когда?! С книгой вдоволь посидеть, в театр сходить, с друзьями встретиться? Стихи... Всё — спать! 9 Время от времени работники полиции устраивают на особо опасных преступников, в числе которых уличные торговцы, жестокие облавы. Подъезжает вдруг из-за угла автобус, выскакивает из него группа джигитов, набрасывается на первых попавшихся. Разговор короткий: — Разрешение есть? Нет? В автобус! Упаси боже бедняге сопротивляться! Подхватят под руки, потащат волоком, втолкнут в машину. Слёзы, истерики, а то и драки. А это уже расценивается как нападение и злостное хулиганство. ...На дворе — предновогоднее время. Я среди торгующих — крайняя в ряду. Всё те же спички, вафли, лавровый лист, пара книжек из моей разорённой библиотеки. Надо быть начеку, но я, как обычно, рассеянна, ушла в свои заоблачные дали... Поднимаю голову, лишь услышав: — Ваше разрешение? Ёкает сердце: «Ну вот, опять... И что их, как магнитом, тянет ко мне? Или правда потенциальная жертва излучает флюиды, привлекающие “охотников”?» Пытаюсь что-то объяснить — не слушают. Три бугая разом подхватывают меня, хрупкую женщину в сорок пять килограммов весом, за рукава, за шиворот и волокут в автобус. Мою коробку тащит четвёртый. В ответ изо всех сил сопротивляюсь: «Пустите!» Сопротивление только разжигает охотничий азарт: «Ату её! Ату!» Запихали в автобус. Проехали по другим пятачкам, пособирали несчастных. Автобус полон плачущими, возмущающимися людьми. Бьётся в истерике о запертую дверь молодая женщина — её ребенок в детском саду, время позднее, забрать некому. Женщина средних лет умоляет: «Заберите всё, только отпустите! Мне на работу в ночную смену». Пенсионер преклонного возраста добродушно советует: «А вы нас всех — дихлофосом или в газовую камеру...» 372 Смотрят на нас пустые глаза, равнодушные лица... Один из полицейских, как заведённый, повторяет одну и ту же фразу: «А меня не волнует». Заучил — и долдонит. Опорный пункт — где-то на окраине города. «Выходите! Сумки, коробки — с собой!» Выхожу одна из первых и покорно, как ягненок на убой, шагаю куда показывают. Кабинет начальника. Заводят группами по пять-шесть человек. Здесь всё спокойно, вежливо. В присутствии свидетелей, т.е. тех же полицейских (подписи неразборчиво), составляется протокол изъятия и — до свидания. «Ваши вещи получите в налоговой инспекции после уплаты штрафа — 1000 тенге». Всем ясно — никто свой грошовый товар (мой и на 50 тенге не тянет) выручать не пойдёт. А значит, достанется изъятое неизвестно кому. Не потому ли на протоколе, врученном мне, нет ни даты, ни печати? Всё это рассмотрела уже дома, интересно стало — впервые держала в руках такой документ. Читать смешно, а не стыдно: «Изъято: вафли — 2 штуки, спички — 10 штук. Больше ничего не изъято, гражданка объясняет, что торговала по причине, что нужны лекарства...». Лавровый лист и книги вернули. Не заинтересовал их этот товар. — Да уж берите, чего там? — съехидничала я. — В хозяйстве пригодится. И книги на досуге почитаете. Не взяли. А вот картонная коробка привлекла внимание — надо же куда-то складывать «новогодние подарки». — Нет, — говорю, — коробка мне ещё пригодится — торговать тем, что оставили. — Можете идти. Обратный путь: пешком от окраины, по темноте и морозу. Сожалею лишь об одном — не догадалась съесть, пока везли, свои вафельки. Хоть какое-то удовольствие бы получила! Что ж, буду считать — милостыню подала. 10 «Ангел-хранитель мой, встань за моей спиной! Встань рядом со мной!» — эту сочинённую мной молитву читаю перед дежурством в реанимации. Перекрещусь у дверей: «Хоть бы сегодня не было покойников!» — и за работу. Привыкнуть к этому невозможно. Со съёжившимся в комочек сердцем укладываем с сестричкой беднягу на каталку, накрываем простыней и — в морг. Случается, лифт не работает, 373 тогда на носилках, пешком по лестнице с шестого этажа. Несут девчонки-санитарки и медсёстры, силы у которых — не очень. И покойники всегда почему-то тяжелее живых. Этот больной, весом 110 кг, скончался ночью, повезли рано утром. И лифт работал, и каталка нашлась — до морга справились. Но заносить его всё равно на носилках. Две сестрички взялись с одной стороны, я — с другой. Сторож стоит на ступеньках — глядит, как пыхтим. Он уже «принял на грудь» — работа такая, помогать — не его дело. Внесли кое-как. Теперь ещё одно усилие — переложить на высокий стол. «Раз-два, взяли!» — и обрывается ручка носилок. Неимоверно напрягаю мышцы другой руки и спины — удержать! Сумела, перехватила, переложили. Я еще не знаю, какую глупость совершила. Но узнаю очень скоро — через несколько дней, когда почувствую боль в спине, руках и ногах, когда от слабости станет темнеть в глазах и начнутся мои «хождения по мукам». Терапевт, невропатолог, рентгенолог... Наконец диагноз поставлен — смещение позвоночных дисков. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пока ещё верю — мне помогут. Но с каждым месяцем надежда тает. Все берутся лечить, обещают справиться, всем надо платить. Впустую — не помог никто. Боль не оставляет ни на секунду, не даёт расслабиться и отвлечься... Так и живу с ней, работаю, торгую... Ночь — со снотворным. Когда уж совсем невмоготу, колю сама себе обезболивающее. Нервы сдают. Стараюсь крепиться, но предел желаний — уйти, забыться, не знать, не чувствовать, не быть... На всё гляжу потухшими глазами, со всеми прощаюсь... И мысленно теперь уже прощаю всех своих обидчиков. Прошу прощения у всех за «грехи вольные и невольные». О смерти думаю как об избавлении от страданий. Нарастает одиночество. Это, как ни странно, уже не пугает. На общение нет сил. Мне, умевшей находить радость в улыбке ребёнка, в капле дождя и дуновении ветра, становится в тягость дар Божий — жизнь. Душа силится найти выход, но видит только один... 11 Есть анекдот: «Пришёл как-то писатель М. Зощенко на прием к психиатру: — Помогите, доктор, депрессия! Жить не хочется! — Это очень просто, дорогой, — возьмите томик Зощенко, почитайте на сон грядущий, и всё как рукой снимет. 374 — Видите ли, доктор, я сам — Зощенко». «Помогите, доктор, депрессия». Мне прописали не книжкулекарство, а крутое, наверное, средство — с треугольной и круглой печатью. Вот сейчас зайду в аптеку, куплю, начну принимать... Увы! Цена на лекарство тоже оказалась крутой... И что, конец? Ну уж нет! Шоковая терапия иногда бывает полезной. Мигом понимаю: хандрить — себе дороже. Покупаю дешёвую успокаивающую травку пустырника, завариваю, пью и сочиняю по вечерам формулу самовнушения: «Я совершенно, абсолютно спокойна. У меня всё прекрасно. (Что же продать завтра?) У меня крепкие, стальные нервы. (А где продать?) Я сильная, здоровая. (Ой!) Я выдержу любые испытания судьбы. (Надеяться не на кого!) У меня насыщенная, интересная жизнь. (Куда уж интереснее!) Я спокойна, здорова, счастлива... (Господи, как не хватает “жилетки” для слёз и плеча для опоры!) Я всё выдержу! Всё смогу! Я должна!» («Должна» — это слово как спасательный круг! Моя соломинка, моё заклинание.) Душа бессмертна. «Болезнями и страданиями её лечат, неудачами и нищетой воспитывают, чтобы возродить духовно более совершенной». В чём я ошибалась? Что делала неправильно, неправедно? Многое, наверное, как любой человек. С годами оплошности всё виднее. За них ли страдаю? Так ли велики мои грехи? А моя дочь — и ей пора рассчитаться за грехи предков? Сплошные вопросы. А может, всё это — чушь, ересь? И есть только физическое тело, его рождение, рост, а затем — уничтожение навсегда? «Блаженны верующие!» 12 Прошло четыре года. Три из которых «падала в бесконечность», тратя деньги на лечение... Наконец поняла — я сама, как барон Мюнхгаузен, должна вытащить себя из беды. Итак, от официальной медицины — к книгам «Помоги себе сам». Листаю одну за другой в поисках подходящего мне. И нахожу — Юрий Власов, Владимир Дикуль, Николай Амосов и др. Разуверившись в помощи врачей, они подняли себя сами — усилием воли, неимоверным трудом. Преодолевая страшную боль, бессилие, обмороки... Безусловно, я не имею возможности отдавать занятиям столько же времени, я должна работать и зарабатывать. И всё же начала. По пять упражнений, затем через месяц — по десять, дальше — по пятьдесят, по сто раз 375 каждое — на работе во время перерыва, в лифте, на кухне возле плиты... Мои помощники — два утюга вместо гантелей, дверь вместо турника — для растяжки. Но и этой самодеятельности хватило, чтобы через полгода укрепить мышцы, растянуть связки, а главное — уменьшить боль. Она ещё достает меня, но терпеть можно. Отказалась от обезболивающих инъекций и почти что — от снотворных. И даже духом воспрянула! Занимаюсь понемногу ремонтом квартиры, бываю на литературных вечерах, участвую в концертах с чтением своих стихов... По-прежнему торгую выпечкой — от этого пока никуда не деться. У меня свои постоянные покупатели, и я даже получаю удовольствие от их похвал моим изделиям. Жизнь продолжается... Àíòîí ßÍÊÎÂÑÊÈÉ Âîëîãäà ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ ×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß. ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÉ ÄÂÎÐ 1 У каждого человека есть история, которую бы он хотел рассказать. Спокойно сесть, чтобы не отвлекали по пустякам, собраться с мыслями и вспомнить своё прошлое, потому что прошлое практически неизменно. Чего не скажешь о настоящем: не успеешь глазом моргнуть, как оно переходит в ближайшее будущее. Такая история всегда несёт в себе какое-то первостепенное значение. По крайней мере, на определённом отрезке жизни. Тебя так и переполняет желание поведать о том, что ты знаешь и пока ещё помнишь. Но, пытаясь сделать это, сталкиваешься с внезапной и главной преградой. То, что только что казалось, да и всё ещё кажется важнее всего, вдруг теряет на бумаге или в устном рассказе весь свой высокий смысл. Облечённое в слова и разбитое на абзацы, становится каким-то мелким, будничным и банальным. Ну да, ну было дело. Всякое бывает, случалось и не такое. А вот, слышь, дай-ка лучше я расскажу. И пошло-поехало всё вкривь и вкось. Закачаешься, за голову схватишься. Но дело ведь не только в этом, а? Ведь само желание понять важнее созерцания словес. Вот в чём в первую очередь нуждается рассказчик, если он, конечно, уже не до того себе на уме, что свято верит: заполненные его рукой бланки квартирных платежей — самое стоящее, что было создано за последние годы в мировой литературе. Сколько мне тогда исполнилось лет, с какого момента начинать свою историю? Это было в восьмидесятых. Но иногда мне кажется, что с той поры минуло совсем немного, что это было 377 вчера. Особенно когда я мысленно, уже перед сном, уношусь в события десяти — пятнадцатилетней давности. Сейчас у меня достаточно времени, чтобы рассказать вам свою вполне незатейливую историю. Я так долго держал её в себе, что теперь мне действительно кажется: нет в ней ничего такого. Вряд ли я сумею передать вам её так, как она случилась. Согласитесь, вещи таковы, каковы они есть, либо таковы, какими ты их помнишь. Я расскажу свою историю как помню. 2 Наш двор на улице Московской был расположен в самом центре Фрунзе. Убедить нас в обратном было бы тогда пустой затеей и бездарной тратой времени. Наша жизнь в основном протекала в пространстве, ограниченном тремя сталинскими домами. Ну а то, что простиралось и происходило за пределами этого мирка, всё равно казалось временным: школа, работа родителей, походы в кино и поездки на Аэропортинское озеро или Большой Чуйский канал, прозванный бочкой — БЧК. Не скажу, что мы, как умницы на загляденье, проводили все свободные часы во дворе и носа не казали на улицу. Просто то, что находилось на расстоянии нескольких кварталов, было уже до того освоено и исследовано нами, что и Дворец культуры, куда мы бегали на фильмы, и хлебную, и «Спорттовары», и сквер Тоголока Молдо, и даже Костовое поле мы считали почти своей территорией. Как описать наш двор, чтобы вы поняли, какой он был замечательный? Вспомните то место, где вы сами жили в детстве, и тогда вы поймёте, что я имею в виду. В середине двора — круглый бассейн. Старожилы поговаривали, что, когда мастеровые только закончили приводить его в божеский вид, фонтаны украшала идиллическая композиция: изящно изогнутая цапля, поднявшая клюв над разлётом трепещущих крыльев, и две застывшие перед этим невиданным изваянием царевны-лягушки. И мы верили, что так оно и было, потому что верить красоте, пусть и разбитой позже на черепки, было куда приятнее, чем любоваться на торчащие из зацементированного дна ржавые железные штыри. От этого мы не любили бассейн меньше. Конечно, трубы давно пришли в негодность, и водой он наполнялся от силы раз в год, да и то если кому-нибудь из взрослых удавалось уломать пожарных опустошить в него резервуары своих служебных машин. В этих особых случаях мы всем скопом бросались 378 на уборку запущенного лягушатника и драили его что есть силы, натирая стенки и дно разве что только не мылом. Зато наши труды всегда бывали вознаграждены двух-трёхдневным бултыханием в относительно чистой луже. Самые отчаянные, правда, лезли в воду и неделю спустя. Но скрежетать пузом по дну в обмельчавшем из-за усердных разбрызгиваний аквариуме и разгребать покачивающийся мерно, словно поплавки, сор было уже не так весело и заманчиво. В остальные же времена бассейн тоже не скучал. Его стенки были будто предназначены для игр в сталкивание, догонялки и «выше земли», что нередко заканчивалось для особо торопливых или чрезмерно неповоротливых разбитыми носами. Таких мест, где мы бы могли провести время и испытать свои кости на прочность, было в нашем дворе хоть отбавляй. Чего только стоили две беседки, возвышающиеся, подобно часовым, над газонами напротив калиток, ведущих в наши владения. Особенно удобна была правая. И не только потому, что она стояла неподалёку от моего подъезда. Просто в ней ещё оставался врытый стол для заядлых доминошников, а стены были целы. К тому же рядом, почти вплотную, росла акация. И это были огромные преимущества. Домино нас интересовало посредственно. Но стол вполне годился, чтобы резаться в карты и щёлкать до умопомрачения в коробки: на счёт или по три копейки за кон. Деревянные стены из шашечно-гнездовых перекладин опять же подходили для догонялок (казалось, мы были готовы преследовать друг друга где угодно, но только не на земле). Акация позволяла забираться на крышу нашей крепости, что сделать иначе было делом почти неслыханным. Края крыши выступали гораздо дальше самих стен, да и толь, которым её покрывали, уже давно отошёл от настила и ходил ходуном. Так что цепляться за него было сущим лихачеством. Ну а ещё оставались деревья, по которым у нас умел лазить каждый; бомбоубежище, подвалы, чердаки, мастерская художников, закрома кладовщика-спекулянта из комиссионки, расположенной в одной из наших трёхэтажек, цистерны с газом — возле них, на пиках ограждения, — мы подкарауливали стрекоз и много чего другого, всего так сразу и не упомнишь. Наш круг не был разношёрстным. Но у старших парней, что учились в классах седьмых — девятых, имелись свои интересы. Кто-то уже поговаривал о девчонках, и их пространные рассуждения об устройстве некоего загадочного «типа напалечника» 379 были далеки от нашего понимания. Кто из мелких ни пытался взять в толк, что это хоть примерно такое, старшие ограничивались таинственно-абстрактным объяснением: «Подрастёшь — узнаешь». Что только наводило наши пытливые умы на саму собой напрашивающуюся догадку: ни Макс, ни Саня, ни Андрей из углового подъезда сами не знали, что это за штука. Однажды мы пришли к выводу, что этого не знает даже Стас, а уж он-то ходил в школу с портфелем-«дипломатом» и был самым умным из нас. Впрочем, иногда нас допускали в общество взрослых парней. Случалось это за игрой в пробки или в альчики — бараньи мослы. Ну а уж когда с нами соглашались поиграть в прятки, нашему ликованию не было предела. Понятно, что водить, как правило, приходилось нам. Старшие договаривались не находить друг друга. Но и мы были не лыком шиты. Поэтому чаще всего у стенки, по которой надо было хлопать ладонью и кричать: «Тукила-тукила, я замаился», стоял дурачок Аскерушка. Разных считалочек Аскер знал больше всех, из-за чего обижался на свою участь лишь изредка, когда ему приходилось вести конов девять-десять кряду. Затаившись в кустах, мы слушали его не знающие истощения присказки: «Корыто-корыто, скоро глаза мои будут открыты», или: «Я считаю до пяти, не могу до десяти». Причём дальше рифмованные оправдания, почему он считает именно до пяти, а не до десяти, растягивались на пару минут, хотя по правилам счёт полагалось довести всего до тридцати очков и со спокойной совестью идти искать. Но мы старались не испытывать его терпения сверх меры. И поэтому порой специально попадались ему на глаза. Дело в том, что водил Аскер честно и уходил от заветной стенки на порядочные расстояния, что позволяло нам «замаиться» без труда. Да и почти всегда было можно обвести ведущего, поменявшись в укрытии рубахами или куртками. Тогда всё списывалось на то, что замечен был не я, а, скажем, Димон в моей футболке, и считалось, что вышли «обознатушки-перепрятушки». Были и другие каверзы. Чтобы сбить разыскивающего с панталыку, уже выбывший из игры мог предупредить кого-нибудь из затаившихся о его приближении. В таких случаях что есть мочи кричалось: «Топор-топор, сиди как вор и не выглядывай во двор!» Тот же Аскер, в надежде кого-то засечь, ломился в кусты по выбранному направлению, а в это время все оставшиеся игро380 ки выскакивали из своих тайников и неслись во весь дух к контрольной стенке. Разумеется, никакой «топор» и не думал никуда выглядывать. В том месте попросту никто не прятался. Ну и конечно, всем двором мы частенько совершали вылазки в сквер Молдо — обносить фруктовые деревья: яблони, урюк, груши. Старшие трясли стволы. А мы, в тех случаях, если плоды не поддавались «взбучке», карабкались на самые высокие и тонкие ветви, что могли выдержать только наш вес. При других обстоятельствах наши пути со старшими чаще всего расходились. 3 В нашей компании было несколько человек. Мы с Димкой Дроздовым не претендовали на какое-то особое положение в ней. Просто никогда не поворачивались спиной к тем, с кем общались, и постоянно держались вместе, хотя он и старше меня на два года. Двери наших квартир выходили на одну лестничную площадку, что тоже не могло нас не сблизить. Тем более что его и моя бабушки были давними приятельницами, обе прошли фронт, и дня не бывало без того, чтобы они не проведали друг друга. Их привязанность передалась нам. И со временем мы стали неразлейвода. Ещё мне очень нравилась младшая Димкина сестра Жанна, думаю, отвечавшая мне взаимностью. И Дмитрию, на правах старшего, доставляло немало удовольствия покровительствовать нашим «зрелым» отношениям. Для пацанов поменьше такая ситуация была в диковинку, но зубоскалить открыто они не решались. Видя, что мы везде появляемся вместе и довольно неплохо проводим время, к нам тянулись. Мы не особо лезли к старшим, не старались примазаться к их умным разговорам и в то же время не сторонились тех, кто был младше нас. А этого для них было уже вполне достаточно. 4 Семья Турабековых по числу детей самая большая. У тёти Киры — старший Альби, Мариам и Аскерушка. У её сестры Розы — Эльдар, Тимур и маленький Ренат. У третьей, Людмилы, — Сашок. Кто чей, всегда путали, да и эти выяснения мало кого волновали. Было в их крови понамешано, в быту — шумно, в четырёхкомнатной квартире — неухоженно. Жили гвалтом, пе381 ребиванием и передачей одежды по наследству. Но старались, чтобы всё как у людей, дети обуты-накормлены, и кривотолков в свой адрес не допускали. Отец был только у Сашка, поэтому жили они втроём, своей семьёй, отдельно — в одном из микрорайонов, бывали наездами. Мать Эльдара со своим разошлась. А муж тётки Киры много лет назад повесился на трубе в кухне. Это замалчивалось. Но многие знали. Как-то рассказали и мне, с условием, что буду держать язык за зубами. Альбиня — взрослый, к нему не подступишься. Эльдар — погодок, чуть косоват, улыбка хитрая мелькает. Тимица, брат его, пока ещё в мелюзге. Ренатику своего второго дня рождения ждать и ждать. Мари — просто красавица. Огромные глаза, длинные ресницы; во взгляде — что-то восточное, а как школьный передник белый наденет — не оторваться от Маришки. Только с Аскера спрос невелик. Выводит в прописи по-зеркальному, шиворот-навыворот, и всё тут. Да читает, как ясельник, по слогам, силится сложить буквы. Ну, его в спецшколу и определили. Выправится, говорят, переведём обратно — ещё догонит! Куда там! От них потом выберешься. Спросишь его: — Как дела, Аскерушка? — Да вот, — отвечает, — завтра в кино ходил. Завтра! — Вчера, — объясняешь ему. — А завтра только ещё наступит. — Завтра? — Да, завтра. Завтра наступит завтра. Чудак! И главное, хоть бы раз название фильма вспомнил. Видно, у него не только письмо обратное, но и внутри что-то с этими вчерашними завтра и завтрашними вчера наперекосяк. А то ещё зайдёт речь про Кызыл-Аскер, пригород, мы туда за спидометрами для великов ездим, когда прежние ломаются, так надуется. — Угу, — бубнит, — как же! Вы в Кызыл-Андрея ездили или в Кызыл-Алёшу. И сколько ему, чертеняге, карту географическую ни показывай, что в лоб, что по лбу — всё равно одно гнёт. 382 5 Саня Мельников — свой парень. Слегка манерный, опрятненький, со старшими вежливый. Это его дед приучил. Он у него добрый, но порой строговат. Нога у него своя всего одна, другая отстёгивается. Приветит, бывало, поговорит, а потом как вспомнит вдруг чего, раздражится, осерчает. Бывать у них в гостях тягостно, не по себе. Бабушка Санина на кухню пригласит, угостит чем-нибудь, гриба нальёт. Женщина дородная, в складочках, а как муж только взглянет по-иному, потускнеет враз, вся съёжится, будто в размерах меньше станет. А пришлому так вообще хоть сквозь пол провалиться, не до игр. Саня особенно поэтому и не приглашал. Сам понимал, что к чему. А на улице словно разрядки ищет, компанейский. Конечно, сразу в пыль в своих отутюженных брючках не бросается и взрослым напропалую не дерзит, но и не пай-мальчик. Да он и дома не то чтобы по струнке ходит. Любит своих деда с бабушкой, как и они его. Да и как иначе? Внук единственный, а бывает всё реже. Родители Сани выплачивают за кооператив неподалёку от Ортосайского рынка, и по мере обустройства он, Саня, все меньше времени проводит с нами. Его отец с матерью переехали уже давненько, но пока ремонт, то-сё, оставили сына на старом месте. Добираться на учёбу Сане стало, правда, тяжело, почти пятнадцать остановок на транспорте (в школу-то другую уже перевели). Зато не обрубили ему все связи разом. Чай, не несмышлёныш ведь, чтобы где придётся — там и ладно. Попробуй перестройся вмиг на новое, если прожил во дворе на Московской всю свою сознательную жизнь. 6 Уш Ганкин и Нихёль Меньщиков по школе опережают на три года. На самом деле их зовут Андреем и Лёхой, но к ним уже пристали прозвища — старшие так окрестили. Нас они за это шпыняют слегонца, а тем сказать ничего не могут. Говорят, конечно, но что толку? А мы лишний раз и не бередим, не дразним: «Ушу замуж невтерпеж» и «Нихёль никелированный». Уши у Андрея действительно топорщатся, торчат в разные стороны, отогнул будто кто нарочно. А вот насчёт Меньщикова непонятно. Почему никелированный? Может, из-за того, что гантелями занимается? Хотя вряд ли. Чёрт его знает. Непонятно. 383 Учатся они в разных школах. Лёха в нашей, в двадцать восьмой, а Андрей в тринадцатой, английской. Там у них на этот иностранный язык со второго класса не то какой-то уклон идёт, не то крен. Придёт как-нибудь с занятий и говорит: «Ю брэйкин май хат». Особенно если какая девчонка рядом. Чего-то про хату, значит. А по-ихнему это: «Ты разбила моё сердце», кажется. А не про квартиру. Вот и выучи его, английский этот. Только несладко Андрею приходится. На первом этаже в моём подъезде (я-то на втором) Кадниковы живут. Так кадниковская жена, Маргарита Васильевна, директриса той самой тринадцатой школы. А чуть во дворе бузу устроим, та шмыг на улицу и на вид поставит, галочку в уме. Андрею потом откликается. Брат у него старший тоже эту школу заканчивал, чуть ли не с золотой медалью. Ему Пашку в пример вечно ставят. Да только что с ним теперь? Говорят, дрянь какую-то глотает, в больнице необычной лежал. А из дома после ссор с бабушкой, Генриеттой Исааковной, через окно второго этажа по трубам вылезает, сам видел. Отец его с их матерью, тётей Галей, в разводе. Но им всё равно помогает. Старшего сына к своему делу пристроить пытается. Чем он занимается, во дворе наверняка не знают, бизнесом каким-то. А что за бизнес, никто и объяснить не может. Работа, говорят, такая. Ну раз работа, так и скажите — работа. А то — бизнес. Но что-то, видимо, прибыльное: на машине он заграничной ездит. Старики иной раз вокруг автомобиля соберутся и гадают: что за марка? Поломают головы, поломают и стоят ни с чем дальше. — А ещё есть французское авто. «Пежо» называется, — вспомнит Сазонов. Сам он в машинах дока, собирает по частям «победу». — Во-во, «пижон» и есть, — согласятся остальные, охотно затрясут головами. Нет чтобы спросить. Но отец Андрея нас мало занимает. Всё равно никогда покататься не возьмёт. Куда интереснее слушать о похождениях Ампилуги на Трёх Ботаниках. У Мишки Ампилова родители пьют, его колотят. Со школой у него дело тёмное, не больше классов шести. И сам уж от безысходности закладывает, припадки случаются на нервной почве. Компания у него своя, шебутная. Куролесит по городу, ввязывается в истории. Нигде не работает, а деньги есть. 384 Кладовки у нас как-то в подвале вскрыли, ну, все на него и подумали. Только не доказали ничего. Милиция приезжала, онито его не первый день знают, расспрашивали что-то. Так ничем и не закончилось. А Мишка возьми потом и полунамёком обмолвись, что не всё так уж и чисто. Не знаю, кто уж и кому донёс, только через пару дней Ампилугу в пять утра всего в крови дворники нашли. Оклемался. Головой об стенку его отхайдокали, а кто — не говорит. — Хулиганы, наверное, — ответил. — А сам-то ты кто? — спросил участковый. И милиция опять уехала ни с чем. 7 Три Олега приезжают в наш двор только летом. У Олега Бутенко родители на заработках, где-то на Севере. Смирнов и Ануфриев, почти как артист, из Москвы. И у всех здесь бабушки, старики. Мы удивляемся, почему они живут порознь, но с расспросами не рвёмся, дело чужое. Артист сильно заикается, иногда и слова одного не дождёшься. Родители его в Москве на курсы водят, чтобы разговаривал лучше. Да что-то всё без результата. Бутенко держится особняком. В каждый приезд говорит, что на следующий год всей семьёй переедут обратно. И так повторяется от лета к лету. Смирнов занимается лёгкой атлетикой: быстро бегает и крутит обруч, как девчонка. У него ещё жива прабабушка, которой сто шесть лет. Кажется, всё время она проводит на балконе. Сидит себе под козырьком верхнего этажа и дышит свежим воздухом. Это она так гуляет. Во дворе-то её уже годов двадцать не видели. Личность олеговская прабабка загадочная, древняя. К тому же её вблизи никто из нас не видел. Задерёшь голову, крикнешь: «Здравствуйте!» А она — молчок. Только силуэт, облокотившийся на палочку, сквозь кроны деревьев проглядывает. Не слышит то ли нас, то ли своими думами занята. Гуляет, мыслит. — Так это она ещё Ленина видела, — задумываемся мы иногда. — Видеть не видела, но могла, — авторитетно заявляет правнук. — И войну Гражданскую с Чапаевым застала, — продолжаем восхищаться мы, высчитывая года. — И в прошлом веке жила! — С царём! 385 Всё это произносится почти с благоговением. А то, что Олегова прабабушка не видела Ленина или Чапаева, нас не огорчает. Могла ведь! Угасла долгожительница тихо, незаметно, в одну из вёсен. Просто кто-то сказал, что бабушки на своём привычном месте нет, а некоторые вспомнили, что балкон пустовал и на той неделе. Хотя как мы могли пропустить похороны, никто из нас объяснить так и не смог. 8 Хоронят у нас исправно, проводы на каждый сезон приходятся. Катафалк, венки, оркестр. Двор большой, людей живёт много, одиноких почти нет. Пенсионеры — почти в каждой квартире. Если вечерком все соберутся, на трёх рядах скамеек у левой беседки не умещаются. А табуреты не вынесут — обязательно кто-нибудь стоит. Спорят, обсуждают, переругиваются. Бабки в сторонке, старики дымят, газетные новости перемалывают. По этой части Глеб Парамоныч — признанная голова. Он статьи в «Вечерний Фрунзе» пишет. За глаза его зовут «Двенадцать Месяцев». Каждый месяц он подписывается по-разному: Глеб Январёв, Глеб Мартов, Глеб Августов. Какой месяц — такой и псевдоним, а своим именем — никогда. — Чего пишешь, если от фамилии своей открещиваешься? — пытают. — Или вёе — брехня? Такие дознания — обычное дело. Но это так, для словца. На самом деле Глеб Парамоныч — личность уважаемая, и тем, что он живёт в нашем дворе, многие гордятся. Стихи своих детей, а то и внуков показывают. Глеб Парамоныч отнекивается: — Я в лирике не совсем. Журналистика — аспект иного порядка. Но тетрадки берёт и потом всё большей частью хвалит. Только в газете не печатает. Говорит, профиль не тот, и советует отослать, смотря по возрасту, в «Костёр» или в «Весёлые картинки», если автору от горшка — два вершка. — Чего, Парамоша, в мире делается? И начинается. Но иногда ходит Глеб Парамоныч мрачнее тучи. Это когда в одном из наших домов ломается что-то, а меры не принимают. И не откажешь общественности, и возиться неохота. Отец Димки Дроздова говорит, что так ему удобнее. Писать о впечатлениях с выставок (Глеб Парамоныч в отделе культуры заправля386 ет) куда проще. Я в этом деле ничего не понимаю, но почти в каждой статье одинаковый набор: «Я вошёл, и мне открылось», «Сердце зрителя ёкнуло и замерло», «Живописцу удалось» и «Всем нам несказанно повезло, что...». 9 Дядя Коля — шахматист, пожалуй, единственный, кто не интересуется персоной Глеба Парамоныча. Знай режется все вечера напролёт в шахматы, партий по пять-шесть, не отходя от кассы. Сидит будто вместе со всеми, а чуть в сторонке. Если надо, вклинится в разговор, а так — нет его. Только и слышишь: «Е два — Е четыре» — и кланк по кнопке часов, как заправский профессионал. Кругом лавки топчутся, советуют. Дядя Коля этого не любит. Если и соглашается на подсказки, то разве что противнику. И без того часто выигрывает. Стучит своим срезанным наполовину фрезерным станком указательным пальцем и торопит с ходом. Оглянуться не успеешь, как у тебя одни пешки, три с половиной калеки, и королю — мат. — Да, умеешь ты, Коля, материться. — Это коронная фраза Эдика. — Я же говорил тебе, — обращается он уже к проигравшему, — лошадью ходи, Каспаров! Эдик — с первого этажа, тоже из моего подъезда. Его квартира напротив директрисиной. Тип он ещё тот. И не старый ещё, а брюзга-а! Его, наверное, все недолюбливают. Даже жена, вечно у них ор раздаётся. Но старики его терпят, только от разговоров коробятся. Крепок на язык Эдик. Ляпнет какую-нибудь пошлость и гогочет над ней, будто не спохабил, а номер отколол, как Олег Попов. И матерится, спотыкаясь на втором-третьем нормальном слове, подчас такое загнёт, что и не поймёшь, в чей адрес клонит. Мы его иногда специально приходим послушать. Но глаза стараемся не мозолить, у нас с ним давние контры. 10 Вечером слушаем Уша. К ним в класс должны перевести настоящего негра. На третьем уроке его привозили знакомиться, да так и оставили на весь день. Отец у него, как в фильмах, какой-то важный засланный посол. Только почему-то не из Африки, а из Америки. — И как же он с вами говорит? — спрашивает Лёха. 387 — По-русски, — отвечает Андрей и, видя наше недоумение, добавляет: — Но плохо. Очень плохо. Потом выясняется, что вообще-то этот самый Патрик (Патриком его звать) к нам не совсем из Америки перебрался, а из Таганрога. — А что он в Таганроге-то делал? — выпучивает косоватые глаза Эльдар. — Отец у него там работал до перевода, — как бы оправдывается Андрей, чувствуя, что эффект уже безвозвратно смазан. — Да и фамилия у него дурацкая — Хилпатрик. Интерес к Патрику-Хилпатрику немного увядает. — А чего его именно в вашу школу отправили? — опять спрашивает Лёха. — Наша двадцать восьмая лучше. Всё-таки негр — один, а в тринадцатой из всего двора учится только Ганкин. — Так специализированная же, — с гордостью отвечает Андрей. — С уклоном. — И какой же его язык иностранный у вас изучать заставят? — загоняет его в тупик Макс. — Как какой? — теряется Уш. — Английский. Какой уклон, такой и язык, наверное. — Да что он, английского языка не знает, что ли? — удивляется Стас. Все смотрят на Андрея. Его негр, ему и отдуваться. Ждём, что скажет. — Вспомнил! — после замешательства чуть не вскрикивает Уш. — Он говорил, что в школе изучал французский. Мы понимаем, что подозрения Стаса напрасны. Но Стас не отступает. — Ну да, — невозмутимо продолжает он. — Конечно, французский, немецкий или итальянский. Английский-то у него — родной. Мнения разделяются. Мы считаем, что английский — родной у англичан, а не у негров. — Скорее всего, его заставят лучше учить русский, — гнёт свою линию Стас. — Отдельной группы русского языка нет ни в одной школе, — назидательно заявляет Димка. — Он у нас и так для всех родной. Когда Димка чувствует, что прав, всегда говорит уверенно, твёрдо. 388 — У нас — да, — начинает уже раздражаться Стас. — А для него русский — иностранный. — Вот бы мне потом иностранным сделали русский, — мечтательно влезает Аскерушка. — Русский-то я хорошо знаю. До четвёртого класса ему далеко. Это он наперёд маракует. — Нет, русский и так для всех, — всё ещё не сдаётся Андрей. — И иностранный тоже для всех, о-бя-за-тель-но! — Вот не повезло парню, — говорю я. — Нет чтобы ему там вместо французского сразу английский учить. Так ещё здесь с английским мучиться придётся, потому что у вас никакого другого нет. Это ж шарики за ролики заскочить могут. Все молчим. Мысль о том, что английским он, может, с детства владеет в совершенстве, напрочь теряется под градом догадок и предположений. Патрик, он хоть и негр, но надоел уже всем окончательно. И без того в его судьбе сколько участия приняли. — Короче, завтра чтобы всё разузнал, — наказывают Ушу старшие, наконец-то прекращая этот сыр-бор. Одному только Аскеру по-прежнему интересно: — Русский язык и вдруг — иностранный! Чудно! Больше таинственный негр в тринадцатой школе не появлялся. 11 С утра летим в комиссионку, приёмщик приглашал. У него во дворе отдельная конторка. Чего там только нет — сокровищница. Достаёт где-то всякие вещицы и продаёт втихую. Нас-то уже знает, примелькались. Вот и предлагает время от времени что-нибудь. Выбор у него королевский. Гурьбой втискиваемся в полузатемнённое помещение и ждём, когда он достанет из стола ящички. Всячина всякая, но из-за денег чаще всего напоказ выставляются разные брелки: складной ножичек под матрёшку, чёртик со светящимися в темноте стекляшками-глазами, Кинг-Конг с вываливающимся языком. Иногда бывают маски, очки с носами, вставные челюсти, значки-цеплялки с Джексоном и «Зе Беатлес». Предел мечтаний, конечно, деревянный бочонок с краником, для пива. Но он восемь рублей стоит. Каждый раз просим его показать и не продавать, оставить. А чтобы совсем на нас не обижался, покупаем у Магаза (это сокращённо от «магазина») что-нибудь грошовое. Больше всего из брелков нравится девушка в тюрбане. Сама на зеркальном матовом фоне, с цепочкой на 389 шею, в футляре. Какая-то Нефертити. Аскер пугается. Откладывает её осторожно в сторонку. Думает, ему сказали: «Не вертите». Стоит она аж тридцать копеек, два школьных завтрака. Но после торга сбавляем по две-три копейки. — Только никому не рассказывайте, где брали, — с ноткой просьбы наставляет Магаз, запирая свою кладовую и как бы невзначай оглядываясь на служебный вход в комиссионку. — А бочонок я, так и быть, пока приберегу. — Прямо для нас он его и оставляет, — говорит потом Нихёль. — Заломил цену, вот и не берёт никто. Точно одно. Из-за того, что мы не выдаём Магаза, он и сбавляет нам иногда цену. С этим соглашаются все. И Нефертити в чурбане, как прозвал её головной убор Аскер, царственно кивает на своей цепочке в такт нашим догадкам. 12 Напротив наших окон — котлован. После долгого затишья, ближе к полудню, он внезапно начинает оживать. Стягиваются грузовики, кивают краны, суетятся рабочие. Будут закладывать фундамент. Пустой дырой котлован зияет уже несколько лет. Раньше на его месте теснились кварталы частного сектора: маленькие домики с палисадниками, выкрашенный штакетник и в каждом — калиточка. Мне кажется, всё это я помню. Но утверждать наверняка не берусь. От неразобранных остовов домов, что сбились по краям котлована, давно остались руины; хоть чем-то полезный хлам растащен. О фруктовых садах напоминают лишь два тутовых дерева, которые ещё называют шелковником. На одном ягоды белые, крупные, продолговатые, за ними нужно лезть на самую верхушку. Второе дает плоды иссиня-бордовые, с переливами. Чуть надавишь языком, как они лопаются, превращаются в сладкую кашицу, обволакивающую рот. Прибывший экскаватор немилосердно рубит тутовые стволы ковшом, злобно урча, натиском, гнёт их к земле, кромсая без всякой анестезии, по живому. Какое-то время шелковники держатся, противостоят напору, но потом уступают механизированной груде железа, расчетам СМУ и координатам планируемого объекта. Надрывно трещат, туго выгибая свои молодые стволы под ковшом, кракают и безысходно сдаются, отваливаясь рассечёнными открытыми переломами. 390 Нас душит злоба и ярость. Самые отчаянные швыряют в экскаватор комья земли. Но ничего изменить нельзя. А ведь тутовник рос на нашей стороне арыка и поэтому был нашим. Экскаваторщик вылезает из кабины и, весело смеясь, начинает обрывать ягоды, отправляя их горстями в рот. Этого мы стерпеть не можем. Когда его отвлекает чей-то окрик, подхватываем сбитые ветви и утаскиваем их за мой дом, в глубь нашего двора. Сидим на бассейне и аккуратно, чтобы не растерять, обираем оставшиеся ягоды. Деревья жалко. Уж очень они строительству этого киргизского дома помешали. *** Работы ведут споро. Глеб Майский узнаёт, что на каком-то высоком уровне принято решение заселить дом разными киргизскими учёными, директорами и светилами. Район престижный, место удобное. Поэтому со строительством уже торопятся, забыв о простоях. Раньше в этот дом обещали прописать частников из снесённых кварталов. Но их уже и так куда-то расселили, растолкали по разным районам. Чувство справедливости подмывает Майского, как человека порядочного, написать о неравноправии: мол, обещали — и кукиш, как для простых людей — так котлован, а как для академиков — на тебе и фундамент, и технику, и материалы, не говоря уже про сжатые сроки и внезапно взятые повышенные обязательства. Об этом Майский горячо говорит по вечерам собравшимся на лавочках пенсионерам. Правильно говорить он умеет, аж за душу берёт. Неправду ему по долгу службы, в свободное от хождения по выставкам время, предлагают обличать от двух до трёх раз в неделю, в зависимости от того, есть ли место в «подвале» первой полосы. Но строительство академического дома — дело важное, лезть поперёк со своими измышлениями — может стоить дорого. Майский понимает это не сразу. Первые дни он красуется в лучах внимания, и остальное его заботит мало. — Безумству храбрых поём мы песню, — подбадривает, гогоча, Эдик. Но вместо того чтобы лишний раз утвердиться в своей правоте, Глеб Парамоныч начинает соображать, что к чему. Пыл как рукой снимает, голос становится всё тише, появляются интонации увещевания. В конце концов, рано или поздно дом всё равно бы построили и заселили. Чего ж возмущаться? Обличи391 тельные речи постепенно стихают, сходят на нет. Авторитет Глеба Парамоныча падает. Академический дом растет буквально на дрожжах. Повздыхав, все молча смиряются с его строительством как с данностью ландшафта. 13 В понедельник погибает Вадик Мамырин. Глупо, нелепо, у себя дома, в окружении двух одноклассников. С последних уроков их отпускают: учитель труда заболел, и труд отменили. Свободного времени — вагон, расходиться не хочется. Вадя предлагает пойти к нему поиграть — родители на работе, да они и так не против. Вадя, сколько мы его помним, мечтает о братике, просто бредит им. Но брат всё никак не появляется. Поэтому родители стараются переключить внимание сына на друзей, школьных товарищей. Двери их дома всегда открыты для гостей Вадика. Подробности случившейся трагедии становятся известны только через пару дней. Сначала, как это бывает, каждый или выдвигает свою версию, или пересказывает с пятого на десятое услышанное: ударился головой об косяк, отравился газом, напоролся на нож. Всё это страшно и жестоко. Не стало восьмилетнего мальчика, единственного ребёнка в семье, а перекатиполе сплетен растёт, вертится, обволакивается новыми обстоятельствами, одно неправдоподобнее другого. Выясняется, что Вадя заткнул пробкой раковину на кухне, чтобы наполнить её водой и запустить туда бумажные кораблики. В ванную не пробраться — ремонт. Вода перелилась через край мойки, затекла под холодильник. И когда хозяйственный Вадя полез под него с тряпкой, его шарахнуло током. На глазах у ребят из 3«А». Но это мы узнаем потом. А сперва весь двор взбаламучен, взбудоражен. Кто был дома — высыпали на улицу. И в толпе только: — Мамырин-Мамырин, Мамырин-Мамырин. Непонятно, боязно, муторно. Первой с работы летит тётя Люда, мать Вади. Ей позвонили и сказали. Эдик закрывает обе створки подъездной двери, загораживает их, распростав руки: — Не пущу, милая, не пущу. Горе с нашим сыночком! — кричит он. — Горе с нашим Вадиком. Тётя Люда бьётся, воет, ноги её подкашиваются, не держат. Её подхватывают, обвивают, чтобы не пустить к подъезду. Мы 392 не понимаем, почему. Спрашиваем кого-то. В нас вцепляются чьи-то руки, пытаются увести в сторону. Тётя Люда падает, бежит отец Вади, кричит, протискивается в подъезд. Мы ничего не можем понять. Олегова прабабушка тоже умерла, но ведь ей было сто шесть лет, а не восемь. — Как же он умер? — говорю я. — Ведь вчера мы с ним играли в пробки. — Мы его тоже видели вчера вечером, — заявляют притихшие Борька и Андрей-Колобок. Им кажется, что это очень важно. Что их вчерашняя встреча ещё может что-либо изменить. Через полгода у Мамыриных рождается Димочка, младший брат Вади, о котором он мечтал всю свою жизнь. Вадику заранее не говорили, хотели сделать подарок. Эдик почему-то называет теперь своим сыном и Диму. Очень гордится им, покупает всякие безделушки, каждый день бегает, интересуется. Мы удивляемся его заботе и уже готовы заключить с Эдиком перемирие. Тетя Люда иногда останавливает нас во дворе и угощает печеньем, конфетами. А если мы просим, заводит в дом и показывает большую фотографию Вадика в траурной рамке, с чёрной ленточкой на боку. Но мы и так помним Вадю. Тётя Люда знает, и ей это, мы думаем, приятно, хотя она и плачет целыми днями. 14 Колобок и Борис ровесники, на три года младше меня. У Колобка щёки сытые, круглые. Его так потому и прозвали. Бабушка откроет окно первого этажа и кричит на весь двор: — Андрю-юша-а, Андрю-юша-а. А стоит Андрюшечке подбежать, ему — раз! — в рот булочку, в руки — два! — кулёк с выпечкой про запас. — Иди, Андрюша, играй с ребятами. Только поешь хорошенько и смотри, после еды на полный желудок не бегай. Вот тебе и игра. Вечно пичкают чем-нибудь, рот у Колобка не закрывается. А его бабушка во дворе жалуется: — Не ест у меня парень ничего. Или первое, или второе. А если уговоришь всё съесть, так добавки, чтоб подложить, не допросишься. Борис маленький, стройный. В Колобка два таких влезет. Но в обморок не падает. Крепкий, поджарый. Купят ему рогали393 ков-присыпок по семь копеек, он пудру слижет и макает коркой с мякишем в холодный сладкий чай. А пойдёшь с ним деревья обносить, так сорвёт урючину и смотрит на нее долго, вертит в руках и, прежде чем в рот отправить, обязательно меня спросит: — А как её едят? А потом ещё побежит мыть на колонку. Я сначала объяснял, но раз от раза всё повторяется. — Вот так, — говорю я ему и проглатываю урюк. — Вот так его едят, и, поверь мне, Борис, никак иначе. Смехота. Как едят! Нам такое и в голову не придёт спросить. Слоп — и готово. Один раз решил без расспросов обойтись. Запихнул в рот горсть барбариса. А тот жёсткий, кисловатый, костистый. Борька переплевался весь. Так к нему и приклеилось: Борис-барбарис. И не обидно вовсе. Это вот Колобок на своё прозвище обижается, дует щёки, отчего только ещё больше походит на Колобка. Но звать его «Андрей-воробей, не гоняй голубей» длинно. Попробуй каждый раз выговори! 15 Борис хоть и младше, а тоже с девочкой дружит, со Светкой Манштейн из углового подъезда. У Светы на голове всегда яркий бант, и ходит она на художественную гимнастику. Только нос длинный, а так — ничего. Прыгает по двору с лентами, машет ими во все стороны, до ряби в глазах, тренируется. Смотреть интересно, но жаль — надоедает быстро. Да и ей с лентами скучно. Девчонок во дворе мало, не то что пацанов. Кроме Светы, Жанны и Мариам, только Алла Маслова, Аня и сопливая сорванец Нузгуль. Есть ещё Лариса. Но с ней особо не наиграешься. Лариса — глухонемая. Что-то по-своему, конечно, говорит, но что — понять трудно, и мы не понимаем. Да и вредная, хоть её и жалко. Попросит, чтобы с ней в альчики кон разбили, а когда продует, схватит все костяшки и наутёк. Или в прятки когда играем, назло пальцем тычет — подсказывает. А чуть погрози ей, так бежит своим родителям жаловаться. — Бы-мы! — И кулаком в нашу сторону. А ей и верят. Придут, отчитают по первое число. Лариска сама стоит, скалится беззвучно и язык показывает, а в каждом кулаке ещё по две фиги сжаты. Вредная девчонка, прямо как царица полей, или как её там, из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». 394 А то вообще придумала без спроса брать наши велики из подъездов. Мы, если домой на минутку забегаем, бутерброд сделать или просто показаться, их внизу оставляем, чтобы по лестницам лишний раз не таскать. А она заметит и — шмыг. Тебя чуть кондрашка, когда спускаешься, а лайбы нет, не хватит. А Лариска в это время вокруг двора педали накручивает, смеётся: — Бы-мы. Но родители её и за это прощают. Одёрнут, правда, брови нахмурят, но Лариске всё нипочём — опять фиги сложит. Знает, что сильно ругать её не станут, а мы не в этот, так в следующий раз всё равно виноватыми останемся. Мы с Борисом думаем, что она из-за своей немоты и глухоты такая. Раньше она, мне рассказывали, нормальной была. До какой-то болезни. А потом — как отрезало. Но об этом стараются не вспоминать. Родителям сочувствуют и старое не бередят. 16 Так получилось, что я почему-то знаю много тайн нашего двора. И про брата Уша, что в психушке лежал, и про Лариску, и про повесившегося Турабекова, и про то, что у одного из старших ребят родители неродные: своих детей у них не было, вот и взяли в детдоме. Да и о других вещах, которые обычно принято замалчивать. Кто рассказал мне это? Я даже не пытаюсь восстановить в памяти. Но если что-то происходит, рано или поздно мне становится известно об этом. Почему именно мне, я не могу объяснить до сих пор. Самое удивительное, что меня никогда не подмывало выдать эти тайны, даже в моменты откровений или ссор. Ответственность перед тем, что я это знаю, всегда так довлела надо мной, что мне и в мыслях не представлялось возможным рассказать своей компании хотя бы часть из того, во что я был посвящён. Может быть, именно поэтому я всегда пробовал забыть об этих секретах, сделать вид, что их просто нет. 17 — Ваши отношения с Жанной зашли слишком далеко. Так сказал мне насмотревшийся индийских фильмов Димка. А поскольку в ДК на сеансы мы бегали всей гурьбой, я отнёсся к его словам с той долей серьёзности, на какую только был способен. 395 — Я женюсь на ней, — без обиняков и размусоливаний сказал я. И несомненно, поступил как честный молодой человек. Свадьба, пусть даже понарошку, была для нашего двора событием, она затмевала всё: и «Казаков-разбойников», и «Цепицепи, раскуйте нас», и даже игру в «тэзики» в мослы. С утра где-то были раздобыты настоящие кольца с красными камушками на ободках. Вокруг невесты хлопотали свидетельницы. Вместо фаты её с головой покрывала какая-то драпировка. Алла Маслова, как заправская маникюрша, с сердитым видом аккуратно наносила на выглядывающие из-под свадебного балахона Жаннины ноготки бесцветный лак. В вопросах косметики Алла была девушкой искушённой ещё с четвёртого класса. Сейчас она училась в пятом. — И не страшно тебе? — спрашивал вертящийся у меня под ногами Борька. — Нет, — не совсем твёрдо отвечал я. На ногах предательски пузырились спортивные штаны, но переодеваться в брюки не хотелось — мог запачкать, в шортах же все бы увидели мои сбитые, в ссадинах, коленки. — А меня из-за Светки все дразнят, — пожаловался Борис. — Тили-тили тесто, жених да невеста. — Это ничего, — сказал я. — Это так всех дразнят. Даже взрослых. Только им вместо этого, как в кино, кричат: «Горько!» — А тебе теперь это тоже кричать будут? — Не знаю. Вроде обещали. На выпрошенных из дома перевёрнутых тазах готовили угощение: песочные куличи, белые гроздья акаций, стручки Адамова дерева. Все хлопотали, бегали туда-сюда, заранее поздравляли. В общем, не находили себе места. На настоящей свадьбе никто никогда не был и, как полагалось себя вести, не знал. — А ты у мамы благословения спросил? — подскочил ко мне Димка. Про благословение в фильмах ничего не показывали. — Согласия, что ли? — уточнил я. — Ну да. — Нет. И мы помчались, благо Димка был на мотоцикле. Он нёсся впереди меня на полметра и чуть сбоку и, крутя в воздухе воображаемую ручку газа, тарахтел: «Трынь-та-ды-дынь». В течение свадьбы он подавал ещё «Волгу», «чайку» и «ЗИМ», но чем от396 личались эти воображаемые автомобили от мотоцикла, я уже сказать не могу. Помню, как мы заскочили прямо на его тарахтелке на наш второй этаж, я позвонил в дверь и, влетев в прихожую, бухнулся у трюмо перед вышедшей с кухни мамой на колени. Сбито, спутанно объяснил, что у меня с Жанной свадьба. Мама что-то готовила, была в переднике, но тут же поняла всю важность события и, смеясь, дала согласие. — Он у вас замуж выходит, — авторитетно подтвердил Димка. — Не замуж выходит, а женится, — поправила мама. — Грамотеи. Мы скатились вниз по лестнице. — А где жить будете, молодые? — выглянув на площадку, крикнула мне мама. — Потом, — объяснив, выскочил я из подъезда. Надо было торопиться, приглашённые уже ждали. Предпраздничная суета почему-то запомнилась лучше. Да она больше всем и понравилась. Я неловко торкнулся три раза в Жаннины щёки. «По-русски», как научила Алла. Все дружно проорали: «Жених и невеста, тили-тили-тесто!» А Борис подошёл ко мне и сказал, что тоже женится на Свете, только потом. Остальное я помню смутно. Уже к обеду я лежал дома с отравлением. — Так ты что, по-настоящему стручки Адамова дерева ел? — озабоченно спрашивала меня мама. — Угу, — угрюмо мычал я в ответ. — Так у тебя на него аллергия, ты же знаешь! — Знаю, — также безропотно соглашался я. — Но, понимаешь, так получилось. 18 Если шрамы украшают мужчину, то по рыцарским канонам равных мне ещё поискать. От носа к губе кот разорвал. Пришёл как-то с улицы грязный, а воды боится. Вот и выказал свое «фэ», когда я его вымыть пытался. Средний и указательный пальцы на правой руке тоже с отметинами — это я так осторожно шест ножиком строгал. Подбородок чуть сбит, если проведёшь пальцем. И на лбу под прядью волос рубчик от треугольного камня — как-то голова в арык перевесила, когда я в нём головастика увидел; откуда он там только взялся? Тюк — и напоролся, камешек прямо как по маслу в лоб вошёл. Сам я это смутно помню, 397 под стол ещё ходил, но края ранки заметны. А прокол в бедре и бледная «пуговица» на боку — уже от врачей, их работа. Мы расселись на яблонях и перечисляем свои боевые отметины. Когда я заканчиваю, наступает очередь Бориса. Подсохшая корка на съёженном локте не считается, он понимает. Но ничем другим похвастаться пока не может. Чтобы совсем не остаться в стороне, Борис рассказывает: — Один раз я косточку из вишневого компота в нос засунул, и он перестал дышать. Меня к врачу возили. А бабушка при входе, которая куртки принимала, сказала, что теперь нос резать надо. Мы перевариваем услышанное. Представляем, что было бы, если бы Борьке разрезали нос. — Врач её потом щипцами выковырял. Сказал, чтобы я больше так компот не ел. — Тебе надо было сначала хорошенько разузнать, как его едят, — смеётся Димка. — Я потом тоже так подумал, — бесхитростно соглашается Борис. О его привычке спрашивать знают многие. — Носы из-за вишнёвых косточек не отрезают, — со знанием дела заявляет Нихёль. Его мама работает врачом в МВД. — А из-за каких отрезают? — с серьёзным видом спрашивает Аскер. — Только из-за ананасовых, — также на полном серьёзе отвечает ему Уш. — Пообещай мне, Аскерушка, что никогда не станешь есть ананасов. Аскер испуганно обещает. Но это лишнее. Ананасы мы видели только на картинках. Иногда этот деликатес появляется на праздничных столах в консервных банках. Но в них какие-то другие ананасы. Всем хочется попробовать настоящие, нарисованные. 19 У меня всё не как у людей. Это мне говорят не то чтобы часто. Но, видимо, доля правды всё-таки есть. В ясли я не ходил, в детский сад, по состоянию здоровья, тоже. Почти все, кого ни спросишь, когда были маленькими, туда ходили, а я нет. Часто болею, хандрю, мучаюсь с крупами — это когда и температура под сорок, и у кровати тазик, потому что можно не добежать. 398 Вместе со мной, похоже даже больше, чем я, переживают и мучаются мама с бабушкой. Бабушка вышла на пенсию, чтобы за мной было кому постоянно присматривать. Она могла оставить работу и раньше, но не делала этого, пока не выяснилось, что я такой безыммунитетный, как говорит наш участковый врач Людмила Васильевна Чугина. Дома у нас она бывает часто и всю мою толстенную карточку знает уже наизусть. Её называют моим семейным доктором, и если у Людмилы Васильевны есть свободная минутка, её приглашают на кухню пить чай. Болезни — болезнями. Все понимают, что болеть плохо, разве что пропустить по справке контрольную, которой ужасно боишься, и несколько дней не ходить в школу. Хотя для этого вовсе не обязательно, чтобы саднило горло и был забит нос. Градусник немного греют на лампе, тридцати семи и трёх вполне достаточно, а в ноздри засыпают щепотки высохшего клея. И токсикоманией здесь не пахнет. Предварительно клей выдавливается из тюбика на ладони, и когда засыхает, скатываешь его узорную корочку на бумагу. Конечно, дождаться заботливого «Будь здоров!» можно и при помощи обычной спички, но тогда не краснеют глаза и не появляется одышка. К тому же спичку, которой щекочешь в носу, могут заметить, и тогда попадёт по первое число. Сам полетишь в школу впереди собственного визга. Да и чихать лишь когда родители выходят из комнаты — подозрительно. А так и сомнений никаких не возникнет. Смотришь честными глазами и только успеваешь издавать «апчхи» своим рассопатившимся носом. Болеть я не люблю ещё и потому, что у нас в семье уговор: раз не ходишь на занятия — сиди дома. Никаких вылазок, никаких «в гости», никаких «мам, ну я на пять минут». Болеешь — вот и болей, то есть выздоравливай. В принципе, это резонно. Но когда я вижу из окна, что Уш, который уже вторую неделю не ходит в школу, вовсю носится по двору, чувство несправедливости заполняет меня с головы до ног. Поэтому больным я притворяюсь лишь в крайних случаях: когда обещает нагрянуть проверка из гороно или перед тем, как у нас собираются взять срезы знаний, которые мы называем промывкой мозгов. С другой стороны, мне многие завидуют. Понятно, не тому, что налагается домашний арест. Но если грозит какая-то эпидемия или наступает грипп, меня для профилактики начинают регулярно кормить пломбиром. Это вместо горьких микстур и всякой гадости. Вы не поверите, но это какой-то народный ме399 тод. Холод, как объясняют, закаливает горло, жир его смягчает, смазывает. Я в этом не очень-то разбираюсь, но мне нравится. Другие родители такого подхода не одобряют. Но простываю я по-настоящему, махрово и чтоб кашель надсадный, всё равно гораздо реже прочих ребят. Это, наверное, тоже называется «всё не как у людей». Из-за того, что я не ходил в ясли и сад, меня отдают в нулевой класс. За год я должен успеть научиться ладить со сверстниками и вести себя в коллективе. Так что в школу я иду с пяти лет. Ничего сложного в этом нет. Рядом со мной не крутятся парни из привычной компании, отчего поначалу я чувствую себя не в своей тарелке, но с тем, кто мне нравится, схожусь легко. Наша учительница, одна по всем предметам, славная женщина, но то, что она рассказывает на уроках, неинтересно. Со мной постоянно занимались, поэтому и читать, и писать, и слагать я уже умею. За одни выходные я полностью исписываю всю толстую пропись, аккуратно выводя все замысловатые крючки и закорючки. Высунув язык, переписываю: «У Пети коса и у Маши коса. Коси, коса!» — и в понедельник с чувством гордости сдаю своё годовое домашнее задание. Учительница этого почему-то не оценивает, за все её годы преподавания с ней ещё никто так не обращался. И она, наверное, просто не знает, как ей теперь поступить. Сердится и говорит моей маме, чтобы мне немедленно купили новую пропись. Получается, что за год я выполняю домашних заданий в два раза больше, чем все остальные. Это, я сам догадываюсь, и называется «всё не как у людей». 20 Меня записывают в секцию большого тенниса. Сперва я брыкаюсь и с пеной у рта доказываю, что в гробу этот большой теннис вместе с секцией видел. Но постепенно втягиваюсь, хотя ездить на тренировки приходится за тридевять земель. Заправляет кортами супружеская пара. Андрей Валентинович и Валентина Андреевна. Он суровый и строгий. Она приветливая, пухленькая, но на удивление вёрткая. Диву даёшься, когда видишь, с какой лёгкостью она порхает по корту, умудряясь доставать самые немыслимые мячи. Это при её-то габаритах! Однако если в секции что-то не так и дело доходит до выяснений, валентино-андреевскую приветливую щебетливость как рукой снимает. Голос становится сухим, лающим, движения 400 стремительными, резкими. В подробности Валентина Андреевна не вдаётся, одинаково отчитывая всех, кто был замешан в провинности: порвал струны у ракетки, зафиндилил за забор мяч, курил втихаря у арыка. Требовательный же Андрей Валентинович в таких случаях, наоборот, становится своим. Может по-простецки присесть рядом с нами, поболтать, припомнить пару историй и даже пошутить. Но попасться под горячую руку ни той, ни другому всё равно не сладко. Курево он тоже не жалует. Говорит, дыхалка будет ни к чёрту и таких продымленных лёгких на серьёзную партию никогда не хватит. К инвентарю относится терпимее. Ракетки старые, пошарпанные, а мячи — они на то и мячи, чтобы иногда теряться. Тренируемся мы ежедневно. Построение, проверка по журналу, вкратце о графике текущих занятий, разминка, наматывание кругов вокруг четырёх асфальтовых кортов. Потом начинается основная часть. Кто поопытнее, приводят себя в форму у стенки. Чуть позже их разбивают на пары и отправляют в тренерский вагончик за сетками и креплениями. Предстоит играть партии. Новичков на корт выпускают редко. Сперва следует научиться обращаться с мячом. Держать его на разных уровнях в воздухе по пятьдесят — сто ударов кряду. Играть с партнёром в навес, чтобы мяч не касался земли. Причём стараться отбивать не только площадкой со струнами, но и ободком древка. Стенка — это самое главное, вот о чём твердят нам в два голоса тренеры. И если ты им не веришь, у тебя вряд ли что-нибудь получится. На эти секторы с кругами по центру уходят часы, дни, месяцы. Ты пружинишь на полусогнутых ногах перед блочным изваянием и остервенело всаживаешь в него удары: с отскока, с лёта, правой рукой, левой, перекрёстно, в центр круга, одной рукой, но с разных сторон. Кажется, вариантам не будет предела. И тренеры подтверждают наши опасения, постоянно поручая всё новые задания: увеличить метраж, бить по углам, играть понизу, брать с лёта посланные самим же подачи. Я пропадаю у стенки с половины девятого утра до полудня. К стенке поставили, как шутим мы. Тренировка начинается с восьми, в школу — во вторую смену. За эти три с лишним часа успеваю отработать по несколько подходов всего, что задают. Осваиваю кручёные удары, резаные, натягиваю воображаемую сетку — и вперед. Ужасно хочется выйти на корт, но сам откладываю этот момент, хотя возможность уже представлялась. 401 Видя, что я серьёзно увлёкся, мне покупают собственную ракетку, тяжёлый деревянный «Союз» базовой модели «Москва». Лакировка так и играет на солнце, ладони приятно сжимают отделанную кожей рукоятку. Такой ракеткой только выигрывать. Валентина Андреевна включает меня в свой график. Теперь каждый раз она по пятнадцать минут играет со мной через сетку: в навес, по квадратам, на задней линии, по углам, на полосах, что отделяют коридоры. Играем без счёта, но это к лучшему. Иначе бы я продул всухую. По мере освоения продвигаюсь дальше: вместе со всеми постигаю азы судейства, ведение счёта, неразбериху с буллитами, где отмечаются уже не очки, а «больше» и «меньше» на стороне подающего. Первые геймы, первые сеты, первые партии. И даже соревнования. С наступлением школьных каникул тренировки увеличиваются. На погоню за мячом уходит уже по пять-шесть часов в день. Вместе со мной на кортах занимается Андрей Ганкин. В секции он появляется как-то сам по себе, хотя и знает, что я уже давно тренируюсь у Васнецовых. Он часто пропускает занятия, что ставится ему на вид. Отработка у стенки его не устраивает, он рвётся на площадку. Благодаря физической силе ему удаётся обыгрывать даже тех, кто занимается дольше него. Но техника со временем берёт вверх. Андрей злится, выходит из себя, швыряется ракеткой, за что ему неустанно делают замечания, хотя ракетка у него и своя. А когда раздражается, становится ещё более невнимательным, не успевает реагировать, подходит слишком близко к сетке, не доставая мячи, ударяющиеся у задней линии, запарывает подачи и мажет по вертикальным «свечам», пытаясь их «гасить» раньше времени. Но заниматься всё же продолжает. Потом Андрея переводят в школе в первую смену, и о его дальнейших успехах я узнаю от случая к случаю. Во дворе мы видимся так же часто, но как его ни послушаешь, он и того обыграл, и этому фору дал, и третьего в двух сетах разделал. Короче, Борис Беккер при встрече с Ганкиным рвал бы на себе от страха волосы. Я пытаюсь уговорить Димку Дроздова тоже заняться теннисом. Но он говорит, что теннис ему не по душе. Лёха Меньщиков начинает тренироваться, но вскоре бросает. Вот тягать гантели — это его. Борька увлечён плаванием. Три раза в неделю он ходит с родителями в крытый зимний бассейн на бульваре Молодой Гвардии. Лягушатник не признаёт и никаких спаса402 тельных кругов тоже. Очки, маска, трубка и сорок минут по пятой дорожке. Только, говорит, башка от хлорки чешется. Уж очень он эти купальные шапочки не жалует. От них только волосы больно стягиваются. 21 В городе открываются первые видеосалоны. Их можно перечесть по пальцам. Двенадцать Месяцев утверждает, что фильмы, которые демонстрируют в них, запрещены и крутят их както нелегально. Но салоны не закрывают и на показы с удовольствием ходят, несмотря на критические газетные фельетоны. Единственное, с чем мы соглашаемся: рубрики «В кинозалах города» такой репертуар не печатают. Каждый день бегаем к ближайшему салону. У подвала на Панфилова с утра вывешивают листок бумаги с названиями фильмов на вечер. Ужасы, мистика, боевик, карате/кунг-фу, для взрослых. И мелким шрифтом, ниже, кто в ролях: Б. Ли, Б. Лай (что нас особенно забавляет), Чук Хоррис, Джеймс Бонд, Джеки Иен. Все уверены, что Брюс Лай — сын Брюса Ли. Фамилии у них, конечно, разные, но кто же этих китайцев разберёт. А Арнольд Шварц и Шварц Неггер — два актёра. Внешности не запоминаются, имена тоже. Переводчики гнусавят и гундосят на все лады, и на титры мало кто обращает внимание. Важно, как кому двинули, которому врезали последнему и оклемался он или нет. Только много позже, когда видео начинает проникать в дома, а в печати появляются статьи о фильмах и актёрах, мы узнаём, что Джеки Иена не существует, а есть Джеки Чан. Брюс Лай вовсе не сын Брюса Ли, а вроде бы его ученик. Чука Хорриса зовут Чаком Норрисом. И кроме Арнольда Шварценеггера никаких других Шварцев и Неггеров нет. Только его мама Шварценеггер и старший брат Шварценеггер. Но живут они в каком-то Граце и в кино не снимаются. Билет на видео стоит целый рубль. Это большие деньги. На них можно раз шесть сходить во Дворец культуры. Там у Стаса мать билетёршей, хотя и не пускает бесплатно. Да разве в ДК такое увидишь? В лучшем случае «Пиратов ХХ века» прокрутят, но куда им до «Битвы богомолов», «Тигра карате» и «Пьяного мастера»! Изображение размыто, звук хрипит, перевод отстаёт. Но зато этого ты больше нигде не получишь. А за рубль покупаешь возможность не только посмотреть, но ещё во всех красках дважды, а то и трижды пересказать увиденное во дворе 403 со своим исполнением трюков, от чего удовольствия почти не меньше. Тем более что ходить сразу всей компанией нам не удаётся — раздобыть плату за вход выгорает не каждому. Первый видеофильм запомнился мне, наверное, на всю жизнь. Это «Лорд Дракон» с Чаном. Второй фильм, который приоткрывает мне завесу в мир видео, — «Греческая смоковница, или Ягодка созрела». Мы сидим с Борисом и Димкой в первом ряду на последнем девятичасовом сеансе в предвкушении добротного мордобоя — «Восемнадцать бронзовых бойцов». Но кассету не привозят, и хозяйка салона предлагает зрителям на выбор: «Рэмбо» или «Смоковницу». Какой-то тип, весь из себя фон-барон, авторитетно заявляет, что «Рэмбо» он уже видел. И нам ставят про налившуюся ягоду. — Муть какая-нибудь, — предполагает Димка. — Садовоприусадебно-огородническая. Индустрия видео ещё — глухой угол, и действительно, кто знает, что могут показать? К нам подходит владелица. — А вы чего сидите, ребята? — хитро смотрит на нас она. — Марш отсюда. — Так мы же заплатили, — удивляется Борис. Но мы с Димкой смекаем, что к чему, и «включаем дурака». — А что случилось, что такое? — наперебой бросаемся выяснять мы. — Деньги уже у вас, обещанный фильм отменили, ещё и выгоняете! — Да я вас не выгоняю, — неохотно идёт на попятный тётка. — Но смоковница всё-таки. — Ну? — напираем мы в один голос. По первым кадрам и открывшимся видам мы понимаем, что в своих догадках не ошиблись. — Что ну, не знаете, что ли, что такое смоковница? — всё ещё старается дать понять, о чём толкует, блюстительница нравов. — От слова «смаковать», — находится Димка. — Проверочное слово — смак. — Так ну и что? — опять не удерживаюсь я. — Ну-ну, баранки гну! — взвинчивается видеосалонщица. — Проверочное слово у них! Заладили. Я вам дам проверочное слово, мало не покажется! Вот сидите себе, и смакуйте, и проверяйте сколько влезет, — впрочем, уже сменяет гнев на милость она. — И ещё, это, помалкивайте. — Тётка с хитрецой подмигивает и отходит, теряя к нам интерес. 404 — Чегой-то она? — спрашивает Борис. Его отпустили под нашу ответственность. — Да ничего, так просто. Комедию ломала, — объясняет Димон. — Конечно, кто бы нас вытурил? — успокаиваю Борьку я. — Что она — дура три рубля терять? Больше за весь фильм мы почти не произносим ни слова. И даже стараемся не моргать. Правда, один раз нас отвлекает Борька. В одном из рядов он замечает Двенадцать Месяцев. — Смотри-ка, — говорит Димка. — Глазки так и светятся. — Ага, — соглашаюсь я. — Даже очки в темноте блестят. — Надо будет поздороваться. После просмотра я выхожу на улицу с глубокой уверенностью, что «детям до 16» не показывают только некоторые фильмы. А видеофильмы ещё и в двадцать пять, наверное, запрещены. У двери нос к носу сталкиваемся с Парамонычем и с ходу, как ни в чём не бывало, спрашиваем: — Ну как вам фильм, понравился? Да с таким участием, будто мы из консилиума эротокритиков и мнение коллеги — позарез. Парамоныч ужасно конфузится. Увидеть нас здесь он явно не ожидал. Засёк бы в зале, наверняка ушёл бы заранее. А потом сделал вид, что ни сном ни духом. — А вас что же так поздно отпускают? — после замешательства спрашивает он с блуждающим взглядом. — Отпускают, как видите. Фильм-то понравился? — не отступаем мы. Не начнёт же он сейчас ругаться и грозить рассказать нашим родителям, что мы смотрим. — Любопытно, кхе-хе, — не выдерживает напора Парамоныч. Но тут же спохватывается: — Однако это свинство какоето! Взяли и фильм заменили. Люди же деньги за другое платили! Ведь правда? — Ведь правда, — отстаёт от него Димка. — Это форменное натуральное свинство. Так всем про него и расскажем. Двенадцать Месяцев теряется совсем. Видно, что ему хочется, как и видеосалонщице, подмигнуть нам и попросить не распространяться. — Но нам пора, вы уж извините. До дома всего остановка, и мы идём пешком. 405 — Фильм ему заменили! — смеётся Борис. — А сам пялился, чуть очки не треснули. На следующий день мы рассказываем во дворе про смоковницу. В то, что нас пустили, многие не верят. — У нас даже если в трусах и в майке женщин показывают, так и то от ворот поворот, фиг протиснешься, — заявляет Нихёль. — «Новые амазонки» с вырезками крутят. А тут прям такое дело. Но в то, что мы застукали Двенадцать Месяцев, верят безоговорочно и вдоволь потешаются над ним. — «В видеосалонах показывают нелегальные фильмы», — передразнивают на разные хоры. — А сам, старый развратник, туда же. — Озабоченный! Внезапная замена фильма никому не кажется достаточным оправданием для Парамоныча. 22 Стряслась настоящая трагедия. Переезжает Димка Дроздов. Это немыслимо, не укладывается в голове. Всю жизнь мы прожили с ним бок о бок, и вдруг — на тебе. С Жанной мы уже, как говорят взрослые, в приятельских отношениях. Она чуть повзрослела и всего стесняется, как подменили. В нашей компании показывается редко, больше вертится со сверстницами. Да и я, видя, что всё пошло наперекосяк, перегорел; симпатичные девчонки есть и в классе. А вот Димка! У его родителей дело давно идет к разводу. Дядя Женя иногда выпивает, тётя Света ругается. Но это тянется и всё как-то виснет в воздухе, обрываясь совершенно неожиданно. — Теперь дядя Женя им не отец? — спрашиваю я у мамы. — Он теперь отчим? Оказывается, нет. Отчимом будет другой мужчина, за которого собирается выйти замуж тётя Света. Мы гадаем во дворе, кому достанется Жанна, а кому Дмитрий. Но выясняется, что их не поделят. Оба останутся с матерью. Жанна толком ничего не понимает. Димка ходит злой, понурый. Но что-либо изменить уже нельзя. Остаться жить здесь они тоже не могут. Теперь Дроздовых две семьи, и им надо подавать на какой-то раздел имущества. Баба Тоня относит в «Вечёрку» объявление о размене трёхкомнатной квартиры. В двухкомнатную переедет она сама с Пет406 ром Васильевичем и дядей Женей. Однокомнатная отойдет бывшей жене сына (хотя у нового мужа тёти Светы и так есть своя) — останется Димке на вырост или Жанне на выданье. Продажа квартир ещё запрещена, так что денег за неё не выручишь. С Димкой мы проводим вместе гораздо больше времени, чем обычно. Кажется, никогда так, как теперь, не нуждались мы в общении друг с другом. Невольно вспоминается всё, что было пережито. Со стороны это такие мелочи, но как важны они для нас! — А ведь это твоя бабушка Дедом Морозом на Новый год переодевается, — решаю я выдать тайну. Всё равно такой Дед Мороз из четвёртой квартиры больше никогда не постучится в нашу дверь своим волшебным посохом. — Я её по тапочкам раскусил. — Да я знаю, — отвечает Димка. — После его появления у бабушки всегда щёки румяные, а на антресолях спрятана борода. Это Антонину Васильевну так её мать научила, Анна Семёновна. Сама, когда баба Тоня ещё маленькой была, наряжалась в тулуп и рукавицы, ставила её у ёлки на табуретку и слушала, что она Деду Морозу приготовила. Так что мы тоже для Деда Мороза стихи разучивали, хоть он и был свой: «В декабре, в декабре все деревья в серебре». Анну Семёновну я помню. Она с моей прабабушкой дружила, Натальей Фёдоровной, её за год до моего дня рождения не стало. Но по домашним рассказам мне кажется, что я помню и свою прабабушку. А Анну Семёновну — наверняка. Она выходила в нашу беседку и подолгу сидела в ней. А мне разрешала играть со своей резной клюкой, будто это лошадка. Умерла она в восемьдесят семь лет, а моя прабабушка в восемьдесят восемь. И этим я почему-то втайне гордился. Только не мог понять, как вышло, что Димкину прабабушку я застал, а свою — нет. А потом мне объяснили, что, хоть они и были обе очень старенькими, на свет появились в разное время — Анна Семёновна на несколько лет позже. И этим я тоже гордился: моя прабабушка и родилась раньше, и прожила дольше. Димка отдал мне все свои альчики. Только сочку, залитую свинцом, и самый большой курбан себе на память оставил. Альчиков у него не много, штук тридцать. Не то чтобы он играет хуже меня. Просто иногда возьмёт и поставит на кон больше, 407 чем следовало бы, когда у твоего противника бита двойная, да и без мазанья не обходится. Я не хочу их брать у него, ещё пригодятся. Но он всё-таки отдаёт. Говорит, что теперь всё равно играть будет не с кем — никого в Аламедине не знает. И грозит, что иначе раскидает мослы на «драку-собаку». А сам злой-презлой. Но не из-за того, что отдал. Переезжать ему ужасно не хочется. Аламедин — микрорайон, где они станут жить. Он находится так далеко, аж за ТЭЦ, что я в нём даже ещё никогда не был. Но Димка говорит, что там он будет появляться редко. Лучше жить с бабушкой, дедом и отцом. Я думаю, что его не отпустят, но вслух не говорю. И пока квартира остаётся за ними, мы надеемся, что его бабушка переедет куда-нибудь недалеко. Но по закону подлости квартира достается в районе Ортосая. По дальности это тот же Аламедин, только в другую сторону. От теннисных кортов дотуда ещё такое же расстояние, как от тренировки до моего дома. При игре в альчики есть такое внегласное благородное правило. Если все видят, что сочка сорвалась с пальцев, можно быстро закричать «не пробито» и один раз перебить. Это как в теннисе, когда мяч при подаче задевает сетку. Но я всё время путаю и вместо этого кричу «пробито». И Димка, хохоча, продолжает игру, хотя видит, что я обижаюсь, потому что опять ошибся. А тут он отдаёт мне всю коробочку из-под обуви со своими костяшками. Когда приезжают два грузовика, мы помогаем носить вещи, таскаем стулья, подушки, ящики из шкафов, торшер. С этим торшером смешная история. Он достался Дроздовым от Борьки, точнее — от его родителей. Один раз Бориной бабушке на юбилей торжественно подарили одиннадцать одинаковых торшеров. Мама объясняет это тем, что раньше отыскать хороший подарок было сложно, а торшеры только-только входили в моду и слыли дефицитом. Вот их и понанесли, а Миропольские с ними потом потихоньку расставались. Гости, как я думаю, конечно, могли надуться и встать в позу, но куда же столько? В момент переезда эта история ни у кого не вызывает даже улыбки. Вещи выносят молча, а баба Тоня плачет. Дроздовы уезжают. Вместо них в квартиру вселяется какаято киргизская семья. Муж с женой и их дочка-студентка Гульнара. Новая соседка пытается подружиться. Говорит, знает, как мы дружно жили, и угощает горячими чебуреками и беляшами с пылу с жару. У нас в сушилке всегда стояли блюдца Дроздо408 вых, если баба Тоня готовила что-нибудь вкусное, а у них — наши. Чебуречные тарелки какие-то чужие, незнакомые. Отчего делается ещё тоскливее. — Правда, вкусно? — спрашивает меня мама. — Невкусно, — буркаю я, демонстративно отодвигая угощение в сторону. И это неправда. Чебуреки с хрустящей корочкой, баранина сочная, так и брызжет. От этого на душе становится только муторнее, неспокойнее. Хоть плачь. Первое время Димка приезжает во двор часто, чтобы увидеться с нами. Иногда просит пустить его в старую квартиру. Но там уже всё не то. Муж новой соседки ворчит на жену, что разрешила зайти, скользит за Димкой подозрительно цокающей тенью. А тот и сам не рад, что напросился. Квартиру ещё считает своей, а люди в ней живут уже другие. От этого он только больше злится и мрачнеет. Игра не ладится, разговор тоже. Димка садится на «одиннадцатый» и уезжает. Во дворе он появляется всё реже. Ему действительно разрешили пока жить у бабушки. И иногда я выбираюсь к нему. Он рад меня видеть, но уже всё не то. Застаю у него дома незнакомых парней. Говорит, одноклассники. Так, конечно, и должно быть. Но тогда понимать этого не хочется. Да и Димка новых знакомых при мне как будто сторонится, стесняется. Начинает держаться преувеличенно равнодушно, на самом деле пытаясь скрыть за этой бравурностью и липовой независимостью какую-то внутреннюю неловкость и злость. Мы видимся всё меньше и меньше. И потом дело доходит до взаимных приглашений на наши дни рождения. Два раза в год. Все остальные встречи — от случая к случаю. 23 Переезд Дмитрия ещё больше сближает меня с Борисом. Даже не знаю, кто из нас ходит за кем по пятам. Этой осенью Борис пойдёт в школу. Учиться ему не хочется, но любопытство берет своё, и каждый день он расспрашивает меня про класс, про то, как ставят оценки, трудно ли выполнять домашнее задание. От школы я тоже не в восторге, но стараюсь ему рассказать что-нибудь интересное: про экскурсии в Зоологический музей, про встречи с ветеранами войны, про сбор макулатуры, желудей, металлолома и школьный лагерь, про летнюю про409 длёнку, когда ты весь день живёшь в классе и даже спишь в нём, потому что каждому нужно притащить с собой из дома раскладушку. — Сначала вас мучить не будут, — успокаиваю я. — А первое сентября вообще День знаний, и по расписанию только урок мира и знакомство. Борис спрашивает, сколько этих уроков на неделе. — Знакомство — пока не познакомишься, — чуть сбитый с толку, отвечаю я. — А урок мира — раз в год. — Все бы уроки были раз в год, — мечтательно протягивает Борька. И в голосе такая неподдельная надежда, что это вдруг окажется правдой. — А больше таких редких уроков нет? — Нет, — говорю я. — Только урок мира. Ну, и если уроки пения отменят. Певичка у нас часто болеет. Но Борис думает уже о другом. — Значит, надо сразу со всеми познакомиться, — соображает он. — А то меня каждый день знакомиться оставлять будут. Больше всего ему нравится мой рассказ о красных звёздочках на тетрадях. Это у нас так учительница Раиса Ивановна придумала. Если у тебя пять пятёрок подряд, на обложку можно приклеить вырезанную из цветной бумаги звёздочку. Только не так-то просто её заработать. В самый последний момент тебе обязательно попытаются влепить оценку ниже. Но если постараться, то можно этого избежать. На одной пухлой тетради у меня сразу семь звёздочек. Наша библиотекарша говорит, что Ленин тоже был круглым пятёрочником. Она вообще про Ленина много знает. Даже стихи про него пишет: Ленин был Великий Вождь, Правый Вождь Народа. Он хотел, чтоб всем Жилось Хорошо, свободно. Чтобы Люди не страдали от царя, Чтоб Народ ни от кого бы не зависел. Причём почти половина слов, к месту и не к месту, с заглавных букв. А нас потом эти стихи заставляют учить к урокам внеклассного чтения. Борьке это наверняка не понравится, и я умалчиваю. На некоторое время его заинтересовывает мой рассказ о переходящем знамени. Хотя на самом деле это какая-то статуэтка с пластмассовым флажком. Класс разбит на звенья по четыре-пять 410 человек. И вот каждое звено борется всю неделю за этот дурацкий флажок, чтобы субботние уроки он простоял на одной из парт победителей. А чтобы ими стать, надо не только получать отличные отметки, но и не бегать на переменах по коридорам, ходить в столовую парами, держась за руки, аккуратно одеваться, следить за формой, галстук завязывать «подушечкой», красиво заполнять дневник и вовремя показывать его на проверку дома, не забывая при этом повсеместно ещё и подавать всем пример своим внешним видом и поведением. Короче, делать из-под палки уйму никому не интересных вещей. Кстати, самая противная из них — ведение ежедневного календаря погодных условий по географии, чтобы учительница, заглянув в начало общей тетради, смогла припомнить, в каком направлении дул ветер полгода назад и накрапывал ли дождь или, наоборот, подмаргивая лучами, сияло солнце. Как послушаешь нашу классную на родительском собрании, географичке это безумно важно знать. Борька от этого рассказа скучнеет на глазах. — И что, так всегда? — удручённо спрашивает он. — Всегда, — отвечаю я. Я и сам ненавижу гонку за этим переходящим флажком. Его всё равно никогда не оставляют дольше, чем на один день. И с понедельника приходится начинать всё по новой, прямо на колу мочало. Ему радуются только заядлые отличницы и зубрилы Аня Клейменова и Виктория Шохина. Да и то постоянно переругиваются, кому он достанется на этот раз. Они в разных звеньях, потому что, как нам объяснили, должны уравновешивать своими пятёрками успеваемость двоечников и «камчатников». Хотя какая успеваемость может быть у тех, кто постоянно получает «пары»? Аня Клейменова, пока не располнела, мне немного нравится. Но у нас разные интересы. Её страсть к учебе, особенно к физике, мне не передаётся. Отличником по всем предметам я был только в первом классе, где-то даже грамота пылится. Когда Борьке покупают ранец и готовальню, он ещё больше не хочет идти в школу. 24 К нам в класс из другой школы переводят сразу трёх киргизов. Начинается что-то невообразимое. Они то и дело подзуживают наших пойти подраться с русскими. Держатся вместе, борзо и с вызовом. Объясняют, что надо «чморить», и наглядно показывают свои скотским поведением, как это делается. 411 Подкатываются к тем, кто послабее, силой отбирают деньги на столовую, навешивают саечек и заставляют писать ответы на задания контрольных. Я ничего не могу понять. Положим, меня пока не трогают. Первые три года я был самым сильным в классе, и об этом еще помнят, да и пришлым, видимо, рассказывают. Новички даже набиваются ко мне в приятели. Но почему Азамат, Нурлан, Азиз, Анвар и Улугбек, то есть все «наши», с полуслова подхватывают их науськивание? По школе передвигаются важно, гурьбой, заручаясь поддержкой киргизов из других, старших классов. Уже на второй неделе новой четверти на больших переменах за школой начинаются драки. Димка Мещеряков добрый парень, он всегда помогает девчонкам носить портфели и поливает цветы, потому что назначен цветоводом. Но когда Анвар даёт ему исподтишка пинка, он соглашается идти с ним драться. С Ормушевым Димка просидел полтора года за одной партой, а теперь, окружённый новичками вместе с их внезапными приспешниками, вынужден защищаться от его ударов. Достаётся Анвару. Димка здоровый, сбитый. Но тут же ему в ультимативной форме предлагают драться с одним из переведённых, и теперь достаётся Мищеру. Он уже устал и пропускает пару ударов в лицо. А дерутся до первой крови. Но, как я думаю, это только пока. Картина повторяется изо дня в день. Билик и Староконь отделываются ещё дёшево. Андрей Билик дерётся не впервой, Староконь занимался боксом. А вот Грекову, Кривошеину, Рогожину и Платову достаётся, как и всем остальным. Пока не трогают только меня и Вадю Елового. Шея у него здоровая, бычья, кость широкая, не подступишься. Мы пытаемся поговорить с «нашими». Азамат прячет глаза, Нурлан улыбается, будто здесь ни при чём. Он действительно ещё не дрался, но всё равно на стороне киргизов. У него мать завуч школы, но не пойдёшь же жаловаться. С нами соглашаются, говорят, что это так, не обращайте внимания. Всё произносится как-то неуверенно, с паузами, невнятно. Да как не обращать, если у Яшки Юртаева заплыл глаз, а Максиму Мардышеву разбили губу. На следующий день всё повторяется. Включается какой-то стадный механизм, словно три новичка имеют на остальных какое-то безграничное влияние. Появляются первые перебежчики. Это те, кто уже не хочет ни драться, ни получать. Платов, Юртаев и Греков. Но их не 412 оставляют в покое. Подговаривают, чтобы они всё-таки дрались, но уже с нами. Меня вызывает Димка Греков. Он маленький, щупленький, голос дрожит, но заученные гадости так и срываются с языка. Я собираю портфель и ухожу с оставшихся уроков. Вечером Билик притаскивает Грекова за шиворот ко мне домой извиняться. Я ни с того ни с сего плачу, Димка плачет, и мы вроде миримся. — Пойми, мы же с тобой, — говорит он. — Меня же просто заставили. Я понимаю. Иначе бы Грекову дали по зубам. Но это ничего не меняет. День ото дня в школе становится всё труднее. И ни я, ни Вадя Еловой уже не составляем исключения, заворачивая после уроков за школьный двор. 25 На Московской творится то же самое. Только там права качают парни из академического дома. Дом огромный, пятиэтажный, приплюснутой буквой «П». Русских семей всего шесть, остальные — киргизы. Семьи у них разросшиеся, многодетные. От мала до велика, где-то возраста самого старшего из нас, набирается больше ста пятидесяти человек. Это на нашу-то компанию, которая во столько раз меньше. Стаса, Макса и Андрея из углового подъезда не трогают, есть варианты и попроще. Но и за нас они не заступаются, от греха подальше. Каждый с головой уходит в свои дела, и во дворе их почти не видно. Больше всего достают Ганкина и Меньщикова. Отводят в сквер и бьют. Они, конечно, тоже стараются врезать. Но что поделаешь, когда своих можно пересчитать по пальцам, а киргизов каждый раз ватага голов под пятнадцать — двадцать. Да меньшим числом в нашем дворе они и не показываются, разве что пройти к остановке. К тому же чаще всего вместе с ними дерутся Зака и Доктор-бек. Они занимаются карате, и шансов выстоять против них нет, если только кирпичом по голове дать. Андрей выходит из себя, психует. Лёха с остервенением занимается гантелями, покупает гирю. Просит, чтобы я как можно сильнее бил его по животу — проверяет пресс. Я отнекиваюсь, но когда он настаивает, бью. Понятно, что не изо всех сил. Я его всё-таки уважаю, хоть он и заиграл у меня несколько лет назад мою первую модельку. А Ганкина я и сам, когда поднажму, валю, даром что он на две головы меня выше. Вымахал в 413 момент, а крепости никакой, враз куда-то ушла. Подсечёшь, придавишь, а он уже подняться не может. Вцепится в волосы и дерёт что есть дури. Вот тогда — больно. Но с киргизами так не поступает, боится. Да только боится их не он один. А мы все. Как ни делаем вид, как ни хорохоримся. 26 У Борьки в классе таких безобразий почти нет. Все ещё маленькие, всегда на виду. Многих родители встречают из школы. Если у меня уроки заканчиваются рано, Бориса до дома провожаю я. Или он сам немного ждёт, когда меня задерживают после уроков, заставляют дежурить, ставить на парты стулья и мыть доску. Я всё-таки убедил его пойти в двадцать восьмую школу. Точнее, думаю, что тоже приложил к этому руку. Но после первого класса Борис не остаётся. Летом умирает его учительница Раиса Ивановна, которая до этого учила и меня все начальные три года. Он переходит в тринадцатую. Там усиленный английский и Светка Манштейн. Она всё ещё крутит свои «хула-хупы» и по-прежнему нравится Борису. К моим доморощенным урокам английского языка, которые я устраиваю ему время от времени, он охладевает. Пополнение словарного запаса «э пэнами» и «э пэнсалами» уже не трогает его. Этого добра теперь и без того хватает. Чтобы он хорошо выучил язык, в первую очередь хотят его родители. Но у Бориса действительно получается, и он увлекается английским, как я — теннисом. По вечерам мы изучаем самиздатовский самоучитель по карате, который мне на время где-то достала мама. Борька терпеливо переписывает его своим корявым почерком, я помогаю с рисунками. По рисованию у меня «пять». За меня всегда рисовала мама, но смазанные фигурки по трафарету у меня всё равно получаются. Мы оба думаем, что умение дать сдачи теперь нужно нам на долгие годы. Двор затихает. Саня Мельников живёт с родителями, они объясняют ему, что нужно привыкать к новой квартире. Колобок пропадает у своей второй бабушки где-то в Рязани. Его мать развелась с отцом, и говорят, что теперь у неё много мужей. Макса Усецкого забрала в Израиль тётка. Димки нет. Родители Бутенко наконец уехали с Севера, но во Фрунзе так и не вернулись, осев где-то в России. Аскер совсем плох. На полной ско414 рости его сбила «Волга», когда он завязывал шнурки на дороге. Его так учили: развязался шнурок — немедленно завяжи, чтобы не упасть. Вот он и завязал. Теперь вообще может не ходить в школу. 27 Перед Днём Победы мою бабушку приглашают в наш класс рассказать о войне. В девятнадцать лет она записалась добровольцем на фронт. Служила в войсках связи, радисткой. Я прошу её не ходить. Всё равно эти скоты не дадут слушать и испортят выступление своими идиотскими репликами и ухмылочками. А учительница, вместо того чтобы поставить их на место, осечь, будет метаться по классу, заламывать руки и с экзальтированной укоризной пришепётывать: — Ну мальчики, ну хватит. Ну сколько это можно терпеть?! Ну я больше не могу. Но бабушка уже согласилась. И ей теперь очень неудобно отказаться. Вот всегда так, что ей — что маме. Она спрашивает, почему я уговариваю её не ходить? Но как я объясню, чтоб она поняла, что именно так и нужно поступить? Скажу, что все киргизы — дураки, потому что дали Староконю по шее и науськали на меня бывшего приятеля? На удивление всё проходит гладко. Мою бабушку слушают внимательно. Включен проигрыватель, и перед началом рассказа все слушают «Этот День Победы порохом пропах...» в исполнении Льва Лещенко. У нас дома есть эта пластинка, и бабушка всегда плачет, когда ставит её. В классе у неё тоже чуть не наворачиваются слёзы, но она молодец, держится. Киргизов почти нет. Они с вызовом ушли сразу после уроков. Думают, что кто-то, кроме учительницы, будет по этому поводу сильно переживать и глотать валокордин. Я же только рад. Бабушка рассказывает, как один раз они ехали в грузовике. Перегрелся мотор. Шофёр взял вёдра и пошёл на реку за водой, недалеко текла. А она вызвалась ему помочь. Началась бомбёжка, а когда всё стихло и они вернулись, увидели, что от машины осталась лишь покорёженная кабина и в живых — никого. — Вот видите, как важно помогать людям, — врезается после рассказа наша классная Галина Сергеевна. Ни черта она, оказывается, не понимает. Ещё бы добавила: «Вот видите, как важно подносить ведра во время войны!» И сочинение на эту тему задала бы. Тимуровка набитая. 415 28 В Ташкенте есть обелиск памяти студентов Индустриального института, погибших на фронте. В списках значится и моя бабушка. В сражениях за Керчь она получила два ранения: в голову и в ногу. Немцы теснили наших к Чёрному морю, от вражеских самолётов темнело небо. Количество катеров было ограничено, и в первую очередь эвакуировали раненых. Тогда некоторые солдаты стали мочить в лужах с кровью бинты из походных аптечек, рвать на себе гимнастёрки и, окрасив тряпьё в кровавые разводы, обматываться им, имитируя ранения, чтобы тоже попасть на катера. Об этом стало известно женщине-комиссару, ответственной за отправку. Вместе с несколькими бойцами она перегородила подход к причалу и стала сдирать с раненых повязки. Если под ними действительно оказывались пулевые отверстия, раненых и их сопровождающих, когда те были уже неходячие и тем более не могли передвигаться самостоятельно, — пропускали. Если раны не было, комиссар без разговоров пускала пулю в лоб за дезертирство. Бабушка была уже недалеко от одного из катеров, когда немецкая атака усилилась. Самолёты пытались разбомбить причал. Началась паника. Заслоны смели, задние ряды надавили на впереди идущих, и многие из тех, кто готовился к погрузке, попадали в воду. Кто-то из её знакомых увидел, что бабушка тоже упала, о чём впоследствии, видимо, и доложил. Иначе как бы появилась надпись на обелиске? Утонула, с её-то ранениями. Бабушку спас матрос. Вовремя заметив, что её столкнули, он бросился с палубы в море и успел вытащить её за волосы. Бабушка так и не узнала, кто был этот человек, как его звали. Матрос — и всё. На этом её война закончилась. Но про бомбёжку и эвакуацию из керченского порта она классу не рассказывает. Не так поймут. Да и к чему это? Галина Сергеевна хочет слышать про вёдра. Любопытство учеников с лихвой удовлетворено разнесённым грузовиком. Бойцы Красной Армии, конечно, могут испытывать человеческие чувства: любить, защищать и спасать. Но не мочить лоскуты в кровавых лужах и не сбивать с ног раненых. Бабушка вообще не любит эту историю. Говорит о ней отрывисто, скупо. От неё я слышал её только раз. 416 29 Бабушки не стало в феврале. До этого она очень долго болеет. Затяжно и без каких-либо улучшений. Врачи говорят, рак. Только уже очень поздно. Мама навещает её каждый день. После работы мчится в республиканскую больницу, достаёт какието лекарства. Через день я езжу вместе с ней. Бабушка пытается бодриться. Но делать это даётся всё труднее и хуже. Мама плачет. По вечерам долго сидит на кухне, курит, хотя скрывает от меня. А потом, вместо того чтобы немного отдохнуть, встаёт к плите и что-то готовит. Завтра всё равно опять занят целый день и не успеть. Очень переживает, что я предоставлен самому себе, и просит не переставать заниматься теннисом. За тройки, которые начинают проскальзывать в школе, не ругает. Просто берёт с меня слово, что я постараюсь. У бабушки день рождения. Мама печёт в больницу её любимый торт «Наполеон». Приходят две её подруги. Мы располагаемся на одной из лавочек в больничном дворе. Бабушка благодарит, но говорит, что скоро обход. Берёт с собой в салфетке кусочек торта и почти сразу уходит. Мама всё больше плачет. Она похудела, осунулась на глазах. Сильно выматывается, лекарства не помогают, и врачи только качают головами и разводят руками. Хотя всё понятно и так. Зимой бабушку выписывают, мы забираем её домой. Она уже не встаёт. Я провожу с ней всё время после школы и до прихода мамы. Готовлю в этой комнате уроки, читаю вслух какие-то газеты, что-то подаю. У нас начинает жить баба Валя, жена старшего бабушкиного брата. — Надо помочь нашей девочке, — как мы узнаем позже, говорит баба Валя на семейном совете, когда мама почти уже не держится на ногах. И переезжает к нам. Буквально за несколько дней до кончины. Я же помню другое. На похоронах, при подъезде к кладбищу, она говорит моей маме: — За бензин рассчитаемся потом. Произносится это с искренним пониманием, что сейчас действительно не до того. За рулём — мамин двоюродный брат, но он ничего не говорит своей матери. От этих слов его всего передёргивает, и руки ещё сильнее сжимают руль. Но я всё-таки надеюсь, что могу назвать себя незлопамятным человеком. 417 *** Утром того дня, когда умирает бабушка, мама посылает меня к одной из своих подруг предупредить о случившемся. Она преподаёт по совместительству в интернате, и номера телефона, чтобы туда позвонить, никто не знает. Да и бежать всего два квартала. То утро я вспоминаю довольно часто. Меня останавливает Канат, здоровый киргиз лет на пять старше. Он никогда не упускает случая докопаться до меня, чтонибудь отнять или ударить. Я тороплюсь, реву, мне всего восемь лет, и только что умерла моя бабушка. А тут ещё хотят достать, цепляются. И вместо того чтобы поступить как-то иначе, хотя и не знаю как, потому что из-за спешки нет времени думать и голова занята абсолютно другим, — я вынужден лебезить и полуизвиняющимся тоном объяснять этой сволочи, которая не даёт прохода, что у меня только что умерла бабушка и меня попросили сбегать, и прочее, и т.п. Как я ненавижу в тот момент ухмыляющегося выродка, который после обшаривания карманов всё-таки отпускает меня. Но кто бы знал, как я ненавижу тогда и всё время позже самого себя. 30 Раньше наша семья жила в Оренбурге. Там же, в двадцать первом году, родилась моя бабушка. В тридцатые прадед попал в поток переселенцев в Среднюю Азию. Молодые республики становились на ноги, и требовались специалисты. Конечно, некоторые сами вызывались ехать, помогать, учить, строить. Но чаще о желании не спрашивали, вырывая людей из Москвы, Рязани, Самары, Калуги, Омска. Оренбург сменился Ташкентом. Из Ташкента на фронт и ушла моя бабушка. Она была секретарём комсомольской организации института и не раздумывала о том, идти ей воевать или нет. Но сначала были курсы в Новороссийске, где её обучили радиоделу. К тому же она хорошо знала немецкий, и позже ей доводилось быть переводчиком, когда брали пленных. После ранений и возвращения домой бабушка не стала доучиваться в Индустриальном. Время было голодное даже в хлебном городе, и она подала документы в Железнодорожный институт — единственный тогда на весь Ташкент вуз, где выплачивали стипендию. Получив профессию инженера железнодорожного транспор418 та, по распределению преподавала в Самаркандском техникуме. И теперь уже не она следовала за своей матерью, а моя прабабушка переезжала вместе с ней. В сорок восьмом семья наконец осела во Фрунзе, куда тоже был получен перевод — уже не только прадедом, но и моей бабушкой. Как-то она мне показала место своей бывшей работы. На сером каменном здании висела массивная табличка с таинственной надписью: «Министерство местной промышленности». И все важные люди, входившие в этот огромный грозный дом и выходившие из него, останавливались поздороваться с бабушкой и не без любопытства пялились на меня. — А это кто же, Вера Михайловна, внук ваш? — Внук, — гордо отвечала бабушка. И я тоже ею очень гордился. Тем, что она — моя бабушка. И тем, что её все знали и каждый норовил пожать ей руку, хотя мама уже учила меня, что женщине руки для приветствия не подают; только если она сама протянет первой. А какая-то бабушкина знакомая Фирюза даже сказала, что отдел внутри- и межреспубликанских поставок теперь без моей бабушки — как без рук. Я, правда, не понял, как у отдела вообще могут быть руки. Но потом всё равно с удовольствием повторял эту фразу целый день и несколько раз произнёс её специально для мамы, чтобы она тоже знала, какая у нас бабушка. 31 Память у меня сохранилась с двухлетнего возраста. Конечно, обрывками, не полностью. Первое, что я помню, — двор в Куйбышеве, куда мы ездили ещё все втроём к бабушкиной фронтовой подруге. Это я понимаю только в свой следующий с мамой приезд. Сразу показываю нужный подъезд и спрашиваю бабу Галю, не стояла ли за аркой большая бобина с проволокой? В моём представлении она вообще не имела размеров: круглая гора величиной с дом. Выясняется, что она и сейчас ещё здесь, её только откатили в глубь двора. Теперь катушка не кажется мне такой огромной, и я удивляюсь, как мог принять её тогда за целую гору? Иногда я рассказываю Борису или Димке вещи, которых они наотрез не помнят или вовсе не верят, что подобное могло случиться. Спрашивают у своих родителей, а те, к их удивлению, подтверждают, что так всё и было. Но к концу восьмидесятых уже никто из нас не верит, что стояли дни, когда мы беззаботно играли во дворе, не боялись киргизов и единственной нашей 419 «обязанностью» считалось убежать от разъярённого Эдика, беснующегося по поводу того, что мы печём картошку, а значит, можем спалить всю округу. В таких случаях двор делился на два лагеря. Сторонники Эдика проводили с нами душеспасительные беседы, обещая оборвать уши. А родители тех малышей, кому мы заодно соглашались испечь картофель, вставали на нашу сторону. Картошку, конечно, можно было попросить приготовить и в духовке. Но почерневшая от золы, обжигающая ладони, приготовленная своими руками, она ни в какое сравнение не шла с домашней и была гораздо вкуснее. Только Эдик или Кадников всё равно могли после словесной перепалки выйти с ведром воды и залить костёр, а помешать им в этом не брался никто. Выход нашли мы сами, случайно надыбав на развалинах частного дома железную печурку. Картошку пекли теперь в ней и в случае опасности убегали вместе со своей «полевой кухней», хватаясь за раскалённые ручки толстыми тряпками. Правда, что могло по-прежнему не нравиться ретивым тушителям, мы так и не понимали. Из-за закрытой заслонки огонь уже никуда бы не перекинулся при всём своём желании. Но от нашего железного, в прямом смысле слова, «оправдания» Эдик выходил из себя ещё больше: вредность и сила привычки гонять нас брали верх. Сейчас от грозных приверженцев порядка не осталось и следа. Кадников умер. От Эдика ушла жена, а его самого кто-то уговорил заняться бизнесом и, прикрываясь выручкой денег для начального капитала, кинул с квартирой. Где он теперь живёт, никто толком не знает. Лишь изредка, рассказывали, приходит во двор по старой памяти: весь какой-то поношенный, заросший щетиной, обветшалый. Обиды со временем забылись; и его, и Кадникова жалко. 32 В предпоследнее перед отъездом лето я понимаю, как ненавижу лагеря. С теннисной секцией отправляюсь на горную спортивную базу «Чон Таш» и даю зарок, что ноги моей в таких летних оздоровительных загонах не будет. И дело не в том, что двадцать четыре дня подряд тренировки по восемь часов, в два захода — до и после обеда. Муштра, дурацкие порядки, линейки с обязательными речёвками: «Сегодня орлёнок, а завтра — орёл», отвратительная кормёжка, дежурства и посменное мытьё посуды в столовке по420 чти на три сотни человек, загаженные туалеты, перебои с водой в бане. Всё это доводит до белого каления. Но причина даже не столько в этом. Перед моей полудобровольной, из-за незнания, ссылкой сюда наша дворовая компания впервые сталкивается с тем, что взрослые витиевато именуют «так называемым еврейским вопросом», который мне непонятен до сих пор. Нас волнуют только киргизы, они травят нас и не дают продыха, а здесь вдруг возникает что-то еще. Хотя дело, как мне кажется, не стоит и выеденного яйца. В прошлой сезон мы отдыхаем с Борисом на Иссык-Куле. Мы с мамой на постое, снимаем комнату у частников в селе Бостыри. Борька с родителями — в пансионате. И это до того великолепно, что и следующее лето мы договариваемся провести где-нибудь вместе. Но Бориса собираются отправить в лагерь, количество путёвок в который ограничено. Я прошу его мать, тётю Лину, справиться, нельзя ли поехать и мне. Она обещает узнать и узнаёт, но с ответом почему-то не торопится. Позже я узнаю от своей мамы, что ей тётя Лина рассказала всю подноготную сразу, как только сама вникла в дело. И они обе ломали головы, можно ли что-то придумать и как лучше объяснить происходящее мне. Когда сроки уже поджимают, я вновь завожу с Бориной мамой разговор о поездке. И тогда она, вздохнув, говорит, что лагерь — еврейский и отдыхать в нём могут только дети евреев. Поэтому Борису — можно, а мне — нет. Я удивляюсь, не понимаю, злюсь. Борис изумлён не меньше моего. Мы решаем пуститься на хитрость, спрашиваем: нельзя ли обмануть? Ведь если Миропольский может быть евреем, то Янковский, наверное, тоже. Но на слово устроители этого лагеря не верят. Графу «национальность» в паспорте ещё никто не отменял, да и вторая фамилия у Бориса — Шерман, а у меня, если по одному из дедов — Яровой, а по прабабушке так вообще — Щекин. Борька тоже выходит из себя, отказывается ехать. На разные лады мы костерим эти непробиваемые правила без исключений. Но менять зачем-то установленный порядок зачисления никто не собирается. Тёте Лине я в любом случае признателен за правду, а не за отговорки типа: «Мне очень жаль, но оказалось, что все путёвки уже давно раскуплены». В конечном итоге Борис едет в лагерь один. А я отправляюсь на «Чон Таш». Оба мы так и не понимаем, кому понадобилось разлучить нас. Уж если кого куда и не пускать, так это киргизов; особенно из соседнего академического дома и моего класса. 421 33 Возвращаясь из лагеря, я всё ещё пытаюсь уяснить для себя случившееся. Мама теряется. Она загружена работой и рада, что в теннисе у меня успехи, а в школе вроде всё, тьфу-тьфу, налаживается — последняя четверть выходит «на ударно» и троек за год нет. Не зная, что ответить, она рассказывает вот какую историю. В ганкинском подъезде живет Григорий Берштейн, молодой врач-онколог, лет двадцати шести. Он уже заканчивал школу, когда Стас, старший из нашей компании, ещё только пошёл в первый класс. И поэтому ничего о детских похождениях этого самого Гриши мы не знаем, воспринимая его как хронически взрослого. Но тогда он ещё не подозревал, что будет работать в диспансере и бороться против курения, и частенько покуривал сам, втихую от матери и отца, у которого таскал сигареты. Разумеется, за смолением цигарки его и застукали. Да не кто-нибудь, а хорошая приятельница и соседка его матери, тётя Софа. И вот что тётя Софа сказала при встрече Розе Берштейн. — Розочка, какой у тебя Гриша мальчик, — сказала она. — Какое это у тебя золото. Какой умница, какой красавец, какой способный, вежливый, обходительный мальчик! Если бы мой Яшка был хоть немножечко похож на твоего Гришу, я бы уже умерла спокойно. Иду вчера с магазина, стоит Гриша с мальчиками. Меня увидел, шапочку снял, сигаретку изо рта вынул и говорит: «Здравствуйте, тётя Софа». Да так вежливо, что боже ж мой, Розочка. Какой мальчик! Мама замолкает. Я жду продолжения, но похоже, что это — всё. — Ну? — не выдерживаю я. — Не понял? — спрашивает мама. Ещё полминуты я без особого интереса перевариваю услышанное и честно признаюсь: — Нет. Она ведь всё равно его заложила. И ещё зачем-то похвалила за то, что он снял свою дурацкую шапку, вместо того чтобы отругать за сигарету. Вон как Лёхе тогда от матери досталось, по первое число! — В этом-то всё и дело, — говорит мама. — Они изначально задают своим детям высокую морально-этическую планку во всех их поступках и проявлениях. И потом при формировании помыслов и идеалов эта планка не даёт опуститься ниже заданного уровня. Хотя, конечно, не всегда. Но они во всём стремят422 ся видеть хорошую сторону, даже в негативе — позитив. Один раз еврейский парень изнасиловал девушку, а дома сказали: «Наконец-то наш мальчик влюбился». Я сижу с открытым ртом и пытаюсь свести концы с концами. Об изнасиловании я имею довольно смутные представления, но знаю наверняка, что ничего хорошего в нём, как ни крути, нет. Такого откровенного разговора я не ожидал, и мне многое непонятно. — А с курением что? — всё же спрашиваю я, уже сам будучи не рад, что затеял это сложное, путанное для меня выяснение. — Софья, отчество забыла, ну, допустим, Марковна произносит при встрече искусную речь, — садясь и вытирая руки о кухонный фартук, говорит мама. — Она ставит в известность и мать Гриши, потому что та должна знать, что сын курит. Но в то же время не загоняет её в неловкое положение, не устраивает сцены, не заставляет её оправдываться и тут же бежать выяснять что-либо. Мастерски подготавливает, умастив материнское сердце и душу, даёт ей самой решать, как поступить с сыном в этой ситуации: позже, с глазу на глаз, не делая это достоянием общественности. — Ну ведь не все так, — говорю я. — Не все, — соглашается мама. — Но как бы это скорее всего было у нас? «Слышь, Галка, твой Ванька, паршивец, за домом дымит вовсю. — Ванька, иди сюда, морда ты этакая, сейчас уши надеру, стервец. Придёт отец с работы, всё расскажу, он тебе ремнём задаст, получишь ты у меня!» Я смеюсь. Мама устало улыбается. — Но ведь тоже не все так, — опять говорю я. — Не все, — опять соглашается мама. Я так и не понимаю. Но это всё, что знает моя мама о «так называемом еврейском вопросе», в котором тоже ничего не может разобрать. 34 Летом двор всегда выглядит чуть заброшенным, пустым. Многие разъезжаются в отпуска, навещают какую-то дальнюю родню, кого-то проведывают и достают путёвки на Иссык-Куль или едут туда дикарями. Теперь прибавляется новая причина. В этот сезон отцы семейств уезжают в Россию искать жильё, договариваться о работе, узнавать об условиях и возможностях перевода. Обмен идет вяло. На жару, фрукты и горы люди уже не столь падки. К исходу августа выясняется, что из нашего двора 423 уезжает несколько семей. В них нет детей, и поэтому мы знаем отбывающих больше в лицо, чем по общению. Но всё равно рушится какая-то привычность, когда понимаешь, что вскоре ты, может, никогда не увидишь и кого-нибудь из своей компании, с кем провёл всю дворовую жизнь. Из класса уходят толстяк Женька Рогожин, всегда переодевавшийся на утренники Портосом, и Ванька Гусев — его отцу, как говорят, повезло: он нашёл должность инженера на металлургическом комбинате. В глухой, затерянный сельсовет перебирается родная сестра маминой сокурсницы Тани Крышиной. Её мужу удалось всеми правдами и неправдами добиться разрешения взять в аренду бревенчатый дом в Воронежской области и даже небольшую пасеку. Выкупить дом сразу они не могут — не хватает денег, и выпутаться из положения собираются продажей мёда и разведением хозяйства. Берта Владимировна Усецкая получает первые письма от Макса, она рада за внука. Говорит, что у него всё хорошо и в Израиле до того всё по уму, что даже помидоры там выращивают квадратными для более удобной транспортировки. А сама грустит, сидя на своём балконе, уставленном цветами. Куда-то пропадают Селёдковы, в их квартиру вселяются переселенцы из Афганистана; кто сюда, а мы — отсюда. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß. ÌÀÐËÅÂÛÅ ÂÎÈÍÛ 1 В городе начинает происходить что-то непонятное. Дома и улицы постепенно наполняются шёпотом и пересудами, какими-то фантастически дикими рассказами и свидетельствами. Напрямую ничего не говорится, и рассказываемое, как правило, предваряется оговорками: сам не видел, но людям врать незачем. Причём в качестве источников ссылаются не на какихто прохожих со случайно услышанными от них обрывками и недомолвками, а на вполне конкретные рассказы знакомых, соседей, сослуживцев. С разных концов города ползут слухи, тяжёлые, смутные; ощущается что-то необратимое, мрачное, а что именно — никто не говорит, словно знают, но боятся произнести вслух и поверить в это, признать, что на смену прежнему надвигается новое и возврата к привычному укладу уже не будет никогда. Всё чаще взрослые собираются по вечерам на кухнях, отправляя детей в комнаты смотреть громче обычного включен424 ные телевизоры и, точно между делом, следя, чтобы эти «недетские» разговоры не были подслушаны. Но вскользь подхваченные фразы только ещё больше сбивают с толку, вносят сумятицу. Что-то пугающее слышится в осторожно произносимых словах. На окраинах начинаются погромы. Но кто и что за этим стоит? Бьют витрины и фонари, палят газетные киоски, обрывают в автоматах телефонные трубки и корёжат автомобили. Медленно, ночь от ночи, приближается эта невидимая сила, управляемая сумраком и чьей-то волей, к центру. И вот уже обугленные следы неизвестного, прошедшего с гиканьем, с криками под покровом вечернего часа, чернеют гарью в соседних районах, кварталах, улицах. А поймать того, кто навис над всем этим, везде и нигде, не могут. И ещё страшнее становится от мысли, что днём эта сила спокойно перемещается у тебя за спиной по тротуарам, садится в городские маршруты и покупает в продовольственных хлеб. А с наступлением темноты превращается в незнакомое, недочеловеческое и вылетает сеять в зареве огня разруху и пустоту. Лица у русских людей становятся серые, пугливые. Бегут по своим делам, нигде не задерживаясь, боясь собственной тени и наперегонки с ней, чтобы скорее попасть в привычную обстановку, запереться в стенах и не выходить, пока новый день и заботы опять не выгонят их из дома на работу или по делам. Газеты молчат, местное телевидение как ни в чём не бывало желает доброго — «саламат сыздар» — вечера. Но ни молчанию, ни пожеланиям не верят, стараясь только как можно быстрее попасть домой и как можно дольше не покидать это пространство, дарящее хоть какую-то относительную безмятежность. У нас, как и во многих других квартирах, появляются кипы бюллетеней и брошюр по обмену жилья. Мама покупает все выпуски, а потом долго и внимательно изучает их, подчёркивая или выписывая на отдельные листы некоторые варианты. На мои расспросы отвечает, что — нет, мы никуда не переезжаем. Но произносит это так, что становится понятно: нет — только пока, а подвернись что подходящее, там видно будет. Украдкой я заглядываю в мамин список и, более-менее разобравшись, прихожу к выводу, что отъезд нам всё же действительно ещё не грозит. Уж слишком нереальны вынесенные сюда предложения, а ведь они в проекции самые подходящие. Варианты через Владивосток и Хабаровск (это из Среднейто Азии!), цепочки по восемь — двенадцать звеньев, условия 425 бешеной доплаты и даже какие-то фиктивные браки, которые «возможны при ближайшем рассмотрении сотрудничества». Всё это тревожит, вызывает чувства недоумения, ревности, но в то же время заинтересовывает, будоражит, затягивает. И иными вечерами я уже и сам сижу рядом с мамой и просматриваю бесконечные столбцы «Меняю», «Жильё», «Есть жилплощадь!», «Обмен». Сотни человеческих судеб, тысячи квадратных метров, вереницы телефонных кодов и номеров и километры коридоров с нависшими под самыми потолками зияющими пустотами антресолей — всё это ждёт, живёт, трепещет в ожидании перемен и чего-то лучшего за безликими мелкими шрифтами разрастающихся многотиражек. Мама продолжает следить за квартирным потоком. Но, по крайней мере при мне, звонить по указанным телефонам не решается, словно ещё не может поверить, что именно к этим, уже вполне детальным выяснениям условий и обсуждениям вариантов движется запущенный механизм. Она неумело прикрывается праздным любопытством и «зондированием почвы», но всё же просит меня ни с кем эту тему «раньше времени» не поднимать. Борису я признаюсь, и он говорит мне, что его родители интересуются тем же. И внутренне я не удивляюсь этому. Наверное, потому, что все разговоры повсюду сводятся к одному и на все лады муссируются возможности переезда. Только на душе становится ещё горше и противнее. 2 Погромы утихают так же внезапно, как и врываются в ночную столичную жизнь. Но неведомая сила никуда не исчезает. Она показывает новый криминальный оскал, словно мутировавшая нечисть постепенно привыкает к солнечному свету и дневному времени суток. На улицах начинаются избиения русских. Без предупреждений, со смехом, яростью и тем особенным цинизмом, когда знают наверняка, что против десятерых один не выстоит. Поначалу нападают чаще по вечерам, подкарауливая припозднившихся прохожих. Но, ощущая свою безнаказанность, вскоре принимаются делать выпадки и днём. И если раньше ты мог обезопасить себя, держась в людном месте около взрослых, то теперь, попадись под руку, не спасает и это. Не смущают даже переполненные остановки. Но что ещё омерзительнее, нападающие уверены, что за намеченную жертву никто не вступится. Просто будут молча стоять в сторонке и смотреть с единственным же426 ланием: лишь бы не тронули самого. А соберись и осмелься дать отпор, так, может, и вышло бы всё совсем иначе. «Чего ж вы не объединитесь и сдачи не дадите?» — в недоумении спрашивали нас взрослые, когда мы, ища поддержки, открывались и рассказывали им про наши школьные неприятности. Такой же вопрос хотелось теперь каждый раз выкрикивать в лицо и самим взрослым, когда у них на глазах затаптывали подобного им человека. Только выкрикивать его с бешенством, со злостью. А не ронять как бы случайно в воздух, как поступали в своё время они с нами: подтрунивая и предлагая дать сдачи, точно это была панацея, до которой мы никак не могли дотумкаться сами. Конечно, наши рассказы принимались тогда за детские обиды и списывались, похоже, на пресловутый переходный возраст. И лишь теперь до старших доходило, что «детские» обиды могут затронуть и их взрослую жизнь, да так, что мало не покажется. А ещё, засыпая, я часто думал о том, что сейчас они, как и мы в классе, очень походили на тех марлевых солдат, о которых рассказывала моя бабушка, что мочили в кровавых лужах бинты и боялись дать сдачи на троллейбусных остановках вконец распоясавшимся и оборзевшим киргизам. 3 По утрам на Ортосайском рынке находят трупы русских людей. Ночные сторожа ничего не слышат, их псы чутко дремлют, но дворники продолжают натыкаться на тела, и редкая неделя проходит без страшных находок. Власти не реагируют, печать ограничивается сухими и скудными констатациями. Были люди — и уж нет их. А кто, за что, почему? Страшно, неправдоподобно, необъяснимо. Да и что может объяснить, оправдать лишение жизни? Убивают из-за денег, из-за вещей; тела подбрасывают голыми или завёрнутыми в тряпки. Ортосай в отдалении от центра. Но трупы обнаруживают сразу, а осмелевших преступников поймать не в состоянии. Случаи объясняют межнациональными выступлениями против русских, и русские неволей в это верят. Другие «аналитики» утверждают, что творящееся — провокация, направленная на то, чтобы эту самую межнациональную рознь и разжечь. В это люди также хотят верить, потому что свои ублюдки есть среди каждого народа и русские тоже ходят с ножами на русских. Но не верят до конца. В одном из микрорайонов посреди бела дня убивают Илью 427 Кузнецова. Он был сыном маминой коллеги по работе, и я сам его коротко знал — вместе занимались теннисом, пока он не оставил тренировки. Из-за чего у него отняли жизнь и кто это сделал, неизвестно до сих пор. Его матери сказали, что её сын пробавлялся наркотиками и его гибель — логичный результат криминальных разборок. Это если учесть, что Илья только неделю как вернулся из армии и даже никогда не пробовал курить, до последнего помня о тренерских наставлениях, что с такой дыхалкой — ни к чёрту. Теперь тёмная сила не таится. Наоборот, осмеливаясь раньше выбираться из своих логовищ только по ночам, рвётся на дневной свет, проявляет себя и утверждается. Площади запружены демонстрантами. Это разношёрстные толпы, в которых, кажется, не может быть ничего слаженного. Люди шумят, баламутят, что-то выкрикивают, обсуждают, пьют и смеются или даже просто так примыкают к всеобщему гомону, чтобы потом с гордостью сказать, что заваривание каши в общем котле не обошлось и без их участия. Не понять, ни чего они хотят, ни чего они требуют, ни чего добиваются. Гомон и гвалт поднимаются по городу, медленно перерастая в рокочущий гул. Но сами за себя говорят плакаты и транспаранты, которыми сотрясают воздух собравшиеся: «Русские — оккупанты», «Вон из свободного Кыргызстана», «Сволочи, убирайтесь домой!» Такими надписями размалёвывают заборы, стены, памятники. Их выкрикивают и скандируют в людных местах. Жирно выводят краской на школьных досках объявлений, на информационных стендах в больницах, учреждениях; на всём, что бросается в глаза или же вообще доступно взгляду. По дороге к Чон-Арыку, за которым в предгорьях и на горах расползается огромное Юго-Западное кладбище, полным ходом начинается самовольный захват земель. До этого громили и жгли дачи, но многие люди всё равно отказывались покидать свои участки, ведь на них ещё оставались местами уцелевшие фруктовые сады, за которыми они ухаживали долгие годы. Однако со временем заброшенных домов или того, что от них осталось, становилось всё больше. Опасность крылась и подстерегала и в городе, но задерживаться на дачах, расположенных вне его предела, было куда рискованнее и сродни добровольному росчерку под собственным приговором. Испытывать судьбу приходилось даже просто выходя из дома за продуктами, так что лишний раз её терпение старались не проверять. Разговоры о миграции становились неотъемлемой частью 428 любой встречи. Число отъезжающих из близкого круга или окружения знакомых росло как на дрожжах. Почти каждый день звучали новые фамилии, назывались пункты и направления, фигурировали какие-то суммы и сроки. Количество желающих покинуть республику превышало все мыслимые пределы. Жильё, которое и без того невозможно было продать, не говоря уже об обмене на Россию, обесценивалось в том же темпе, в каком рос отток отбывающих. «Успеть бы!» — носилось в воздухе. И, чтобы усилить панику, киргизы теперь нарочно касались в своих выпадах и жилищного вопроса. — И так всё побросаете, нам оставите, — ухмылялись они. — Никаких обменов не получите, никаких доплат. Даром себе заберём. А ноги не унесёте — вышвырнем. И делали всё для того, чтобы это произошло на самом деле: выживая, гнобя, перекрывая пути общения, изничтожая физически и унижая морально. 4 Внезапно женится Андрей из углового подъезда, и эта новость на время затмевает всё остальное, всецело переключает наше внимание на себя. Конечно, Андрей уже давно считается взрослым, но в любом случае это — первый человек из нашей дворовой компании, который решается на столь ответственный шаг. В сорок лет, а то и в тридцать восемь он уже может стать дедушкой. А Борькиному деду, хотя Борис намного младше Андрея, уже почти восемьдесят. Уш бежит домой и приносит растрёпанную книжицу о всяких необычных явлениях, которые он называет паранормальными. В ней написано про китайца с тремя глазами, женщину, родившую одну только ногу, мужчину с лицом на затылке. — Такая вещь, и ты ещё молчал?! — укоряют Уша. Но я знаю, почему он не трубил об этом сокровище на каждом углу, сам не люблю давать читать свои книги. Вроде и не жалко, да только вечно с ними что-нибудь происходит: не вернут, потеряют, замусолят страницы, сломают переплёт. Целой отдадут — радуешься, казалось бы, должному, как дурак. А заляпают — так чуть не сам виноват: знал же, что могут отнестись неаккуратно, зачем, спрашивается, давать? — Только вчера в «Букинисте» достал, вот и молчал, — отвязывается Уш. В книжке есть глава про самую молодую маму на свете, которой исполнилось всего восемь лет, когда она родила ребёнка. 429 Выходит, такими молодыми, наверное, могут быть и отцы. Но Андрей уже гораздо старше, поэтому мы представляем, что бы было, если бы эта молодая мать оказалась его дочерью или досталась ему в жёны. — В шестнадцать лет — бабушка, в двадцать четыре — прабабушка, в тридцать два — прапрабабушка, — высчитываем мы, пытаясь обогнать друг друга. — В сорок — прапрапрабабушка, в сорок восемь — пра... — В сто четыре года эта девчонка станет прабабушкой в одиннадцатой степени, — перебивает нас, умножив, Нихёль. — А дольше этого не живут. Только прабабка Олега, помните? Мы соглашаемся. — Очень хорошая книга, — говорит Стас. — Но в одном тебя, Уш, обманули. Тут написано не про паранормальные явления. — А про какие же? — с ехидцей взвивается Уш. — Про параненормальные. Ни мне, ни Борису не ясны эти словесные премудрости. Но нам и некогда вдаваться в их обмозговывание — дальше мы натыкаемся на заметку о венгерском пастухе, пасшем отары овец до ста восьмидесяти четырёх лет! — Если бы он был женского пола, — помолчав, выдаёт Нихёль, — он был бы прабабушкой ровно в двадцать первой степени. А если бы Андрей женился и стал отцом не сейчас, а, как та девчонка, в восемь лет, он бы увидел того отдалённого своего потомка, что при нормальном раскладе родился бы только лет через четыреста! Уф-ф... Мы ошарашены. Понимаем, как бы могло повезти Андрею. Но кто же знал? Да и где бы они все разместились в таком-то количестве, если сам Андрей ещё не разобрался с жильём? Безумная связь поколений подавляет нас, и лично мы с Борькой ходим под впечатлением весь остаток дня. А когда я рассказываю всё это вышедшему с палочкой Аскеру, он нам не верит. — Пастухи в сто восемьдесят четыре года не рожают, — говорит он. — Зачем вы меня обманываете, ребята? Но искреннее умозаключение и наивный вопрос Аскерушки на этот раз почему-то не забавляют Бориса. Оказывается, только что за ужином он узнал, что родители Светки Манштейн всерьёз обдумывают переезд, и сильно переживает по этому поводу. «На всякий случай» Манштейны, как и многие другие, уже давно стоят в очереди за грузовыми контейнерами. Пока дойдет черёд, может, что-нибудь и подвернётся, надеются они. Сейчас контейнер им обещают уже в следующем месяце. 430 5 На стройке новой, семидесятой, школы разбился киргиз. Стройка всего в двух кварталах от двора, и новость сразу разлетается по округе. — Наконец-то хоть один из них навернулся, — говорит Уш. Вчера ему опять здорово досталось от Заки, и он ходит с распухшей скулой. — Но ведь насмерть всё-таки, — нерешительно протягивает Эльдар. Он вроде и должен, пусть отчасти, считаться меж них своим, но особо его не жалуют. С кем произошло несчастье, неизвестно. Когда мы подходим к школе посмотреть на труп, там уже все оцёплено. Стоит «скорая», милиция. Выясняется, что это был пришлый парень, и знать его никто не знает. Сорвался с третьего этажа и прямо на плиты. Выше стропила, плотники. — Вот так и Мишка Ампилов чуть не погиб, — говорит Стас. Эта история не нова. Ещё при строительстве академического дома Ампилуга слишком сильно перегнулся через козырёк пятого этажа и не удержался. Стас его тогда успел схватить за ноги. В последнее время мы вообще часто любим вспоминать то, что случалось с нами раньше. Это не значит, что помним мы что-то только хорошее. Происходило всякое. Просто тогда мы все были ещё вместе, да и какие-либо стычки считались редкостью или даже досадным недоразумением. Помню, мне самому как-то влетело не пойми за что. Мы уходили с мамой в гости, я собрался раньше времени и отпросился в Тоголока Молдо. Туда прикатили телевизионщики снимать кинозарисовку с видами нашего сквера. Знаете, это такие маленькие передачки про идущих по своим делам людей, деревья, женщину с коляской или с книгой и т.д., которых даже нет в программе. Их показывают, если только какая-нибудь неполадка или профилактика, вместо заставки. Но я всё равно подумал, что хорошо бы попасть в кадр. А вместо этого всё произошло совсем по-другому и до того скоропалительно, что разбирать, что к чему, пришлось уже позже. Сначала я нос к носу столкнулся с Ормушевым, который ещё с одним парнем вылетел на центральную площадку с яблочного газона. Увидев меня, он автоматически остановился, вероятно, впопыхах запамятовав, что разговаривать нам не о чем, и действительно взялся расспрашивать какую-то ерунду, 431 будто специально для того, чтобы её выяснить, и нёсся сюда как угорелый, ломая кустарник и до того брызжа любопытством, что до сих пор вращал глазами и даже озирался по сторонам. Правда, делал он это как-то болезненно, стараясь охватить взглядом всё пространство и в то же время не умея ни на чём задержать внимание. Потом он внезапно дёрнулся, метнулся куда-то в сторону, и кто-то мёртвой хваткой цапнул меня за шиворот, заломив за спину руку. Анвара тоже скрутили. Два разгорячённых, раскрасневшихся взрослых киргиза орали что-то на своей тарабарщине, матерились по-русски и мотыляли меня из стороны в сторону, нанося град тычков и ударов. Короче, толком я последовательность происшедшего не восстановлю, к испугу примешивалась ещё боль и обида. Но, видимо, взбучка продолжалась не так долго, чтобы размусоливать здесь о ней ещё на три страницы. Дав по шее, меня заставили показать, где я живу. Рядом семенили какие-то русские женщины, крича, что я не виноват, просили отпустить. Я же мало что соображал, вырывался, вызывая ещё большее раздражение со стороны настропалённых мужиков, и ревел белугой. Захлёбываться от слёз, вместо того чтобы ещё раз попытаться всё объяснить, я продолжал и когда два этих странных гражданина приволокли меня домой, высказав по ходу дела моей ничего не понимающей маме всё, что думали по моему поводу и по поводу всего остального, происходящего в данный момент в мировом сообществе. Как выяснилось только впоследствии не без помощи сердобольных женщин, не оставивших меня на растерзание перекошенным от злости верзилам, я был принят ими по ошибке за какого-то негодяя, угодившего одному из них (я только потом припомнил набухающий под глазом синяк) из рогатки в лицо. А поскольку Анвар был замешан в этом напрямую, то и со мной церемониться не стали, и до следственного эксперимента дело тоже не дошло. Виновник торжества перед раздачей свалил, а шишки по закону подлости посыпались на меня. В кинозарисовку я не попал, поход в гости был отменён. Но спустя много лет об этом происшествии вспоминалось чуть ли не как о нелепой путанице, не более того. Горький осадок, конечно, остался. Но это был всё же случайный инцидент, носивший разовый характер. С нынешними же ежедневными стычками с киргизами не хотел мириться никто. Но и противиться им мы не умели. Поэтому наступил период, когда мы стали встречаться только друг у друга дома. И тут наша дворовая компания невольно раскололась ещё на несколько частей. 432 У Алексея болела мать. У Ганкина была старая бабушка, Генриетта Исааковна. Она любила покой, а у нас без шума не получалось. Турабековы и сами не помещались в своих четырёх комнатах. К тому же у них всегда было неряшливо, неуютно. Про Стаса и Андрея заикаться вообще уже не стоило — возраст вышел, а с ним закончилась и детскость. Да я у них и так никогда, считай, не бывал. Разве в пределах прихожей, если Стасов отец, дядя Алик, брался подлатать мой «Школьник» или дед Андрея, нумизмат, соглашался показать нам свои альбомы и пускал на полчасика к себе в кабинет. Так что чаще всего я пропадал у Бориса, а он — у меня. Его отец купил видеомагнитофон, и теперь у Миропольских был свой кинотеатр на дому. Кассеты удавалось раздобыть редко, да и уровень лент, как я понимаю теперь, оставлял порой желать лучшего. Но сравнивать тогда было не с чем, и поэтому каждый фильм всё равно становился открытием. Хотя среди них попадались и подлинные откровения: «Кошмары на улице Вязов» с молодым Джонни Деппом, «Попутчик» с харизматичным Рутгером Хауэром, «Покушение» с человеком с гармоникой Чарльзом Бронсоном. В последней картине кто-то мужественно говорит, что читал «Доктора Живаго». Отец Бориса удивляется и обращает на это наше внимание. Наверное, из-за таких нежелательных ссылок и упоминаний и запрещают многие видеофильмы, размышляю потом я. Видео всё ещё редкость, лишний раз разговоров о нем не заводят. Когда появляется какой-нибудь фильм, Борис приглашает по вечерам меня и Светлану. И если кассету нужно вернуть на следующий же день, мы засиживаемся допоздна, не желая пропустить развязку. А после вместе с Борисом идём провожать Светлану до её подъезда. Уже поздно, и мало ли что. Однажды мы так засиживаемся до половины второго ночи. На вечер приносят две части «Крёстного отца», одна длиннее другой, и оторваться от них ни у кого не хватает духа. Мы неоднократно перезваниваем домой, потому что сколько ещё будет идти лента, не знаем, отпрашиваемся, предупреждаем, чтобы не волновались. Заканчивается дело тем, что родители сами заходят забрать нас. Фильм досматриваем всем гуртом. Оказывается, моя мама уже видела его первую часть в Варшаве, когда ездила в Польшу ещё в семидесятые студенческие годы. На афише было написано: «Фильм ужасов». — Ну, до ужасов здесь далеко, — не соглашается уже искушённый в этом жанре Борис. — А вот с киргизами я бы тоже так разобрался. 433 6 Час от часу не легче. В школах вводят киргизский язык. Говорят, теперь он будет обязательным, а потом его и вовсе признают государственным. А чем только не грозятся за его незнание! Киргизский разговор злой, быстрый, пронизывающий. У нас в багаже лишь отдельные слова, которые у всех на слуху: нан — хлеб, эт — мясо, суу — вода, сут — молоко. Всего десятка два наберётся, не больше. Да и то вместе с ругательствами и надписями на вывесках, типа «Кош келениздер» — «Добро пожаловать» якобы значит. Нас, конечно, больше всего потешает название парикмахерских салонов — «Чач тарач». Мы, когда подстригаться идём, так и комментируем: «Чачу пора тарачить». Ещё поговаривают, что на киргизском очень смешно звучат персонажи сказок: Змей Горыныч — «Автоген хан», Баба Яга — «Кошмар опа», Карлсон — «Шайтан вентилятор», Буратино — «Саксаул беке», а Дед Мороз — «Колотун» такой-то. Но это, скорее, так, шутки ради. Хотя чёрт его знает, если даже обычный велик киргизы раньше «шайтан арбой» звали. Но вот с парикмахерскими — наверняка, надписи-то повсюду. Смех — смехом, но особо иронизировать всё же что-то не тянет. Двадцать восьмой школе ещё везёт, у нас дело пока ограничивается обещаниями, а Борька уже корпит над чуждыми уху гортанными сочетаниями и из-под палки ведёт словарь. На работе у мамы за киргизский тоже берутся основательно — организовывают, естественно, платные курсы по изучению, куда записывают всех «желающих» в добровольно-принудительной форме. В строгости ещё не верят, но отказникам враз объясняют, что к чему, вызывая их на ковёр к директору. В свете последних событий на его приёмной висит очень забавная табличка. По-киргизски эта самая приёмная теперь величается «кабыл дама». Преподаватели подтрунивают и переименовывают её в «кабыл дам», поскольку директор — мужского пола. Самое интересное, что и многие киргизы противятся такому насаждению родной речи. Им приходится вновь учить или вспоминать её вместе с русскими, татарами, украинцами, немцами. Тем более что их самосознание лучше адаптируется к этой навязываемой необходимости. По значимости киргизский ставят на одну ступень с английским и даже впереди него. Ну правильно, сначала — национальный, а уж потом и мировой опыт. Киргизский алфавит богатый. В нём аж тридцать шесть букв, так что куда здесь русскому! Правда, тридцать три из них заим434 ствованы как раз-таки из русского языка. Но это, безусловно, «мы ещё посмотрим», как надсадно выкрикивают на людных скопищах чересчур ретивые сторонники теории яйца и курицы. Разницу составляют три буквы. Одна — по произношению нечто среднее между «у» и «ю», потом носовое «н». И почти английское «о», одновременно напоминающее «о», «е» и благородную послетрапезную отрыжку, которой выражается признательность хозяевам дома после вкушения угощений. Ну а на то, что у киргизов до последнего отсутствовала письменность, закрывали глаза. Зато устная форма была до того древняя, что наша учительница по русскому, как-то потеряв терпение, набралась смелости и даже вслух удивилась, как они умудрились её ещё не забыть? А тем временем с языком становилось всё строже. Меняли вывески и надписи на ценниках, указатели и таблички с названиями улиц, которым присваивались совершенно незнакомые наименования. В магазинах демонстративно отказывались говорить и понимать по-русски, требуя, чтобы нужные товары перечисляли на киргизском языке. Немного выручало то, что некоторые слова заимствовались киргизами полностью, что поначалу делало общение более-менее сносным, хотя ты иногда и «не понимал», на каком языке, будучи нечаянным полиглотом, сейчас говоришь. Но позже переиначивались и эти заимствования, что невольно вело к путанице и неразберихе, ведь филологам постоянно приходилось вносить добавления и правки в словари и в справочные пособия, за серьёзную систематизацию и издание которых и без того принимались только сейчас. А когда подобрать эквивалент не удавалось, к русским основам просто прибавлялись характерные окончания или сами слова вымучивались не по принципу прямого уточнения, а подробного описания. Скажем, не «аптека», а «магазин, где продают лекарства». Понятно, что такой подход чистоте языка не способствовал. Ну а уж когда в начале девяностых киргизский официально признали государственным, им заполонили всё. Пресса откликнулась выходом целого ряда местноязычных газет. Республиканское издательство «Мектеп» разразилось потоком книжной продукции. Телевизионные передачи здешнего производства были и без того переориентированы. А советские фильмы с каким-то бешеным азартом стали подвергаться дубляжу. Конечно, это делалось и прежде, но не в таких масштабах. Хорошо ещё, что оставались центральные телеканалы. Их глушить, видимо, не осмеливались, хотя, может, и вовсе не 435 собирались. Так что говорить о тотальной блокаде всё-таки не приходилось, что зачастую ставилось на вид русским, когда те возмущались засильем киргизского языка. Учить-то его от безысходности учили, но очень неохотно, словно веря, что ещё вернутся старые времена. 7 — Теперь бы и того негра с выбором языка в два счёта определили, — вдруг вспоминает Уш. По киргизскому у него «пара», каждую неделю стращают неприятностями, и он очень завидует двадцать восьмой, что там ещё отвёртываются от изучения. Но и переходить из тринадцатой не хочет: столько лет уже проучился, и всё менять. — Да, видно, и ему жилось не совсем, — продолжает размышлять он, — раз за тридевять земель от своего дома таскался. Выходит, действительно их там скинхэды сильно допекают. Уш уже несколько месяцев читает какие-то редкие журналы на английском и много чего такого знает; отец ему их откуда-то достаёт. — И что это за скинь кеды такие? — допытываемся мы. Звучит как-то чудно, но Ушу верим. — Хрен их разберёт, — размеренно отвечает Андрей. — Но точно знаю: они для негров, как теперь для нас — киргизы. А киргизов в городе становится всё больше. Тянутся из сельской местности, переезжают, сменяя скотоводство на городскую осёдлую жизнь, за бесценок забирают квартиры, а то и вообще получают их какими-то непонятными, тёмными способами. Русские лица в толпе приходится уже выискивать, как в игру какую играешь: заметишь их на этом пятачке квартала или нет. На улицах разбивают юрты. Иногда прямо в самом центре, неподалёку от оживлённых магистралей и базаров. В академическом дворе тоже частенько стоят одна-две, но это если праздник на носу или событие: похороны, свадьба, религиозный Нооруз. Порой юрты ставят и для приехавших погостить родственников. Сами они, как правило, из горных аулов. Вот им, вероятно, и создают все условия, чтобы чувствовали себя вольготно, как дома, и не одичали от цивилизации, догадываемся мы. В квартирах попросторнее, рассказывают, для них специально держат пустые комнаты, где почти нет мебели и полы застелены кошмами — неткаными коврами из верблюжьей шерсти. А если всем не разместиться, возводят свои войлочные жилища: круглые и с куполком наверху. В таких случаях возле юрт 436 ставят из глины очаги. И с утра до поздней ночи что-то на них шкворчит, распространяет мясные ароматы, в казанах готовят бараний плов, бешбармак. Плов едят руками, сев кружком; причём каждый выбирает свою дорожку к центру блюда. За мясо признают лишь один сорт, и потому наблюдать на балконах верхних этажей топчущихся баранов уже давно не в новинку, хотя такой бесплатный зоопарк всё равно приковывает к себе внимание. Будят по утрам своим отчаянным блеянием вместо деревенских петухов. Да так настойчиво и протяжно, словно наперёд знают, зачем их привезли сюда накануне в багажниках легковушек. Самому почётному гостю достаётся бараний глаз — как растолковывают, символ мудрости и прозорливости; и получить его — признак большого уважения. Но это — традиция, и мало ли у кого они какие. Если вкусно приготовить да со специями, то, брр, допускаю мысль: почему бы и нет? Чего мы не понимаем, так это зачем киргизы старшего поколения сидят на солнцепёке в пальто и платках. Горячий чай, ещё булькающий в пиале, от жары спасает, знаем по собственному опыту. Но одеваться как на Северный полюс, при таком пекле! Эффект, не исключено, тот же, но сами проверить это не берёмся — засмеют. А то ещё выкупают младенчика, вынесут его на свежий воздух, всего розовенького, и ну давай растирать по тельцу топлёный бараний жир. Фу, смотреть противно, да и запах. И что это за гигиена такая? Когда в академический дом семьи только въезжали, супруги жильцов переругались, кому по планировке ванная комната с биде достанется, а кому — без. А потом выяснилось, что чего в этих раковинах только не делали: и носки стирали, и обувь мыли, и вообще стыдно сказать. А ещё над нами смеялись, что у нас в домах раньше газовые колонки стояли и из обоих кранов, если запальник не зажечь, вода только холодная текла, будто в частном секторе без удобств живём. — Ну да это фигня, — успокаивает нас вникший Стас, — не обращайте внимания. У них по любому поводу радость позлословить, язык так и чешется. И алфавит недаром вон какой замечательный. Целых три своих собственных буквы выдумали! Да и те если откуда не стибрили. У Стаса тоже не всё гладко — проблемы с переводом на пятый курс. Внаглую объясняют, что надо подмастить взяткой, иначе на хорошие отметки и успеваемость закроют глаза и не дадут доучиться. По этой же причине Андрей из углового подъезда никак не может получить диплом об образовании — за него также нужно дорого заплатить. И с женитьбой не ска437 жешь, что всё в порядке. Живут, конечно, душа в душу, но как не заладится, так, видно, всё одно к одному: кооператив, который долгие годы строили для взрослеющего сына родители, отходит какой-то шишке из органов внутренних дел. Им предлагают или успокоиться и ещё неопределённый срок ждать, или забрать сразу половину выплаченных денег и успокоиться, постепенно получая дальнейший расчёт. Запутанная история, но приходится терпеть. Выбыть из очереди — значит начинать потом всё по новой. У тёти Анны Ястрижевской, дочери бабушкиной приятельницы, тоже сплошные неприятности. Её увольняют с работы за какое-то несоответствие. Тридцать лет она проработала в университете на кафедре и «соответствовала». Но тут кому-то срочно понадобилось повышение, и она вдруг пришлась не ко двору. С неделю назад ей, правда, повезло. Её взяли готовить еду и прибирать в доме какой-то богатой киргизской семьи. Теперь она у них считается домохозяйкой, но выматывается так, что сама себя называет чернорабочей. А в свободное время, которого остается не так много, всё равно ищет подработки, чтобы вытянуть трёх своих девочек, одна милее и краше другой. Воспитывает их тетя Анна, после смерти своей матери, в одиночку. Муж её давно погиб — его, возвращающегося с дачи на велосипеде, насмерть смял грузовик. Как-то разом сдавшая Таня Крышина вместе с рано повзрослевшей дочерью Светланой выпутываются тем, что пекут на заказ пироги и сдобу. У них свой старый дом, и газ приходится покупать привозной. С ним перебои, и достать его можно только с переплатой, а один баллон и без того стоит очень дорого. Встают Крышины спозаранку, чтобы обойти соседей со свежей выпечкой да снести заказанное с вечера продавцам на мини-рынок к продмагу. Сперва пирожки у тёти Тани берут вяло, с незнакомого стола-то. Но поосмотревшись и попробовав, чаще уже не отказывают. Хотя если опоздаешь к назначенному времени, пусть совсем немного, или что не понравится, сразу в отказ. А то где и в другом месте перекусят. И хлопотно угождать всем, и заработок — ненадёжный. 8 Нам с мамой довелось побывать в Вологде за год до переезда. В восемьдесят девятом мне выпала возможность отправиться на соревнования по теннису в Бухару и Самарканд. Я по-пре438 жнему усиленно занимался и в один из спортивных сезонов, кажется, даже был назван четвёртой ракеткой республики (конечно, среди своего года). Но вместо того чтобы отпустить меня на штурм кортов Узбекистана, мама предложила съездить почти за четыре тысячи километров, в далёкий неизвестный город. К тому времени она начала говорить, что мы можем попробовать туда перебраться. Понятно, что знать об этом хотелось бы определённее, но выбраться из Киргизии стало уже до того сложно, что приходилось довольствоваться и такими смутными догадками, пока далёкими даже от каких-то надежд. Это громко звучит, но в Вологде раньше был и я. Более того, я там родился и прожил первые три месяца своей жизни, пока мама не вернулась со мной обратно во Фрунзе. После окончания петрозаводского филиала Ленинградской консерватории она попала по распределению в Вологду, несколько лет проработала в этом городе в областном музыкальном училище, вышла замуж и развелась. О её разводе я узнаю за несколько дней до нашего путешествия. Раньше мне говорили, что отец умер, но оказывается, он жив и здоров, и семья у него — новая. Просто теперь я уже взрослый парень и мне пора об этом знать. Тем более что кто-нибудь из прежнего окружения мамы может случайно проговориться, обронить в разговоре ненароком что-то лишнее и мне непонятное. Мама показывает свою свадебную фотографию. Я молча рассматриваю её. Конечно, интересно, ведь это — моя мама. А кто второй человек, я не знаю до сих пор, да и знать не хочу. Потом я достаю из шкафа медаль «Родившемуся на Вологодской земле». Такие чеканили чуть ли не в тот лишь самый семьдесят седьмой, единственный год. Кого ни спрошу, никто о таких знаках отличия ни разу не слышал. В других краях России — ещё ладно; может, только здесь «награждать» было принято. Но даже и у моих вологодских сверстников таких необычных медалей почему-то нет. Я специально, правда, у всех не выяснял, но кому ни расскажу — удивляются, пожимают плечами, а покажешь — так даже вроде завидуют. Сама медаль массивная, рельефная, в прозрачную пластиковую коробочку запаяна, и солнце с ребёнком, протягивающим к нему руки, изображены, а с другой стороны — про меня надпись, что, мол, есть такой, но её уж по специальному заказу выводили. Многое из того, что делается, наверное, действительно делается к лучшему. И иногда это становится понятно, как мне это понятно теперь. Но в то лето, уже после поездки, я всё же не439 много жалел о сорвавшихся соревнованиях. Да и, слухами земля полнится, Бухара и Самарканд — жемчужины Востока, красивые города. — А Вологда что же, некрасивая? — раздражённо спрашивает Борис. И я его понимаю. Если бы я узнал, что, пусть и не скоро, но всё-таки возможен его отъезд, я бы тоже вряд ли спокойно примирился с этой мыслью. Минимум ещё год впереди, но в конце концов всё идёт к тому, и наш переезд — дело времени. Маму ещё помнят по работе, специалисты в Вологде пока нужны, и даже с переводом и возмещением расходов по транспортировке грузовых контейнеров обещают постараться помочь. Во всё это не верится, кажется сказкой, иллюзией, мечтой. Но теперь окружающее начинаешь воспринимать ещё болезненнее. И мама себе места не находит, потому что здесь останется всё, что так или иначе было связано с ней более сорока лет. Остаются друзья и близкая родня, остается могила её матери и моей бабушки. Господи, до чего всё это тошно и тоскливо, хоть волком вой, кто бы знал... — Почему же, красивая, — пересиливаю себя я. Да и при чём здесь красота? Когда во Фрунзе всё близко и знакомо, а там — чуждо и, наверное, поэтому неприятно. Прогулки по каким-то серым, неприметным улочкам. Вереницы не запоминающихся мной, как я ни пытаюсь удержать их или оживить в памяти, встреч. Пожимания рук и приглашения в гости, бурные восклицания: «Ах, чей это такой мальчик?!» — и в ответ сердитое бурчание себе под нос: «Не беспокойтесь, не ваш». — А ещё очень старинная, — продолжаю я. И не то чтобы сочиняю или даже вру. Но в то же время думаю, что поступаю и не совсем честно, потому что, будь воля, расписал бы всё Борьке иначе. Но лишний раз напоминать и себе, и другу о том, что всё происходит далеко не так, как бы вообще хотелось, не хватает ни выдержки, ни мужества. Да и что изменят эти разговоры? Только разбередят. Или отказаться от возможности переезда и позже долго жалеть о своем решении, или всё же решиться и жалеть уже о переезде, но потом. Выбора всё равно нет. — Старше Москвы даже, и это только по летописи. А ещё церквей много. Когда на реку выходишь, от позолоты маковок по обеим набережным глаза так и слепит. Да только действующих приходов — всего ничего. То разрушены, то в склады переделаны или овощебазы. 440 Борис внимательно слушает, слегка поёживаясь от вечерней прохлады. Уже темнеет, и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в этот поздний и потому особо опасный час, мы сидим под самым потолком беседки, где по углам крест-накрест наколочены доски. — А ещё в Вологду чуть столицу не перенесли. Сам Иван Грозный собирался, — пытаюсь я растормошить Борьку. — Чуть не считается, — вновь настропаляется он. — Тоже мне Нью-Васюки! Что же не перенесли-то? А-а, всё-таки, выходит, зацепил! — Да поговаривают, при строительстве не то Софийского собора, не то самого кремля перед царём кирпич с лесов шандарахнулся. Вот он и разозлился, что едва не пришибли, а своё решение — отменил. — Ну и фиг с ним, — говорит Борис. — Перенёс бы столицу в вашу Вологду, так ты бы сейчас в Москву намыливался. Хрен редьки не слаще. — Столицу не столицу, а кое-что, экскурсовод рассказывала, Иоанн в Вологде, кажется, всё же припрятал, — опять отвлекаю я друга. — Библиотеку свою знаменитую где-то зарыл. Так Соборную горку в центре города уже несколько раз перелопачивали. — Нашли? — почти равнодушно спрашивает Борис, прекрасно зная, что я отвечу на это. И я признаюсь, также понимая, что подобный ответ будет ему не столь интересен: — Нет. Отчасти это тоже не лишено тайны, но только отчасти. — Это ничего, — деланно утешает Борька. — Аскерушка вон под автоматами с газировкой рылся, тоже ничего не наскрёб. А соревнования, — внезапно становится он более-менее серьёзным, — так ты же в Алма-Ате выступал, в городе Отца какихто яблок. Так почему бы тебе вместо стенаний о минаретах Бухары не вспоминать то, что ты взбирался на один из самых высокогорных катков мира — «Медео». И он, и я понимаем, что дело-то не в теннисе и не в упущенных партиях. Но за этим разговором мы стараемся хотя бы на время отвлечься от мысли о нашем грядущем расставании. Поэтому я делаю вид, что легко принимаю его слова. — Ты прав, — говорю я. — Только жаль, что я не запомнил, сколько ступеней ведёт к обзорной площадке. А ведь три раза считал и перепроверял, чтоб не сбиться. К самой дамбе, что всё 441 горное ущелье перегораживает, поднимался. Триста с чем-то, что ли? Или нет, путаю... Хотя ладно, всё равно не вспомню. — А даже если и вспомнишь, ну никак не больше, чем на Потёмкинской лестнице, — уверенно заявляет Борис, и тон — как у ворошиловского знатока, чьи слова почти не подлежат сомнению. Откуда что берётся? В Одессе он гостил у своей тёти месяц от силы, а чувство гордости — пойди-ка подступись! — Не больше, — соглашаюсь я. Уже поздно, но расходиться не хочется. И мы продолжаем свой неспешный разговор, словно только теперь научились вслушиваться в слова друг друга; да так, что многое становится понятным и без слов. 9 Раскалённая от зноя площадь перед кинотеатром «Ала-Тоо» запружена народом. В центре расступившейся толпы, колышущейся и нетерпеливо переливающейся, точно барашки набегающей на берег иссык-кульской волны, — старуха. Взоры обращены к ней, настала её очередь говорить. — Русские нам помогли, — разносится кашляющий, под стать царящему суховею, голос чон-апы, как уважительно обращаются к женщинам в возрасте. — Они поднимали нашу республику, трудились вместе с нами, строили дома и больницы, делили невзгоды и радости. Почему не жить в мире? Чуйская долина большая, простора под нашим жарким солнцем хватит всем. Одумайтесь, ведь нам не из-за чего враждовать и подниматься друг против друга! Большинство городских киргизов старшего поколения, успевшие, что называется, обрусеть, противились межнациональной распре. Аксакалам действительно нечего было делить с русскими, с которыми они уже успели породниться: как в переносном, так и в прямом смыслах — смешанные браки раньше не были редкостью. — Плохие люди есть среди каждого народа, — вещает чонапа. — Нельзя говорить за всех сразу. Но рознь ещё никого не доводила до добра. Не доведёт и нас. Мир нельзя строить на крови. Кровью можно только сеять ненависть и вражду. Её слова тонули в заглушающем, сметающем, полном бесшабашности гиканье. Несмотря на почитание старших, старуху втащили обратно в толпу, закрутили, оттеснили. Казалось, то, что она говорила, не отозвалось ни в одном сердце, не от442 разилось ни на одном лице. Молодёжь ждала уже не уговоров и воззваний к здравому смыслу, её интересовали не просьбы и мольбы. Время слов минуло. Попытки обойтись человеческим путём оказались тщетны. Несправедливыми выкриками оголтелой толпы из людской памяти начисто вымарывались тяготы и беды, выстоянные вместе. В огульных обвинениях захлёбывались и тонули отношения добрососедства, если не дружбы, казалось, уже проверенные самой жизнью. 10 — Если бы мы все объединились против выживания и позорных унижений, не двинулись с места, нас бы никакие киргизы не одолели, — примерно такие слова спустя много лет скажет мне директор нашего районного Дворца культуры. В один из приездов я загляну сюда, чтобы пройти по спускающемуся к полотну экрана залу, куда мы бегали мальчишками на сеансы по десять-пятнадцать копеек за билет, и совершенно случайно разговорюсь о житье-бытье с незнакомой мне женщиной. И я внезапно пойму, как справедливы эти сказанные ею слова. За годы раздора пределы республики покинула десятая часть её населения — четыреста двадцать тысяч человек, из которых, не найдя себе крова и приюта, рискнула вернуться всего треть; причём считая вместе с вновь прибывшими. Да и то большинство решилось на такой шаг из-за отчаяния и неумения обустроиться на новом месте, лишиться привычного уклада жизни. Другое дело, что последние годы, от месяца к месяцу, эта жизнь всё больше походила на жалкое существование, русские превратились в некий бесправный придаток к пробудившейся от «порабощения» нации детей вольных гор. Да и как можно было вернуться со спокойным сердцем в раздираемые распрями земли, если в своё время только в Оше, городе к югу от Фрунзе, за три дня вырезали около четырёхсот человек? «Представляешь, Борис, — уже сейчас пишу ему я, — в январе 1999 года в Оше объявили сбор средств на установку мемориала памяти лидеров басмаческих движений». Это не укладывается в голове. Зато многие говорят, что им и без того с самого начала, а уж теперь и подавно, понятно, почему столицу Киргизии переименовали. И дело, по их мнениям, вовсе не в том, что местным жителям стало вдруг невмоготу выговаривать фамилию родив443 шегося здесь полководца, вместо которой у них выходило «Пурунзе» или «Боронзо». Не в самой ли деятельности Михаила Васильевича, который этих басмачей и бил, крылась причина? Конечно, новое название — Бишкек — созвучно исконному — Пишпек, но и его возвращать почему-то не захотели. Впрочем, не обходится и без абсурда. Самые стойкие противники перемен даже высказывают предположение, что на «Пишпек» наложен запрет, потому что видный военный деятель появился на свет в местечке с таким названием. А ненависть к нему до того велика, что стараются избегать любых упоминаний о нем. Из истории же ясно одно: в честь полководца пресловутый населённый пункт был лишь в 1926-м, спустя год после его смерти. Но всего этого мы с Борисом тогда не знаем и не хотим знать. На дворе по-прежнему стоит конец восьмидесятых, и мы который вечер прячемся под потолком чуть накренившейся беседки. Это мы так «гуляем», прямо как раньше Олегова прабабушка на балконе. — Раньше у Вологды, по преданиям, тоже другое название было, — продолжаю «отчитываться» я о поездке, если вспомню что интересное. — Насон-град. Правда, со сном это, по-моему, никак не связано. Гид объясняла, что в древности город стоял на пересечении торговых путей, и люди со всех округ тащили волоком и несли сюда свои товары на продажу. Так вот, из-за таких «наносов» и пошло название Насон. Так это или иначе, никто наверняка уже не скажет. А что в переводе означает Бишкек, язык не поворачивается сказать: мутовка для взбития кумыса. — А ещё в Вологде... И мы возвращаемся к храмам, так не похожим на одинокую стрелу мусульманской мечети. Воскресный день уже на излёте. Завтра наступит новая неделя, и будничные вечера уже в который раз предопределят нам совсем иное занятие. Разбившись оставшейся дворовой компанией на группки по двое-трое, мы опять отправимся в разные от двора стороны встречать с работы своих матерей. Неизвестно, на что будем способны мы, девяти — тринадцатилетние юнцы, притаившиеся в тёмных кронах деревьев. Но наши лёгонькие курточки всё равно скрывают обёрнутые мешковиной кухонные ножи с широкими отточенными лезвиями, предназначенными для раздел444 ки мяса. Наверное, мы вряд ли берём их с собой просто так. Однако в нашем окружении нет ни одного человека, кто бы не догадался лишний раз поблагодарить судьбу за то, что ему не пришлось проверять это на деле. 11 Каныбек Алмазович Турабеков, дед Аскера, натравил-таки на нас интернатских. Занимая в этом располагающемся неподалеку спецучреждении заметную должность, он уже давно предлагал и мне, и парням из компании подраться с его воспитанниками. С пугающей настойчивостью, под смешок, обещал привести к нам во двор джигитов пятнадцать, чтобы, видимо, перепало — так всем. Будучи наслышаны о его бойцовском самодурстве, мы всё же не знали, как относиться к таким предложениям: со скучающей улыбкой в тон его не сползающим с лица ухмылкам, с настороженностью, балансирующей на грани загнанности, или со сдержанной снисходительностью, принимая во внимание преклонный возраст Турабекова-старшего? Погромный рейд по нашему двору интернатскими уже проводился. Толпа человек в тридцать, вооружившись палками, пронеслась, круша плитку бассейна, ломая скамейки, обкладывая матом с ног до головы пенсионеров-шахматистов и обдирая с фруктовых деревьев яблоки и груши. Мелкое пакостничество, которое могло бы закончиться совсем по-другому, если бы мы вовремя не засекли их приближение и не разогнали по домам малышню, успев смотаться сами. Иначе бы досталось всем без разбора по первое число. Старика Каныя никто и не посмел осудить. Доказательств не было, а наши слова на веру приняли единицы. Семья Турабековых жила во дворе с самого заселения дома в 1956 году, и поэтому их давно считали своими. «Такого коленца, — по выражению сухопарого домкома Коцерубы, — Турабеков выкинуть не мог». С Коцерубой многие считались, к его словам зачастую относились как к последней истине. Но мы и так знали, что нам не поверят. Самовыбранного наместника жилищно-эксплуатационной конторы Коцерубу всегда раздражали костры и печение картошки, беготня, прятки и «художественное черчение» на асфальте, стреляные гильзы, «чеканбеш»-камни. А упустить возможность наперчить нам и отплатить, как он считал, той же монетой было не в правилах злопамятного активиста. Короче, нам это только обернулось боком. Не добившись 445 результата, Каный ещё пуще возжелал травли, которая на этот раз, вероятно, казалась ему всего лишь праведным возмездием. Он не ожидал, что мы осмелимся показать зубы и попытаемся противостоять вынашиваемым им планам. Теперь орудием был выбран собственный внук. Турабеков правильно рассчитал: никто из нас не ожидает подвоха от Аскера. Да тот и действительно был не при делах, еле разобравшись в случившемся только потом, когда ему всё втемяшили на пальцах. А началось всё с того, что с утра пораньше он обошёл каждого из нас, предложив разбить с его знакомыми несколько партий в бараньи костяшки. Но когда мы собрались, выяснилось, что игры не получится — силы игроков неравны. Подоспевшее с разных сторон подкрепление превосходило нас численностью раза в три. Половина наших подалась влево, в массив одноэтажек с узкими кривыми переулками и коварными лабиринтами, заканчивающимися тупиками, где почти всех переловили. А часть — направо, через сквер, по иронии судьбы — на территорию самого интерната. За его ограду при любом другом раскладе никто бы не сунулся, но за нами гнались по пятам, и выбирать не приходилось. Хорошо ещё, что Борис не любил играть в альчики. У меня своя кривая. Я бегу, задыхаясь и морщась от колик в животе, словно туда всаживает тупую иглу медсестра-практикантка. Она до того неопытна, что раз за разом, как назло, норовит попасть в одну и ту же ранку. И когда это становится невыносимо, я подбегаю к мужчине. Он киргиз, но он — взрослый. Впопыхах объясняю ему, что стряслось, и прошу проводить меня хоть немного, буквально пролёт меж улиц. А там, собрав последние силы, я, может быть, ещё успею долететь до двора, дома, квартиры на втором этаже и, сдёргивая с шеи шнурок, на котором болтается ключ, заскочить в прихожую, захлопнув за собой дверь. Но он торопится и лишь советует мне пересечь интернат. Можно подумать, сам бы я не догадался, не возвращаться же! Значит, дальше придётся чесать через Костовое поле к железнодорожному полотну, огибать пивбазу и, ещё порядком проволоча ноги, вернуться в свою часть города по мосту, что ближе к стадиону. Маршрут в голове выстраивается сам. Что ж, получается солидный крюк, но если не мешкать, то есть и преимущество. По крайней мере, во двор можно попытаться проскользнуть незамеченным. 446 Ворота заперты, и поэтому я останавливаюсь у забора с пиками. Поговаривают, что на их остриях истекала кровью не одна неуклюжая задница. Оглядываюсь. Мужчина, будто так и надо, тычет пальцем в мою сторону и что-то объясняет подбежавшим к нему преследователям. Он, конечно, взрослый, но он — киргиз. Человек восемь, прикидываю я. Других не знаю, а Анвар и Сейтек — одноклассники, ещё с самого первого звонка. Но в тот момент меня почему-то не удивляет, как они оказались в компании интернатских. Сейчас главная цель — оторваться. Через ограду я перебираюсь раньше. Это даёт мне определённую фору. Но Костовое поле, названное так потому, что здесь часто режут и разделывают баранов, — довольно внушительный открытый пустырь, затаиться на котором нужна ещё та сноровка. Мне её будто не занимать. Дальше ещё можно попробовать затеряться в штабелях строительных блоков и списанных рельсов у заброшенного депо. Но чтобы попытаться это сделать, чтобы потом добраться до Московской, 152, квартиры 5, нужно успеть преодолеть сакральное пространство — поле. Домой я тогда так и не попадаю. Не попадаю туда и в ближайшие две недели. Хотя не пойму, почему меня, уже загипсованного, нельзя было отпустить восвояси сразу же? ×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß. ÑÒÅÊÎËÜÍÛÉ ÏÎÃÐÎÌ 1 А что я скажу Борису сейчас? Что скажет он мне? Мы не виделись уже много лет, последний раз — в девяносто третьем. Тремя годами раньше мы всё же переехали в Вологду, сумев попасть в последнюю волну массовой миграции. И нам завидовал весь двор, потому что кто мог уехать — это уже сделал или непременно собирался сделать в самое ближайшее время. Всякое промедление и откладывание было подобно засасывающей трясине: чтобы хоть как-то ограничить отток русских специалистов, власти грозились ввести дичайший налог с квартирных операций, а жильё и без того уходило за половинную стоимость. Начинать новую жизнь на голом месте с грошом в кармане нечего было и думать. Тремя годами позже нас семья Бориса уехала в Австралию: штат Виктория, город Мельбурн, район Илвуд. И им уже завидовали бы все, кто мог, но по понятной причине об этом знали 447 лишь избранные единицы. Риск был настолько велик, что налёт на квартиру, просочись информация, казался бы неминуем. Избивали из-за копеек, а здесь вращалась такая сумма! На переезд Миропольские собирали всем миром. Продали дом, оставшийся в наследство от родственницы в Оше, свою трёхкомнатную квартиру, дачу с огромным садом, машину, безумно ценившееся в то время видео и много чего прочего; помогла родня из Одессы. Без родственников за границей — в США, Канаде, Израиле и Австралии, — видимо, тоже не обошлось. Борис ещё говорил, что перед ними даже стоял выбор: в какую из стран переезжать? Что ж, если вы до сих пор не в курсе, Австралия — самое то. Первые годы я пишу Борису гораздо чаще, чем он отправляет свои конверты на мой адрес в общаге или, уже позже, в Тополевом переулке. Хотя писать письма ужасно не люблю. Живое общение, пусть и по телефону, рядом не стоит с односторонним потоком строчек, которые ещё неизвестно, дойдут ли до адресата? Тем не менее пару лет после нашего переезда доходило до того, что целыми месяцами я посылал ему письма по два-три раза на неделе. Сразу после эмиграции Борис тоже отвечал довольно регулярно. Повышенная потребность в общении после столь значительного поступка, наверное, появляется у каждого. Но, может, со временем он и стал писать всё реже и реже, чтобы не касаться лишний раз того, как всё было до разъезда, и не давать затягивать себя в ностальгию. Вы сами понимаете, мне удобнее думать именно так, нежели отгонять прочь мысль, что с годами он просто забывает меня, фрунзенский двор и наше детство, проведённое вместе на улице Московской. 2 Дважды мы с ним уже созванивались. Все эти телефонные приготовления — целая эпопея. Своего аппарата у меня нет: кабель протянут «воздушкой», и дом считается нетелефонизированным, хотя, что самое непонятное, три номера в нём всётаки есть. Но все ячейки заняты, а пускать на блокиратор — нема дурных соседей. Это раньше без всякого разрешения с их стороны подсоединить могли, во Фрунзе так бывало. Но мои тополевцы и без того между собой чем только не запараллелены. Поэтому сообщаю Борису номер телефона наших с мамой друзей, семьи Козырь. Приготовления к телефонным переговорам ещё те. Сначала 448 я пишу Борису, что в определённое время с ориентиром на московский часовой пояс жду его звонка. Срок — месяца за два, лучше предупредить заранее, неизвестно, сколько будет ползти почтальон с конвертом. К тому же сами работники отделений просят выводить на посланиях слово «Австралия» не только поанглийски, но и по-русски. По их заверениям, иногда происходит путаница с Австрией. Сиамские близнецы прямо мне тоже! В таких случаях я думаю: хорошо, что Борис не переехал в Антарктиду. Ищи потом своё письмо где-то между Антарктикой и Атлантидой, размахивая квитком уведомления. Письма австралийскому другу я обычно как раз с уведомлением и отправляю. Приятно знать наверняка, получая открытку с его корявой подписью, что он — в курсе. Тогда главным становится не забыть назначенного срока и отменить все дела, даже если они чрезвычайно важны и неотложны. Не говоря уже о том, что все свои планы вынуждены свести насмарку и наши друзья, и сам Борис. Я всегда прихожу к Козырям раньше срока. Скорее всего, это ни к чему. Но чёрт его знает, как Борис высчитает временную разницу австралийского и московского поясов. Хотя, если что, ему там любой связист, что твои семечки щёлкать, растолкует. Не то что у нас: — Девушка, а когда письмо, хотя бы примерно, дойдёт? — А я почём знаю?! — Ну вообще-то дойдёт? — Ну а я почем знаю?! Ходют тут всякие. Подстраховаться — вернее будет. Поспешишь — людей насмешишь. Вот мы лучше уж потихоньку и сподобимся. Стрелки настенных ходиков, как всегда, забегают вперёд. Минут на пять точно. Значит, полчаса в запасе ещё есть. Но, может, было бы легче, если бы их не было вовсе. Чудак-человек, скажете. Так и приходил бы ко времени. Да только тяжело это, не дай Бог, конечно, потерять друзей. Одного во Фрунзе, другого на далёком материке, которого, говорят, и нет в помине, а третьего, окровавленного, в туалете пьяной вологодской дискотеки. Как там у Ремарка? Ты должен обзавестись по меньшей мере двумя десятками друзей, чтобы после в живых остался хоть кто-нибудь из них. Совсем не дословно, но не обессудьте. Эти полчаса изматывают полностью. Поминутные взгляды на часы со сфокусированным на миг в глазах вниманием перемежаются отрешённой улыбкой в предвкушении разговора и 449 полным разбродом мыслей: а как, а что, а он, а я? Приедет ли? И если да, то когда? А если нет, то почему? Да что приедет... Позвонил бы! Ведь если нет, то когда теперь? И по-новой. И проч. И ещё. Почему на память уже в третий раз, по числу ожиданий звонков за эти семь лет, опять приходит тот стекольный погром, как его окрестили в нашем дворе на Московской? 3 Мы лежим, прикрыв головы руками, на усеянном осколками ковре, под крышкой письменного стола, что остаётся, пожалуй, единственной надёжной защитой в напрочь разгромленной комнате. В два зияющих оконных проёма, ощерившихся по краям острыми зубьями стёкол, сквозь зелень ветвей и гроздья распустившихся акаций врываются камни. Разбивая вдребезги оставшиеся стёкла, они крушат спальню: створки книжного шкафа, обрамлённую фотографию бабушки. Они оставляют на полировке фортепиано растрескавшиеся вмятины, что тут же распускают по инструменту свою паутину. Такого ещё не бывало. Стекольщика вызывать, разумеется, приходилось, но чтоб погром... Самое непостижимое в те моменты, когда я приподнимаю голову: почему цела форточка на окне во двор? Её стекло лопнуло ещё несколько лет назад, но до сих пор держится в скобах одному ему известным способом. До замены никак не доходят руки. А сейчас всё расколочено, но форточке, словно заговорённой, хоть бы хны. — Орус, орус, менен сеген! — в комнату врывается полный злобы крик. — Что? Что они кричат? — спрашивает Борис, прижимаясь ко мне. — Кричат, что мы — русские. — А ещё? Что они кричат ещё? — А еще кричат про матерей. — Про наших с тобой? Про твою и мою? — продолжает допытываться он, напряжённо вглядываясь в моё лицо. — Нет, — говорю я, пригибая его голову к ковру и стараясь подобрать слова. — Про своих. Они у них ведь тоже есть. В выкрики беснующихся вклинивается звон разбиваемых окон в других квартирах, на всех трёх обстреливаемых этажах. Булыжников под ногами хватает, рассчитывать на лимит «боеприпасов» нечего. — А что они кричат про своих матерей? Киргизский в школе он ещё не проходит, но и так понятно, 450 что нам выкрикивают совсем не поздравления и не пожелания добра. Тем более что и это, и многое другое приходится слышать в свой адрес практически ежедневно. — Они жалуются, что те родили их на свет, — отвечаю я. — Эти чурки, наверное, просто не догадываются, что их слова на русский переводятся как ругательство. Несмотря на воцарившееся сумасшествие, лежать за письменным столом довольно спокойно. На улице если не камнем, то палкой или хлёстким стручком Адамова дерева тебе по лицу или по спине обязательно перепадёт, за день иногда и не раз. Теперь приходится выбирать меньшее из двух зол, и делать это день ото дня становится всё труднее. Затворничество невозможно, а стоит переступить порог родной квартиры, как за ним сразу же начинается передовая. Причём действия ведутся по принципу: семеро на одного. От такого расклада ещё более омерзительными выглядят потуги нападающих на благородство. Остановленному на улице русскому парню с видом одолжения предлагают драться «почестному, до крови, ты и я». И чтобы совсем не пасть в своих глазах и не доставить пущей радости случайным линчевателям, вызов приходится принимать. Хотя каждому попавшемуся наперёд известно: всё по-честному, без обмана — разве что у волшебника Сулеймана, а самому в лучшем случае ходить теперь с переломанным носом. Даже если и удастся справиться с первым, на смену побеждённому тут же придёт второй, четвёртый, пятый. И так до тех пор, пока тебя не собьют с ног и не запинают уже всем бравым скопом. А что делать, если один на всех и все на одного? Кодекс чести, как от ударов ни уворачивайся, соблюдать надо! *** Да что говорить! Намедни по просьбе родителей Борис отправился в сквер Тоголока Молдо навестить отдыхающую там на скамеечке бабушку и заодно захватил ей свежую газету. Никаких волнений эта просьба не вызвала, но скрученную «Правду» он так и не донёс. А вернулся домой без своих новеньких часов на пластиковом ремешке и с расквашенным носом. Зато без слёз и с газетой, которая никакой конкуренции отобранному не составила. А ведь проведать бабушку было делом всего нескольких минут: зелёный массив имени знатного акына-сказителя простирался сразу за проезжей частью улицы Калыка Акиева. 451 В прошлый раз ему досталось вообще ни за что. Били из-за девяти копеек, отложенных на фруктовый шербет, и значка, сорванного таки с футболки. После этого восьмилетний тогда пацан понял одно: если уж норовят дать в зубы за пару медяков, то к уличным приставаниям необходимо быть готовым постоянно. У тебя всегда найдётся при себе что-либо, оцениваемое в девять копеек или в другую столь же безумную сумму. Вот тебе и вся правда. Поэтому обычно я, будучи чуть старше, составляю ему компанию: сходить к прохладным боксам пивбазы за цветными пробками от чешских «Окоцимов» и «Малиновых дедов» или в булочную за присыпками. Несмотря на дневное время, я тоже чувствую себя неспокойно. Но вида не подаю; точнее, стараюсь не подавать, я — старше. Хотя почти не сомневаюсь, что блеск в глазах и частые оглядки, переходящие уже в привычку поминутно озираться, конечно, выдают меня, и иногда с головой. Но удариться в панику проще всего. А какого-либо выхода чувство затравленности не даёт. 4 Из кухни меня вырывает телефонный звонок. Сорвавшись, несусь в комнату. — Да, алло! Борис?! Борис, алло! Тьфу ты чёрт! Борис! Алло! В спешке я забываю приподнять западающий рычажок, но это, когда напоминают, всё равно ничего не даёт. Ошиблись номером. Пятилетняя Даша, дочь Козырей, ещё не разобравшись, что не туда попали, теребит ручонкой телефонный провод и, заглядывая в глаза, спрашивает: — Это Австралия говорит? — Вы ошиблись номером. — Австралия, Антоша? Австралия? Если Австралия, то пусть они нам долларов пришлют, хоть немного. Стыдно признаться, но иногда я ловлю себя на мысли, что действительно готов решиться на этот отчаянный шаг. Но не по отношению к Борису, тем более что он ещё не оперился и не встал на ноги сам, а вообще, в принципе, внутренне, для себя. Но я постараюсь этого не делать, мне и так неловко — каждый раз, рассказывая в письмах какие-то новости, как всегда, не отличающиеся особым оптимизмом, я опасаюсь: Борис ещё может подумать, что я жалуюсь и чего-то, намекая, прошу. Сытый голодного не разумеет — это точно. И маминой приятельнице по фрунзенскому музучилищу Куренкеевой, пере452 бравшейся в Германию, много проще, скитаясь по собственному дому и постоянно отдыхая в разных частях света, время от времени писать, что в трудный для России час мысленно она с нами и прекрасно понимает, как нелегко приходится в разваливающемся или в уже развалившемся государстве. А после таких выражений солидарности бесхитростно признаётся, что-де поездка в Париж на автомобиле была чересчур утомительной. Или что от преподнесённого ей местным издательством компьютера (от безделья она начала «складывать и публиковать вирши») у неё раскалывается голова. Вот позиция Бориса в этом вопросе мне импонирует. Ни разу он, как и я ему, не написал (хотя в двух «секретных» от него письмах его мама, тётя Лина, признавалась, что он переживал и поначалу порывался обратно), что их семья, скажем, стенает и клянёт на чём свет стоит скачущих тут и сям кенгуру, тщетно выглядывая в окошко белый ситец берёзонек-невест. Переехал — так переехал. Ну что делать, если обстоятельства и сама жизнь так сложились? Вот, изволь, и будь мужественен. А то переберутся, впадут в прострацию, перекушамши материальных благ, и ну давай ныть, что души у них там никто не приемлет да не понимает. А коснись практики — всё чаще на поверку блеф и пустая трескотня. 5 Наши контейнеры доставляли в Вологду-Сырьевую, видимо, ракетой. Через четыре дня нашей тряски на поезде с пересадкой в Москве он уже ждёт нас на товарной станции по месту назначения. Слухи о том, что составы формируют по направлениям, не особо с ними валдахаясь и пуская их под горку, оправданны. Диван раздавлен и сплющен. У книжных шкафов проломлены дверцы, крепления выворочены из пазов и пробиты деки. В таком духе всё, хотя упаковывать вещи нам помогали люди знающие, у которых опыт перебазирований за плечами. Скарб и общага — вот с чем остаёмся мы в течение нескольких лет, потеряв круг общения и лишившись всего того, что составляет устроенность, быт и саму прежнюю жизнь, сменить которую, наверное, ещё можно сравнительно безболезненно, когда тебе лет пять. Но никак не больше десяти и не в районе сорока, сколько, не вдаваясь в подробности, было в ту пору нашим родителям. Но зато над головой есть крыша. А вещи какие-никакие уда453 лось вывезти. Правда, не все. Но спасибо и на этом. Давка за грузовыми контейнерами была безумна. Манштейны прособирались и теперь жалеют, что не перепустили очередь, хотя они ещё никак не могут прийти к окончательному решению. Мы же томимся в ожидании больше полугода, да и выбить удаётся всего две трёхтонки. Так вроде куда больше? А начинаешь прикидывать и промерять с учётом уже давно всем известных параметров железных ящиков — откуда что берётся! Благо водитель, душа-пьяница-человек, когда дошло до погрузки, перепутал накладные и вместо второй привёз пятитонку. За деньги и за водку он соглашается не увозить её обратно, закрыв глаза на эту «досадную» оплошность. Контейнерщики теперь люди большие, не тебе, так другим обязательно пригодятся. Вот и шабашат на каждом углу, и чтоб связи с ними заводили и блат какой — очень даже предрасположены, сторицей им откликнется. А мы такому повороту тогда только рады. Значит, можно срочно забрать из комиссионки, что в ганкинском доме, сервант и тумбочку под пластинки, она ведь у нас как родная: старенькая, конечно, но испокон верой и правдой служит. Только из-за этих сплошных клубков знакомств на металлобазах многим, если средства не позволяют, контейнеров себе уже не достать. Это нам повезло опять же. Поэтому некоторые семьи в складчину покупают списанные полуразбитые вагоны, уже отслужившие своё и давно сошедшие с рельсов. Одни проводят капремонт, другие восстанавливают их почти заново. И когда таких «домиков» набирается достаточно, нанимают тепловоз. Чего только не рассказывают об этих железнодорожных караванах! Сразу за Пишпеком (станция с таким названием оставалась) их загоняют в тупик и начинают выбивать мзду по-новой. Обыскивают, перетряхивают, роются в вещах, забирая понравившееся. Нет денег — выносят часть мебели, нечем откупиться — присваивают бельё, одежду, посуду. Всю технику изымают, нагло прикрываясь инструкциями и мерами пожарной безопасности. Плитки и чугунки, положим, ещё куда ни шло, хотя теперь людям будет не на чем готовить в долгой дороге горячую еду. Но при чём здесь телевизоры и проигрыватели, стиральные машины и пылесосы? Но ничего не поделаешь, ехать дальше нужно в любом случае. А там, по следованию состава, на безлюдных степных просторах вообще творится мрак. Возрождается басмачество. 454 И опять, как в начале столетия, совершаются налёты и ограбления. Только теперь нагоняют не на быстрых скакунах, а, отдавая дань цивилизации, на легковых автомашинах с маячащими на кордоне грузовыми, чтобы было куда вынести подчистую оставшееся. Происходят вооруженные столкновения. Люди пытаются дать отпор. Но чаще всего, когда дело доходит до возможной расправы и угроза касается близких, мародёрам уступают во всём. 6 Ещё Борис пишет, что у него всё хорошо. Одно время он немного поработал и купил на полученные деньги компьютер. Садился по утрам на велик за шестьсот сорок долларов и крутил педали, зашвыривая на газоны перед домами почту. Я думал, это только в кино так обслуживают. Оказывается, нет. Борису я, конечно, верю, но кое-что мне всё-таки непонятно. Частная собственность на то и частная, чтобы по ней никто не шастал, даже почтальоны. Но если газеты шлёпнутся в лужу или в грязь? Их не то что читать, в руки брать не захочется. Однако в такие тонкости ремесла Борис не вдаётся. Поэтому я просто отвечаю ему, что тоже сумел наскрести денег на ремонт своей старой механической машинки. Недавно у меня, правда, появилась ещё одна, от сети, но она пока не фурычит. Да только пишу я уже не Борьке Миропольскому, а м-ру Шерману. И я верю, что — мистеру. Потому что когда у них отменили один из рейсов вечерней электрички (хотя она наверняка называется там как-то по-другому), железнодорожная компания развезла за свой счёт на такси всех пассажиров, даже если те ещё не успели приобрести билеты. А иначе не уехавшие на электричке австралийцы могли подать на компанию в суд исковые заявления о компенсации морального вреда. Подумать только, до чего они там дожили! Он вообще много чего интересного пишет, мой Борис. Например, я знаю, что в Сиднее только что отгрохали самое здоровенное казино, этакую игорную империю, обошедшуюся в три миллиарда долларов, пусть, может, и австралийских. Такой баснословной суммы я всё равно не понимаю. Но мне почемуто приятно, что я единственный во всей Вологде знаю об этом, словно сам иногда коротаю за игральным столом выходные, дуясь в «Оазис стад покер» и благодушно соглашаясь с тем, что при решении спорных вопросов предпочтение отдаётся клиенту, а не менеджменту заведения. Вот такая вот тайна. 455 7 Стук. Нетерпеливый, раздражённый, бередящий. Такой раздаётся, когда не работает звонок, потому что в трансформаторной будке на нашем Тополевом переулке опять перегорел фазовый переключатель и в ближайших домах вырубился свет. Поспешно вскакиваю и, запнувшись спросонья о тапочки, спешу в прихожую. Кого это там в такую рань принесло? — Кто? И начинается. Свистопляска. — Сто грамм. — Конь в пальто. — Пень в манто. — Хрен с горы. — От вас позвонить можно? — А Палыч где живёт? — Нам бы стакан, мы вернём. — Участковый. — Калорифер на газовой колонке менять. — Снять показания водосчётчика. — Крысы не беспокоят? — Как с тягой? — Бандиты. — Распишитесь, вам телеграмма. — Ведро моркови и три кочешка капусты за бутылку не возьмёте? — Иван Фёдорович Крузенштерн: человек и пароход. — Хозяйка дома? — У вас почтовый ящик горит и бельё сперли! — Кофточки пуховые недорого, не посмотрите? — Ара, беженцы из Тогжикистона, да. И такая дребедень целый день: динь-ди-лень, динь-ди-лень, динь-ди-лень! Но ничего, помаленьку мы привыкаем к новым «знакомствам», расширяем свой кругозор. Надеюсь, что со временем у нас в окружении появятся и те люди, которых мы будем сами с радостью приглашать в гости и с нетерпением ждать вместе с мамой у себя дома. 8 А маленькая Аня, забившись под стол, сердито сжимает крохотные кулачки и бубнит: — Уфоди, Баба Ёжка, уфоди. Кто-то её тогда напугал. Мы отдыхаем в Комарово, под Питером. Тогда я всего лишь 456 пятилетний, заезжий с мамой и тётей Таней Кириченко, грибник. Грибы я ненавижу и есть их отказываюсь с пугающим упорством. Зато мне, как гончей по следу, доставляет неподдельное удовольствие их собирать. Встаю часа в четыре утра, чем немало досаждаю обитателям домика на опушке, и, едва продрав глаза, зову всех в лес. Сейчас всё изменилось. Я расчухал грибы — солёные с красным сладким луком и сметаной, жареные с картошечкой, маринованные под водочку, просто крякнуть! Но совершенно перестал в них разбираться и что-либо понимать. Каждый раз, как заблудшая корова, молочу копытами по драным охвостьям палых веток и вздувшихся корней и хлюпаю по кочкам зовущих болотец, чтобы уточнить: хороший ли гриб срезал или верную дрянь? А то вообще плюну, наберу лукошко поганок да ложноножек и хожу в сомнениях до общих смотрин-переборов. Какое уж тут удовольствие, когда одна мысль свербит, вертится: как бы на потраву не соблазниться? А у лесосеки в Устье, что за Соколом, наткнулся на семерых козлят. — Маслят, наверное? — смеюсь, спрашиваю, уточняю. — Оговорились, видно? — Козлят, — консультируют. — Козёл ты этакий. — И в самом деле — козлят, — стряхиваю пелену наваждения. — Как это я мог их с маслятами перепутать? Вы уж меня простите, дуру грешную. Обознатушки вышли. — А в другой раз, к примеру, скажем, ан глядь вдругорядь — токмо молде дескать и небось. А вот! Вы не пугайтесь, это не я так думаю. Это меня так утешает дурачок из деревни, который взялся показать нам за курево грибные места. Дурак-то дурак, а с куревом прижало — соображает. — Так дык, ёлы-палы, всклянь бывалоча нальёшь, жахнешь её скрива-налево, и пиши пропало, — стараюсь ответить в тон: поддержать разговор, выразить признательность за участие и сочувствие. Не получается. Он делает вид, что не понимает. Придуривается, наверное. Дурачок, одним словом. 9 — О-о, Тоха, и ты здесь! Откуда путь держишь? Это меня так встречает в наших Веденеевских банях Юра Шпагат, коптильщик, массажист и душа-картёжник по совместительству. 457 — Да из Москвы, брат. Из неё, Белокаменной. — Ну, это бывает. «От эт’ не умирают», — добавляю я, вспоминая присказку своего кабардино-балкарского друга и сокурсника по Литинституту. Бани, конечно, не наши. Но если всех выпроваживают ровно в восемь, то мы засиживаемся и до двенадцати. — Как пар? — Отменный! Только что просушили, закидали, эвкалипта капнули — лучше не придумаешь! Веденеевка — единственное место в Вологде, где топят дровами. В других банях норовят углём, а то и вообще — газом. Многие ворчат: бассейна, как в железнодорожной, нет. А на кой ляд он сдался? Муть да венерология одна; воду, словно в отстойнике, по целым неделям не спускают. Ну не Сандуны по размаху, как в столице, так что ж с того? Парит веник. Веник парит. После — ледяной душ. Чай, минералочка в буфете. Охлаждённую водочку вместе с принесённой снедью оставляем на потом. Уже перед генеральной помывкой вкушаем, не торопясь, со знанием дела под партию в «козла», хотя я иногда предлагаю расписать «кинга» или «пульку». Никаких ставок не делаем. Это правило. Мораторий наложен и на разговоры о работе. Отдыхать — так по полной программе. Сквернословов выпроваживаем. Омрачают отдых лишь участившиеся случаи воровства: то куртку подрежут, то по карманам пройдутся. Один раз, правда, засекли. Убьют, думал. Весь берег Содимы кровью залили. — Сессию сдавал, что ли? — Сессию. — И что теперь писать будешь? — Мастер этюд задал. «Беспечное лето-98» называется. Да только зима вот уже, и не до беспечности что-то. — Ну, насчёт этого ты брось. А со временем года, подумаешь! Телегу вон тоже в морозы советуют запрягать. Напишешь «Беспечную зиму-99». Изменится разве что? — Вряд ли. К третьему заходу в парилку поспевает палтус. Золотистая корочка и дразнящий аромат. Рыбины такие большие, что пришлось делить их пополам. Иначе поместить в коптилку нечего было и думать. Сразу же закладываем на решётку второй приход. Подобное кулинарство — наша внегласная субботняя традиция. Рыбу чередуем с мясом. В подсобке, ключи от которой 458 есть только у нас, кроме коптилки, хранится мангал с наборами шампуров. Мне сварили на заказ почти такой же, только ещё и с отвинчивающимися ножками. Так что у себя в саду возле дома я частенько устраиваю пикники. Этакий маленький уголок Средней Азии в северной губернии, из расчёта: килограмм баранины на рот. Мой друг Юрий ворчит, что это — слишком много. Но я его каждый раз терпеливо убеждаю: — Пусть будет. В конце концов, излишки несложно дожарить на следующий день. Хлопоты-то приятные. И я очень дорожу такими встречами, потому что можно собрать всех тех, кого я теперь считаю своими товарищами. Будет очень обидно, если когда-нибудь выяснится, что это не так. Я выношу из сарая стол и стулья, нахлобучиваю, больше для смеха, поварской колпак и с видом заправского гурмана начинаю колдовать над мангалом. Ештэ, пэйте, сигодна ви мои госты. А когда выдаётся пауза, то шинкую папиросными ломтиками лук, помимо того, что уже томится в маринаде. Многие насаживают на шампуры целые ассорти ненужностей: дольки яблок, сердцевинки сахарных томатов. Ни к чему это, тем более что при желании всё можно подать к столу отдельно, среди зелени. И ни в коем случае не стоит снимать мясо в какую-нибудь дурацкую пластмассовую тарелочку. Его нужно непременно есть с шампура и запивать выдержанным красным вином. Только покажите мне в Вологде хоть один магазин, где бы продавали настоящие грузинские сортовые вина. 10 Во фрунзенской тени пятьдесят два градуса — это рекорд. На солнечной стороне термометр зашкаливает, он того и гляди взорвётся или взлетит на воздух. Чтобы привести себя в порядок, отпиваюсь на кухне раскалённым чаем. И хожу по квартире в прополосканной под краном простыне. Её хватает минут на десять, потом ткань превращается в скрученный заскорузлый саван. И всё начинается по новой. Такая температура, безусловно, перебор. Но градусов сорок я переношу стоически, смеясь в лицо припекающей жаре. Поэтому, наверное, понятно моё отношение к суровой лютой зиме на земле Вологодчине. О, эти дивные морозные дни! Этот лёгкий скрип под ногами и ледяные горки! Парящее клубами дыхание и румянец на щеках раскрасневшихся прохожих! А чего стоят сугробы, накрытые хрустящей скатертью со взявшейся корочкой, и рыб459 ная ловля в лунке, проделанной пешнёй с тем упоением, которое знакомо лишь истинным удильщикам Вологды-реки! Причудливые хитросплетения узоров на окнах и зеркальная гладь серебристых катков! Как я всё это ненавижу, кто бы знал! Отмороженные носы и, из-за слабого кровообращения, пальцы. Гололёд и шараханье — хрясь! — со всей дури головой о застывшую кромку наста. Пронизывающий холод и срывающиеся с крыш сумасшедшие сосульки: без остановок, к конечной. А в девятом классе, помнишь? — На лыжи, Антон, на лыжи. — Кирилл Сандрыч, да я снега-то никогда не видел! — На лыжи, Антон, я сказал, на лыжи. — Кирилл Сандрыч, да я и лыж тоже никогда не видел! И что в итоге? Пятикилометровый марш-бросок в КирикиУлиты с языком на плече и три девочки-доходяги, которых на финише умудрился обогнать даже я. А чего стоят эти зимние графики дежурств? В восьмиквартирном доме проживают преимущественно пенсионеры, превратившие уборку снега в своеобразную культовую греблю, байдарочники отдыхают. Видите ли, скинуться на дворника по пять рублей с почтового ящика в их планы не входит. И вовсе не в деньгах, как послушать, дело. А в сомнительном здоровье, которое они якобы приобретают, исходя до седьмого пота на тридцатиградусном дубаке. Расписание же очерёдности составляется доступно и просто, как и всё гениальное: смена включает столько дней, сколько человек, включая грудных младенцев и немощных стариков, проживает в той или иной квартире. Но приходится мириться и принимать навязываемые правила: маршрут вокруг дома и широкий проспект к сараям и гаражам. Это если учесть, что уже в минус двадцать пять я прекращаю функционировать напрочь. А выдаётся и пожёстче: тридцать восемь — сорок два. Какая уж здесь акклиматизация, если перепад почти в сто градусов? Тот же Кафельников ещё легко отделывается. А то все российские комментаторы прямо с ума сходят, как воспримет Евгений смену поясов, как его организм отреагирует и перестроится с зимы на лето, если он рванёт после Нового года на теннисные соревнования «Австралия-оупен». 11 Я наведывался в Бишкек позапрошлой осенью. Тогда Бориса уже и след простыл. Поднялся в бывшую квартиру, впустили 460 — ещё помнили, ведь этим людям мы поменяли свою двухкомнатную на их комнату в малосемейке и доплату в десять тысяч рублей. Помню, я ещё очень сильно переживал, что вдруг чтото сорвётся и мы не сможем переехать, завязнув в этой халабуде навсегда. Продажи квартир по-прежнему не было, и малосемейку мы просто бросили, выписавшись из неё. Прописать туда кого-нибудь из родственников, чтобы не оставлять жильё вытурившему нас государству, ни у кого даже не возникло мысли. Как нам растолковали позже в ушлой юридической конторе, занимавшейся оформлением некоторых бумаг, из-за более чем скромного метража никого бы третьего к нам всё равно не подселили. Но соверши мы вовремя фиктивный родственный обмен, уехав на Вологодчину формально от маминой двоюродной сестры или из семьи бабушкиного брата, сохранить наше временное пристанище нам, может быть, и удалось бы. Однако такими комбинациями никто из нас заниматься не умел. Голова тогда работала совершенно в ином направлении и шла кругом от других забот, которых, поверьте, и без того хватало с избытком. Пока мы перебирались, случился очередной рост цен. Да купить квартиру в Вологде было и так невозможно. О приватизации ещё слыхом не слыхивали. Только если кто-нибудь продавал свой кооператив. Но северная плата до того разнилась с фрунзенской, что мечтать об отдельной жилплощади и не приходилось. Нас просто поставили в многолетнюю очередь такими-то по счёту. Переселенцы из Киргизии стали получать статус беженцев лишь два года спустя, когда творящиеся безобразия наконец были признаны таковыми на официальном уровне. В девяностом же ни ссуд, ни льготных условий нам не полагалось. Да это, скорее всего, и не спасло бы положения. Стоимость кооперативов действительно казалась запредельной; она зашкаливала, как тот термометр на солнце. И мы сменили относительный комфорт на шебутную неустроенную общагу. Я медленно брожу по когда-то нашей квартире, и за мной, как когда-то за Димкой Дроздовым, также повсюду следуют по пятам. Правда, без напряжения, а что-то показывая и даже щебеча. В кладовочке, прямо из прихожей, по-прежнему наши взбирающиеся до самого потолка, теряющегося в темноте проёма, полки. Потолки у нас, кстати, высокие — три сорок, и в своё время нам изготовили стремянку на спецзаказ. Чужие куртки висят на изогнутых медных крючках нашей старенькой ве461 шалки. Кое-какая родная утварь разбросана по дому. Всё так и не уместилось, поэтому что-то досталось в наследство новым жильцам: трюмо, табурет, прихватки, горшки с цветами, кружка с нарисованным Емелей, который «сторожил» губки для мытья посуды. В большой комнате вместо обеденного стола на полу развалилась циновка, а в кухне протекает потолок. Раньше над нами жила соседка со смешной фамилией Туча, которая постоянно заливала нас своим размороженным холодильником. Туча уже умерла, а потолок «по привычке» всё равно протекает. В мою комнату не попасть — там разобрана постель. Зато кафель в ванной всё так же обдаёт ноги прохладой. Что говорить о том, что связано с этим местом, если здесь прошло больше двенадцати лет моей жизни? Молча выкуриваю сигарету, невпопад киваю головой на незатейливые вопросы типа «Как дела?», благодарю, прощаюсь и выхожу. Подъезд тоже хранит частичку нашего. Синяя краска на железном почтовом ящике местами облупилась, но сам он смотрится ещё хоть куда. Правда, сквозь пыльные отверстия не проглядывают газеты, и наш верный посредник с цифрой «5» уже давно не везёт службы. В самом детстве я был уверен, что в школе буду учиться на одни пятёрки, потому что у нас и ящик был «отличный», и номер квартиры с пятеркой «совпадал». Двор опустел. Фонтан давно забит. Ограда разобрана. Одной беседки нет и в помине. От второй, что ближе к моему подъезду, остались остов да крыша. Телефонные будки, ларёк печати и автомат с газировкой, стоявшие возле остановки, списаны в утиль за ветхостью, непригодностью и давностью лет. Сама остановка тоже упразднена. Теперь до транспорта нужно идти пару кварталов вправо, до улицы Логвиненко, или влево, до Белинского. А ведь это — всё тот же центр города, да что города — столицы! — если его, конечно, тоже не сместили и не перенесли. 12 Собрать дворовую компанию не удаётся, да её уже давно и нет. Андрей из углового подъезда живёт всё же отдельно. Квартиру пришлось купить, ведь у него с женой растут двое детей. Стас узнаёт с трудом и смотрит на меня снизу вверх. А каким великаном он казался нам раньше! Стас работает при каком-то институте, его родители уже вышли на пенсию. Из Турабековых я застаю дома только Аскерушку. Улыбается и говорит, что помнит. Но во двор не выходит, а пригласить в квартиру про462 сто не догадывается. Стоять на лестничной площадке, в дверном проёме, неудобно, и мы вскоре прощаемся. Он всё учится в школе, хотя я так и не понял, в каком классе. И почти, как сказал, не болеет. Лёшку Меньщикова вызвонить всё никак не удаётся. Его мать где-то отдыхает, а он сам, как рассказывают во дворе, уже который год ухаживает не то за киргизкой, не то за кореянкой. И дело полным ходом движется к свадьбе. Его за это осуждают. Цокают: нет чтобы ему русскую найти! Тётя Таня выбор сына вроде тоже не особенно одобряет, но что передавать чужие недомолвки? Если всё серьёзно, то Нихёль сейчас, наверное, уже женат. Как положит себе что-нибудь сделать, так сделает, он такой. Андрей Ганкин пропадает в командировках. Его бабушке Генриетте Исааковне уже под девяносто. И хотя всё больше она похварывает, до сих пор выходит гулять сама в своих знаменитых коричневых туфлях а-ля «Старый вальс», которые я помню ещё со времён трости Анны Семёновны, прабабушки Димки Дроздова. Уш нагоняет меня у «девятиэтажки», когда я, уже в последний перед отъездом раз, захожу к нему и опять возвращаюсь ни с чем. Но у него очень мало времени, он куда-то торопится. Поэтому мы опрокидываем по пиву, обмениваясь беглыми экскурсами, да так по-дурацки и расстаёмся. Манштейны ещё в городе, но съехали со своей квартиры. Мамырины собираются в Калининград и уже упаковывают вещи. Их Димочка вырос и очень похож на Вадю. Берта Владимировна Усецкая несколько лет назад умерла прямо на своём балконе, среди леек и цветов. А Ада Васильевна Мельникова разводит у себя на третьем этаже кур. Сейчас введена национальная валюта, сомы и тыины, и всё безумно дорого. А это кудахчущее хозяйство её всё-таки выручает. Дроздова оставляю напоследок. Вскоре у него день рождения, и я хочу дотянуть, чтобы сделать ему двойной сюрприз. Но ехать в такую даль наобум, да тем более вечером — днём у людей ведь тоже могут быть свои дела, — как-то не хочется. И района не знаю, и не застать будет обидно, мало ли какие заботы выдадутся? Поэтому через бабу Тоню уточняю Димкины планы. Нет, он может припоздниться, но как только, так сразу. Всё в узком семейном кругу, скромно и без гостей. Мы допоздна сидим с ним на кухне. Изменился, но узнаваем. Тоже ниже меня ростом. Но взгляд — прежний. Только улыбка какая-то усталая и нечастная, и лицо чуть тронуто оспой. Жанна выдаёт свою бабушку — та не сдержалась и обмол463 вилась ей в разговоре по телефону о моём приезде. И Жанна с матерью разглядывали до моего прихода альбомы со старыми фотографиями, чтобы вспомнить, какими мы все были десятилетие назад. Димку я поджидаю во дворе, он действительно сильно задерживается, и я уже начинаю опасаться, что наша встреча может не состояться. Дмитрий отчитывает меня, отчего я не предупредил его о своём приезде. Он бы нашёл возможность встретить меня в «Манасе». От аэропорта добираться действительно неудобно. Он находится в двадцати пяти километрах от города, а когда приземляется рейс Москва — Бишкек, 153-й автобус, курсирующий между «Манасом» и столицей, уже не ходит. Поговаривают, это частники-шоферилы устроили, чтобы никакого транспорта, кроме их, не было. Институт он уже закончил, но получение диплома — ставшая уже старой песня. Да и по специальности не устроиться. Димка пошёл по стопам отца, а на ТЭЦ сейчас сокращения. Жанна собирается поступать в вуз следующим летом. Росточком она вышла невысокая, хотя, конечно, выше, чем я её помню. До последнего она крепится и сидит с нами на кухне, подогревая манты. На балкон ходим курить все втроём. Жанна с нами не пьёт, а нас с Дмитрием водка что-то не забирает. С отцом и бабушкой он видится часто. Пётр Васильевич, дед, полтора года назад не перенёс очередного инфаркта. Новый муж матери, тоже Пётр, пьёт крепко и подолгу. В начале вечера они сидят с тётей Светой вместе с нами за столом, но вскоре уходят. По его виду, что он закладывает, вроде и не скажешь. Но цвет лица землистый, и что-то выдающее в нём человека, неравнодушного к спиртному, есть. Третий год он нигде не работает. Предприятие ликвидировали, и он из-под полы сбывает с рук прихваченные перед увольнением приборы. Вся эта тягомотина, от заработка к заработку, тянется без конца и края. Димка пытается искать шабашки и возится с допотопной развалюхой «Волгой», доставшейся в наследство от отчима, чтобы заняться извозом и хоть немного подкалымить. За Жанной давно ухаживает молодой человек, которого тоже зовут Петром. Об этом мне рассказывает баба Тоня. — Вот как получилось, — говорит она. — Три поколения, и у каждого — Пётр. Знала бы, сына своего лучше так назвала. Хоть на старости среди внуков жила бы. Она сдаёт с каждым годом. Волосы седые, и подводят глаза. Особенно ей уход мужа нелегко дался, думали, не оправится. 464 Дядя Женя рад меня видеть. Расспрашивает, вспоминает, делится. О переезде в Россию и говорить не приходится. И так перебиваются случайными приработками, руки-то золотые — всё умеет. Но перед матерью чувствует себя ужасно неловко из-за того, что хронически не хватает денег. При мне он укладывает в сумку двенадцатитомник Марка Твена, чтобы снести его в букинистическую скупку. Там он уже был, справлялся — обещали взять, всего за двадцать сомов. Наутро мы расстаёмся с Димкой. Он медленно провожает меня до остановки, и мы долго ждём, пока придёт нужный автобус. Годами раньше так же провожал его я. Но в другую часть города, а не в другое государство. 13 Сам Фрунзе превратился в один огромный, нескончаемый базар. Торговых рядов не видно, но они тянутся в каждом дворе, пересекают площади, вьются и петляют вдоль арыков. Но нет ни шума, ни привычной сутолоки, ни торга и прицениваний. Не услышать и обычного заманивания и похвальбы «половина мёд — половина сахар», без которых не обходится ни один уважающий себя продавец. Торг идёт по городу неспешно, сонно. Никто не хочет покупать выставленный товар, и никто не хотел бы с ним расстаться. К тому же сами продавцы знают, что вряд ли их утварь вызовет у кого-нибудь интерес. Это люди выносят на продажу всё, что может быть на это годно. Оставляют по количеству членов семей посуду и расстилают на земле или на ящиках газеты и целлофан с «лишними» чашками, вилками, блюдцами. Прочий «ненужный» скарб тоже идёт в дело. Чего здесь только не увидишь: солнцезащитные очки в давно вышедших из моды огромных оправах и разнокалиберные расчёски, потускневшие игрушки, чьи первые владельцы давно выросли и уже успели состариться; потёртые ремни и пожелтевшие фетровые шляпы, переключатели и провода, транзисторы и открывашки, сломанные зонтики, шампуры и открытки с видами хребтов Таласского Алатау и Кюнгёй — Ала-Тоо... Всё, что хранилось в домах и служило годами. Всё, что так дорого сердцу и памяти, но не нужно никому, кроме тебя. И что в лучшем случае удастся сбыть за бесценок, от чего станет ещё горше. Хотя людям и без того свойственно переоценивать то, чем они владеют. Вырученные гроши всё равно не спасут, но без них будет совсем невпроворот. И каждое утро с этими ве465 щами и вещичками мысленно прощаешься и расстаёшься. И каждый вечер, как дитя, радуешься тому, что они остались при тебе и вернулись под твой кров, но вздыхаешь, что опять так ничего и не заработал. С новым днём возвращаются эти испытания и мучения, и охватывает чувство стыда. Но люди вновь разворачивают на улицах и на скамейках перед подъездами свои домашние базарчики, пряча взгляд от прохожих и желая, чтобы скорее закончился ещё один день. И так повторяется снова и снова. Существенное уже давно распродано. Мебель сдана в комиссионки, книги — в скупки, украшения и кое-какие ценности заложены и перезаложены в расплодившиеся на волне нужды ломбарды. Люди уже не надеются, что выкупят их обратно, со временем восстановят библиотеки. Имущество и обстановка тают с каждой неделей. А вера в то, что многое, если не всё, когда-нибудь вернётся, потеряна уже давно и даже у самых хорохорящихся оптимистов — призрачна и эфемерна. Целый день я без устали брожу по городу. Но надо торопиться. После восьми вечера здесь никому не открывают: будь ты хоть Дедом Морозом, хоть президентом Аскаром Акаевым. Навещаю знакомых, как заведённая кукла повторяя уже навязшую в зубах историю о том, как мы там. О проблемах стараюсь не говорить. Их хватает, но они несколько иного плана. — В Междуреченском районе у нас одно время ели комбикорма. — Зато там никто никогда не называл вас захватчиками. Захожу к Борису. Захожу — громко сказано. Долго объясняю через цепочку, кто я есть, за что мне на полминуты разрешается заглянуть в проём чуть приоткрытой двери. Самому тоже пора спешить. Надо успеть до темени добраться к родственникам, у которых остановился: доехать до магазина «Кашка-Суу» и пересечь парк так называемой Дружбы. Чем раньше, тем лучше. Миролюбивое название зелёного массива уже давно не даёт гарантий спокойствия. 14 Я вот ещё что думаю. Если мы когда с Борисом и увидимся, в чём ни он, ни даже я пока вообще-то не сомневаемся, мне будет немного легче. Свои фотографии Борис высылает болееменее регулярно. Всего их у меня семь: во младенчестве, вместе со мной, на дереве, у океана с друзьями, на провисающем поперечном шпагате, раскинутом на стульях, у какого-то баобаба и 466 с друзьями теми же, но без природы. А мне ему и послать-то нечего. И фотографируюсь редко — разве что на документы, и получаюсь не очень. Надо хоть специально щёлкнуться да выслать. А то Борис увидит — не узнает. Он мне в этот раз по телефону уж и так признался, что если бы не знал, что на том конце провода я болтаюсь, ни в жизнь, что это — я, не то что не поверил, просто бы не понял. Такие дела. Я-то его, конечно, ещё узнаю, несмотря на появившийся акцент: во-первых, одесский, во-вторых, заокеанский. Насчёт второго понятно, но откуда взялась Одесса, сказать трудно. Он там был-то всего ничего. А вот его почерк я буду отличать, кажется, всегда, хоть полвека пройди. В английском его хромописание, может, и выправится, а с русским — чтой-то я сомневаюсь. Да вы бы и сами нахмурили брови от напряжения, пытаясь разобраться в этой дикой пляске чёрточек и загогулин, вид которых можно передать, лишь приведя здесь ксерокопию его с детства знакомых мне каракулей. К тому же русский ему вряд ли теперь так уж нужен. В его компании, конечно, много выходцев из Союза, и среди них есть те же самые киргизы. Но английский берёт своё, и тётя Лина даже признаётся, что ряд слов ими забывается или уже забыт напрочь и вспоминать их, в случае редкой необходимости, приходится чуть ли не всей семьёй. Знаете, письма — это хорошо, но телефонный звонок — действительно совсем другое. Услышать живой голос, воспринять его как всполох среди пустоты в общении — это уже очень много. Разговор по проводам — как для страждущего глоток воды, тем более если связь не обрывается: сумбурная вереница того, что хотел сказать, успевает оформиться. Слов произносится будто и меньше, но насколько весомее они становятся без этого тарахтения, захлёбывания и плевков от скороговорки, словно самое главное — отбарабанить на одном дыхании без запинок: «Ехал Грека через реку». И чем осмысленнее становится произносимое, тем тяжелее оторваться от трубки. — Ты меня что — плохо слышишь? — спрашивает он. Он тоже, видимо, взволнован. Он тоже по мне, надеюсь, соскучился. Но по сравнению со мной он — просто спокойствие. До такой степени, что я начинаю казаться себе неуместно сентиментальным, телячьи нежности. — Почему? — продолжаю кричать я и, продолжая кричать, по инерции крича, спрашиваю: — С чего ты взял? Ответ знаю и сам. Просто нужно успокоиться и привыкнуть 467 к нормальной связи. А этого-то я сделать и не в состоянии. Не могу взять в толк, почему за двадцать три — или сколько их там? — тысячи километров слышимость как из соседней комнаты. А к приятелям, если разрешает позвонить соседка, приходится продираться с глухим хрипением и клёкотом в телефонных линиях, сквозь безразличные «в данный момент категория абонента недоступна», будто трубку снимают не через несколько троллейбусных остановок, а через целые временные пласты откуда-то взявшихся на пути лет. Как у меня дела? Ну что ему на это сказать? Человеку, который сидит себе в солнечной Австралии и из глубины какой-нибудь бухточки смотрит в даль Бассова пролива. Всё идёт, Борис. Что я, как ты? Да, занятия карате он не оставил, но поступать в Институт спорта — австралийский аналог нашего физвоса — передумал. Что-нибудь связанное с медициной — другое дело. Другое, соглашаюсь я. Там это почётная и уважаемая профессия. Как со спортом у меня, что мой теннис? Сказать как есть — только разбередить себя. Семь с половиной лет упорных тренировок по пять-шесть часов в день — коту под хвост. Как там говорят? Мастерство не пропьёшь? Может быть. Но перерыв длится уже десятый год, а когда мы переехали, такой секции в нашем областном центре не было вовсе. — У вас там нет теннисных спорткомплексов? — удивляется Борис. Я мнусь с ответом. Со спорткомплексом — это он, конечно, загнул. Сейчас, правда, занятия по теннису на одном стадионе ведутся. Да только вместо положенных двух игроков по корту скачут восемь, занимая парами оба квадрата и коридоры. А ещё чаще площадки вообще сдаются предприимчивыми тренерами за сумасшедшие деньги, хотя и с нас тоже берётся месячная плата за приобщение к престижному виду спорта. Да в том-то и загвоздка, что мне не до престижности, а форму бы восстановить. Но предпочтение по финансовым соображениям отдают разовым до блажи: им без тенниса сейчас — ни в какие ворота, ведь неумение держать ракетку — чуть ли не признак дурного тона у новороссов. — Всё как-то, знаешь, не получается, Борис. — Зря, — говорит он. — Это большие деньги. — Ага, — соглашаюсь я. — И на Уимблдоне ты бы мог смотреть меня по телевизору, а я бы тебе подмигивал после каждой выигранной подачи. 468 — Почему на Уимблдоне? — спрашивает Борис. — Лучше бы ты приезжал от российской команды на «Австралию-оупен», и мы бы встречались. Но это и я, и он, не подумавши, чересчур завышаем планку. У Бориса в плане соревнований всё в порядке. Занял третье место по Мельбурну, переколотив в своей весовой категории тучу претендентов на призовые места. Так что уж если кому куда и ехать, так это ему. Но раз основное — медицина, своего клуба у Бориса не будет. Что ж, будет своя клиника. Я признаюсь, что загнал скейт, который мы, отдавая, скорее, дань повальной моде, чем желаниям, выбирали вместе на мой день рождения; скейт был ценен больше как память, потому что кататься на нём я всё равно толком никогда не умел. Борис говорит, что свой он оставил ещё при переезде, хотя ходить пешком потихоньку уже отучается. Через неделю получит права, но втихаря давненько осваивает «Тойоту Короллу». 15 Семейный бюджет приехать ему позволяет. Но сам он ещё не работает, а родители копят деньги на особняк, и поэтому с визитом пока придётся повременить. Я делаю вид, что всё понимаю. Поездка — это всего лишь толика от приобретения внушительной собственности. Но раз копейка бережёт рубль, то уж доллар там у них без цента никуда. А потом я думаю, что, наверное, и подавно не имею права судить о том, куда кому ехать. Только в одну сторону билет из Австралии стоит больше тысячи американских долларов. Борис почти каждый раз настоятельно советует учить английский. И я понимаю, что он прав. Но всё не учу. Молодец, говорят мне те, кто его тоже не знает. Всё равно никуда отсюда не вырвешься, к чему мудохаться? А появится возможность, так там за «бай Илону Давыдову» или «Ешко» и засядешь. Произношение будет ни к чёрту, зато какие азы! Но я опять понимаю, что она не появится прежде, чем я засяду. Ох уж мне эта постоянно путающаяся под ногами причинно-следственная связь. Да и почему обязательно вырваться? Ну уж не для того же его зубрить, чтоб Мопассана в подлиннике читать! — парируют те же. И с этим я соглашаюсь. Правда, Мопассан писал по-французски. Но приятнее мне то, что мать Бориса, как я узнаю потом от своей мамы, благодарна ей за меня и мне за то, что я научил — когда успел? — её сына заботиться и думать о близких, как ни 469 высокопарно это звучит. Получая плитку шоколада, делить её на всех, включая даже самого подарившего. Угощая, пусть чемто последним, быть готовым к тому, что не последует отказа. Не задерживаться и возвращаться из школы или после мелких поручений одна нога там, другая здесь. Потому что, если иначе, будут волноваться, мало ли что — особенно в последнее время, и лучше отпроситься потом. А ещё мне были признательны за те подарки, которые научился делать Борис, понявший, что приятно не только получать их. Сначала я поступал просто: в преддверии какого-нибудь праздника брал его в обход по магазинам с собой. Затем это вошло в своеобразную традицию, и мы уже искали, советуясь, подходящие презенты вместе. Его одного могли обмануть, обсчитав на сэкономленные по крохам полтинники и жёлтые рубли. Помню, однажды нас приняли за братьев, и продавец цветов долго навязывал нашей общей, как считал, маме свои, нам ненужные, поздравления. Причём тщетно пытался их втюхать вместо сдачи с пятёрки, что мы выложили за два букета. Так как у меня всё-таки дела? — Да нормально! — опять кричу я. — В следующий вторник, через неделю, в Москву, на сессию. Наконец-то четвёртый курс! Он рад — помнит из писем, что до второго я добирался уже четыре раза, а тут на тебе — уже четверокурсник! — Когда книжку вышлешь? — Вышлю, вышлю, — неопределённо обещаю я. Вот напишу, чтоб не стыдно что высылать было, и вышлю, а не то как с фотографией получится. Борис знает о моей рукописи, просит почитать, как только она будет закончена. И предлагает переслать её по Интернету или скинуть по какой-то электронной почте. Причём расходы благородно берёт на себя. Но беда в том, что все эти компьютерные технологии для меня — глухой угол; и рад бы, да не могу. — Зря, — вновь корит меня Борис. — Это очень удобно. Я и не думаю перечить. Но вот такая дурацкая у меня манера: не разбираться в том, чего сам пока не имею. А появится что, так там тихой сапой и кумекаю. А тот же Интернет — штука, конечно, удобная, кто же спорит? Борис его посредством регулярно то со Светкой, то с Сашкой Мельниковым связывается. Видать, у них тоже доступ к сети имеется. Надо же, Борис помнит нашу игру на лайбе! А ведь ему тогда было всего года четыре. Я сажал его на багажник своего 470 «Школьника» (или уже «Салюта»?), и мы украдкой уезжали в какие-нибудь далёкие городские районы, куда, естественно, нас не отпускали по малолетству. Чтобы велосипедные путешествия были ещё интереснее, мы давали этим районам названия тех стран мира, которые были на слуху, вгоняя тем самым недоумевающих обитателей двора в состояние полного любопытства. Так мы побывали во Франции, Англии, США и где-то — гдето ещё, всего и не упомнишь. В Австралии были тоже. Мне тогда не ставили пятёрок по географии, но я знал, что этот материк — дальше всех. Находился он по нашим масштабам, как сейчас помню, на ВДНХ, ближе к горам, и мы туда очень долго не могли собраться. В конце концов, семья Бориса тоже оформляла все надлежащие документы и справки и ждала очереди чуть ли не целых три года. — Ты меня ещё часто оставлял в этих странах, — говорит Борис. — Этого я тебе, шучу, никогда не забуду. Действительно, так бывало. Иногда, повздорив, я ссаживал его за тридевять земель от нашего двора на Московской и делал вид, что вот-вот уеду. И никогда не уезжал. — Но ведь в Австралии-то я тебя с багажника не спускал, — говорю я, хотя наверняка этого не помню. 16 — Ести хотчу. Это на Масленицу у лотка с выпечкой стоит маленькая девочка и, тыча в расстегай с нельмой, клянчит у отца. «Ну, — думаю, — папаша сейчас исправит». Куда там! Ещё похлеще: — Дома исти будешь. И так в Вологде — сплошь и рядом. В автобус нужно непременно сести. Варенье получается только из смороды. Пироги собираются испекти или в лучшем случае испекчь. В лес ходят исключительно за грибам, в магазине торгуют курам. Сыпучий сахар не более чем песок; баклажаны — синенькие. Младенцев укладывают в зыбки. На кладбище ездят хоронять. Стены щикатурят, с делами справляются по намеченному планту. А говоря об отсутствующих, неизменно вворачивают: ёйное, ихнее, евонное... Зверь же (медведь, допустим) статья вообще особая: он хронически ривит. — Человек ревёт, а зверь — он ведь не человек? — Не человек, — автоматически киваю я, не подозревая, что попался на удочку. 471 — Вот потому и ривит. И удивляешься этому языку, и постигаешь его, и передёргиваешься иногда от чудного, резкого слуху произношения. Вроде и твой он, а в то же время точно обернётся на свой лад, на вологодский. И все-то его, кто здесь живёт, понимают. А ты стоишь как дурак — и глазами только и знай, что хлоп-хлоп, моргморг. И опять за постижение принимаешься, ловишь необычные формы, чтобы наперёд знать, о чём речь зайти может, и белым груздем, когда зайдёт, не выглядеть. Зато все надписи на русском и в магазинах продавцы не разговаривают с тобой демонстративно на чужом языке. Ну а что холодно и зимой за минус сорок лютует — так доху потеплее купить нужно. Тем более, что это — бувает. От эт’ не умирают. Статистика. А как в девяносто третьем Борька сетует на школьное обучение! Мало того, что с языком этим киргизским не развезёшься, так ещё и произведения местных писателей вовсю гонят и тексты других авторов, если где о киргизах сказано, в пример приводят: вот мы какие, нашу культуру ещё Пришвин в «Чёрном арабе» воспевал! Борька показывает мне свою тетрадку по литературе, куда заставляют делать выписки особенно замечательных эпизодов, как называет эти отрывки учительница. — А это уже я сам постарался, — с гордостью говорит Борис, переворачивая несколько страниц. — Мне, правда, папа подсказал. Красной пастой сделана выписка из купринского «Молоха»: «На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею — всадника на маленьком белом киргизе». — Только мне за это двойку влепили и родителей вызвали, — признаётся Борис. — Я — училке: вот, говорю, про киргизов ещё в прошлом веке писали, они всадникам за дамами передвигаться помогали. А она, стерва, гнёт, что я всё специально перевираю и с ног на голову ставлю, откопал неизвестно где какую-то неточность или опечатку и издеваюсь. А я здесь и ни при чём, вон в книге чёрным арабом по белому киргизу написано. Мы смеёмся. Борька доволен, что ему удалось тогда «включить дурака» и всё сошло с рук. Ну, не считая двойки и вызова. — А про Австралию тоже пишут? — вдруг спрашивает он. Да с таким неумело скрываемым волнением, что становится 472 понятно, как ему будет обидно, если это окажется не так. Примерные сроки переезда уже известны, до него осталось всего несколько месяцев. — Ясное дело, пишут, — с уверенностью говорю я. — И пишут, и снимают, и чего только не делают. Но в тот момент ничего конкретного привести ему в подтверждение, к сожалению, не могу, что успокаивает Бориса лишь отчасти. Зато потом, ещё в период Борькиного пребывания во Фрунзе-Бишкеке, я нарочно отыскиваю для него «австралийские отрывки» и привожу их ему в своих письмах. В кинословаре я натыкаюсь на фильм с итальянским актёром Альберто Сорди. У картины безумно длинное название, но я переписываю его полностью. Оно до того затянуто, что просто не может сойти за выдумку: «Красивый, честный эмигрант в Австралии хотел бы жениться на не состоявшей ранее в браке соотечественнице». — Это прямо про меня, — отвечает мне Борька. — Лет через десять-пятнадцать я займусь тем же. А вот ещё нахожу у Григория Бакланова в «Пяди земли»: «Гденибудь в Австралии вернулся сейчас мой ровесник с работы, ужинает у себя дома. Война там, в России, за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко, беспокоят каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои». Эти баклановские строки я привожу несколько лет спустя, уже в российско-австралийском послании. И, может быть, поэтому они кажутся мне такими верными и близкими, хотя в самом произведении речь идёт совсем о другом. И ещё один абзац я аккуратно, лишь с небольшими пропусками, переписываю из этой же повести: «А под деревьями стояли парочки и, затихнув, ждали, пока мимо них пройдут... Их нет теперь, этих улиц. После... отстроят новый город, родятся в нём люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, — того города уже нет. Он погиб... и живёт только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид зданий, они не передают то, что знали в нём и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовётся то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснёшься воспоминания. Очевидно, с каждым поколением навсег473 да уходит неповторимая жизнь. И с каждым новым поколением рождается новая». «Боже мой, как верно, — думаю я. — И про детство, и про школу, и про первую любовь, про фотографии, воспоминания и жизнь, уходящую и рождающуюся». И я знаю, что эти строки, несмотря ни на что, написаны и про наш город, про наше детство, про нашу в этом детстве жизнь. 17 Мы разговариваем с Борисом по телефону целых двадцать три минуты — в среднем по минуте на каждую тысячу километров, что разделяют нас; часы висят у меня перед глазами, и я невольно замечаю бег стрелок. Трижды прерываю и его, и себя, опасаясь, что это — слишком дорого. Но Борис терпеливо успокаивает меня, уверяя, что уж это-то ему по карману, это уж он может себе позволить. Мне приятно слышать подобное, потому что позволить это себе я, увы, суммой что-то никак не выйду. Сейчас опять взлетели международные тарифы, и минута связи с далёким материком обходится рублей в сорок, если не больше. Оплатить этот разговор не хватило бы даже всей моей нынешней зарплаты. Хотя ни той, ни нашей национальными валютами он измеряться, разумеется, не может. В четвёртый раз я все же убеждаю его прощаться. — Лучше уж тогда звони не раз в три года, а два раза в год, но короче, — говорю ему я. — Ведь этот номер — номер наших приятелей, и им всегда можно воспользоваться. Борис соглашается. И хорошо, что так. Такое длительное соединение в самом деле накладно. Зачем превращать наши телефонные встречи в ощутимые траты? Полгода — в самый раз. Деньги потратятся те же, но уж если не уследим за изменениями внешности друг друга, то хотя бы я за переменами его голоса, набирающего акцент, и за смещениями скособоченных ударений — точно. Двадцать три минуты, а если разобраться, что мы успеваем сообщить друг другу? Да и что можем сказать, когда прошло уже больше половины десятилетия с нашей последней встречи? То, повседневное, уже забылось. Общие темы — воспоминания, двор, школа №28, в которой мы вместе проучились его первый и мой пятый (через четвёртый тогда отчего-то было принято «перепрыгивать») классы, — почти канули, оставшись в памяти милыми сердцу обрывками и полудетскими образами. 474 Как выразить, что чувствую я, разговаривая с моим Борькой, прекрасно зная, что мне звонит м-р? Смотрю на нашу единственную карточку, сделанную в каком-то чопорном салоне впопыхах за день до разъезда. Спасибо тёте Лине, это она нас повела фотографироваться, а то мы бы, вероятно, так и не спохватились, долго жалея потом, что не догадались о такой, казалось бы, простой вещи. У меня всклокоченные волосы, я стою, положа Борису руки на плечи. Я выше, и фотограф — что он понимает? — решил: такая композиция как нельзя лучше; ни хрена не понимает. У Бориса несколько смущённое выражение лица и футболка, заляпанная малиновыми пятнами, вправленными ради аккуратности в штаны. На футболке пляшет весёлый заяц, которого на разных уровнях обрамляют два дурацких одинаковых слога. Я-то прекрасно понимаю, что я сейчас — какой есть. А вот Борька старше на семь без малого лет никак не становится. О чём он спрашивает меня ещё? Мама, как она? Спасибо. Болела, но сейчас — тьфу-тьфу-тьфу. Да, большая радость. На зиму я припас картошки, затарив ею два отсека кессона и бочонок, что стоит там же, в этом железном бункере, врытом в холодную землю под сараем. Её я притащил с поля Прилуцкого монастыря — разрешили копать всем кому не лень; сами-то до порчи погоды убрать всё равно не успевали. Мне было не лень до такой степени, что за две ходки я умудрился приволочь на горбу сто шестьдесят килограммов (будто точнёхонько отмеривал кто), пожалуй, впервые поняв, как пот действительно может катиться градом. Пришлось торопиться. Моросили дожди, и желающих была тьма. Возвращаясь во второй раз, я, правда, не смог забраться в автобус — рюкзак не дал оторваться от скамьи остановки, не хватило сил. Добрался, что со мной станется? Зато бесплатно. Внутри картошки — сухая гниль, точащая змейкой насквозь. Но бесплатно. Хотя потребительская ценность, как ни чисти, половинная, и то хорошо, ладушки. Только ещё позвонки вот выскочили, недавно обратно в хребет вправленные, пять сеансов в бане, по знакомству, но за плату. Так что коль разобраться, какое уж тут — на шару? Грибов ещё набрали. Грибов много: и на жарку, и на варку, и на мариновку, и на соленьице, особенно кубарей да сухарок, которые на Севере величают валуями и путниками. В народе говорят: грибов много — год голодный. Природа, выходит, сама помогает. А ещё говорят, что грибы — к гробам, тоже пословица. Но я такому фольклору не верю, ну-ка его куда подальше, такое устное народное творчество. 475 Это я всё потому, что Борис спрашивает: действительно ли в России голод? Ну что я ему буду объяснять по телефону, и так здесь со своим кессоном влез. Вдруг ещё не приедет? У многих там, за океаном, похоже, и без того представление о нашей стране сводится к хаосу, свистопляске, косолапящим по улицам трафаретным медведям без привязи и стереотипным казакам с шашками наголо, что рыщут по градам и весям, хитро и пьяно щерясь в свои всклокоченные бороды. 18 Что я тебе буду говорить, Борис? Я лучше помолчу чутьчуть. А потом напомню о себе, попрошу выкраивать время и изредка писать, не забывая о том, что их семью здесь любят и ждут, передам поклон от мамы. На большее я всё равно уже не способен. Этих долгих минут вот так достаточно, чтобы я начал впадать в ипохондрию и тоску; у кого-то она, говорят, зелёная, у меня временами — австралийская. Если не выходить из дома, то подавленное состояние длится дня полтора, хотя, конечно, можно было бы написать, что оно тянется, скажем, три месяца, в надежде выбить у сердобольного читателя случайную скупую слезу. И когда мне не нужно бежать выбивать из какой-нибудь газетёнки гонорар или вообще вытаскивать себя в город, я думаю о том, как хорошо, что водка у нас стоит не двадцать долларов, как там. — Зато я буду уверен в её качестве, — недоумённо парирует Борис, когда я, в порядке общего развития, интересуюсь ценами на спиртное и охаю от баснословной суммы. Винопитие в момент разговора занимает меня меньше всего, но надо же о чём-то говорить, если мне в который раз втолковывают, что звонок — продолжается. — Да и я травиться палевом не охотник, — оправдываюсь я. Я всё жду, когда у меня наступит эмоциональный встряс: сяду учить английский, писать, добиваться, утверждаться и проч. Выводить: «На Австралию, Боре. Забери меня отседова, милый мой друг детства» — не собираюсь. А иногда такое упадническое настроение нахлынет, что кажется — впору. У него впереди ещё три полных учебных года в институте. Значит, столько же лет нечего будет и думать о нашей встрече. Он сам неоднократно писал, что внушительный перерыв светит лишь между окончанием двенадцатого класса школы и поступлением в вуз. Что ж, перерыв уже прошёл. А потом на сме476 ну придут, возможно, аспирантура, работа, карьера, жена и дети. Дела, отвлекающие тебя на ближайшие сезоны. Жизнь, которая не делась никуда и сейчас. Впрочем, что об этом думать теперь. Следующий приступ австралийской тоски будет ещё довольно нескоро. Во всяком случае, никак не раньше, чем через шесть месяцев, да и то если он позвонит. А за это время мне предстоит переделать уйму дел. В конце концов, я должен успеть сфотографироваться. Или снять для отправки копию нашей общей карточки. У него, конечно, есть такая же. Но я до сих пор не знаю, что будет лучше для нас обоих. У меня есть ещё одна просьба. Будь добр, никогда не спрашивай меня о погоде. Потому что если последует такой вопрос, то я сразу пойму, что, по большому счёту, нам уже не о чем говорить. Знаю я, как это происходит: «Что? Я не расслышал. Ах, “кстати”. А что кстати? Погода как у нас, кстати? Ну, раз уж если это так кстати, то погода у нас, кстати, не ахти». Но я убеждён, что так он никогда не поступит. Потому что... Как там у Чингиза Айтматова в «Тавре Кассандры»: «Всё-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира?» На окраине мира, где же им быть ещё? А вот с самим Айтматовым не всё так просто, и отношение к нему людей, переживших те события в Киргизии-Кыргызстане, — сложное. С одной стороны, писатель, деятель, академик и лауреат; «Материнское поле», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «И дольше века длится день», «Плаха». А с другой — как он ратовал за это давшееся такой дорогой ценой коварное свободолюбие и за тот же киргизский язык, чтобы его признали первостатейным. — А сам колесит по дипломатической линии где-то в Европе, — вспоминаю я слова дяди Коли-шахматиста, — вроде послом в Люксембурге. И детей своих почему-то не в Киргизии обучаться оставил, а в каких-то зарубежных колледжах их пребывание оплачивает. Так ли это, нет, кто его знает? Эта тема, естественно, никем не поднимается, хотя слухи ходят и более конкретные и чаще всего упоминают Лондон. Но чего ж там своих детей не обучать, когда писатель — с мировым именем? А в своё время в шестидесятых, а может быть, и позже, он жил в доме писателей на нечётной стороне улицы Московской, чуть правее наискосок, через дорогу от нашего двора. И как этим 477 гордились наши старожилы! Только и у многих из них теперь всё равно остался от происшедшего какой-то осадок, муторный, горький. Но не судите, да не судимы, наверное, будете. — А помнишь? — Помню, Борис. Конечно, помню. Да и что мне ещё остаётся? Только бы у тебя хватило мудрости. 19 А через час, когда темень окутывает наш двор, превращая его в сакральный мирок, мы выскальзываем из беседки и расходимся по домам. В вечернее время каждая ветвь и тень служат нам защитой и оберегом. Мы прощаемся до завтрашнего дня, даже не подозревая, что скоро наступит черёд думать об этой повседневности с такой грустью и теплотой. Ну вот, я опять разбередил себя, хотя и давал слово не впадать в прострацию. Теперь-то мы с Борисом оба понимаем, что, делая какой-либо выбор, необходимо быть готовым к тому, что он изменит всю твою дальнейшую жизнь. Но всегда важно, чтобы в тот момент, когда этот выбор делается, с тобой рядом был человек, который бы смог объяснить, что к чему. Такими людьми для нас, двенадцати-тринадцатилетних парней, были наши родители. Но до прописной истины ценить то, что имеем, мы должны были дойти сами. К сожалению, порой это сложно сделать даже теперь, несмотря на пройденное. Впрочем, что я вам об этом толкую? Сами всё знаете. А если нет, то я вам не помощник, потому что таковых здесь, наверное, не может быть вовсе. А сейчас, извините, я собираюсь написать Борису письмо. Скоро у него день рождения. Так что если не мешкать, мой конверт дойдёт в аккурат, пусть даже и со значительными почтовыми проволочками. Правда, в тот день, когда ему исполнится двадцать, я невольно подумаю о том, что теперь мы не виделись уже не шесть с лишним, а семь с лишним лет. А в голове на пару дней опять засядет вопрос: что мы сможем сказать друг другу при встрече? Ведь пока я по-прежнему надеюсь, что когда-нибудь она всё-таки состоится. 478 СОДЕРЖАНИЕ Ирина Антанасиевич. K ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ЮГОСЛАВИИ ............................. 5 Геннадий Брагинский. КАК Я В ГАМБУРГЕ УЧИЛ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ....................................................................................... 11 Галина Грановская. БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ ............................. 21 Лидия Григорьева. РУССКИЙ АКЦЕНТ ............................................ 69 Артэм Григоренц. ПО ДОРОГЕ ЧЕРЕЗ КАБАРДУ ................ 77 Ольга Данилевская. НАУЧНЫЙ ПУТЬ ГЕНЕТИКА Е.В. АНАНЬЕВА ............................................................... 85 Тамара Жирмунская. «ПРИВЕЗИКА В ПАРИЖ МНЕ ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР…» ...................................................... 104 Павел Иванов. ЧЕЛОВЕК С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕМ! ...................................... 112 Сергей Комов. ПОПУТЧИЦА .................................................................... 128 Александр Куланов. РУССКИЕ ЖЁНЫ ЯПОНСКИХ МУЖЕЙ .............................................................................. 133 Евгений Курдаков. В ДОМЕ С ОКНАМИ НА ИРТЫШ ...... 146 Климент Первушин. АЛТАЙСКИЕ БЫЛИ ................................ 174 Виктор Подрезов. ГЕРОЙ ФРОНТА .................................................. 192 Геннадий Рудягин. МОЯ ДОРОГАЯ ЛЮ ВИ ............................... 221 Юрий Сапожков. АНДРЕЙ МАКИН: «МЫ ВСЕ ПИШЕМ ИСТОРИЮ ДУХА» ................................. 291 Фёдор Скрипников. КОВЧЕГ НОЯ ....................................................... 306 Елтай Турлыбаев. ЗЕНИТЧИЦЫ ........................................................ 320 Тарас Фисанович. ТЁТКА ............................................................................. 339 Фёдор Ульбинский. «Я ВОИН БЫЛ, ЦЕНИЛ МЕНЯ КОМБАТ...» ................................................................. 348 Светлана Шувалова. ЗАПИСКИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВКИ ............................................ 361 Антон Янковский. АВСТРАЛИЙСКИЙ СВЯЗНОЙ ........... 377 479 ÀÍÒÎËÎÃÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ òîì ñåäüìîé, êíèãà âòîðàÿ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ Оригинал-макет Ольга Комиссарова Корректор Анастасия Черепанова Ñäàíî â íàáîð 01.09.2009 Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.12.2009 Ôîðìàò 84õ108/32. Ãàðíèòóðà «Ìèíüîí». Òèðàæ 2000 ýêç. Çàêàç Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 30 Èçäàòåëüñòâî «Ñåðåáðÿíûå íèòè» 129224 Ìîñêâà, Âàðñîíîôüåâñêèé ïåð., 8 Îòïå÷àòàíî â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåííûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÀÎ «Äîì ïå÷àòè ÂßÒÊÀ» 610033, ã. Êèðîâ, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 122