…спускаюсь вниз с крыши сарая, оставаясь еще дикарем. В
advertisement
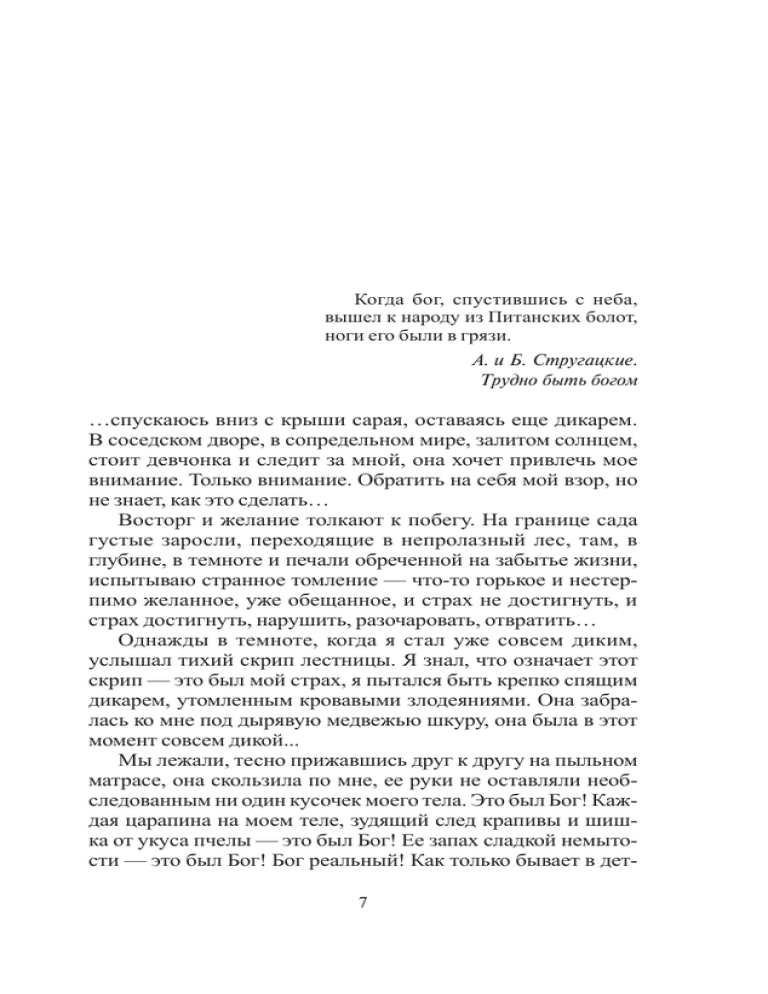
Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи. А. и Б. Стругацкие.­ Трудно быть богом …спускаюсь вниз с крыши сарая, оставаясь еще дикарем. В соседском дворе, в сопредельном мире, залитом солнцем, стоит девчонка и следит за мной, она хочет привлечь мое внимание. Только внимание. Обратить на себя мой взор, но не знает, как это сделать… Восторг и желание толкают к побегу. На границе сада густые заросли, переходящие в непролазный лес, там, в глубине, в темноте и печали обреченной на забытье жизни, испытываю странное томление — что-то горькое и нестерпимо желанное, уже обещанное, и страх не достигнуть, и страх достигнуть, нарушить, разочаровать, отвратить… Однажды в темноте, когда я стал уже совсем диким, услышал тихий скрип лестницы. Я знал, что означает этот скрип — это был мой страх, я пытался быть крепко спящим дикарем, утомленным кровавыми злодеяниями. Она забралась ко мне под дырявую медвежью шкуру, она была в этот момент совсем дикой... Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу на пыльном матрасе, она скользила по мне, ее руки не оставляли необследованным ни один кусочек моего тела. Это был Бог! Каждая царапина на моем теле, зудящий след крапивы и шишка от укуса пчелы — это был Бог! Ее запах сладкой немытости — это был Бог! Бог реальный! Как только бывает в дет7 стве! Осязаемый! Позволительный! Его вместилище — под крышей сарая. Как же мы помещались на этом узком матрасе, Господи, Боже мой!.. Мы спустились с ней по скрипучей лестнице во двор, в ночную тишину, и с предельной раскрытостью демонстрировали друг другу, как мы писаем, мы изучали устройство наших тел, и было в этом тоже веление Божье... Он вмещал в себя все наши игры, нашу проказливость и стыдливость, первую грусть и первобытное бесстыдство. В каждом последующем дне, в каждом движении, в каждой книжке, в каждом фильме и в каждой песне был Он. В заглядывании через щелку в женскую баню, в купании в осенней ледяной воде, в ненасытности, в цветах, в глубине леса, уединенности и растворении в других — все был Он. Он проявлял себя в каждом из нас и вбирал нас в себя. Мир был необозрим и мал, мир был пыльным закутком на крыше сарая, где мы говорили о самом сокровенном, где пытались возвыситься друг перед другом, стать яростными и звероподобными, унизиться до раболепия, до полной покорности. И в эти моменты даже шевеление скота внизу, вздохи коровы, квохтанье кур и запахи свиньи — все это тоже был Бог. Он был во всем обыденном и невероятном, он был полетом гигантского макета за самолетом, в котором виделся мне Змей Горыныч, и сказочность простого мира была естественной, необходимой, проявлением внешнего, впитываемого как хлеб, как груши-дички, как трава-кислица, которую мы пожирали в походах по ближайшим лесам. И дикий понос после этих походов, и мерзкий запах сортира — это тоже был Бог. И горящая камышовая пойма — тоже был Бог. И дождь — Бог. И кашель — Бог. Исчезновение матери — Бог! Бог был в наших слезах, страхе и ожидании. Это длилось бесконечно и пролетало неуловимо. Мир повзрослел, перестал верить в сказки, вместе со сказками нас покинул и Он. Осталось только поверхностное, зримое, грубое. Он ушел. Чтобы вернуться и напомнить о себе. Возвратиться запахом истлевшего детства, первой щенячьей любви — к этой девчонке, этому саду, ко всему солнечному миру… 8 ГЛАВА 1 ИЕРИХОНСКИЕ ТРУБЫ 1 Лето по-настоящему еще не началось, а жара — как в июле. Мой старый кондиционер дергается, будто раненый зверь, бьется в агонии и, взвизгнув на прощание, затихает. Выбрал не самый удачный момент — на улице пекло, я не повезу тебя, дружок, в ремонт, пропади все пропадом, такие допотопные модели вряд ли уже принимают… И тут мне звонит Паша – он тоже выбирает не самый подходящий момент, я собираюсь как раз опустить в кипяток пакетик гречки и включить таймер. Варить гречку в пакетике унизительно, все эти яркие упаковки как предупреждение: внутри ненатуральное! Но мы обленились — натуральное требует сил. Особого выбора у меня нет — можно запечь кижуча или пожарить цветную капусту, но, поскольку я никого не жду в гости, решаю ограничиться гречкой. Расслабленно употребить, потом поваляться с книжкой, потом погулять, потом видно будет. Пашу угощать при любом раскладе не собираюсь — если захочет, обойдется чаем. Паша неприхотлив, хотя иногда любит рассуждать о тонкостях кошерной кухни, но на самом деле он дилетант, беспомощный, как ребенок, — что с него возьмешь, не лез бы в то, в чем не разбирается. Мое отличие в том, что я делаю основательно все, за что ни берусь. Правда, никогда не прихожу к окончательному успеху. Но это не важно. Путь творца — вот мое кредо... Я, Клунин Игнат Михайлович, великий кулинар… Знакомый бармен из ресторана Ренессанс рассказывал мне, как он случайно попал на съезд кулинаров России и 9 как там отчаянно скучал. Вот так всегда бывает. Я бы не скучал. Этот бармен… Впрочем, ну его! Не стану засорять повествование второстепенными персонажами. Скажу о нем несколько слов, но позже, а пока лишь замечу, что у него странная для чистопородного белоруса фамилия — Пульман. А сам себя он именует — Князь… Так вот мне звонит Паша, он говорит… Паша мне говорит, что часов в одиннадцать сильно избили Дохутаа. Да что там избили, почти убили, он шел утром в парикмахерскую, налетели молодчики, совсем юнцы, и размозжили голову битами, били зверски, руки-ноги переломали… Какого Дохутаа, спрашиваю, в городе много Дохутаа, целый клан, есть довольно известные личности. Депутата заксобрания, бывшего главу Центрального района, уточняет Паша… Ага, Семена Дохутаа я неплохо знал. Довольно обаятельный господин, чуть старше меня, когда я бывал в его кабинете, он часами говорил на разные актуальные темы, в приемной битком народу, а он разглагольствует передо мной. Любил поговорить, тем более что я ему чем-то нравился, к моменту нашего знакомства я был уже довольно заметной фигурой. Однажды он прочитал мне лекцию о переустройстве коммунального хозяйства в городе, изложил революционный метод, посредством которого эта проклятая отрасль выйдет на невиданные высоты. В его тщеславной голове родился проект экономичного захоронения почивших в бозе горожан. Свободной земли под эти нужды стало катастрофически не хватать, и Семен собирался трупы сжигать. Но поскольку строительство крематория также требовало новых территорий и немалых денег, он предложил использовать установку для утилизации биологических отходов. Как раз в больничное объединение поступило оборудование, закупленное под эти цели за валюту… Семен готовился стать мэром, но его не избрали. С новым мэром он не сработался — все-таки были конкурентами, — и он пошел в депутаты… Паша что-то еще мне говорит, но я плохо его слушаю, он говорит, сейчас приеду, и бросает трубку. Я выключаю огонь 10 под кипящей кастрюлей, наливаю стакан кефира, закуриваю и начинаю барабанить пальцами по столу. О неутомимом Дохутаа много чего можно рассказать. Если уж в нашем городе и существует некая мифогенная любовь каст, то это как раз тот случай. Еще в молодости он чуть не попал за решетку, был тогда секретарем комитета комсомола на химзаводе, организовал на турбазе семинар и там, в темных аллеях, изнасиловал совсем юную комсомолочку. Сему как-то отмазали — любило его начальство, что тут попишешь. Да и девушки его любили — не было нужды всех насиловать. В юности был он весь беленький и конопатый, чистый альбинос. Он сменил несколько жен, последняя его жена почти на сорок лет его моложе. У него колоссальное количество детей — законных, полузаконных, приблудных, все его сыновья тоже белобрысые, да и он, собственно, не потемнел. Удивительное дело, есть же такие особи мужского пола — неутомимые. Да вот тот же Паша… 2 Накануне мы сидели с ним на пляже, на бетонном бордюре, курили и рассматривали молодые тела. Совсем еще недавно, вот буквально только вчера, мы скакали молодыми козлами по этому пляжу, и нам не было дела до старых пердунов, жавшихся в глубокой тени. А теперь мы сами старперы, мой старый приятель Паша Левитан не снимает майку, ибо спина у него покрыта сизоватой сыпью, будто после пороховой вспышки, и никому не объяснишь, что сыпь незаразна. Никто, собственно, не требует объяснений, кому это надо. Удивляет другое, они не понимают, говорю я Паше, как быстротечно время, не чувствуют его. Скоро почувствуют, говорит Паша, закапывая окурок в песок, поймут. А мы понимали, спрашиваю. Паша не отвечает. Нет, не понимали, отвечаю я сам себе. Зачем об этом говорить. Давно уже все сказано. Что нового ты можешь добавить. Новое лишь в пришедшем к тебе ощущении правильности происходящего, согласия с тем, 11 что есть. Не надо бороться, изнурять себя бессмысленными попытками растянуть это муторное состояние. Отринь мечты об эликсире молодости, байки про современных мафусаилов, прекрати читать эти тоскливые наставления о том, как продлить свою дурацкую жизнь. Тупо и унизительно. Возьми свое и успокойся в веселом изумлении: как оно великолепно. Осталось немного? Радуйся немногому. Жадность ушла, и теперь ты можешь посмаковать то, что осталось. То, что раньше распробовать ты не успел. Можешь позволить себе не бояться. Можешь совершать теперь отчаянные поступки. Не страшась риска. Не паникуя… Я загребаю рукой горячий песок, пропускаю его через пальцы, он утекает, покидая мою руку, передавая странное ощущение раздельности каждой песчинки, испуская сигналы, оставляя следы бесконечности, не как вода, не как иные сыпучие вещества, теребя кожу и требуя вновь возвратиться за ним. И сколько бы песка я не пропускал через пальцы, в руке остается каждая песчинка… Да, мои пальцы. Они разговаривают с песком, заполненным вечерним солнцем. Они читают шуршащие листья, принимают уколы скошенной накануне травы. Крыло спящей голубки. Ворчание недозревшего персика… Терпение — я вернусь еще к этому… Мы познакомились в начале девяностых. Паша работал диктором на областном радио и был великим народным артистом. У него рокочущий бас, маленькое тело и этот металлический рокот. Я бы хотел уточнить — мягко рокочущий гром. Рискну добавить — эротический рык. Его любили за этот голос. За все остальное — нет. Женщины от его голоса млели. Особенно когда не видели его самого. Но однажды в дикторах отпала потребность, Пашу еще держали какоето время — его голос идеально подходил для рекламы постельного белья и политических агиток. Его не устраивал масштаб. Он тосковал по старому радио. Ему хотелось участвовать в грандиозных радио-шоу, ставить спектакли, наполненные страстью. Он был артистом, а им нужен был только его эротический бас… Он был сам себе режиссер и разыгрывал для себя то, что не мог заставить слушать других. Он не был диктором в такие моменты. Он был дикта12 тором. Он был ходячей радиостанцией. Со временем я стал для него идеальным радиоприемником. Я не участвовал в его постановках. Куда мне с моим сиплым голосом. Я стал его благодарной аудиторией. Так вот — рядом со мной друг Паша по кличке Левитан. Настоящую его фамилию никто не помнит, поэтому я ее даже не упоминаю. В детстве его как только не звали — и Станиславский, и Шаляпин… Великие имена. А меня кроме Клуши никак… Паша Левитан начинал с самодеятельности. Звезда его взошла в тесной каморке, где стоял микрофон школьного радио. На переменах, после коротких директорских распоряжений, он читал рассказы Чехова и Паустовского. Его слушали и забывали про все на свете — ждали, пока он кончит, прежде чем дать звонок на урок… Паша мечтал стать режиссером. Но его никуда не приняли. Выглядел он неказисто и страшно смущался. Раскованным он был только тогда, когда его никто не видел. Когда отцветает плоть, расцветает нравственность. Это не про нашего Левитана сказано. Пашу я вижу насквозь. Слышу итальянские оперы, гремящие в его душе, он не умеет плотно закрываться, его фантазии временами смешат, временами умиляют… С тех пор как Паша стал пенсионером, оставаясь по виду подростком, у него появилось больше времени и меньше возможностей для проказ, он ведет динамично созерцательный образ жизни. По максимуму использует социальный проездной. Каждый день в одни и те же часы дожидается, когда в институтах заканчиваются занятия и студентки набиваются в автобус... Одевается Паша франтовато. Изысканно даже. Покупает пиджаки на вырост. Укорачивает в ателье рукава. Серые пиджаки в мелкую клетку, чуть приталенные, почти до колен. Не обнажая лысины, редкие седые пряди спадают игриво на лоб, делают обворожительно-отталкивающим его все еще пухлое лицо с не утратившими капризной наглости губами. Не всегда он способен удержаться, чтобы не рассказать мне об очередном ангеле, которого сопровождал в автобусной поездке. Думаю, беды в этом нет. Он ни к кому не пристает. Его извращение носит 13 эстетический характер. Правда, в его глазах появляется нездоровый блеск и нетрудно догадаться, что он там себе думает об этих ангелах бедовых… После смерти Нюси он остался совсем один. Не очень охотно признался однажды, что у него появилась девочкаподснежник с удивительными склонностями. Она совсем лысая, вроде бы сама себе голову бреет, и, по словам Паши, это его заводит, есть в этом какая-то провокационная двусмысленность. Она еще ребенок, говорит он, но она совсем взрослая уже, понимающая многое лучше меня. Красивая ли она? Да. Хотя я осознаю, что это юное создание — не красавица, говорит Паша: плоская грудь, худые бедра, зубы кривые, их надо исправлять, подбородок тяжеловат для юной девицы. Все-таки я люблю ее именно такой. Странно как-то. Мне не нужны ее девичьи прелести… Важен ли в наших отношениях пол? Не знаю. Вот думаю, был бы на ее месте мальчик… Нет-нет, мальчик — это не то. Это совсем не душевно… Он лукавит, мой старый друг Левитан. Конечно же девичьи линии вяжут его. Но он относится к ней бережно, хотя и покрикивает иногда. В последний раз я увидел его с синяком. Я ничего не сказал по этому поводу, но подумал: она его бьет. Какие-то там у них жестокие игры. И отчего они не могут расстаться? Паша боится, что о ней узнают и будут говорить. Он уважает общественное мнение и не хочет прослыть извращенцем на склоне лет. Он переполнен своими страхами, как чемодан, забитый под кроватью мятыми тряпками… У меня самого недостаточный опыт общения с юными девицами, знаю лишь: в нашем возрасте появляется страх не справиться. Нет, не страх, это неточно. Опасение. Это такое чувство напряженное, но паники нет. Просто знаешь, что можешь не справиться, и лучше не начинать. Это в молодости ты мог выбирать и привередничать, а сейчас, когда ты видишь красивую девушку, должен ясно осознавать: она не твоя. А вот чтобы ощущать трагедию по этому поводу, душевные терзания — этого нет… Иногда он пьет в одиночку. Не бережешь себя, говорю я ему. Вот разбогатею, он улыбается, изображая беззабот14 ность, займусь здоровьем. Богатство еще никому не помогло, внушаю я Паше, вот Майкла Джексона залечили до смерти, не было бы у него денег, до сих пор жил бы припеваючи. Это так, соглашается Паша, медицина за две тысячи лет не научилась насморк лечить. Иногда мы вот так обмениваемся бессмысленными словами, как пожилые кокетки… Воображение у Паши молчаливое, оно работает внутри, наружу не лезет. Сколько помню, он всегда был одинок, даже тогда, когда была жива его маленькая безмолвная Нюся. В те годы, когда дети уже разлетелись и Нюся совсем перестала для него существовать, он по необходимости иногда разговаривал с ней, но так, как разговаривают с кошкой, собакой или домашним цветком, не ожидая ответа. Но даже если ответ следует, его невозможно услышать. Не ждем ответа, вот и не слышим. 3 Паша переступает порог и тут же начинает что-то тревожно бормотать и совать мне под нос бумажку. Подожди, говорю я, чего ты так волнуешься, не тебя ведь избили. Меня?! Глаза у Паши вываливаются из орбит: ты уже знаешь?! Что я знаю? Ему гениталии буквально отшибли, в лепешку. Жив, что ли? Жив, я звонил, в коме, говорят, гениталии… Дались тебе гениталии, Паша, ты ненормальный! Ненормальный?! А это ты видел, посмотри, посмотри, — и снова сует мне бумажку. Вчетверо сложенный мятый листок. Где ты его нашел? Разворачиваю: заголовок — Растлители, и список... Проскрипционный, уточняет Паша, вот видишь, на первой позиции мэр, а вот и Дохутаа. Ну и что, мало ли шуток дурацких? Да нет, какие шутки, Агнеша, ты посмотри внимательнее весь список. Надеюсь, меня здесь нет. А я есть... Смотрю, и на самом деле во второй половине списка — Грушин Павел Дмитриевич, диктор областного радио… Паша бегает по комнате, на меня не смотрит, его взгляд блуждает по стенам, он нащупывает глазами одну из моих 15 картин, останавливается перед ней. Пучок бледной полыни. Дикие груши, сморщенные, подгнившие. Сушеные грибы, нанизанные на нитку... Когда-то я был заядлым грибником, запойным. Я почти все переживал запоями — пил, любил, в шахматы играл, грибы собирал, теперь пишу свой дневник… Серо-охристые тона. Пыль. Паутина. Плесень. И то, что ощутимо не глазами — тонкий запах тления, спящих мицелий, приторного увядания. Вряд ли Паша ощущает этот запах, его никто не ощущает, только я, да, впрочем, Паша вообще ничего в данный момент не ощущает, кроме своего страха. Он подбегает ко мне, трясет бумажкой, всклокоченный, в своем длинном сюртуке он выглядит нелепо, но мне не хочется улыбаться и подтрунивать над ним. Устаревшие данные, говорю я, ты ведь уже не диктор, — и осекаюсь. Мы какое-то время молчим. Да, думаю, дела, действительно, мало похоже на шутки. Паша, где ты это взял? В ящике почтовом у себя, месяц назад. Я еще раз внимательно просматриваю список. Несколько известных в городе личностей. Депутаты, директора, чиновники, творческая богема. Но в основном незнакомые мне имена, скорее всего, пенсионеры. Под списком — пятиконечная звезда. Подписи нет. Дохутаа к подошве ботинка прилепили бумажку с пентаграммой и словом педофил, говорит Паша. Почему ты с этим листком не пошел в милицию? Ты не понимаешь? Ах да, такая значимая фигура и вдруг — педофил! Я не педофил, всерьез обижается Паша, у меня никогда не было ни одной несовершеннолетней, я чист перед законом, он тычет пальцем в бумажку — это ошибка. Авторы этой листовки вряд ли представляют закон, Паша. Государство не может меня защитить! Паша уже ревет в голос. Зачем мне такое государство?! Бросить все к чертовой матери и скрыться в деревне, а еще лучше в тайге, где-нибудь на Енисее, буду заниматься охотой и собирательством, чтоб ни людей, ни общества, ни начальников, ни самого государства, никаких норм и законов! Хочу выйти из состава государства, кричит Паша, имею на это право, я свободный человек, бля! Подожди, говорю я, успокойся, позвони Лизе. 16
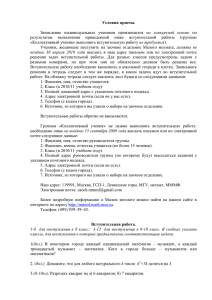
![Проект урока чтения в 1 классе по учебнику Бунеева Р.Н.... Бунеевой Е.В. Тема: Звук [ш],буква ш.](http://s1.studylib.ru/store/data/000500037_1-e3783ef1424bbbf6c00f77733af6a637-300x300.png)