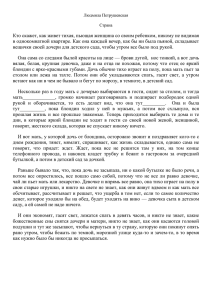ка те ио
advertisement

Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Свидание с младшенькой Рассказ моей бабушки Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Памяти моего деда, коми писателя, Николая Жугыля Габэ арестовали в августе. Дом-то наш в Париже стоял. Это слобода такая, где после войны восемьсот двенадцатого года пленные французы жили. Тихо здесь всегда было, гуси да козы между домами травку щипали. Редко когда машина пропылит. А тут она ночью зафырчала. Не знаю, только ли я в Париже нашем проснулась или еще кто. И так вдруг не по себе мне стало. Чего бы, думаю, машине здесь делать ночью? Пофыркала, пофыркала – замолкла. Мотор выключили. Ночи белые кончились. Темно на дворе. Габэ спит. Очень мне его разбудить хочется и страшно будить – беды боюсь. Лежу ни жива, ни мертва. И тут мосточки у нашей калитки заскрипели. Вот под окнами. На крыльце. Дышать я забыла. А как в двери застучали, так сразу через Габэ перекинулась и в сени метнулась. – Кто там? –Открывайте! – Кому открывать-то? Ночью еще мужикам открывать буду. На словах-то храбрюсь, а на сердце… смекнула уже кто под окнами стоит, слышала, что людей по ночам забирают, на «козлике» увозят. Открыла, что делать… Вошли четверо. – Мужа надо, – тот, кто в кожаной тужурке, говорит и сует мне под нос какую-то бумагу. – Где Лыткин? И в спальню в сапогах, следы за ним мокрые – под ночь дождик прошел. А муж уже в спальне одетый, ремень затягивает. – Вы такой-то? Кожаная тужурка и ему бумагу сует. У этого человека впереди зуб железный выставлялся. Единственный зуб снизу, и тот не свой. Да длинный какой-то. Даже когда рот был закрыт, зуб выглядывал и сверкал. 2 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Спутники его уже по всему дому шарят. Крышками хлопают, ящики с ложками-вилками выдвигают, звенит все, валится. Мать Габэ проснулась, в кухню вышла. Брат глухонемой, Паш, и тот почему-то пробудился, из своей комнаты голову взлохмаченную высунул. Ничего понять не может. Он-то об арестах не знал ничего, он все дома сидел да сапоги тачал. У матери губы дрожат, растрепанная в широкой мятой рубахе, лямка все время спадает. В кабинет Габэ бочком эдак зашла, а там трое бумаги ее сына перетряхивают, в портфель складывают. Слышу, мать спрашивает у них по коми, по-русски она плохо понимала, а говорить вовсе не могла. – Гусялiсь, мыйкö али виис кодöскö? (он что, украл, что или убил кого?) – Говорите по-русски! – приказал из кухни тот, что с зубом. Он за Габэ присматривал, ни на шаг не отходил. – Мы не националисты какие-нибудь, как ваш сын. – Если по коми говорит, значит, националист? – зло спрашиваю. – Там разберутся. Шли бы вы, гражданочка, спать. – Счас пойду. Засну сном младенца. – Тише, Катерина, – Габэ меня за руку потянул. – Не заводись. И не волнуйся, я туда да обратно. Чертовщина какаято… – Да что же это такое, Габэ? – я уже реветь приготовилась. – Ошибка, мать. Путаница, видно. И ушел в окружении четверых. Тот с железным зубом первым шел, и зуб у него ровно какой штык торчал. Мостки проскрипели, машина профырчала и опять тишина в Париже. Села я на лавку под часы, руки у меня упали. А мать ковшик взяла, воды из ведра зачерпнула, да ковш и выронила. Пол вытирает и бормочет: – Гусялiс мыйкö или виис кодöскö… Снова воды зачерпнула, стала пить, и я слышу, как зубы о медный ковшик стучат. Брат глухонемой спать ушел. Мать ему объяснила что-то на пальцах, он и ушел. Девочки не проснулись. 3 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Сижу я под ходиками, они тичь-точь, тичь-точь – как прежде тикают. Да прежнее-то время кончилось, на «черном вороне» уехало. Надо сказать, место под часами было странное. Как сядешь на широкую лавку под ними, начинаешь ощущать какую-то тревогу. Всегда так было, с самой постройки дома. Все, вроде, хорошо, и девочки здоровы, и муж рядом, а вот тревога под часами сосала и сосала сердце. Как бывало, под часы сяду, так и нехорошо мне делалось. Поэтому на это место заколдованное старалась лишний раз не садиться. А тут забыла. Вспомнила, что на плохом месте сижу, но пересаживаться сил не было. Да и зачем, раз горе случилось. Видно место под часами давно беду караулило. Несчастные мы, несчастные, думаю. Дом-то наш несчастливый. Недаром в нем тараканов никогда не водилось. В несчастливых-то домах тараканы говорят, не заводятся. А дом-то ладный! Габэ с Пашем строили. Сосны в Лемью валили, сами по Вычегде сплавляли. Бревна – в обхват, долго еще по избе дух смолистый шел. А половицы какие широкие! Четыре плахи, и комната постлана. Мебель была под стать дому. Ладил ее краснодеревщик из села Выльгорт Педь Иван. Выльгортскието краснодеревщики по всей России славились. Лавку широкую Педь Иван смастерил, вдоль стены, да вдоль окна, буфет массивный резной, письменный стол для Габэ. Мы уж после не меняли ничего. Позже нашу мебель хотели в музей взять, да места у них не оказалось. Не на счастье Педь Иван поработал – увезли моего Габэ. Ойя да ойя. Да что же он плохого-то натворил? День и ночь в журнале своем корпел, девочки отца и не видели. В журналисты он подался из учителей. Грамотных тогда мало было. Окончил институт журналистский в Москве, его сразу редактором и поставили. Какой он националист? Журнал-то по коми назывался, а выходил на русском. Габэ хотел, чтобы он коми был не только по названию, чтобы народ язык свой не забывал. Ведь прав Габэ-то оказался, прав. Как школы-то с коми языком позакрывали, газеты на русский перевели, так со временем что получилось? Забыл народ язык свой. Теперь и журнал на коми есть, и газеты, а читать некому. 4 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Сижу под часами, вспоминаю, как встретились мы с Габэ после гражданской войны. Он в буденовке и шинели ходил, высокий, красивый. Фотография сохранилась, не знаю, как при обыске не нашли, все ведь до клочка забрали. Встретились мы с ним в народном доме. Теперь бы сказали: «клуб». Барак как барак, только внутри сцена да зал со стульями. Там спектакли ставили. Габэ в самодеятельный кружок записался, стал пьесы сочинять. По-русски тогда плохо понимали, он на коми писал. Народ на его пьесы валом валил. На все спектакли он мать приглашал. Очень мать любил, святой ее называл. Да ведь святая и была, слова грубого от нее не слыхали. Отец Габэ рано умер, она двух сыновней самосильно воспитала. По дому как белочка сновала, уютная такая, расторопная. Мы с Габэ работали и за детей не беспокоились – бабушка с ними. На спектаклях мать, бывалоча, в первом ряду сидит. Габэ любуется. Двое других сыновней у нее глухонемыми родились, один во младенчестве умер… Мать смотрит на сцену, а лицо светлое, как у всех матерей, когда они детьми своими молча любуются. Однажды пьесу играли, где герой от беспросветной жизни стреляется. Его Габэ играл. Как застрелился он понарошку, мать сознание потеряла. С тех пор она больше на спектакли не ходила, как Габэ не упрашивал. Воспоминания меня в горючие слезы ввели, я их ладонями утираю, носом шмыгаю. А я на ту пору тяжка была. И вот чувствую, внутри меня что-то толкнулось. Прочуяла, значит, доченька, что горе у нас. Что это доченька я точно знала – ведь до этого трое дочерей родилось. Хотели сына, конечно, но я знала, девочка будет. Этот толчок меня из оцепенения вывел. Встала я из-под горестных часов. А тревога за мной по всему дому потянулась невидимой пуповиной. Не было теперь уголочка, где можно было бы от нее укрыться. Место под часами стало везде, на всем свете. Взяли Габэ в августе и, как камень в воду, кругов не видать. Пробовала я узнать, где он, что с ним – не тут-то было. Куда я только не ходила, ответ один: 5 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка – Где ваш муж – не знаем. – Скажите хоть – живой? – Не знаем. НКВД было в том же здании, что и полицейское управление до революции. Слухи ходили, что арестованных там, как сельдей в бочке. В подвалах сидят, горемычные. Страх меня пробирал, а все равно прогуливалась мимо НКВД каждый обеденный перерыв – вдруг Габэ увижу. К крыльцу «козлики» подъезжали, их уже черными воронами окрестили. Людей выводили – одних из машин, других – из комиссариата, да в машину. Ни разу Габэ я не увидела. Здание красивое, с колоннами, с крыльцом высоким, да какая радость-то в его красоте, когда страшно. А справа у нас парк, большие в нем тополя росли. И пока листья желтые падали, все мне в их шепоте возмущение чудилось. Деревья тут день и ночь, все видят. Откуда столько врагов народа в маленьком городке? До границ далеко, фабрик и заводов нет, чего им тут промышлять? До того как Габэ арестовали, аресты меня лишь удивляли. Надо же, как враги ловко маскируются! Вот и секретарь укома Виттор врагом оказался! На всяк праздник перед народом с речью выступал. Начинал, заканчивал балалайкой. Любили его все. Как не любить? Про таких говорят – душа-человек. Арестовали его примерно за месяц до Габэ. Я тогда мужу сказала: – Кто бы мог подумать на Виттора-то… А муж понахмурился, губами пожевал – он всегда так, когда сердит. – Не торопись, Катерина, выводы делать. Какой он враг? Если уж он враг, то и мы с тобой, и девчонки наши тоже вражья сила. А когда Габэ забрали, я уж поняла: или они все там с ума посходили, или они и есть самые настоящие враги. Ведь лучших людей по ночам хватают! По ночам-то только тати да хищные звери охотятся. Недолго я вдоль того здания выхаживала. Тусклым осенним днем проучили меня молодцы из НКВД. Взяли под руки да ловко в машину втолкнули. Я и ахнуть не успела. Щупают, на сиденье валят. Я в крик. Они с хохотом отпустили, а один сказал: – Еще раз увижу тут – не увернешься, хоть ты и с животом. 6 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка С прежней работы, из библиотеки, меня выгнали, ох, да сразу. Вызвала меня заведующая. Миленькая такая женщина, уважала я ее очень. Красивые глазки в сторону отводит. «Знаете, лично я к вам хорошо отношусь, но лучше вам от нас уйти. Мне позвонили…. Пусть это между нами останется. Сказали, что жене врага народа нельзя выдавать читателям книги, вдруг она чтонибудь между листами подложит». Хоть стой, хоть падай. Вышла от своей начальницы, трясучка на меня напала, себя уговариваю не волноваться, ведь дочка во мне. Да только плохо уговоры помогают. Куда теперь? Ведь не возьмут никуда, всюду анкеты, всюду надо про мужа писать. Как теперь детей прокормить? Вот глухонемой Паш разозлится – все на его шею сядем. С трудом устроилась уборщицей в винном магазине. Девочки – старшей тринадцать исполнилось, в школу ходили, да с такими кислыми лицами. Несладко, видать, им там было. Перед праздником революции Миля в слезах вернулась, что случилось, скрывает. Люся мне потом рассказала. Всем отличникам подарки к празднику, а Миле ничего. Не сказали, что из-за отца, вроде бы как позабыли, но подруга ее, бойкая такая Фая Рабинович, возьми да и крикни на весь зал: – А Миле Лыткиной подарок? Она тоже отличница! Вожатая, что подарки вручала, смутилась, а Фаю учительница из ряда выдернула и прошипела на ухо: – Ты, что, не знаешь? У Лыткиной отец враг народа! Фая – смелая девочка, глаза черные, быстрые, косы вокруг головы – красавица! – Дети за отцов не отвечают, товарища Сталин сам так сказал! Домой они с Милей вместе пошли, ох и смелая девочка. У моих-то друзей и знакомых еще в августе память отшибло – на улице не узнавали. Уже снег выпал, а от Габэ никаких вестей. Зима завернула с ходу. В ноябре, будто кувалдой ударили тридцатиградусные морозы. А муж ушел в костюме и полуботинках. Что ему там валенки и шубу не выдадут, не надо объяснять. Отправят куданибудь на работу, а он в костюмчике. Я как утром встану, как в 7 окно на снег посмотрю – уже сугробы под окнами, уже дети в них прыгают – мягко, а муж в костюме да полуботинках. Ойя да ойя! Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка И стало мне казаться, что муж мой умер. Через неделю сосед навестил, словно мои мысли подслушал. Под часы сел. Хотела я его предупредить, что дурное там место, но передумала. Может это только для меня оно такое зловещее. – Катя, у меня там, – на слово последнее нажал, – знакомый на свидании был. Крепись, Катя, говорят, умер Гавриил. Вчерась или позавчерась. А я уж с мыслью той и смирилась. В сердце ничего не ворохнулось. И дочка моя признаков жизни не подала. Знать, обе мы с ней духом пали. Оделась, живот платком перевязала, пальто-то мое из-за него не застегивалось. Соседу «спасибо» говорю, извини, говорю, некогда, на кладбище иду, может, сторож что скажет. У власти советской ничего не выпытать – плюнула я на власть нашу сумасшедшую, которая людей в ступе толчет. Мать про кладбище услыхала. Как раз зашла с полными ведрами. В последние дни она ничего не разрешала мне делать, сын глухонемой не помогал, шил сапоги и в наши дела не вмешивался. Да я его понимала: горемыка. Что за счастье весь век молчать и ничего не слышать? А может в то время не слышать ничего да не видеть, и было счастьем? Мать ведра посреди кухни поставила, лица на ней нет. Вода у краев ледяной паутиной покрылась, мороз на дворе. Собрались и пошли с ней вместе. Молчим. Я каменной сделалась. А у нее слезы катятся. Она их большими ватными рукавицами, в которых воду и двора таскала, утирает. До кладбища далеко, какие в то время автобусы. Покойников на лошадях возили, а живой и на своих двоих дошагает. Тороплюсь я, точно к живому бегу. Как в тот день на морозе не родила – диву даюсь. За оградой – маленькая избушка в одну комнату – сторож кладбищенский там жил или смотритель – не знаю как уж его. Переваливаюсь через порог, слова выговорить не могу, губы словно примерзли. Мать за мной подоспела, спрашивает по коми: 8 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка – Прости Христа ради, мил-человек, из тюрьмы кого-нибудь хоронили в эти дни? Сторож понял, но ответил по-русски. – Как же не хоронить? Вчера троих схоронили. Сторож – мужичок невысокий, крепенький, лобастый. – Лыткин был? – спрашиваю. – Лыткин? Был Лыткин. Пойдемте, я вам его могилу покажу. У меня ноги подкосились. За косяк ухватилась, света белого не вижу. Стало быть, жила еще где-то надежда, звездка в темени кромешной. Но уж коли могилу показывают, то все, отсветила звездка моя. Сторож на меня заботливо глянул – все понял. Глаза у него маленькие и не верткие, не как у людей из того заведения, прямо смотрит и долго. – Держись, молодайка, чай не вся жизнь вышла. Пойдем. И споро так зашагал, без оглядки. Мама за ним, а я точно пьяная сделалась, с животом своим никак не поспеваю. Сторож остановится, меня подождет и дальше по сугробам в высоких серых валенках, ровно журавель. Ойя да ойя, разрослась божья нивка, много на ней косточек людских посеяно, вот и я бреду горюшко жать с нивки той горькой. – Тут они. Под закуржавелыми седыми елями три свежие могилы, наспех засыпанные. Земля в инее сверкает. На одной могиле столбик с фанеркой. – Что но за столб? – свекровь спрашивает. – Кто но там? – Прокурор бывший. Жена попросила, чтоб я пометил. А Лыткин – вот, посередине могила. – Гроб то хоть раскрывали? – разомкнула я губы. – Да уж как водится. – Брови густые? – Вроде густые. – А нос? Нос-то прямой? – Вроде прямой. Молодой он. Губы ниточкой. Ойя да ойя, губы у Габэ и впрямь такие. Откуда-то изнутри у меня вопль вырвался. Не думала я, что так выть умею. От этого вопля сторож дрогнул, побежал. Гляжу в его прыгающую спину и вою. Животом нам могилу повалилась, вовсе зашлась. 9 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Потом чувствую, мама меня от мерзлой земли отрывает. – Хватит, Катерина, не голоси. Чует мое сердце – не Габэ здесь лежит, другой. Мало ли в Коми Лыткиных? Не наш это, не наш. Пойдем отсюда. Поковыляли по сугробам. Я за мамой плетусь, повизгиваю как собачонка. Не верю свекрови. На другой день прохожу мимо каморки с метлами да лопатами, а оттуда меня наш дворник подзывает. Сам улыбается. Заглянула, а он на ухо прошептал: – Катя, я вчера твоего видел. Городок у нас был маленький, считай все друг друга в лицо знали. У меня язык опять отнялся и сердце стало. Ведь почитай вчера еще с кладбища. Видно, глаза у меня страшные сделались, потому что Ивэ улыбаться перестал и даже чуток от меня отодвинулся. – Ты того... Не зареви, гляди... Его в «вороне» вместе с другими везли. Мы с сыном в парикмахерскую шли. Я как Габэ увидел, Юрку сразу на руки. Их там много было, я Габэ хорошо разглядел. – Габэ умер, – говорю, как диктую. – Что ты! Что ты! – Ивэ руками замахал. – Чтобы я, да обознался? Габэ это! Без шапки, волосы такие, – Ивэ пригладил волосы. Да, у Габэ гладкая прическа была. Но как же сосед? Кто же ошибся? Может и правда материнское сердце вещее? А январь уж стоял. И хоть не очень я дворнику поверила, звездка моя опять засветила, хотя и слабо. Снова пытаюсь что-нибудь о муже узнать. К тому зданию у парка ходить боялась, звонила из кабинета заведующей, разрешала мне добрая женщина. С отчаянья, что ли, начала я не очень вежливо с энкеведешниками разговаривать. Бывало, чуть не грублю. И чудно – лучше мне стали отвечать. Даже дали телефон ихнего начальника. Начальнику звоню тоже решительно: – Почему не хотите для Лыткина зимнее пальто и валенки принять? А голос в трубке ехидно: – Может, вы для него и кровать принесете? 10 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка – Кровать не принесу, кровать детям нужна! – грублю, а сама радуюсь: жив, стало быть, жив! – Ладно, – голос в трубке. – приносите сегодня теплое. В десять вечера. Не умею сказать, что со мной было. Жив, жив Габэ! Пришла. Сижу в коридоре, у самой поджилки трясутся. Окошко для передач крохотное, стекло белой краской замазано. Днем к нему очередь несусветная, а сейчас никого. Узел с вещами на коленях из-за живота не помещается, рядом лежит. Ждала, ждала, чтоб окошко открылось. Ведь начальник сказал! Час, наверное, миновал. Встала я, осторожно стукнула. Окошко сразу и распахнись. Морда противная высунулась. Может, и не противная, но мне все они там мерзкими казались. – Чего но стучишь?- коми парень, акцент из него так и прет. – Теплые вещи Лыткину принесла. – А мы ночью-то не принимаем, гражданка, – впился он в меня глазами, – тебя вот примем, а вещи – нет. Морда хихикнула, окошко захлопнулось. Разыграли меня, что ли? Чуть не плачу. Снова окошко брякнуло, тот же голос раздался: – Эй, ты, жентщина, – охальными глазами морда в меня стреляет. А ведь совсем молоденький парнишечка-то. – Погоди, может и вещи вместе тобой примем. Не уходи. От обиды губы кусаю, жду. Слышно, как подъезжают к крыльцу машины, дверцами хлопают. Проводят мимо меня врагов народа. Молодых и старых. Одна женщина среди них, деревенская, видать, платок на плечах клетчатый, в валенках. Пропадают люди в кабинетах. Конвой обратно уходит, на меня косится. Боялась я очень тех двоих увидеть, что осенью снасильничать хотели, но их, слава Богу, не было. Ночь. Из глубины коридора до меня стали дикие крики доноситься. Господи, что это? Не сразу смекнула, что это за крики, а как поняла так сердце мое вниз ухнуло, сижу не дышу, словно сама очереди на пытку дожидаюсь. То мужики здоровые от боли заходились. Ойя да ойя! Бросить бы узел да бежать, да нельзя, Габэ без теплой одежды останется. Вдруг смилостивятся да примут передачу. 11 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Да за что же их мучают? Да разве ж сейчас прежнее время? Ведь советская же власть для людей. Да знает ли об этом Сталин? Свекровь его не так звала, говорит, царь-батюшка он, а не товарищ. Так и было... Вот уже страшная ночь прошла. Людей обратно выводят, измученных, с серыми лицами. Крови на них нет, но видно, что били. Одного молоденького под руки тащили – сам идти не мог. Его ноги в сапогах прочертили по паркетному полу от двери до двери. Так только его протащили, вскочила, сама не своя, и затарабанила в окошко. – Примете у меня или нет? – по-коми кричу. Голос сорвался, и я прохрипела показавшейся в окне заспанной морде: – Сколько еще ждать буду? – Думал, уже ушла, – морда поросячья смеется. – Врагов народа не одевать надо, а голыми на мороз! Ах ты! Зубы стискиваю, нельзя грубить, вытурит. Но тут он в свою каморку меня пустил. Узел развязывает, пальто трясет, на свет просматривает. – Тряси, тряси, – не удержалась я. – Заплатки только не вытряси! Всю дорогу до Парижа ревела. А перед глазами – подметки того молоденького, лицо его запрокинутое. В марте свекровь умерла. Чахотка скоротечная открылась. За неделю до смерти я ее домой забрала. Как она дома-то кашлять стала, ох как глухонемой Паш разозлился! Мычит, лицо зверское, швыряет все вокруг себя. Это он дает мне понять, чтобы я маму обратно в больницу спровадила. Дочки его пугаются, плачут. Заразиться Паш-то боялся. Посуда отделил, питался один. И ни разу к матери не подошел. Как умерла, с порога на нее глянул, и все. Трудно без мамы стало. Хозяйство на плечи дочек легло. А тут и ребенок родился. Девочка. Работу пришлось оставить. На мое место старшая, Люся, заступила. Кормить то нас кто-то должен.... Но тут мне счастье – через несколько дней после маминой смерти свидание с Габэ разрешили. 12 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Сидим друг против друга. В дверях конвойный с винтовкой. Смотрю я на мужа. Слез удержать не могу. А он на меня не глядит. Все глаза в сторону. Словно я перед ним виноватая. В конце левой брови у Габэ родинка, из нее кустиком волосы росли. Этот кустик у него теперь все время подрагивал. Постарел муж лет на десять. Глянула на его ноги, а он – в полуботинках. На Севере-то март зимний месяц, морозный. – Почему не в валенках, Габэ? – тихонько спрашиваю. Он будто не слышит. Потом наклонился над столом как можно ниже, как будто бы лодыжку почесать, и шепнул по коми: – Били сильно, валенки не налезают. Конвойный рявкнул: – Говорить по-русски! Габэ и бровью в его сторону не повел. А если я не закричала, то только потому, что меня та ночь в коридоре ко всему подготовила: бьют их родимых смертным боем. Но вот что удивительно – Габэ так просто об этом сказал. Спрашивает: – Как у нас? Прибавление есть? – Есть. – Опять девочка? – Девочка. – Ну и ладно. Назвала как? – Алевтина. – Алевтина, Алевтина. Как бы не забыть. А мама как? Я этого вопроса боялась. – А что мама? – говорю, – хорошо. – Не болеет? – Некогда ей болеть. Нянчиться надо. – Ну и ладно. Алевтина, Алевтина... свидеться бы с ней. Ну да я уж скоро приду. До свиданья, Катя. На меня вот эдак исподлобья глянул и снова глаза увел. И поняла я, что он перед нами вину агромадную чувствует, как крест каменный несет: четверо нахлебников сиротами растут. Верил ли он, что выпустят его? Должно быть, так. Да и как было не верить, если дело три раза в суд отправляли, и всякий раз суд возвращал – не было состава преступления. Нет, чтобы невиновного человека домой отпустить, раз он не шпион, не националист, не вредитель, в заговорах не участвовал. Значит, 13 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка хотели, чтобы был заговор, сами его выдумывали. Наконец бумаги Габэ в Москву отправили, в какую-то особую комиссию, и та быстро разобралась, что к чему – восемь лет по пятьдесят восьмой Габэ дали. А потом – на поселение. В мае перед разлукой, как его в лагерь-то отправлять, я еще раз с ним виделась и тогда уж о маме сказала. Не имела права не сказать, ну а как эта встреча была б последней? Але, младшенькой, исполнилось восемь лет, когда Габэ отбыл свое. Нам разрешили приехать к нему на поселение. Уж мы так мечтали об этом времени, так мечтали. А больше всех – Аля. За восемь лет много воды утекло, у многих ребят отцов на войне поубивало. А наш жив остался. Чудо – Сталин его от Гитлера спас. Не буду говорить, как мы собирались, как в окошки вагонные все глаза повыглядели. Долго ли, коротко, приехали. Поезд остановился на втором пути. Аля, как на иголках, кулачки сжимает, подпрыгивает, были бы крылышки, так и порхнула бы от нас. Нос картошкой, личико круглое, в веснушках, смешная она у нас была, и с самого малого возраста о встрече с папой мечтала. Выгрузились со скарбом. По первому пути состав идет. Люди из окон смотрят, как рыжая девчушка им кулачком грозит, потому что они ей с папой встретится мешают. Промелькнули вагоны. И тут папа наш нам и открылся. Стоит на перроне в фуфайке, с кнутом в руках. Сзади него на дороге лошадь с санями. Смотрит на нас Габэ и улыбается. По улыбке я его только и признала. Обморщинел, сгорбился. Старик стариком. Аля на меня беспомощно оглядывается, а Миля сбоку шепчет: – Мама, наш папа молодой был, а этот старый. Аля как «про папу» услышала, как кинется к нему, как головкой припадет. Он ее обнял и на нас смотрит с улыбкой. А глаза-то у него – ойя да ойя – убитые глаза, ни света в них, ни радости. Тогда мы еще не знали, что впереди у Габэ еще одна ночь. Тоже на черном вороне прикатит. 14 Н ац ио н Ре ал сп ьн уб ая ли б ки иб л Ко и ми оте ка Через два года умер его брат, глухонемой Паш. Мы со старшими девочками поехали на похороны. Возвращаемся – Аля дома одна, голодная, в пальтишке – печка не топлена. – Аля, а где же папа? – спрашиваю, а сердце опять беду чует. – Он в командировку уехал, – дочь отвечает. – Ночью, с двумя дяденьками.