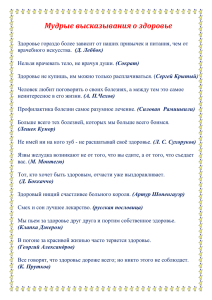Сократ По книге М.Гаспарова «Занимательная Греция
advertisement
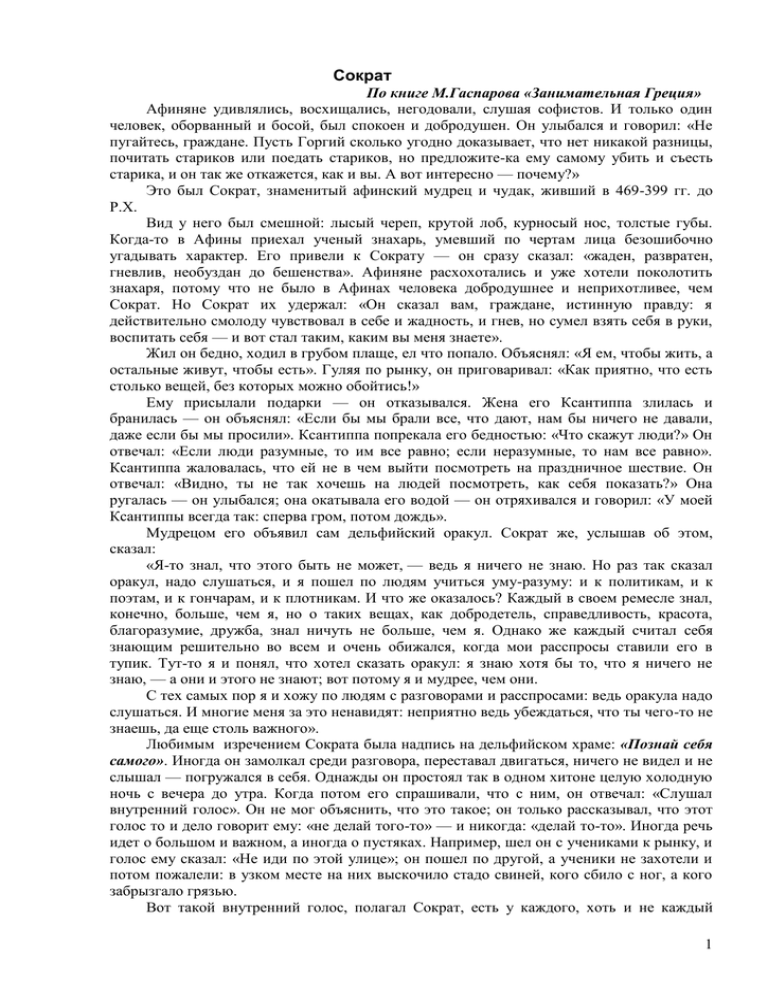
Сократ По книге М.Гаспарова «Занимательная Греция» Афиняне удивлялись, восхищались, негодовали, слушая софистов. И только один человек, оборванный и босой, был спокоен и добродушен. Он улыбался и говорил: «Не пугайтесь, граждане. Пусть Горгий сколько угодно доказывает, что нет никакой разницы, почитать стариков или поедать стариков, но предложите-ка ему самому убить и съесть старика, и он так же откажется, как и вы. А вот интересно — почему?» Это был Сократ, знаменитый афинский мудрец и чудак, живший в 469-399 гг. до Р.Х. Вид у него был смешной: лысый череп, крутой лоб, курносый нос, толстые губы. Когда-то в Афины приехал ученый знахарь, умевший по чертам лица безошибочно угадывать характер. Его привели к Сократу — он сразу сказал: «жаден, развратен, гневлив, необуздан до бешенства». Афиняне расхохотались и уже хотели поколотить знахаря, потому что не было в Афинах человека добродушнее и неприхотливее, чем Сократ. Но Сократ их удержал: «Он сказал вам, граждане, истинную правду: я действительно смолоду чувствовал в себе и жадность, и гнев, но сумел взять себя в руки, воспитать себя — и вот стал таким, каким вы меня знаете». Жил он бедно, ходил в грубом плаще, ел что попало. Объяснял: «Я ем, чтобы жить, а остальные живут, чтобы есть». Гуляя по рынку, он приговаривал: «Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись!» Ему присылали подарки — он отказывался. Жена его Ксантиппа злилась и бранилась — он объяснял: «Если бы мы брали все, что дают, нам бы ничего не давали, даже если бы мы просили». Ксантиппа попрекала его бедностью: «Что скажут люди?» Он отвечал: «Если люди разумные, то им все равно; если неразумные, то нам все равно». Ксантиппа жаловалась, что ей не в чем выйти посмотреть на праздничное шествие. Он отвечал: «Видно, ты не так хочешь на людей посмотреть, как себя показать?» Она ругалась — он улыбался; она окатывала его водой — он отряхивался и говорил: «У моей Ксантиппы всегда так: сперва гром, потом дождь». Мудрецом его объявил сам дельфийский оракул. Сократ же, услышав об этом, сказал: «Я-то знал, что этого быть не может, — ведь я ничего не знаю. Но раз так сказал оракул, надо слушаться, и я пошел по людям учиться уму-разуму: и к политикам, и к поэтам, и к гончарам, и к плотникам. И что же оказалось? Каждый в своем ремесле знал, конечно, больше, чем я, но о таких вещах, как добродетель, справедливость, красота, благоразумие, дружба, знал ничуть не больше, чем я. Однако же каждый считал себя знающим решительно во всем и очень обижался, когда мои расспросы ставили его в тупик. Тут-то я и понял, что хотел сказать оракул: я знаю хотя бы то, что я ничего не знаю, — а они и этого не знают; вот потому я и мудрее, чем они. С тех самых пор я и хожу по людям с разговорами и расспросами: ведь оракула надо слушаться. И многие меня за это ненавидят: неприятно ведь убеждаться, что ты чего-то не знаешь, да еще столь важного». Любимым изречением Сократа была надпись на дельфийском храме: «Познай себя самого». Иногда он замолкал среди разговора, переставал двигаться, ничего не видел и не слышал — погружался в себя. Однажды он простоял так в одном хитоне целую холодную ночь с вечера до утра. Когда потом его спрашивали, что с ним, он отвечал: «Слушал внутренний голос». Он не мог объяснить, что это такое; он только рассказывал, что этот голос то и дело говорит ему: «не делай того-то» — и никогда: «делай то-то». Иногда речь идет о большом и важном, а иногда о пустяках. Например, шел он с учениками к рынку, и голос ему сказал: «Не иди по этой улице»; он пошел по другой, а ученики не захотели и потом пожалели: в узком месте на них выскочило стадо свиней, кого сбило с ног, а кого забрызгало грязью. Вот такой внутренний голос, полагал Сократ, есть у каждого, хоть и не каждый 1 умеет его слышать. Этим голосом и говорит тот неписаный закон, который сильнее писаных. Оттого и Горгий, как бы он там ни рассуждал, никогда старика не убьет и не съест. А это главное — не то, что мы думаем, а то, что мы делаем. Ведь о столяре мы судим не по тому, как он рассуждает о столах и стульях, а по тому, хорошо ли он их сколачивает. Философ может очень красиво описывать, как из атомов слагаются и земля, и небо, и звезды, но пусть попробует он в доказательство сделать хотя бы самую маленькую звезду! Нет? Так не будем говорить о мироздании, а будем говорить о человеческих поступках: здесь мы можем не только рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо, а и делать хорошо и не делать плохо. Этому тоже надо учиться — как всему на свете. Есть ремесло плотника, есть ремесло скульптора; быть хорошим человеком — такое же ремесло, только гораздо более нужное. Ради него-то и бросил Сократ все другие ремесла и зажил бедняком и чудаком. Ремесло это — в том, чтобы знать, что такое справедливость, благочестие, храбрость, дружба, любовь к родителям, любовь к родине и тому подобное. Именно знать: если человек знает, что такое справедливость, он и поступать будет только справедливо. Вы скажете: «Но ведь есть сколько угодно людей, которые знают, как надо бы поступить справедливо, а все-таки поступают несправедливо: кто по злобе, кто из страха, кто из корысти». Что ж, значит, они недостаточно знают, что такое справедливость, только и всего. Если бы знали по-настоящему, то не предпочли бы ей ни утоление злобы, ни безопасность, ни выгоду. Если бы внутренний голос сопровождал нас на каждом шагу, доискаться до справедливости и до всего прочего было бы очень просто. К сожалению, это не так: часто он молчит, тут-то мы и делаем самые нехорошие ошибки. Чтобы этого избежать, надо постараться перебрать все возможные жизненные случаи и о каждом спросить себя: справедливо или несправедливо? У старых афинян опыт был небольшой, и они говорили: «Справедливо только то, что есть в наших законах и обычаях». Софисты посмотрели шире и сказали: «А еще важнее их — право сильного да право хитрого». Сократ посмотрел глубже и сказал: «А еще важней — веление внутреннего голоса». До сих пор афиняне слушали Сократа с сочувствием: хорошо он отделал этих софистов! Но со временем они понимали, что жить так, как предлагал Сократ: постоянно слушая свой внутренний голос, – для них слишком сложно. Получалось, что старую справедливость они потеряли, а новую так и не нашли. Разговор Сократа. У Сократа был молодой друг по имени Евфидем, а по прозвищу Красавец. Ему не терпелось стать взрослым и говорить громкие речи в народном собрании. Сократу захотелось его образумить. Он спросил его: «Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость?» — «Конечно, знаю, не хуже всякого другого». — «А я вот человек к политике непривычный, и мне почему-то трудно в этом разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать в рабство — это справедливо?» — «Конечно, несправедливо!» — «Ну а если полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо?» — «Нет, пожалуй что, справедливо». — «А если он будет грабить и разорять их землю?» — «Тоже справедливо». — «А если будет обманывать их военными хитростями?» — «Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям несправедливо». «Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет им, будто к ним подходят союзники, и этим ободрит их, — такая ложь будет несправедливой?» — «Нет, пожалуй что, справедливой». — «А если сыну нужно лекарство, но он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, и сын выздоровеет, — такой обман будет несправедливым?» — «Нет, тоже справедливым». — «А если кто, видя друга в отчаянии и боясь, как бы он не наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал, — 2 что сказать о таком воровстве?» — «И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно; надо было сказать: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается им на благо, и несправедливо, когда делается им во зло». «Очень хорошо, Евфидем; теперь я вижу, что, прежде чем распознавать справедливость, мне надобно научиться распознавать благо и зло. Но уж это ты, конечно, знаешь?» — «Думаю, что знаю, Сократ; хотя почему-то уже не так в этом уверен». — «Так что же это такое?» — «Ну вот, например, здоровье — это благо, а болезнь — это зло; пища или питье, которые ведут к здоровью, — это благо, а которые ведут к болезни, — зло». — «Очень хорошо, про пищу и питье я понял; но тогда, может быть, вернее и о здоровье сказать таким же образом: когда оно ведет ко благу, то оно — благо, а когда ко злу, то оно — зло?» — «Что ты, Сократ, да когда же здоровье может быть ко злу?» — «А вот, например, началась нечестивая война и, конечно, кончилась поражением; здоровые пошли на войну и погибли, а больные остались дома и уцелели; чем же было здесь здоровье — благом или злом?» «Да, вижу я, Сократ, что пример мой неудачный. Но, наверное, уж можно сказать, что ум — это благо!» — «А всегда ли? Вот персидский царь часто требует из греческих городов к своему двору умных и умелых ремесленников, держит их при себе и не пускает на родину; на благо ли им их ум?» — «Тогда — красота, сила, богатство, слава!» — «Но ведь на красивых чаще нападают работорговцы, потому что красивые рабы дороже ценятся; сильные нередко берутся за дело, превышающее их силу, и попадают в беду; богатые изнеживаются, становятся жертвами интриг и погибают; слава всегда вызывает зависть, и от этого тоже бывает много зла». «Ну, коли так, — уныло сказал Евфидем, — то я даже не знаю, о чем мне молиться богам». — «Не печалься! Просто это значит, что ты еще не знаешь, о чем ты хочешь говорить народу. Но уж сам-то народ ты знаешь?» — «Думаю, что знаю, Сократ». — «Из кого же состоит народ?» — «Из бедных и богатых». — «А кого ты называешь бедными и богатыми?» — «Бедные — это те, которым не хватает на жизнь, а богатые — те, у которых всего в достатке и сверх достатка». — «А не бывает ли так, что бедняк своими малыми средствами умеет отлично обходиться, а богачу любых богатств мало?» — «Право, бывает! Даже тираны такие бывают, которым мало всей их казны и нужны незаконные поборы». — «Так что же? Не причислить ли нам этих тиранов к беднякам, а хозяйственных бедняков — к богачам?» — «Нет уж, лучше не надо, Сократ; вижу, что и здесь я, оказывается, ничего не знаю». «Не отчаивайся! О народе ты еще подумаешь, но уж о себе и своих будущих товарищах-ораторах ты, конечно, думал, и не раз. Так скажи мне вот что: бывают ведь и такие нехорошие ораторы, которые обманывают народ ему во вред. Некоторые делают это ненамеренно, а некоторые даже намеренно. Какие же все-таки лучше и какие хуже?» — «Думаю, Сократ, что намеренные обманщики гораздо хуже и несправедливее ненамеренных». — «А скажи: если один человек нарочно читает и пишет с ошибками, а другой ненарочно, то какой из них грамотней?» — «Наверное, тот, который нарочно: ведь если он захочет, он сможет писать и без ошибок». — «А не получается ли из этого, что и намеренный обманщик лучше и справедливее ненамеренного: ведь если он захочет, он сможет говорить с народом и без обмана!» — «Не надо, Сократ, не говори мне такого, я и без тебя теперь вижу, что ничего-то я не знаю и лучше бы мне сидеть и молчать!» И Евфидем ушел домой, не помня себя от горя. «И многие, доведенные до такого отчаяния Сократом, больше не желали иметь с ним дела», — добавляет историк, записавший для нас этот разговор. Суд над Сократом. В конце концов дело дошло до суда. 70-летний Сократ был обвинен в том, что он портит нравы юношества и вместо общепризнанных богов поклоняется каким-то новым. «Граждане афиняне, — защищался Сократ, — говорят, будто я порчу нравы 3 юношества. Но как? Учу изнеженности, жадности, тщеславию? Но я сам ведь не изнежен, не жаден, не тщеславен. Учу неповиновению властям? Нет, я говорю: „Если законы вам не нравятся, введите новые, а пока не ввели, повинуйтесь этим“. Учу неповиновению родителям? Нет, я говорю родителям: „Вы ведь доверяете учить ваших детей тому, кто лучше знает грамоту; почему же вы не доверяете их тому, кто лучше знает добродетель?“» Сократ выдвинул предположение, что его привлекли к суду по другой причине: в результате сократовских расспросов людям стало неприятно убеждаться в том, что они ничего не знают о самых главных вещах – что такое мужество, справедливость, добро. Тогда-то и было придумано против него обвинение в том, будто он учит юношей чему-то нехорошему. Но ведь Сократ по большому счету ничему и не учил, ничего не утверждал, а только задавал вопросы и себе и другим. «Задумываясь над такими вопросами, подводил итог своей речи Сократ, - никак нельзя стать дурным человеком, а хорошим можно. Потому я и думаю, что совсем я не виноват». Не удержавшись, Сократ сказал и такие слова: «Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее Бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, – не заботишься и не помышляешь?» Когда судьи проголосовали, оказалось, что виновным признало Сократа лишь незначительное большинство. Теперь надо было голосовать за меру наказания. По греческому обычаю, обвинитель должен был предложить свою меру наказания, обвиняемый — свою, а суд — выбрать. Обвинители свою меру уже предложили в самом начале: смертную казнь. Сократ мог предложить достаточный штраф, и дело могло бы кончиться миром. Но неугомонный Сократ сказал: — Граждане афиняне, как же я могу предлагать себе наказание, если я считаю, что я ни в чем не виноват? Я даже думаю, что я полезен государству тем, что разговорами своими не даю вашим умам впасть в спячку и тревожу их, как овод тревожит зажиревшего коня. Поэтому я бы назначил себе не наказание, а награду — ну, например, обед за казенный счет, потому что я ведь человек бедный. А то какой же штраф могу я заплатить, если всего добра у меня и на пять мин не наберется? Пожалуй, одну мину как-нибудь заплачу, да еще, может быть, друзья добавят. Но это уже сочли за издевательство. Народ стал шуметь, и судьи назначали Сократу смертную казнь. Приговоренному было предоставлено последнее слово. Вот что он сказал: «Если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, или если они будут много о себе думать, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что. Но вот уже пришло время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога». Его казнили не сразу: был праздничный месяц, и все казни откладывались. Друзья предлагали ему бежать из тюрьмы; он сказал: «Зачем? Чтобы нарушить закон и вправду заслужить наказание? И куда? Разве есть такое место, где не умирают?» Ему сказали: «Но ведь больно смотреть, как ты страдаешь незаслуженно!» Он ответил: «А вы бы хотели, чтобы заслуженно?» Казнили в Афинах ядом. Сократу подали чашу — он выпил ее до дна. Друзья заплакали — он сказал: «Тише, тише: умирать надо по-хорошему!» Тело его стало холодеть, он лег. Когда холод подступил к сердцу, он сказал: «Принесите жертву богу выздоровления». Это были его последние слова. 4