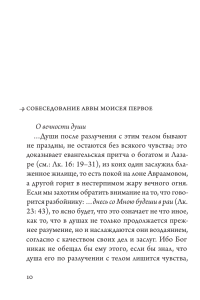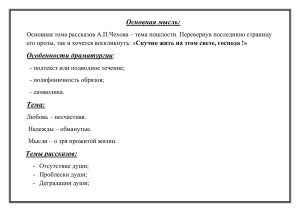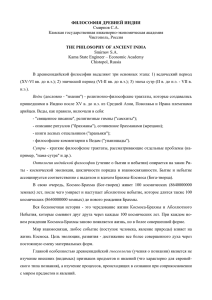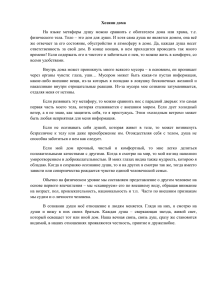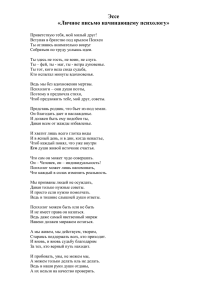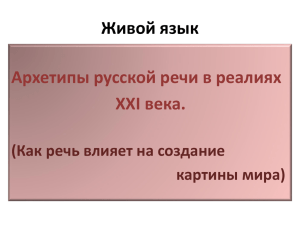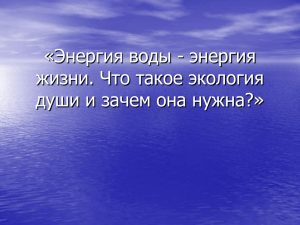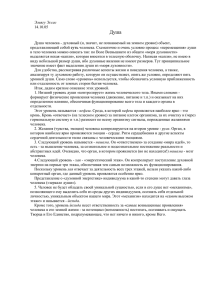Mareeva A V - Problema dushi v klassicheskoy i neklassicheskoy filosofii Filosofskie tekhnologii -2017
advertisement

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИО (Институт) Е.В. Мареева Проблема души в классической и неклассической философии «Академический проект» Москва, 2017 УДК 1/14 ББК 87 M 25 Рецензенты: Бычков С.Н. — доктор философских наук, профессор; Лобастое Г. В. — доктор философских наук, профессор; Майданский А.Д. — доктор философских наук, профессор M 25 Мареева Е.В. Проблема души в классической и неклассической философии. — М.: Академический проект, 2017. — 454 с. — (Философские технологии). ISBN 978-5-8291-1957-7 В монографии Е.В. Мареевой представлен анализ проблемы души, которая нахо­ дится на границе интересов теологии, психологии, этики, классической и некласси­ ческой философии. Автор показывает формирование основных трактовок души и ее бессмертия, оформившихся в классической философии. В работе подробным образом анализируется адекватная для философской классики постановка этой проблемы Сократом и методологические противоречия, возникшие при ее решении Аристо­ телем и аристотеликами Средних веков и Возрождения. Особое внимание уделено достоинствам позиции трансцендентализма, которая стала возможной лишь на основе последовательного скептицизма Д. Юма. Актуальность очерченных подходов — фи­ лософский идеализм, естественно-научный материализм и культурно-историческая методология — показана на примере современных споров в психологии и философии. Второй круг в исследовании проблемы души связан с неклассической филосо­ фией, эволюция которой рассмотрена на примере экзистенциализма — в стадии ее зарождения (С. Киркегор). Направление этой эволюции, фрагментирующей душу и редуцирующей ее к телесным актам, показано на фоне парадоксов философского постмодернизма (Ж. Делёз). Книга адресована студентам и аспирантам философских и культурологических специальностей, а также всем интересующимся проблемами становления и разви­ тия духовности в русской и европейской традиции. УДК 1/14 ББК 87 ISBN 978-5-8291-1957-7 © Мареева Е.В., 2016 © Оригинал-макет, оформление. «Академический проект», 2017 Посвяшаю эту книгу моим родителям Предисловие Встречали ли Вы название одной из торговых фирм — «Для душа и души»? Авторы этого слогана, скорее всего, уверены в своем пре­ красном владении русским языком и тонком юморе. А по сути это определенный симптом, достойный серьезного изучения. Смена эпох — это всегда сдвиг в массовой психологии, теоретиче­ ских представлениях, в философии. И он проявляет себя не только в смене ярлыков, когда «мысль» становится «ноэмой», а «сознание» — «душой». За иной терминологией скрываются иные методологи­ ческие подходы. И при решении проблемы человека это приводит к удивительным метаморфозам. Советский человек обладал сознанием. Аза официальным стремле­ нием придать ему научный характер чаще всего проглядывал естественно-научный материализм, в рамках которого идеальное сво­ димо к отражательной функции материального. В постсоветское вре­ мя нам вернули душу. Но поскольку «воодушевляла» россиян в канун XXI века церковь, большинство обрело бессмертную душу, а идеаль­ ное вновь стало антиподом материального. Актуальность проблемы души в том, что на ней сошлись интересы теологии, психологии, этики, классической и неклассической фило­ софии. Теология вроде бы имеет здесь право первородства, но и уче­ ные в лице психологов являются профессиональными «душологами». И сложность ситуации как раз в том, что в этом вопросе, как и во мно­ гих других, они являются антагонистами. Начиная с XVII века естест­ вознание боролось с представлением о самодостаточной бестелесной душе, добиваясь строго научного понимания человека. В итоге в пси­ хологии место «псюхе», а точнее «анима», занял «внутренний опыт», уступивший затем место «психической деятельности» и «психическо­ му поведению». Но сегодня мы видим двойственные результаты этой победы. Ведь от имени науки человека превратили из субъекта в объект, его способ- 6 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ности приравняли к функциям, а в его поступках часто видят аналог действий природной или технической системы. Иначе говоря, победа научного подхода в психологии стала победой позитивно-научного подхода. Когда внутренний мир человека, его личность и даже его «Я» представляют как систему деятельностей или поведения человека, как правило, открытым остается вопрос: почему при всех внешних изменениях подобная деятельность сохраняет свое внутреннее един­ ство? Единство жизнедеятельности нашего организма обеспечивает­ ся генотипом. Но человек — нечто большее, чем организм. И особого рода целостность, превосходящую единство нашего тела, как раз и фиксирует классическое, в том числе религиозное понятие души. Такого рода единство несводимо к установкам и стереотипам по­ ведения. И массовое сознание в эпоху государственного атеизма про­ должало отличать душу от тела, что бы ни говорили о ней от имени науки. Ведь как раз на обыденном уровне налицо та специфическая духовная инстанция, которая позволяет говорить «Человек большой души», «Мы живем душа в душу» или «Я сочувствую Вам от всей души». Своеобразие феномена души, которое не выразимо понятиями «поведение», «психика» и «сознание», наглядно демонстрирует остро­ умный прием психолога Г.А. Цукерман, которая предлагает заменить слово «душа» на слово «психика» в ряде известных выражений. И тог­ да перед нами оказывается бессмысленное «Мы живем психика в психику» или «Я в нем психики не чаю». И столь же бессмысленны высказывания «Мы живем сознание в сознание», «Человек большого сознания» или «Я сострадаю Вам всем своим сознанием». Но если психология зашла в тупик, уповая на однозначность экс­ периментальных данных и точность статистических расчетов, то ка­ кова реальная альтернатива такой точки зрения? Означает ли выше­ сказанное, что альтернативой естествознанию с его отрицанием души в современных условиях может быть только христианство? Что касается не ученых, а широкой общественности, то она в наши дни, как уже говорилось, легко вернулась к традиционным хри­ стианским представлениям о душе под опекой церкви. Но церковь теперь свободно конкурирует с массовой культурой. А массовая куль­ тура убеждает всех и каждого в том, что душу можно и нужно ублажать не только постом и молитвой, но и приятным душем. По большому счету с душой дела обстоят так же, как с медициной, спортом и искус- 7 I Предисловие ством. Знатоком во всех этих вопросах считает себя каждый. При этом мнению позитивной науки и церкви наиболее «просвещенные» граждане противопоставляют идеи, идущие с Древнего Востока, из эзотерических и других источников. Что делать в этой ситуации философам? Рискну высказать ба­ нальность: начать разбираться во всем заново и желательно всерьез. О том, как формировалось представление о душе в классической фи­ лософии и как оно трансформировалось в философии неклассиче­ ской, и пойдет речь в этой книге. Автор пытается охарактеризовать разные тенденции, обозначившиеся в философском развитии. При этом особое внимание, наряду с религиозным и естественно-научным, уделяется культурно-историческому пониманию феномена души. *** Автор выражает благодарность С.Н. Марееву и С.Н. Бычкову за помощь в разработке концепции работы. Глава первая Античность: постановка проблемы Перефразировав древних римлян, можно сказать, что все дороги ведут в Афины. К какой бы теме в философии мы ни прикоснулись, везде истоки истины и заблуждения следует искать там, где на смену фисиологии приходит античная классика. Тоже касается неклассиче­ ской философии, которая, самоопределяясь, постоянно соотносит себя с античностью, притягиваясь к одному и отталкиваясь от друго­ го. А. Шопенгауэр признавал лишь двух учителей, одним из которых был Платон. С. Киркегор постоянно сопоставлял себя с Сократом. Для Ф. Ницше Сократ — та фигура, которая определила современный тупик европейской культуры. Л. Шестов — не столько начало, сколько «расцвет» неклассиче­ ского философствования. Но и его притягивает античность, в кото­ рой он видит время декаданса и даже более радикально — грехопаде­ ния, связанного с доверием к разуму, который у Шестова напрямую ассоциируется со Змием Искусителем. «Когда читаешь размышления Ф. Ницше о Сократе, все время невольно вспоминаешь библейское сказание о запретном дереве и соблазнительные слова искусителя: бу­ дете знающими»1. И все же первым, согласно Шестову, был искушен не Сократ, а Анаксимандр. Ведь именно он указал, что за спиной у рождений и смертей стоит роковая необходимость. И доступна она не магическим силам, а силе ума. Фисиология в лице Фалеса и Анаксимандра дейст­ вительно открыла дорогу натуральной логике, когда вещи начали объяснять из них же самих. В соответствии с такой точкой зрения, вещи существуют не за счет сообщенной им прародителем силы, а за счет своего внутреннего устройства, которое впоследствии назовут сущностью вещи. В объяснении вещей из них самих — начало логиче­ ского анализа и умозрения. 1 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. С. 8. 9 I Глава первая. Античность: постановка проблемы Тем не менее, фисиология ранних греков — это еще не собственно философия. Здесь присутствует изначальный синкретизм, т. е. нерас­ члененность того, что впоследствии станет философией и естество­ знанием. В ответе на вопрос о природе вещей у «досократиков» уже намечен путь к субстратной и субстанциальной точкам зрения. Пер­ вая явным образом представлена у Анаксимена, где многообразие ве­ щей производно от сгущения и разрежения воздуха. Вторая точка зре­ ния представлена у Гераклита, где уже присутствует категория меры, и вещи подобны модификациям вечно живого Огня. В трактовке Анаксименом воздуха в качестве архе можно видеть предтечу механистиче­ ского материализма, господствовавшего в европейской науке на про­ тяжении многих веков. Соответственно представления об Огне у Ге­ раклита и о гомеомериях у Анаксагора — предвестники понятия материи как субстанции в европейской философии. И все же Гераклит и Анаксагор, подобно другим «досократикам», находятся за пределами собственно философского размышления. Философия самоопределяется при решении проблемы человека и именно там, где человек предстает в качестве противоречивого един­ ства духовного и физического, души и тела. Таким образом, филосо­ фия становится возможной при осознании феномена идеального. И эта граница как раз проходит между учением Сократа и «досократиков». 1. «Досократики»: связь души с природными стихиями Речь в данном случае идет не о словах, а о понятии. А к понятию души мы приближаемся там, где речь идет об ее идеальности. Что ка­ сается учений «досократиков», то в них еще нет такого понятия, кото­ рое в философской классике означает идеальность души и наличие идей и идеалов в качестве ее общих основ. Все это как раз и выделяет человека из природного мира. И с этим согласится даже материалист, если он стоит на точке зрения классической философии. Что касается вульгарного материализма, то последний редуцирует идеальные проявления к сугубо телесным актам. И в этом смысле вульгарный материализм, как крайняя форма естественно-научного материализма, раскрывает его тайну. Суть этой тайны — в неумении не только решить, но и поставить проблему идеального. Для боль­ шинства естествоиспытателей, как в свое время для фисиологов, душа есть нечто, к чему можно отнестись вполне телесным образом — взвесить, обмерить, разделить. Так, по свидетельству доксографов, 10 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Фалес, уверенный в одушевленности всего на свете, доказывал это с помощью янтаря и магнесийского камня, т. е. магнита1. Итак, «досократики» признают душу руководящей инстанцией по отношению к телу, что, кстати, не противоречит мифу. Но характер души для фисиолога находится в прямой зависимости от ее состава. И в этом новый пункт в понимании природы души, который свиде­ тельствует о своеобразии точки зрения фисиологии. Обратимся для начала к Гераклиту, который различал души людей по их способности воспринимать истину в форме Логоса. Следует уточнить, что поначалу «λόγος» у греков означал лишь «слово», «рас­ сказ», «повествование». Только со временем так стали называть некий космический порядок и закон. Что касается Гераклита, то большин­ ство исследователей его творчества признает ту трактовку Логоса, ко­ торая вошла в европейскую философию благодаря стоикам. «Выслу­ шав не мою, но эту-вот Речь (Логос),— говорит Гераклит,— должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно»2. Принято считать, что тот Логос, о котором говорится в данном фрагменте, уже является космическим порядком и одновременно словом, посредством которого вещает сама истина об устройстве мира. При этом процесс познания предстает перед нами не в форме свободного поиска истины, как это происходит в современной науке, а как нечто, сходное с откровением. Не человек открывает здесь исти­ ну усилиями своего разума, а, наоборот, истина открывается ему, а точнее, овладевает человеком, если он имеет соответствующую душу. Здесь вспоминается пифия, игравшая незаурядную роль в жизни древних греков. Ведь надышавшись ядовитых испарений из рассели­ ны гор, она прорицала людям их судьбу, будучи как бы захваченной потоком мистических сил. Тем не менее, мудрец у Гераклита — это уже не пифия, поскольку подчиняет свою душу не мистическим си­ лам, а Логосу как разумному слову. И при такой, идущей от стоиков, трактовке Логоса, мысль мудреца и внутренний порядок мира, соот­ ветственно, есть одно и то же. Но, наряду с той трактовкой, согласно которой устами мудреца говорит вселенский Логос, существует другая точка зрения. Ее отли­ чие от предыдущей в том, что воззрения Гераклита намного ближе к мифологическому взгляду на мир, чем считали стоики. А потому Ло­ гос у Гераклита — это именно слово, сказанное людям богами. И по1 2 Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1. С. 100. Там же. С. 199. 11 I Глава первая. Античность: постановка проблемы тому не следует приписывать более поздние значения следующему фрагменту, дошедшему до нас: «Кто намерен говорить... с умом, те должны крепко опираться на общее... для всех, как граждане поли­ са — на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного, божественного: он простирает свою власть так да­ леко, как только пожелает, и всему довлеет, и (все) превосходит»'. В частности, А.Ф. Лосев различает две точки зрения на гераклитовский Логос, указывая их сторонников. Сам он склонялся к трак­ товке стоиков. Речь, таким образом, идет о том, признавал ли Герак­ лит некую вселенскую необходимость, которую отождествлял с «об­ щим», или имел в виду только законы полиса, подкрепленные авторитетом богов. Иначе говоря, речь идет не о таких сложных ве­ щах, как граница между объективным и субъективным или различие законов природы и социальных законов. Гераклит находится лишь на подступах к понятию закона как необходимой объективной связи. И важно понять, на какой ступени этого пути он находится. То же самое касается его представлений о душе. Ведь к истине, как считает Гераклит, приобщаются немногие. И объясняет он это «варварскими душами» своих сограждан, неспособных к восприятию Логоса. Грубыми душами, по его мнению, обладали и известные люди прошлого — Гомер, Гесиод и Пифагор, а также Ксенофан и Гекатей. «Гомер стоил того,— отмечает он,— чтобы его выгнали с состязаний и высекли, да и Архилох тоже»2. Большинство людей подобны глухим, указывает Гераклит. Они ведут себя наяву, подобно спящим. Согласно легенде, сокрушаясь по поводу тупости людей и презирая их за это, Гераклит в бессильной ярости плакал. Поэтому за ним закрепилось имя «Плачущий философ». Главное, однако, в том, что причину «варварства» в душах людей Гераклит видел именно в составе этих душ, т. е. в их вещественном состоянии. Дело в том, что души людей, согласно Гераклиту, происхо­ дят из влаги. «Душам смерть — воды рожденье,— говорил он,— воде смерть — земли рожденье, из земли вода рождается, из воды — душа»3. Однако при этом души склонны высыхать. И в результате сухая душа оказывается наилучшей. Разница между «влажной» и «сухой» душой как раз и определяет, по Гераклиту, различие между глупым и умным человеком. Например, 1 2 3 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. С. 197. Там же. С. 203. Там же. С. 229. 12 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии пьяница, по его мнению, безусловно, имеет влажную душу. «Когда взрослый муж напьется пьян,— свидетельствует Гераклит,— его ведет (домой) безусый малый; а он сбивается с пути и не понимает, куда идет, ибо душа его влажна»1. В то же время душа мудреца самая сухая и наилучшая. Характерно, что в состоянии предельной сухости душа человека, по Гераклиту, излучает свет, свидетельствуя уже о своей ог­ ненной природе. Причем, переселяясь в Аид, души мудрецов играют там особую роль стражей живых и мертвых. Напомним, что, по пове­ рьям древних греков, души умерших к реке Стикс провожает сам бог Гермес, держа их при этом за руку. Сухость и свет, отличающие лучшие из душ, по свидетельству не­ которых доксографов, могут соответствовать лишь внеземному эфи­ ру, но никак не земным огню и свету. И, тем не менее, еще раз повто­ рим, что душевные изменения, которые способствуют постижению истины, носят у Гераклита вполне вещественный характер. Души глупцов, согласно Гераклиту, состоят из влаги, а души мудрецов — из огня. Что касается природы души вообще, то этот вопрос попросту еще не ставится. Как мы видим, мысль раннегреческих мыслителей еще не обрела той ясности и строгости, которую они сумели продемонстрировать в своих математических построениях. Отсюда «швы» между рассудоч­ ной логикой и мифологической фантазией, которые просматривают­ ся по всему полю фисиологических построений «досократиков». Как раз на стыке логики и фантазии и рождаются учения фисиологов о телесной душе, состоящей из разных стихий. И даже там, где приме­ нительно к душе речь идет о неких «эйдолах», как у Демокрита, они не привносят в представления о ней ничего собственно идеального. Известно, что учение Демокрита вызывало огромную неприязнь у Платона, который однажды попытался сжечь все собранные им рабо­ ты этого мыслителя. Характерен и тот факт, что Платон ни разу не упоминает о Демокрите в своих произведениях. И делает он это, ско­ рее всего, умышленно. Шаблонное объяснение заключается в том, что первый идеалист античного мира уже по определению должен ис­ пытывать неприязнь к самому известному и последовательному ан­ тичному материалисту. Но ситуация на деле и сложнее, и проще, по­ скольку Демокрита нельзя признать материалистом в позднейшем смысле этого слова. Здесь перед нами отнюдь не два решения одной 1 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. С. 233. 13 I Глава первая. Античность: постановка проблемы проблемы — материалистическое и идеалистическое. Суть в том, что те проблемы, которые пытается решить Платон в своем учении об идеях, для Демокрита просто не существуют1. Забегая вперед, скажем, что смысл учения об идеях у Платона — в обосновании родовой сущности вещей и людей. Ведь уже Гераклит, заявляя, что все течет, вводит представление о мере как моменте по­ стоянства в потоке изменений. И гомеомерии Анаксагора — это тоже попытка объяснить, откуда берется качественная определенность всех предметов и существ. Почему, к примеру, кошка всегда остается кошкой, и, даже погибая, не становится собакой? Что именно удер­ живает ее в этом «кошачьем состоянии»? И почему у кошки при лю­ бых обстоятельствах все равно рождаются котята, а на яблоне все рав­ но вырастают яблоки, а не, к примеру, помидоры? Еще сложнее об­ стоят дела с человеком, у которого деятельность души связана с единством личности, что позволяет узнать человека через много лет по складу характера, особенностям мышления и поведения, другим проявлениям его Я. Но именно родовое своеобразие вещи, которое Платон связывает с ее «эйдосом», не существует для Демокрита. Зато у Демокрита мы находим «эйдолы». И различие между «эйдосами» (eidos) Платона и «эйдолами» (eidol) Демокрита носит принципиальный характер2. Оба приведенных слова переводятся на русский язык прежде всего как «образ», «облик», «очертание». Именно из уверенности в том, что все в мире должно иметь внешние очертания, исходит в своем учении Де­ мокрит. При этом ни в одной из вещей он не предполагает внутренней основы, способной удерживать атомы в составе этой вещи. Своеобра­ зие атомизма Демокрита состоит в том, что атомы, соединившись в вещь, могут разъединиться и разлететься при сотрясении и ударе. А потом соединиться вновь уже в ином варианте и иной комбинации. В этом свете не только тело человека, но и его душа, согласно Де­ мокриту, может распадаться на атомы. Душа, как считал Демокрит, распадается на шарообразные составляющие, из которых состоит и огонь. Таким образом, душа, по его убеждению, смертна. Причем смерть человека он связывает с выдыханием огневидных атомов 1 Предлагаемая трактовка учения Демокрита делает довольно условным ленинское противопоставление «линии Демокрита» как первого материалиста «линии Платона» как первого идеалиста в его работе «Материализм и эмпириокритицизм» (см.: Ленин В.И. Поли, собр. соч. Т. 18. С. 131). 2 На употребление Демокритом термина «eidol » указывает Э. Целлер. См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1996. С. 72. 14 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии души. В своей работе «О душе» Аристотель так характеризует пред­ ставления Демокрита и Левкиппа о связи между дыханием и жизнью: «Оба они считают шаровидные атомы душой, потому что атомы такой формы больше всех в состоянии проникать повсюду и, сами будучи приведенными в движение, двигать и остальное; при этом оба полага­ ют, что именно душа сообщает живым существам движение. Поэтому с дыханием, по их мнению, кончается жизнь. Именно, когда окружа­ ющий воздух сжимает тела и вытесняет атомы... которые сообщают живым существам движение тем, что сами они никогда не находятся в состоянии покоя, возникает защита — благодаря дыханию входят извне другие атомы, которые препятствуют выходу содержащихся в живых существах атомов, противодействуя этому сжатию и затверде­ нию. И живые существа живут до тех пор, пока они в состоянии это делать»1. Итак, прекращение движения означает, по Демократу, что чело­ век буквально «испускает дух» в форме указанных огневидных ато­ мов. Естественно, что в процессе указанного кругооборота атомов души в результате дыхания они наполняют не только живое существо, но и мир, где пребывают в рассеянном состоянии. По свидетельствам того же Аристотеля, больше всего атомов души находится в воздухе, откуда люди извлекают их посредством дыхания. Что касается лока­ лизации души внутри человеческого тела, то животная неразумная часть души, позволяющая человеку двигаться, по убеждению Демо­ крита, распределяется по всему его телу. А разумная часть души долж­ на быть сосредоточена в районе груди, т. е. в легких. Однако уверенность Демокрита в телесности как животной, так и разумной части души, по мнению Аристотеля, приводит к нелепости. «Ведь если душа находится во всем ощущающем теле,— пишет он в работе «О душе» — то при предположении, что душа есть некое тело, необходимо, чтобы в одном и том же месте находилось два тела»2. Иными словами, согласно Аристотелю, в одном и том же месте не мо­ гут одновременно располагаться и тело человека, и «тело» его души. А из этого следует, что либо душа не находится в теле, либо она не является особым телом. Так рассуждает Аристотель. Интересно, что по мнению исследователя античности А.Н. Чанышева, точка зрения Демокрита не столь нелепа, как считал Аристотель. Если признавать существование пустоты между атомами, считает он, то тогда одно 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 375. Там же. С. 388. 15 I Глава первая. Античность: постановка проблемы тело как бы пронизывает другое. И таким образом, они оказываются совместимыми1. Как считал Демокрит, огневидные атомы вихрями носящиеся по Вселенной, могут сами по себе соединяться в образы, способные су­ ществовать довольно долго. Именно эти образы люди называют бога­ ми, поскольку последние могут влиять на их жизнь в лучшую или худ­ шую сторону. Приближаясь к людям вплотную, эти образы своим видом и звуками предсказывают будущее. А в результате те начинают поклоняться им и приносить жертвы. Среди прочего, люди, согласно Демокриту, поклоняются воздуху как вместилищу огневидных ато­ мов, называя его верховным богом Олимпа — Зевсом. Однако, воссоздавая точку зрения Демокрита на происхождение богов, нужно иметь в виду, что в дошедших до нас материалах она не выражена ясно и однозначно. И это позволило М.Т. Цицерону ули­ чать Демокрита в непоследовательности. «Что же сказать о Демокри­ те, который возводит в боги то «образы» в их беспорядочном движе­ нии,— пишет Цицерон,— то ту природу, которая изливает и посылает эти «образы», то нашу мысль и разум? Мне кажется, что Демокрит... колебался в вопросе о природе богов. То он считал, что во Вселенной есть образы, обладающие божественностью, то он утверждал, что боги — это атомы души, находящиеся в той же Вселенной, то одушев­ ленные «образы», которым свойственно помогать или вредить нам, то некие образы, столь огромные, что они охватывают весь наш космос снаружи»2. Приведенные выше слова Цицерона еще раз свидетельствуют о неоднозначности позиции Демокрита в этом вопросе. Но неодноз­ начность не означает наличия внутренних противоречий. Можно спорить с Демокритом о том, являются ли боги некими «образами», состоящими из атомов, которые одновременно входят в состав чело­ веческой души. Можно не соглашаться с тем, что такие атомы явля­ ются «элементами» наших мыслей. Можно не верить в то, что эти одушевленные образы беспорядочно движутся во Вселенной, помо­ гая или нанося вред людям. В конце концов, вслед за Цицероном, можно считать, что указанные представления о богах достойны ско­ рее родины Демокрита — города Абдеры, чем его самого. А город Абдеры на северо-востоке Эллады считался у греков родиной просто­ филь. Но нельзя доказать, что Демокрит противоречил сам себе или 1 2 См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С. 192. Цит. по: Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования. Л., 1970. С. 472. 16 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии же серьезно колебался в принципиальных моментах, касающихся природы богов. Взгляды Демокрита — последовательный атомизм, и в силу этой последовательности боги у него телесны. При этом он считает, что поклонение богам — это результат невежества, а именно незнания атомного строения мира. Иначе бы люди поняли, что не существует вечных и бессмертных богов, а существуют лишь бренные соедине­ ния огневидных атомов, наряду, к примеру, с «эйдолами». Причем и те и другие свободно перемещаются в пустоте, воздействуя на воспри­ нимающих их людей. Правда, в отличие от богов и демонов, «эйдолы» не возникают сами по себе, а испускаются вещами. Представление об «эйдолах» как подвижных телесных «образах» вещей напрямую связаны с объяснением Демокритом процесса зри­ тельного восприятия. Дело в том, что, согласно Демокриту, «эйдолы» постоянно истекают из вещей, будучи чем-то вроде их миниатюрных копий. Их испускают все вещи и растения. Но энергичнее всего они исходят из живых существ вследствие их движения и теплоты. Ориги­ нальность трактовки Демокритом зрительного восприятия отмечал представитель школы Аристотеля Теофраст. Согласно Демокриту, воздух, находящийся между глазом и предметом, «получает отпеча­ ток, сдавливаясь видимым и видящим»1. В свою очередь измененный воздух соприкасается с истечениями наших глаз. При этом, как под­ черкивает Э. Целлер, «каждый род атомов воспринимается однород­ ными ему атомами в нас»2. Это значит, что верный образ вещи, по Де­ мокриту, возникает там, где ее «эйдолы», прямо или косвенно, нахо­ дят внутри нас аналогичную себе основу. Тем не менее, по большому счету, любое восприятие, согласно атомистическому учению, не достигает подлинной сути мира. «Толь­ ко считают,— отмечает Демокрит,— что существует цвет, что сущест­ вует — сладкое, что существует — горькое, в действительности — ато­ мы и пустота»3. Из этого известного положения Демокрита, конечно, не следует, что он был скептиком. Ведь, сомневаясь в данных чувств, он уверен в возможностях разума. При этом мышление у него так же телесно, как и чувственное восприятие, и имеет место там, где у души надлежащая пропорция. Теофраст отмечает: «...что касается мышле­ ния, то Демокрит ограничился заявлением, что оно имеет место, ког1 Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946. С. 282. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1996. С. 72. ' Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования. Λ., 1970. С. 79-80. 2 17 I Глава первая. Античность: постановка проблемы да душа смешана в надлежащей пропорции... он сводит мышление к (характеру) смеси (атомов) в теле, что, по-видимому, соответствует его (учению), по которому душа — тело»1. Атомистические взгляды Демокрита часто отождествляют с атеиз­ мом. Так делает, к примеру, А.Н. Чанышев, который, подводя итог анализу позиции Демокрита, делает энергичный вывод: «Таким обра­ зом, атомисты — атеисты»2. Но, если позиция Демокрита — атеизм, то атеизм особого рода. Ведь Демокрит признает существование богов. Будучи противником всяких чудес и мистики, Демокрит признает предзнаменования, вещие сны и многое другое, если это находит свое естественное объяснение. И такое естественное объяснение связано с наличием богов и демонов в качестве вполне телесных образований. Обоснование бытия богов Демокритом — характерный пример фисиологических построений. Для богов как бессмертных мифиче­ ских существ в его учении уже места нет, как нет в нем места для бога в качестве Высшего Блага, совершенства и идеала. Зато в нем нашлось место для того, чему больше подходит название не «идеал», а «идол». Ведь именно «идолом» принято называть ограниченное в своей те­ лесности воплощение божества. Такие воззрения можно определять как атеизм, имея в виду то, что Демокрит отказался от традиционного отношения к богам. Эти же воззрения можно характеризовать как те­ изм, поскольку у Демокрита боги по-прежнему реальны, существуя рядом с нами. Боги, согласно Демокриту, смертны и состоят из ато­ мов, но по большому счету это не отдаляет, а сближает их с богами из античных мифов. Ведь Гея и Уран, Крон и Рея, Зевс и Гера восприни­ мались греками как вполне телесные существа, в отличие от того, как будут воспринимать Создателя христиане. И все же главное то, что такого рода «атеистический теизм» не предполагает веры в бога как исток любой религиозности. Боги для Демокрита — не предмет культа, а объект исследований. Представле­ ния о них органично вписываются в его фисиологические построе­ ния. Более того, представления о мире, наполненном телесными «эйдолами», и о богах, подобных ограниченным идолам, вполне законо­ мерны для этой формы знания. Такова позиция фисиологии, которая еще не опирается на развитую опытную базу, чтобы адекватно, как это делает естествознание, судить о природе. 1 2 Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования. С. 460. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С. 202. 18 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Что касается человека, то, даже не поставив проблему идеального, фисиолог судит о нем столь же неадекватно. Признавая между душой и телом причинно-следственные связи, он меряет душу вещной мер­ кой. И этот взгляд близок тому, что проповедуют современные экстра­ сенсы, для которых душа, как и бог, есть разновидность «тонкой мате­ рии». А следовательно, взаимоотношения человека с богом, а также его общение с демонами, привидениями и другими «потусторонни­ ми» явлениями, можно корректировать чисто физическими воздей­ ствиями, осуществляемыми от имени и под «покровительством» со­ временного естествознания. Еще раз повторим, что такого рода вещный взгляд на душу не стоит проводить по ведомству философского материализма. Здесь еще от­ сутствует та система координат, в которой философская классика в борьбе идеализма и материализма будет осмыслять проблему свое­ образия человеческой души. Путь к адекватной постановке этой про­ блемы связан с обсуждением проблемы истоков добродетели. А это значит, что пора перейти к софистам и Сократу. 2. Софисты и первый опыт субъективизма Если у «досократиков», и в частности у Демокрита, человеческое поведение и движения его души объясняются, исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира ближайших природных связей, рассма­ тривая его действия через призму того, что именуется «наилучшим». Тем самым классическая философия обретает свой особый предмет, не совпадающий с предметом естественных наук. Трансформируется и метод теоретической рефлексии, который у Сократа связан с майевтическим диалогом. Чтобы обозначить ту новую проблему, которая впервые была поставлена Сократом, обратимся к диалогу Платона «Федон» в том месте, где, согласно комментариям А.Ф. Лосева, речь идет о душе как эйдосе жизни. Беседуя перед казнью с учениками, Сократ в этом диалоге характеризует свое отношение к воззрениям Анакса­ гора. Сократ удивляется тому, что, признав Ум главной причиной и устроителем мира, Анаксагор исключил его из рассмотрения от­ дельных процессов, обращаясь при этом к воздуху, эфиру, воде и многому другому. Объясняя суть обсуждаемой проблемы, Сократ приводит в пример самого себя, ожидающего исполнения смерт­ ного приговора. 19 I Глава первая. Античность: постановка проблемы Если рассуждать подобно Анаксагору, говорит Сократ, то следует сказать: «Сократ сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться и окружают кости — вместе с мясом и кожею, которая все охватывает. И так как кости сво­ бодно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись»1. Продолжая свою мысль, Сократ от­ мечает, что и для его беседы с учениками тоже можно указать причи­ ны в виде движения воздуха, звуков голоса и тому подобного, прене­ брегая главным, а именно тем, что раз афиняне сочли нужным осу­ дить Сократа на смерть, то он считает справедливым оставаться на этом месте и понести наказание. «Да клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы в Мегарах или в Беотии, увлечен­ ные ложным мнением о наилучшем — возмущенно заявляет Сок­ рат,— если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство»2. Уже в этом небольшом, но характерном отрывке из «Федона» об­ наруживает себя своеобразие точки зрения Сократа, который не мо­ жет объяснить поведение человека, исходя из естественных причин и законов, которым подчиняется наш организм. Поведение человека вы­ ходит за рамки жизнедеятельности организма. И знание о «наилуч­ шем» в примере, приведенном Сократом, является причиной высшего порядка, выводящей людей за пределы природного мира. У Аристотеля такого рода причины будут выделены как целевые. Что касается Сократа, каким он предстает в «Федоне», то здесь просма­ тривается та фундаментальная особенность классической философии, которая определит ее дальнейшее развитие. Если Демокрит смотрит на человека через призму вещи, то Сократ из «Федона» смотрит на вещи с точки зрения человека. В результате он не понимает, почему Анаксагор судил об отдельных процессах природы, исходя из особенностей возду­ ха, эфира, воды и т. д. Согласно Сократу, теперь уже обо всем на свете нужно судить с точки зрения Ума как устроителя Вселенной. А это как раз и означает мерять весь мир человеческой мерой. Но вернемся к поведению человека. Итак, не кости и сухожилия определяют суть человеческих поступков, а представления о «спра' Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993-1994. Т. 2. С. 57. Там же. С. 57-58. 2 20 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ведливом» и «наилучшем». Есть в человеке нечто, что руководствует­ ся этими представлениями. Этим «нечто» является душа, для которой значимы не столько телесные желания, сколько представления раз­ ума. Проблема, однако, заключается в том, что, руководствуясь разу­ мом, душа часто действует наперекор телу. И это мы видим на приме­ ре того же Сократа. Его жилы и кости могли бы уже давно находиться на воле в Мегерах, но Сократ обрекает их на муки тюремной неволи, а затем на гибель, исходя из представления о «наилучшем». Именно душа Сократа обрекает тело на страдания и гибель. И сколько б мы ни изучали организм человека, вплоть до самой высшей нервной дея­ тельности и до последней нервной клетки, мы не найдем в нем по­ требности или необходимости в подобной добровольной жертве. Тем более там, где его жизни и жизни близких ничего не угрожает. Таким образом, Сократ обнаруживает в душевных движениях че­ ловека тенденцию, которая, согласно философской классике, проти­ воположна той, что господствует в природном мире. Наши духовные мотивы и цели, связанные с представлениями разума, есть нечто от­ личное и даже противоположное телесным желаниям. Они противо­ положны стремлениям тела по направленности и по сути. Ведь налицо существенная разница между простой телесной жаждой и жаждой справедливости, которой руководствовался Сократ, соглашаясь под­ чиниться решению о казни. В первом случае поведение человека определяет частная потребность его организма. Во втором случае по­ ведение человека обусловлено некими общими представлениями. А это значит, что в устремлениях души может быть представлено не­ что общее, и в этом качестве душа противостоит телу как чему-то частному. А также, если принять позицию Сократа и Платона, она может противостоять чувственным проявлениям в самой себе. Вопрос об основаниях человеческой жизни считается главным в учении Сократа. Недаром его взгляды обычно определяют как этиче­ ский рационализм. Рационализмом позиция Сократа является потому, что именно разум, который он именует «отвлеченными речами», ори­ ентирует поведение на некие объективные основы. Иначе предлагали действовать человеку современники Сократа — софисты. И в проти­ востоянии Сократа и софистов — главный нерв формирующейся ан­ тичной классики, в противовес тому, как представлял их взаимоотно­ шения комедиограф Аристофан в своем произведении «Облака». По сути Сократ настаивал на объективной мере, которой человеку следует мерить свои поступки, определяя их низость или, наоборот, 21 I Глава первая. Античность: постановка проблемы величие. Именно у него эта мера превращается из внешних предписа­ ний богов и образцов, задаваемых героями, во внутреннюю инстан­ цию — знание души о «наилучшем». Но открытие некой объективной инстанции не вне, а внутри нас могло состояться только после того, как интересы философии переместились во внутренний мир челове­ ка—в мир его желаний, предпочтений, приоритетов. И этот сдвиг, подготовивший открытие Сократа, осуществили как раз софисты. Мы будем говорить в основном о Протагоре. Ведь несмотря на то, что софисты видели свою задачу в обучении юношества, у них не было философской школы в позднейшем платоновском или аристо­ телевском смысле слова. Напомним, что интересы софистов переме­ стились в область, почти неизвестную «фисиологам». Центр исследо­ ваний Протагора — это уже не астрономия и математика, а логика, фамматика и риторика, а также политика и право. Словом, это то знание, которое главным образом обращено к нуждам отдельного ин­ дивида, а вовсе не к основам мироздания. Будучи первыми платными учителями греков, софисты обучали их мудрости в домашних и государственных делах. Так в диалоге «Протагор» Платон вкладывает в его уста слова о том, что софист не должен терзать юношей упражнениями из области геометрии, астро­ номии и музыки. Задача софиста — научить юношей управлять до­ мом, а также быть сильными в поступках и речах, касающихся госу­ дарства. А здесь главное — уметь рассуждать и доказывать свою пра­ воту. Причем уточним, что между рассуждением и доказательством существует различие. Ведь любое рассуждение — это процедура срав­ нения и выбора, тогда как суть доказательства в обосновании выбора, уже сделанного человеком. Итак, софисты помогали фекам выявлять основания своих по­ ступков, которые принято называть мотивами. Искусство мотивиро­ вания, изощренность доводов, умение произвести впечатление на собеседников — вот цели, которые преследовали юноши, обучаясь у софистов. Но все это не имеет ровно никакого смысла, пока за инди­ видом не признано право на самостоятельность, то есть право посту­ пать согласно внутренним побуждениям, а не только в соответствии предписаниями, освященными божественным авторитетом. Вот по­ чему деятельность софистов была сопряжена с критикой традицион­ ных устоев и с ниспровержением веры в олимпийских богов. Путешествуя по Греции, Протагор дважды посещал Афины. Во второе посещение он даже разработал проект новой конституции по 22 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии просьбе Перикла. Но, как известно, именно тогда он был схвачен и приговорен судом к казни. Причиной столь строгого приговора стала работа Протагора «О богах», начинавшаяся словами: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни»1. Мы знаем, что Протагору удалось избежать казни. Подобно Анак­ сагору, он был изгнан из Афин, а его книга публично сожжена. Но в данном случае важна не внешняя фактическая канва, а те средства, которые использует Протагор в своей критике староотеческих богов. Судя по приведенному фрагменту, в отношении богов можно рассуж­ дать, исходя из двух оснований. Во-первых, это человеческий разум, способный разобраться в ясно поставленных вопросах. А, во-вторых, это личный опыт человека, позволяющий ему отличать истину от заб­ луждения. Таким образом, вопрос о вере оказывается у Протагора трансформированным в анализ знания, критерий истинности кото­ рого непосредственно связан с индивидом. Обратим внимание на то, что разум у Протагора — это уже не ма­ нифестация космоса, как это было у «фисиологов», а собственная сил и орудие человека. Знания человека, как и сам мир, в «фисиологии» оказываются расколоты надвое. Для «фисиолога» только разум имеет отношение к истине. А значит разум выражает устойчивую основу мира, а мнение — его изменчивую внешность. Истина оказывается выражением первоосновы мира, и приобщение к ней не зависит от личных качеств индивида. Для «фисиолога» главное — вступить на путь истины, который для всех один и тот же. А вступивший на путь истины оказывается орудием космоса. Его устами вещает истина, а поступками руководят боги. Для «фисиологов» не существует проблемы личных способно­ стей, зато важен вопрос об образе жизни человека, который способст­ вует приобщению к истине. Таким образом, мыслящий человек в «фисиологии» предстает в роли своеобразного медиума, через которо­ го действует космос. И даже философ в таком случае предстает скорее в роли проводника и средства, чем субъекта процесса познания. Иначе решают эту проблему софисты, у которых разум впервые становится личной силой и способностью человека. Быть мудрым у со фистов — это значит уметь свободно мыслить, что совпадает с умениАнтичные философы: свидетельства, фрагменты и тексты. Киев, 1955. С. 123. 23 I Глава первая. Античность: постановка проблемы ем выражать мысли в свободной и грамотной речи. Софисты еще не отличают ум от разумной речи. Но в этой свободе ума и речи — главное открытие софистов. Ум, который у «фисиологов» был орудием космо­ са, у софистов становится личной способностью, позволяющей чело­ веку впервые ощутить власть над миром. Софисты открывают воз­ можность судить обо всем на свете, доказывая то одно, то другое в равной степени убедительно. Пусть не наделе, но в словесном диало­ ге, в котором они были мастерами, софисты ставят мир в зависимость от себя самих как исходной тонки отсчета. Здесь стоит сделать отступление и указать на то, что ум становится началом свободы, а точнее произвола, уже в учении Анаксагора, ко­ торый стоит особняком среди «досократиков». Правда, Анаксагор го­ ворит не о человеческом, а о божественном уме, по своему желанию устраивающем мир природы. В вопросе о первооснове бытия Анакса­ гор исходит из существования, с одной стороны, многообразия гомеомерий в природе, а, с другой стороны,— внеприродного Нуса, кото­ рый как раз и выводит исходную природную смесь из состояния неу­ порядоченности и неподвижности. Сам будучи неподвижным, и, в отличие от гомеомерий, простым и неделимым, Нус является у Анак­ сагора движущей силой всего мироздания. Задав круговое движение «подобочастным», Нус, согласно Анаксагору, организовал их в форме вещей, определив тем самым облик известного нам мира. Итак, Нусу в учении Анаксагора отводится роль верховного пра­ вителя Вселенной. При этом его нельзя путать с Логосом, согласно его стоической трактовке. В таком понимании Логос — это космиче­ ская необходимость, которая не может быть проигнорирована ни ве­ щами, ни людьми, ни богами. Иначе правит миром Нус, волю кото­ рого, в противовес Плутарху, можно сравнить со случаем, именуемым у греков «тюхе». Однако, если Нус не несет в себе закона и необходи­ мости, то кто и что помешает ему, однажды начав движение мира, столь же неожиданно его прекратить? Надо сказать, что суждения Анаксагора о божественном Нусе были столь впечатляющими, что современники прозвали его самого Нусом. Но наиболее высоко его оценили потомки. Ведь по сути дела Анаксагор впервые обозначил противоположность действий ума и природных процессов. Вынеся Нус за пределы мира природы, Анакса­ гор по сути вступил на тот путь, который привел в дальнейшем к от­ крытиям софистов и Сократа. Но это еще не все, поскольку, сделав Нус запредельным миру, он наделил его произволом. «Только один 24 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Анаксагор утверждает,— пишет Аристотель,— что ум ничему не под­ вержен и ни с чем другим ничего общего не имеет»1. Итак, Нус Анаксагора — это самовластное начало бытия, которое, как подчеркивал он сам, знает все, но при этом его собственная воля и власть для людей непостижимы. То, что смысл деяний Нуса не про­ сто скрыт от человека, но непостижим, поскольку по сути произво­ лен, более всего раздражало оппонентов Анаксагора. Так Аристотель возмущался тем, что Нус у Анаксагора играет роль «бога из машины». Известно, что во время театральных представлений, так любимых греками, в случае безвыходных ситуаций, на подмостки сверху опу­ скалось механическое устройство, несущее «бога», который своей во­ лей все счастливо устраивал. Сравнивая Нус с таким «богом из маши­ ны», Аристотель подчеркивал, что, к сожалению, у Нуса нет своей строго необходимой роли в теории Анаксагора, и он появляется в ней всякий раз, когда что-то нельзя объяснить другими причинами2. Еще более резко по поводу самовластия Нуса высказывался Кли­ мент Александрийский, отмечавший «глупость» этого ума. И подоб­ ные нападки вполне объяснимы, поскольку преимущество логики, с точки зрения античных философов, заключается в том, что она по­ зволяет представить весь мир как организованное целое, живущее со­ гласно законам, а не прихотям слепых стихийных сил, действующих в мире. Однако в случае с Нусом все получалось как бы наоборот. Ум, который у других «досократиков» был представителем вечной и неиз­ менной истины бытия, у Анаксагора вновь стал превращаться в источник стихии. Однако это была уже другая стихия, о которой в полный голос заговорили именно софисты. Речь идет о стихии субъективной жизни человека. Ведь обуздание природной стихии давалось человеческому роду по мере того, как он учился сам определять течение окружающей жизни. Но способность к самоопределению коварна. На первых порах она оборачивается произ­ волом. В результате исторически сила человеческого рода прибывала за счет вызревания иной стихии. Это уже стихия не природных сил, а индивидуальных воль и стремлений человека. С помощью своего «са­ мовольного» Нуса Анаксагор лишь косвенно заявил об указанном стремлении к самоопределению. Тем не менее, представление о Боге, способном по собственному желанию сотворить мир, нашла свой от­ звук в христианском вероучении и христианской философии. 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 379. См. там же. С. 74. 25 I Глава первая. Античность: постановка проблемь Что касается софистов, то именно у них ум из божественной ин­ станции превращается в человеческую способность. Ум у софистов — это способность к самостоятельному решению и действию, предполаг ющим определенные правила. Но движущая сила, определяющая мани­ пуляции с правилами ума у софистов,— это по большому счету произвол. Игнорируя тонкие различия между старшими и младшими софистами, заметим, что логика в ее софистическом варианте предпо­ лагает законы не как нечто объективное, а как субъективные правила игры. До сих пор софистикой именуют внешне грамотные суждения, которые не соответствуют действительности. Сиюминутная убеди­ тельность — главная цель софиста, ради которой он пользуется крас­ норечием и разворачивает систему аргументации. А за спиной сию­ минутной убедительности стоит личный интерес, который обслужи­ вает развитая логическая способность. По сути перед нами потребительское отношение к разуму, когда он не ищет истину, а обслуживает частные потребности. И такую по­ зицию в отношении разума впервые заняли софисты. В комедии Аристофана «Облака» земледелец Стрепсиад хочет избавиться от дол­ гов, и с этой целью он обращается в «мыслильню» к софистам. Его цель — выучиться тем уловкам, которые помогут везде и всюду побеж­ дать. Устами Стрепсиада Аристофан объясняет занятия софистов: И тем, кто денег даст им, пред судом они Обучат кривду делать речью правою1. Конечно, никакой специальной «мыслильни» у софистов не было. Как не было среди них и Сократа, который осуждал софистов за ис­ пользование мышления в сиюминутных и своекорыстных целях. Для него мышление — это способ свободного отыскания истины, и преж­ де всего объективной истины человеческого существования. По сути дела софисты низвергли разум с того трона, на который его возвели античные «фисиологи». Софизмы, которые они широко применяли и которым за плату обучали других, рождаются в житей­ ской практике. Софизм по его происхождению — это житейское прим нение мышления. В этом смысле жизнь и деятельность античных софи­ стов опровергает расхожее мнение, будто нужда в софизмах может возникнуть лишь в теоретическом споре или в ходе политического Античная литература. Греция: Антология. М., 1989. 4.2. С. 9. 26 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии диспута. В действительности софистика вырастает уже на почве жи­ тейских интересов. Ведь суждения о жизни с позиции выгоды и поль­ зы — это признак здравого смысла и рассудительности человека. И даже там, где собственную выгоду противопоставляют всему друго­ му, люди остаются в пределах здравого смысла и житейской смекалки. Но именно здесь и возникает первая нужда в софистике, когда рас­ судку нужно обосновать весомость данного решения. Иначе говоря, софизмы неминуемы там, где логику подчиняют личному интересу, а критерием достоверности суждений и выводо становится сам индивид с его заботами, желаниями и страстями И надо сказать, что античные софисты были достаточно откровенны, освещая суть своей позиции. Вспомним хотя бы известное высказы­ вание Протагора из его работы «Истина, или Ниспровергающие речи»: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они суще­ ствуют, и несуществующих, что они не существуют»1. Заметим, что Протагор здесь честен, но неточен. Ведь точкой от­ счета в учении софистов стал не столько «человек», сколько «инди­ вид». И, уточнив эту разницу, мы поймем, почему так яростно спорил с софистами Сократ. Дело в том, что, подчиняя мышление теперь уже не космосу, а человеку, софисты не наделяют его автономией. Да и сам человек у них отнюдь не автономен, если иметь в виду собствен­ ный смысл этого слова, которое переводится с греческого как «пола­ гающий закон самому себе». Спор в данном случае идет о том, чем должен руководствоваться человек в своей жизни. Ведь, если греки не желают больше следовать традициям, то могут ли они найти в самих себе столь же весомый закон и основу для совместной жизни? Или до­ статочно опереться на частный интерес и личный мотив, участвуя в погоне за жизненным успехом? Софисты по сути отстаивали второе, полагаясь во всем на отдель­ ного индивида. А в результате проблема объективной истины превра­ щается в вопрос о субъективной оправданности человеческих поступ­ ков. Ведь у русского слова «оправдать» есть разные смыслы. И один из них связан с поиском мотивов и причин совершенного поступка. С этой точки зрения, у каждого из нас своя «правда», поскольку лю­ бой поступок будет иметь свои побудительные мотивы. Разбираясь в связи с софистами в этом вопросе, Гегель остроумно замечает, что в любом, даже самом дурном поступке заключена точка Античные философы: Свидетельства, фрагменты и тексты. Киев, 1955. С. 121. 27 I Глава первая. Античность: постановка проблемы зрения и определенный мотив, выдвигая который можно извинять и защищать этот поступок. Так делают дезертиры во время войны, объ­ ясняя свое поведение «обязанностью» сохранения собственной жиз­ ни. И чем образованней человек, замечает Гегель, тем лучше он обо­ сновывает свой дурной поступок1. Более того, задача адвоката на суде — объяснить и обосновать мотивы действий преступника. Он до­ казывает, что в действиях преступника была своя «логика», а значит и своя «правда». И тем не менее, окончательное решение выносит суд. Именно он устанавливает истину, учитывая аргументы всех сторон и оценивая ситуацию с позиции закона и нравственных принципов. Таким образом, не только Гегель, но и современный суд стоит на позиции объективного смысла человеческих поступков. Что же касает­ ся софистов, то для них важнее всего не то, что есть на самом деле, а то, что ощущает и переживает индивид. В пересказе Секста Эмпири­ ка мысль Протагора о человеке как «мере всех вещей» должна пони­ маться следующим образом: «все, что представляется людям, то и су­ ществует, а то, что не является никому из людей, то и не существует»2. Но люди воспринимают мир по-разному, замечает Секст Эмпирик, в зависимости от своих состояний. Разное восприятие у больного и здорового, старца и юноши, спящего и бодрствующего, у человека живущего естественной жизнью и жизнью противоестественной. А потому критерием достоверности могут быть лишь телесные состо­ яния данного конкретного индивида. Итак, мир таков, каким он является мне в данный момент. В дру­ гой момент и для другого человека мир оказывается другим. Но тогда точкой отсчета мы должны признать не данного индивида как целое, а его состояние и даже ощущение в данный момент. Ведь в следующий момент ощущение будет уже иным. Вполне понятно, что, двигаясь в этом направлении, мы вынуждены признать, что ни в нас, ни в мире нет ничего постоянного. Есть только бесконечное изменение, и в этой бесконечной смене ощущений не стоит искать ни связности, ни смысла, ни, тем более, внутренней основы. Судя по дошедшим до нас материалам, подобной последователь­ ности в утверждении своей позиции Протагор не проявил. Ведь лю­ бые поступки, если дойти до края в таких суждениях, уже становятся неуместными. И тогда Протагору пришлось бы оставить обучение молодежи и погрузиться в поток самоощущений, фиксируясь в от1 2 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн. СПб., 1994. Кн. 2. С. 20-21. Античные философы: свидетельства, фрагменты и тексты. С. 116. 28 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии дельности на каждом из них. Именно в такой тупик может зайти мысль философа, сделавшего мерой всех мер отдельного индивида в качестве самодостаточного «эго». Но если у индивида отсутствует объективная основа для связи с себе подобными, то субъективные силы должны разрушить его самого. Ведь эгоистическое «я», будучи неким «субъектом в квадрате», должно все больше замыкаться на себе, сосредоточившись на нюансах собственных переживаний. А в результате каждое ощущение становится самоцелью, уничтожая цель­ ность человеческой личности. Но еще раз повторим, что в тупик последовательного субъекти­ визма философская мысль зайдет гораздо позже. А в учении Протагора перед нами лишь первый опыт субъективизма. Здесь субъективизм уже оборачивается двумя своими сторонами — эмпиризмом и реляти­ визмом. При этом ощущениями индивида у Протагора по сути опре­ деляется достоверность знаний, а также направление нашего ума и смысл приводимых доказательств. Не противопоставляя разум чувст­ вам, Протагор подчиняет первое второму. А в результате суждения становятся столь же относительными и изменчивыми, как и настрое­ ния. Существует, однако, одно обстоятельство, на первый взгляд про­ тиворечащее приведенным выше характеристикам позиции софи­ стов. Дело в том, что софистам были не чужды рассуждения о добро­ детельном поведении. Более того, своей сознательной целью они ста­ вили обучение добродетели. И как замечает в «Очерках истории греческой философии» Целлер, в диалоге «Протагор» Платон скорее всего воспроизводит подлинную речь этого софиста о происхожде­ нии добродетели, произнесенную, а может быть и письменно опубли­ кованную им1. Протагор в одноименном диалоге почтительно отзывается о бо­ гах, наделивших людей добродетелями. И в своих оценках мужества, рассудительности и справедливости как-будто не расходится с Сок­ ратом, усложняя тем самым задачу последнего по размежеванию их взглядов. Структура указанного диалога очень сложная, и разговор неоднократно меняет свое направление и предмет. Принято считать, что речь в нем идет прежде всего об обучении добродетели и о том, делима ли добродетель на части. Сократ в конце концов побеждает в споре, показав, что «мудрец» Протагор не понимает того, о чем гово1 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1996. С. 86. 29 I Глава первая. Античность: постановка проблемы рит. При этом итог беседы по сути предваряется Сократом, когда тот в самом начале не может уразуметь, чему именно хочет выучиться Гиппократ у Протагора. «Ты намерен предоставить попечение о твоей душе софисту, как ты говоришь, — наставляет Сократ Гиппократа,— но, право, я бы очень удивился, если бы ты знал, что такое софист. А раз тебе это не­ известно, то ты не знаешь и того, кому вверяешь свою душу и для чего — для хорошего или дурного»1. Выясняя, чем же именно торгуют софисты, Сократ предупреждает: «Только бы, друг мой, не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы или разносчики, что торгуют телесной пищей. Потому что и сами они не знают, что в раз­ возимых ими товарах полезно, а что вредно для тела, но расхваливают все ради продажи...»2. Указанный момент в «Протагоре» получает свое особое значение, когда в разгар спора Сократ указывает на тот факт, что у многих слова расходятся с делами. «Прекрасны твои слова и истинны,— сказал я,— но знаешь, люди большей частью нас с тобою не слушают и утвержда­ ют, будто многие, зная, что лучше всего, не хотят так поступать, хотя бы у них и была к тому возможность, а поступают иначе...»3. Это место из раннего диалога Платона интересна как раз тем, что опровергает мнение, будто у Сократа знание всегда отождествляется со способно­ стью к действию. И в этом, согласно общему мнению, состоит сла­ бость его рационализма. В историко-философской литературе существует нечто вроде штампа в трактовке соотношения знания и нравственного действия у Сократа. Вполне определенно это толкование представлено у Целлера, который в «Очерке истории греческой философии» пишет по по­ воду его учения: «Поэтому, чтобы сделать людей добродетельными, нужно только объяснить им, что есть добро; добродетель возникает через обучение, а все добродетели состоят в знании; храбр тот, кто знает, как нужно вести себя в опасности, благочестив тот, кто знает, что подобает в отношении богов, справедлив тот, кто знает, что подо­ бает в отношении людей и т. д.»4. Особенность такой трактовки Сократа состоит в том, что знание здесь совпадает с общими представлениями о добродетели. И в этом 1 2 3 4 Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 420. Там же. С. 423. Там же. С. 465. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 96. 30 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии случае позиция Сократа выглядит крайне наивно. Но в том-то и дело, что знание знанию рознь. И общие представления о добре и зле могут уживаться даже с такой патологией, которая в психиатрии имела на­ звание «нравственного помешательства». В «Энциклопедическом словаре Павленкова» мы читаем: «Нравственное помешательство — психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического формального между ними различения»1. Итак, одно дело — общие представления о добре, и другое дело — добро в качестве мотива поведения. Разница в отношении к добру здесь существенная, и она позволила И. Канту различать собственно моральные поступки от поступков, как он их называет, легальных. Мо­ ральный поступок возможен там, где мы имеем дело со знанием не в форме представления, а в форме нравственного принципа или идеала. Именно принципиальность не позволяет расходиться слову и делу, как это бывает не только в случае нравственного помешательства, но и при элементарном лицемерии. Причем лицемерие, равно как и прин­ ципиальность, противостоит наивности как проявление более разви­ той культуры. Но вернемся к Сократу, которому, как мы видим, была знакома ситуация, в которой знание добродетели расходится с поступками, и люди уступают удовольствиям в ущерб высшему благу. Скорее всего, именно так действовали софисты, у которых рассуждения о доброде­ тели оставались общей фразой, а причиной поступков было стремле­ ние к выгоде и удовольствию. Анализируя диалог «Протагор», А.Ф. Ло­ сев неслучайно вспоминает древних, которые характеризовали Протагора как «самого неискреннего, но самого острого из софистов»2. Но в том-то и дело, что противостояние Сократа Протагору — это не только противоположность общей фразы добродетели как «дела­ нию добра». Можно не без оснований предположить, что уже в ранних диалогах Платона идет поиск той особой формы знания, в которой оно неотъемлемо от человеческого действия. И эта особая истина, в кото­ рой знание тождественно принципу действия, есть идеал. Такая форма знания — едва ли не главное открытие Сократа. И именно в форме идеала классическая философия обнаруживает и 1 1 Энциклопедический словарь Павленкова. М., 1905. См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 790. 31 I Глава первая. Античность: постановка проблемы начинает исследовать идеальное. А потому в тождестве знания и дей­ ствия проявляет себя не слабость, а сила этического рационализма Сократа. Нам еще придется обращаться к «Протагору» Платона. Сейчас же уточним еще один момент, связанный с трактовкой Сократом блага как удовольствия в ходе беседы с Протагором. Известно, что перевод­ чиком этого диалога на русский язык был философ Владимир Соло­ вьев, который выдвинул предположение о том, что подлинный автор «Протагора» — противник Платона Аристипп Киренский, выступаю­ щий с позиций гедонизма. Друг Соловьева князь С.Н. Трубецкой, прекрасно знавший античную философию, остро полемизировал с ним по этому поводу. Тем не менее, факт остается фактом. И коммен­ таторы с трудом совмещают эту часть «Протагора» с другими диалога­ ми Платона, где речь идет об устремленности души к благу, в противо­ положность живущему желаниями телу. Что касается указанного места из «Протагора», то здесь благо вполне определенно характеризуется Сократом как состояния удо­ вольствия и даже наслаждения, присущие телу1. И такого рода пара­ докс скорее всего объясним лишь в свете знаменитой иронии Сокра­ та, способного разоблачить чужую позицию изнутри. Так можно по­ казать, что даже благо, признанное удовольствием, в ходе рассуждений может обернуться знанием. А значит исходный пункт наших рассу­ ждений был неверен. В свете того, что уже сказано, общий пафос выступлений Сократа, а затем его ученика Платона, безусловно антисофистинен. Сократ от­ рицает позицию софистов. И тем не менее, это не абстрактное и пу­ стое отрицание этой позиции. Говоря языком Гегеля, философия Протагора не отбрасывается, а «снимается» Сократом. Теряя опору в традиции и вере в староотеческих богов, выражавших общее начало их жизни, греки стали искать ее в противоположном — частном или личном интересе. И этому способствовал рост не только политиче­ ской, но и хозяйственной самостоятельности граждан Греции. В та­ кой ситуации деятельность софистов оказалась вполне своевремен­ ной. В преддверии философской классики софисты сделали ставку на область субъективных действий, желаний и настроений. Но преодолевая софистику, Сократ пытается найти в этой субъек­ тивной стихии новый тип объективного. А это значит, что у софисти1 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 465-471. 32 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ки, существовавшей в преддверии античной классики, была перспек­ тива. Но этого не скажешь о тех формах субъективизма, которые были порождены эволюцией неклассической философии на исходе XX века. Человек живет не в одиночестве. А значит каждый, даже эгоисти­ ческий поступок должен быть оправдан в глазах других людей, будь то сородичи или сограждане. Вот почему софисты учили юношей не только ставить ясные цели, но и доказывать свою правоту во всех воз­ можных обстоятельствах. Суть такой процедуры в том, чтобы выдать частный интерес за общий, доказывая при помощи софистических приемов, что из моего эгоистического поступка следует общая поль­ за. «Когда же дело касается справедливости и прочих гражданских до­ бродетелей,— говорит Протагор в одноименном диалоге,— тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет го­ ворить всенародно правду, то такая правдивость, которую в другом случае признавали рассудительностью, все сочтут безумием: ведь счи­ тается, что каждый, каков бы он ни был на самом деле, должен про­ возглашать себя справедливым, а кто не прикидывается справедли­ вым, тот не в своем уме»1. Вот в этом пункте и обнаруживается явным образом расхожде­ ние между софистами и Сократом. Ведь Сократ видит свою задачу вовсе не в том, чтобы выдать частный интерес за общий, а случайное желание за добродетель. Сократ ищет в индивиде такую побудитель­ ную силу, которую уже не нужно выдавать за общее и необходимое основание поступков, поскольку она на деле является таким основа­ нием, скрывающимся за спиной частного интереса. И процедура са­ мосознания, на которой вслед за софистами, настаивает Сократ, должна обнажить за случайными и преходящими мотивами эту об­ щую и объективную основу; которая способна заменить вековые тра­ диции. Итак, человек, согласно Сократу, должен вступить на путь само­ познания, чтобы открыть внутри себя подлинный смысл существова­ ния, который не сводим ни к преходящим телесным радостям, ни к эгоистической пользе. При этом древняя гнома «Познай самого себя!» обретает характер сложной системы приемов, известных под назва­ нием «сократического диалога». Отдадим должное Протагору, кото­ рый, по свидетельству доксографов, внес существенный вклад а форСм.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 433. 33 I Глава первая. Античность: постановка проблемы мирование диалогического способа рассуждений. Но и в этом вопро­ се Протагор и Сократ существенно расходятся. Уже в юности Сократ любил созерцательную задумчивость. В пла­ тоновском «Пире» Алкивиад рассказывает о том, что однажды во вре­ мя осады Потидеи он простоял в задумчивости целые сутки. Однако о своей мудрости, как известно, Сократ задумался тогда, когда на во­ прос одного из его почитателей: «Есть ли кто мудрее Сократа?» дель­ фийский оракул ответил «Нет». Тем не менее, пообщавшись с мудры­ ми мира сего, Сократ сделал вывод: «Я знаю, что ничего не знаю». Указанное сомнение в своих и чужих знаниях стало движущей силой тех испытаний, которые устраивал Сократ своим согражданам. Но остановись он на пафосе отрицания всех знаний или на доказательст­ ве их относительности, и перед нами оказался бы талантливый после­ дователь Кратила или Протагора, и не более того. Но Сократ, в отли­ чие от Протагора, разоблачает мнения других людей и свои собствен­ ные не ради сиюминутной победы в споре. «Сократический диалог» потому и определен им самим как «родовспоможение», что у него есть определенная цель и смысл. И целью является уточнение, а более точно —разграничение, человеческих добродетелей. 3. Сократ о душе в свете природы добродетели Прежде чем разбираться в предложенном Сократом способе овла­ дения добродетелью, обсудим еще один вопрос. Это вопрос о границе между творчеством Сократа и его ученика Платона. Общеизвестно, что Сократ ничего не написал, а суть своих взглядов выражал в устных беседах с друзьями и незнакомыми людьми. Известно и то, что глав­ ными «популяризаторами» философии Сократа выступили его уче­ ники, и прежде всего Ксенофонт и Платон. Образ Сократа, как мы уже говорили, был выведен в комедии Аристофана «Облака». Каждый из них довольно пристрастно относился к Сократу, пыта­ ясь представить его в определенном свете. Так в комедии Аристофана Сократ предстает чудаком-софистом, который на вопрос о сути своих занятий отвечает, что он, «паря в пространствах, мыслит о судьбе све­ тил». Иначе говоря, Аристофан представляет Сократа не только в ка­ честве известного софиста, но и как философа — создателя космоло­ гических учений. Конечно, такой образ — плод сатирической фанта­ зии Аристофана. Хотя стоит напомнить, что, согласно свидетельствам, до Пелопоннесской войны Сократ действительно учился у последо­ вателя Анаксагора Архелая. 34 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Иначе выглядит Сократ у Ксенофонта в «Апологии Сократа» и «Воспоминаниях о Сократе», которые, по мнению многих исследова­ телей, носят тенденциозный характер. Существует мнение, что Сок­ рат представлен Ксенофонтом в качестве лояльного властям гражда­ нина, который был казнен по чистому недоразумению. Автором вос­ производятся те беседы Сократа, в которых нет высказываний, компрометирующих его в глазах афинского суда. Тем не менее, свиде­ тельствами Ксенофонта, по утверждению Целлера, не следует прене­ брегать, подобно тому, как это делает, к примеру, Ф. Шлейермахер. Что касается не философской позиции, а общего характера учения и преподавания Сократа, пишет Целлер, то здесь можно составить вполне согласованный образ, исходя из Ксенофонта, наравне с Пла­ тоном1. В этой ситуации наибольшее доверие, конечно, вызывает творче­ ство Платона, и прежде всего его ранние диалоги «Критон», «Лахет», «Евтифрон», «Хармид», «Лисид» и, с уже сделанными оговорками, «Протагор». К этой группе сочинений относится также монолог Пла­ тона «Апология Сократа» и I книга «Государства». По замечанию А.Ф. Лосева, некоторые из этих диалогов могли быть записаны Пла­ тоном еще до смерти его великого учителя2. Конечно, чем старше ста­ новился Платон, тем настойчивее он вкладывал в уста главного героя своих произведений собственные утверждения. И, тем не менее, он руководствовался не привходящими обстоятельствами и политиче­ скими интересами, как это было у Ксенофонта, а решал собственно философские задачи. А потому его наследие — главная опора для тех, кто пытался и пытается реконструировать позицию Сократа. Граница в воззрениях этих двух мыслителей — предмет тонкого историко-философского анализа. Что касается исследуемого нами вопроса, здесь достаточно ясного различения учения о добродетели, представленного в ранних работах Платона, и, конечно, принадлежа­ щего Сократу, и учения о мире идей, которого однозначно придержи­ вался сам Платон. Безусловно, что это два этапа в развитии одной и той же линии в философии. Именно это мы попытаемся показать, не заостряя внимания на сугубо исторических аспектах проблемы. Итак, в ранних диалогах Платона Сократ предлагает нам новый способ овладения добродетелью, который был неизвестен ранее. Хотя 1 См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 93. См.: Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона// Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. С. 44. 2 35 I Глава первая. Античность: постановка проблемы главная тема «Протагора» — возможность обучать добродетели, при­ менительно к учению Сократа вопрос о происхождении добродетели не имеет однозначного решения. Знание, касающееся добродетели, может быть изначально присуще душе, а может привноситься в душу в процессе ее врачевания. Однозначного вывода о происхождении знаний из мира идей, в котором душа пребывает перед вселением в новое тело, из ранних диалогов Платона почерпнуть нельзя. Зато вполне ясно, что врачевание душ, согласно Сократу, предполагает прояснение душой своих оснований. Этому как раз и посвящены майев тические диалоги Сократа. Ранее добродетельное поведение задавалось поведением богов, героев и великих мужей, образцы которого черпались из легенд и ми­ фов. Сократ предлагает осваивать добродетель, не подражая внешне­ му, а разбираясь во внутреннем, в своей душе, а точнее, проясняя то, что уже известно фажданину о достойном поведении. Такого рода самопознание было бы невозможно без того, что сделали софисты, овладевшие силой ума, хотя и в субъективных целях. Сократ предла­ гает использовать эту силу для утверждения новых регулятивов пове­ дения, которые в дальнейшем будут названы идеалами. При этом, выясняя природу добродетели, разум у Сократа занимается сам со­ бой, вступая на путь особого рода логического движения. Прежде чем уточнять способ, каким Сократ проясняет смысл «знания о наилучшем», рассмотрим диалог «Евтифрон», в котором решается важная задача. Ведь в споре с Евтифроном Сократ пытает­ ся доказать, что даже боги, которых чтут люди, руководствуются «знанием о наилучшем». Тем самым в беседе о благочестии сокра­ товское понимание добродетели получает своеобразное подкрепле­ ние авторитетом богов. Люди следуют традиции, но боги руководст­ вуются истиной. Почему же человеку в этом отношении нельзя сле­ довать богам? Евтифрон был официальным афинским прорицателем. Встреча Сократа с Евтифроном произошла накануне судебного процесса при­ мерно за месяц до казни Сократа. Об этой встрече также упоминается в «Кратиле». Обвинив Сократа в развращении юношества и непочи­ тании староотеческих богов, поэт Мелет по сути обвинил его в нече­ стии. Отсюда особый интерес Сократа к представлениям о благоче­ стии и нечестии у прорицателя, уверенного в знании божественных законов. К тому же Евтифрон принес в суд донос на своего отца, ко­ торый невольно убил наемного работника. Евтифрон уверен, что отец 36 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии поступил нечестиво, тогда как он сам, донося на отца, поступает бла­ гочестиво. Так что же такое нечестие и благочестие? Анализ этой добродетели как всегда начинается с примеров благо­ честивого поведения, и прежде всего с преследования преступников, совершивших убийство или ограбивших храм. Образцом здесь, со­ гласно Евтифрону, следует признать поступки богов. Это поступок Зевса, заключившего в оковы своего отца Крона, который пожирал собственных детей, а также поступок самого Крона, который покарал своего отца Урана, оскопив его за преступные деяния. Следовательно, быть благочестивым — это значит подражать в своих поступках бо­ гам. Так считает Евтифрон. Но для Сократа этим еще ничего не сказа­ но о благочестии. Ведь мы не знаем, почему именно так поступали боги. Традиционное понимание добродетели, когда подражают поступ­ кам богов, Сократ противопоставляет другое понимание. Суть его в том, что образцом добродетельного поведения должен быть не чей-то поступок, а некая идея как парадигма добродетели. «Так припомни же что я просил тебя не о том, чтобы ты назвал мне одно или два из бла­ гочестивых деяний,— говорит Сократ Евтифрону,— но чтобы опреде­ лил идею как таковую, в силу которой все благочестивое является благочестивым. Ведь ты подтвердил, что именно в силу единой идеи нечестивое является нечестивым, а благочестивое — благочестивым. Разве ты этого не помнишь?»1 Комментируя это место в «Евтифроне», Лосев уточняет, что здесь употребляется слово «парадигма», которое пришло к нам именно от греков. Парадигма — это тоже образец, но образец особого рода. Евт фрон указывает на образцы как примеры добродетельного поведения, а Сократ просит указать на парадигму как суть и смысл добродетели, безотносительно к отдельным ее проявлениям. «Так разъясни же мне относительно этой идеи, что именно она собой представляет,— про­ сит Сократ Евтифрона,— дабы, взирая на нее и пользуясь ею как образцом, я называл бы что-либо одно, совершаемое тобою либо кем-то другим и подобное этому образцу, благочестивым, другое же, не подобное ему, таковым бы не называл»2. Имея в виду теперь уже смысл благочестия, Евтифрон определяет его как богоу годность. Но и это не проясняет сути дела, поскольку Сократ требует указать основания, позволяющие богам признать 1 2 Платон. Собр. соч. Т. 1. С. 300. Там же. 37 I Глава первая. Античность: постановка проблемы кого-то угодным, a кого-то неугодным им. В конце концов Евтифрон вынужден согласиться, что боги руководствуются в своих оценках людей и их поступков представлениями о справедливом и несправед­ ливом, прекрасном и постыдном, добром и злом1. В этом месте впол­ не логично было бы признать, что благочестие совпадает с указанны­ ми добродетелями. Ведь благочестие — соблюдение предписаний бо­ гов, а боги, как мы видим, исходят из добра и справедливости. А признав это, следовало бы задать ряд риторических вопросов. Так, если сами боги руководствуются добром, красотой и справедливо­ стью, то почему Сократ за такие призывы был признан нечестивцем? И почему обсуждение этих добродетелей — развращение молодежи? Сократ в неявном виде критикует традиционные представления о благочестии, когда в честь богов совершают жертвоприношения, воз­ носят к ним молитвы, а по сути, как следует из «Евтифрона», торгу­ ются с богами, под видом того, что служат им. При этом собственное представление Сократа о благочестии совпадает с идеальным поведе­ нием, если таким считать поступки, которые совершают, исходя из идеалов. В этой новой системе координат именно Сократ един с бога­ ми на почве добра и справедливости, а Евтифрон, который, подражая Зевсу, доносит на отца,— нечестивец. Но таких выводов, еще раз на­ помним, в указанном диалоге нет. Вопрос о сути благочестия как будто остается открытым. Но, как и в других диалогах Платона, при внешней незавершенности разгово­ ра вполне ясна противоположность между традиционным и сокра­ товским представлением о добродетели, а еще точнее противополож­ ность между традиционным и моральным сознанием. В этом план наиболее характерным является указание на самодостаточность до­ бродетели, в данном случае благочестия. «Но подумай вот о чем, — говорит Сократ Евтифрону,— благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?»2. И здесь, как и в других случаях Евтифрон соглашается с тем, что для богов благочестие — это нечто самодостаточное, т. е. то, что совпадает само с собой и не требует дальнейших разъяснений. Выхо­ дит, что добродетель — высшая инстанция и для людей, и для богов поступках. Так выглядит основное новшество Сократа в божествен­ ных вопросах. 1 2 Платон. Собр. соч. Т. 1. С. 302. Там же. С. 305. 38 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Признав все то, к чему его склоняет Сократ, Евтифрон вконец за­ путывается в своих рассуждениях. И он спешит удалиться. А Сократ посылает ему вдогонку наполненные иронией слова: «Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом и избежать Мелетова иска, дока­ зав ему, что я стал мудрым в божественных вопросах благодаря Евтифрону и никогда уже не буду заниматься невежественной болтовней и вводить в этом деле различные новшества, но впредь стану жить са­ мой достойной жизнью»1. Бытует мнение, что ранние диалоги Платона не очень содер­ жательны, а их этическая проблематика наивна. При этом глав­ ным достижением Сократа оказывается его метод майевтики, по­ добно тому, как главным у Платона считается его учение о мире идей. На наивность этих диалогов, в частности, указывает Лосев. Комментируя «Лисид», он говорит о «возвышенно-наивной тема­ тике» ранних диалогов Платона2. В комментариях к диалогу «Протагор» Лосев отмечает, что идущее от Сократа представление ан­ тичности о невозможности добровольно совершать зло — это «ре­ зультат, может быть, и наивной, но вполне серьезной убежденности в цельном характере человеческой личности, которая пребывает в гармонии и с самой собой, и со своими идейными принципами, и с обществом»3. Остановимся на этом замечании Лосева, касающемся цельной личности, которая, действительно, невозможна без принципов. А принципиальный человек — это как раз тот, кто не способен посту­ пать вразрез с собственными принципами. Здесь налицо единство знания и действия. Но проблема в том, как именно принцип определяет поведение человека. И обращаясь в анализе этой проблемы в феномену добродетели, Сократ отнюдь не наивен. Ведь нравственность — имен­ но та почва, из которой исторически вырастали человеческие идеалы, принципиальность и цельность человеческой личности. Сократ был свидетелем этого процесса. И та действительность, которая формиро­ вала его взгляды, еще не знала профессиональных гносеологов и ло­ гиков, этиков и эстетиков. Уже Сократу принадлежит учение о «гносеологическом примате общего над единичным», подчеркивает Лосев во вводных замечаниях 1 2 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 313. Там же. С. 741. Там же. С. 788. 39 I Глава первая. Античность: постановка проблемы к первому тому сочинений Платона1. Таким образом, Сократ выгля­ дит у А.Ф.Лосева и, кстати, у В.Ф.Асмуса, гносеологом, который по наивности решает свои проблемы на материале этики. Но все как раз наоборот. Мы попытаемся показать, что, исследуя этическую сферу, Сократ имеет дело с разумом в той исходной клеточке, где еще нет про тивостояния гносеологии и этики. А потому говорить о методе Сокра та невозможно вне этической стороны его учения. Более того, учиты суть исследуемой в ранних диалогах Платона проблемы добродетели, можно существенно скорректировать и привычные представления о методе Сократа. Итак, в методе, которым пользовался Сократ, принято различать его внешнюю и внутреннюю стороны. Внешними приемами, которы­ ми владел Сократ, считаются ирония и опровержение. Широко извест­ ны лукавство и притворство Сократа с целью вынудить собеседника втянуться в спор и добраться в нем до дна своей души. Сократ, без­ условно, хитрит, надевая на себя маску наивного человека, который испрашивает совета у первого встречного, восхищается его достоин­ ствами и просит обучить себя чему-нибудь, как это было с Евтифроном. Но в ходе беседы Сократ часто сбрасывает маску шута и невежды, помогая собеседнику исправлять ошибки и избавляться от противо­ речий на пути к истине. Здесь проявляет свои достоинства опровер­ жение как прием, которым пользуется Сократ, демонстрируя собесед­ нику противоречивость его собственных взглядов. Впервые этот при­ ем появился у элеатов, а затем активно использовался софистами. Что касается Сократа, то как ирония, так и опровержение выступают у него предпосылками и одновременно элементами майевтики в каче­ стве сути его метода. Если мы продолжим анализ, то нужно сказать, что собственно ло­ гической стороной майевтики принято считать индукцию. При этом во всех работах, касающихся метода Сократа, приводятся следующие слова Аристотеля из «Метафизики»: «...и в самом деле, две вещи по справедливости можно приписать Сократу — доказательства через наведение и общие определения...»2. «Индукция» переводится с латы­ ни именно как «наведение». Суть этого метода, который получил на­ ибольшее распространение в естествознании XVII—XVIII вв., состо­ ит в обобщении множества фактов. Избитый пример индуктивного 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 65. Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 327-328. 40 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии заключения: «Все лебеди белы». Этот пример интересен тем, что со временем зоологи нашли черных лебедей. И указанную слабость ин­ дуктивного метода осознавал его главный пропагандист Ф. Бэкон, предлагавший искать не подтверждения, а исключения из правил. Итак, путь к «белизне» лебедей лежит через обобщение множества однотипных фактов. Но «белизна» лебедей, как и другие результаты эмпирических исследований, не является понятием в собственном смысле слова. Это всего лишь общие представления, фиксирующие вполне наглядные, чувственно воспринимаемые признаки и свойст­ ва. Что касается понятия, то относительно лебедя они должны выра­ жать не его цвет или внешнюю форму, а происхождение и способ жиз­ недеятельности этой птицы, в отличие от ее ближайшего рода. А здесь не обойтись без дополнения индукции дедукцией. Отметим тот факт, что понятия всегда выражают объективное единство в окружающем нас мире, реальную системную связь и родо-видовое отличие. Представление, в отличие от понятия, может фиксировать не только внешнее подобие в пределах некоторой объек­ тивной общности, но и внешнее сходство ничем не связанных вещей. Так под «белизной вообще» имеют в виду то общее, что есть у белого лебедя, белой лилии, а также белоснежного воротничка и многого другого. А представление о «мягкости» фиксирует внешнюю общ­ ность, существующую между мягкостью ворса и мягкостью характера. Но вернемся к ранним диалогам Платона, в которых, как указы­ вает А.Ф.Лосев, доказана та простая, но радикальная мысль, что зна­ ние всегда есть обобщение1. И, на первый взгляд, в ранних диалогах Платона мы находим множество подтверждений этого тезиса. Чтобы разобраться в данном вопросе, обратимся прежде всего к диалогу «Лахет», в котором, по общему мнению, индуктивный метод пред­ ставлен вполне наглядно. Именно с этого диалога начинает В.Ф. Ас­ мус свой анализ метода Сократа в широко известном учебнике по ан­ тичной философии. В беседе, приведенной в «Лахете», принимают участие, помимо Сократа, известные полководцы Никий и Лахет, ко­ торого Асмус на старый манер именует Лахесом, а также почтенные афинские граждане Мелесий и Лисимах со своими сыновьями. Лисимах и Мелесий озабочены воспитанием своих сыновей, но не могут понять, следует ли с этой целью обучаться гопломахии — бою в тяжелых доспехах. При этом разговор о достоинствах этого военного См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 65. 41 I Глава первая. Античность: постановка проблемы искусства, как всегда, очень скоро переходит к проблеме воспитания души. В начале диалога, уточняя достоинства гопломахии, полководец Никий указывает на то, что благодаря этому занятию тело юноши ста­ новится крепче. Гопломахия, помимо прочего, вырабатывает прекрас­ ную осанку. Но, как только в беседу включается Сократ, речь уже идет о душах молодых людей. «Итак,— говорит Сократ, — ...поскольку Лисимах и Мелесий пригласили нас на совет относительно своих сыно­ вей, заботясь о том, чтобы души их стали сколь можно достойнее, нам следует показать им также, какие у нас были учители... кои и сами были достойными людьми и, позаботившись о душах многих юношей, научили, по-видимому, своему делу и нас»1. После ряда комплиментов и благожелательных рекомендаций, Сократ берется выяснить суть добродетели, начиная с такой ее разно­ видности, как мужество, которая ближе всего к военному искусству. Первые вопросы Сократа при этом обращены к Лахету, который дол­ жен дать определение мужества, опираясь на собственный опыт. Он говорит: «Следовательно, прежде всего, Лахет, попытаемся сказать, что же это такое — мужество? А после того рассмотрим, каким обра­ зом можно придать его юношам, насколько это зависит от навыков и науки»2. Как обычно, поначалу Лахет приводит частный случай мужества, когда воин добровольно остается в строю, а не бежит с поля боя. Но Сократа интересует не этот частный случай, а общий смысл мужества Тем более, что есть множество примеров военной хитрости, когда, от­ ступая, мужественные воины разбивают противника. «В действитель­ ности же я хотел у тебя узнать о людях, мужественных не только в бою гоплитов, но и в конном сражении и в любом другом виде боя,— по­ ясняет Сократ,— и, кроме того, не только в бою, но и среди морских опасностей, в болезнях, в бедности и в государственных делах, а вдо­ бавок и о тех, кто мужественен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со страстями и наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая: ведь мужество существует у людей и в подоб­ ных вещах, Лахет?»3. Перед нами ясно поставленная задача — обобщить множество случаев мужественного поведения для определения мужества вообще. Здесь Сократ действует в соответствии с характеристикой, данной 1 2 3 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 276. Там же. С. 282. Там же. С. 281. 42 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ему Аристотелем, подтверждая свой замысел ясным примером. Он сам дает определение скорости, каким образом она проявляет себя в беге, при игре на кифаре, при разговоре, при обучении, а также во многих других случаях. Имея в виду деятельность наших рук и бедер, рта и голоса, а также мысли, он определяет скорость как «способность многого достичь за короткий срок»1. Легкость, с какой приводит это индуктивное обобщение Сократ, говорит о том, что такого рода логические действия для него не явля­ ются особо сложными. Сложности, однако, возникают там, где Сок­ рат вместе со своими собеседниками пытается аналогичным спосо­ бом обобщать проявления добродетели, и, заметим, не только в диа­ логе «Лахет». Асмус отмечает ту настойчивость, с которой Сократ стремится дать точные определения этическим категориям, выяснить их сущность2. Эту настойчивость он объясняет тем, что определение понятий у Сократа есть путь, ведущий к нравственному поведению. «Таким путем люди становятся в высшей степени нравственными, способными к власти и искусными в диалектике» — цитирует он Ксенофонта3. Заметим, что это цитата из «Воспоминаний о Сократе», написан­ ных через много лет после гибели великого Сократа. В той главе «Вос­ поминаний», которая называется «О воздержанности», Сократ утвер­ ждает, что человек невоздержанный ничем не отличается от безрас­ судных скотов, поскольку гоняется за наслаждениями, игнорируя высокие цели. В отличие от него воздержанный человек, задавшийся высокими целями, разделяет в теории и на практике предметы по ро­ дам и видам и тем самым отдает хорошим из них предпочтение, а дур­ ные — избегает4. Далее мы читаем: «При таком методе, говорил Сок­ рат, люди становятся высоконравственными, очень счастливыми и весьма способными к диалектике»5. Уточняя этот метод обретения нравственности, СИ. Соболевский, переводчик «Воспоминаний» на русский язык, пишет в комментариях: «Человек разумный, разделяя предметы по родам, может таким методом отличить добро от зла и через это выбрать добро и быть нравственным, счастливым и способ­ ным к диалектике»6. 1 2 1 4 5 6 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 282. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 109. Там же. С. 122. См.: Ксенофонт. Воспоминание о Сократе. Мм 1993. С. 141. Там же. Там же. С. 334. 43 I Глава первая. Античность: постановка проблемы Итак, от родовых понятий вещей можно перейти к определению этических категорий. А определить этическую категорию — это зна­ чит стать добродетельным. Такова трактовка этического рациона­ лизма Ксенофонтом, с которой согласен Асмус. Напомним, что такая точка зрения на учение Сократа является самой распространенной. Здесь знание добродетели добывается в форме общих понятий, а не добыв его, нельзя стать нравственным субъектом. Но, согласившись с Ксенофонтом и Асмусом, мы тут же попадаем в ловушку. Ведь не до­ бравшись до общего понятия мужества, рассудительности и справед­ ливости, Сократ в этом случае должен признаться в собственной тру­ сости, безрассудстве и несправедливости. Надо сказать, что В.Ф. Ас­ мус самолично анализирует несколько диалогов раннего Платона. Причем каждый раз он вынужден признать, что общих понятий до­ бродетели в них нет. Характеризуя метод Сократа, Асмус утверждает: «Руководимое Сократом философское исследование имеет целью прежде всего установить значение того или иного широкого родового термина (на­ пример, «мужества», «справедливости» и т. д.)»1. Но чуть ниже он при­ знает, что определение такого термина постоянно вступает в противо­ речие либо с единичными предметами, явлениями, свойствами и слу­ чаями, которые этот термин не должен охватывать, но которые он охватывает, либо, наоборот, с другими, которые он должен охваты­ вать, но которые он не охватывает. Характеризуя далее ход диалогов Сократа, Асмус уточняет: «Своими различными ответами собеседник все вновь и вновь ввергается в противоречия. Эти противоречия при­ нуждают его признать или то, что он не достиг точного и ясного поня­ тия о свойстве, общем для различных частных факторов, охватывае­ мых исследуемым общим термином, или то, что такого общего свой­ ства вообще не существует и что полученное обобщение только чисто словесное и ложное»2. В.Ф. Асмус признает, что Сократ постоянно поправляет «несосто­ явшиеся обобщения», и тем не менее, ни одна из этических категорий в этих диалогах четко не определена в том родовом своеобразии, на ко­ торое было указано выше. На этом фоне странным выглядит то, что собеседники Сократа, как это происходит в «Лахете», высказывают свое восхищение его талантом и поручают ему воспитание своих де­ тей. «Да и я согласен, если только Сократ желает заняться воспитани1 2 Асмус В.Ф. Античная философия. С. 121. Там же. 44 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ем мальчиков, не надо искать никого другого, — заключает Никий в конце диалога «Лахет»,— ведь я и сам бы охотно поручил бы ему Никерета, если бы он пожелал»1. Тут явно что-то неладно. Либо истина открывается Сократом иным путем, либо похвалы в его адрес напрасны. Согласившись с Ксенофонтом в отношении метода Сократа, мы должны признать ло­ гические опыты последнего явной неудачей. И наоборот, не согла­ сившись с Ксенофонтом, мы должны признать, что метод Сократа в главном своем звене им был не понят. Указанное противоречие по-своему фиксирует князь С.Н. Трубецкой в своем «Курсе истории древней философии». У большинства последо­ вателей и комментаторов Сократа, отмечает Трубецкой, его этика вы­ глядит рассудочной и в этом качестве заслуживает упреки, в частно­ сти со стороны Аристотеля2. Но после этих слов в рукописи курса Трубецкой обращается к тем особенностям знания добродетели, ко­ торые по сути игнорируются исследователями Сократа. «Но в дейст­ вительности дело не совсем так просто, как оно представляется ины «сократовцам»,— пишет он,— на что указывает Платон в своих «со­ кратических диалогах»: если добродетель есть знание, то почему она составляет предмет преподавания или обучения...? Почему ни добры граждане не могут обучить ей своих детей, ни софисты, профессионал ные учителя, не успевают в этом деле, и отчего сам Сократ, ото­ ждествляющий ее со знанием, отвергает возможность ее преподавать .V На этом рассуждение Трубецкого в рукописи обрывается. Но ска­ занного достаточно, чтобы понять: добродетель не сводима к знанию о родах и видах сущего, которое мы получаем индуктивным путем и кот рому обучаем подрастающее поколение. Но в чем же особенности зна ния добродетели, и каким способом предлагает им овладевать Сократ? Пытаясь ответить на эти вопросы, мы кратко проследим те ступени, по которым поднимаются участники диалога «Лахет», выясняя суть такой добродетели, как мужество. Напомним, что Сократ просит Лахета дать общую характеристику мужества, которую тот определяет как «стойкость души». Но Сократ тут же предлагает исключить из проявлений мужества неразумную стойкость. А затем приводит такие примеры разумной стойкости, ко­ торые тоже нельзя определить как мужество. Вскоре речь переходит к 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 293. См.: Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 279-280. ' Там же. С. 280. 2 45 J Глава первая. Античность: постановка проблемы такой разновидности мужества, которая проявляет себя в способно­ сти к риску. И в дальнейшем речь идет о двух разновидностях мужест­ ва, первая из которых — стойкость, а вторая — способность к риску. По сути речь идет о том, что риск в качестве мужества — это уме­ ние действовать, когда предпочтительнее стоять, а стойкость или вы­ держка — это способность стоять, когда обстоятельства требуют бе­ жать. Значит мужественный человек способен на преодоление, хотя характер такого преодоления различен. Из разговора Сократа с Лахетом следует также то, что мужество предполагает, что человек не пол­ ностью осведомлен в положительном исходе предпринятых действий. Здесь тоже пограничная ситуация между осведомленностью и неосве­ домленностью, умением и неумением, которая определяет своеобра­ зие мужества. Ведь тот, кто полностью осведомлен или уверен в поло­ жительном результате своих усилий, не будет по-настоящему мужест­ венным человеком. Мы воспроизводим не внешний ход, а внутреннюю суть обсуждения видов мужества в разговоре Сократа с полководцем Лахетом. И надо ска­ зать, что, уточняя указанные разновидности, собеседники пользуются не только эмпирической индукцией, т. е. обобщением фактов. В такой же мере выяснение сути дела Сократом основано на методе дедукции. Можно согласиться с утверждением Асмуса о том, что Сократ в опреде­ ленном смысле предвосхитил то, что «впоследствии Платон и Аристо­ тель описали как двойной путь диалектического процесса — расчлене­ ние единого на многое и соединение многого в единое»1. В исследованиях Сократа присутствует единство индукции и дедук­ ции, что, безусловно, переводит его поиск с уровня эмпирического обобщения признаков на уровень теоретического анализа сущности предмета. К этому выводу, как мы видим, склоняется, характеризуя методологию Сократа, Асмус. И в этом с ним можно и нужно согла­ ситься. Но с Асмусом, подчеркнем, нельзя согласиться в,том, что со­ знательной целью Сократа является определение понятий, чем впер­ вые займется только Аристотель. Сократ стремится не столько опре­ делять понятия, сколько разграничивать разновидности бытия. Его интересует не родовое понятие, а род бытия. И в этом принципиаль­ ное отличие Сократа от философов Нового времени. И еще. При всех тупиках, в которые заводит Сократ Лахета, на ос­ нове сказанного уже можно было бы дать абстрактные определения Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 121-122. 46 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии двум разновидностям мужества. Но Сократ этого не делает. Ведь му­ жество в качестве стойкости выглядит как противоположность муже­ ству в качестве риска. А признавать истинными противоположные определения для Сократа недопустимо. В результате в середине диа­ лога предыдущие рассуждения признаются несостоятельными. «Зна­ чит, Лахет, — говорит Сократ,— по твоим словам, мы — я и ты,— на­ строены не на дорийский лад: ведь дела у нас не созвучны со словами, потому что кто-то сможет, если подслушает наш разговор, сказать, что на деле мы с тобою причастны мужеству, на словах же — нет»1. При этом, что очень важно, разговор резко меняет свое направле­ ние. Происходит это тогда, когда в спор включается полководец Никий. «Мне давно кажется, мой Сократ,— говорит он,— что вы неверно определяете мужество, а прекрасными речами, которые я уже от тебя слышал, вы не воспользовались»2. И далее он утверждает, что добро­ детель связана со знаниями людей. И от мудрости человека зависит, хорош он или плох. Именно здесь, на наш взгляд, находится первая развилка в беседах Сократа, позволяющая по-новому взглянуть на проблему добродете­ ли. Смена темы разговора в этом месте радикальная. И связана она с тем, что говорить о характере действий мужественного человека уже нет смысла. Можно и дальше уточнять, как он должен действовать, хотя суть любой добродетели раскрывает не характер, а цель поступ­ ков человека. Ведь и убийца может стойко держаться на допросе, и маньяк может рисковать, выдумывая пытки. Но мало у кого повер­ нется язык назвать их поведение достойным человека. А потому раз­ говор о добродетели должен с необходимостью перейти к выяснению того, чем руководствуется человек в своих поступках. Мы знаем, что в диалоге «Лахет» в качестве таких исходных зна­ ний, определяющих поступки мужественного человека, были опро­ бованы знание опасного и безопасного, полезного и бесполезного, страшного и не страшного. Еще раз уточним, что речь идет о знании в качестве регулятива нравственного поведения, но в ином, отличном кантовского смысле. Ведь у Сократа нравственный регулятив не ко­ ренится в самом субъекте, а в конечном счете будет укоренен в боже­ ственном мире идей. И каждый раз в «Лахете» выясняется, что, обла­ дая знанием опасного и безопасного, полезного и бесполезного, че­ ловек может быть врачом, прорицателем и кем-то еще, но никак не 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 285. Там же. 47 I Глава первая. Античность: постановка проблемы мужественным человеком. Затем разговор уходит в сторону определе­ ния отваги, свойственной детям и животным. Он как будто идет по кругу, пока собеседники не предлагают Сократу высказать свою точку зрения на данную проблему. Здесь вторая развилка, где в разговоре обозначается новый ради­ кальный поворот. Он связан с введением Сократом понятий добра и зла. При этом вывод о том, что знание добра и зла определяет суть добродетели, никак не связан с обобщением каких-либо случаев и фактов. Несколько ранних диалогов Платона заканчивается пример­ но одним и тем же. Разочаровавшись в индуктивных обобщениях, Сократ едва ли не постулирует совпадение добродетели со знанием добра и зла. Он вводит понятия добра и зла в диалог с помощью рассуждений и аллегорий и повторяет на все лады, что добродетель определяется знанием добра и зла, и без такого знания нет ни мужест­ ва, ни рассудительности, ни справедливости. Но при этом само добро и зло он чаще всего никак не определяет. Исключение составляет лиш первая книга «Государства». Характерно, что, анализируя «Лахет», Асмус вообще не упоми­ нает о том месте в диалоге, где говорится о знании добра и зла1. Ско­ рее всего для него это что-то вроде общего места или пустой ритори­ ки, не меняющей наших представлений о методе и воззрениях Сок­ рата. Насчет знания добра и зла в «Хармиде» и в первой книге «Государства» он говорит походя, не заостряя на этом внимания. Хотя именно здесь тот пункт, в котором проявляет себя своеобразие исследования добродетели Сократом. Здесь специфическое разре­ шение тех трудностей, которые из раза в раз возникают в ранних ди­ алогах Платона при попытке определить суть добродетели с помо­ щью индукции. В диалоге «Лахет» понятия добра и зла вводятся посредством рассуждений о знании опасного как ожидания грядущего зла2. В диалоге «Хармид» эти понятия вводятся в ткань диалога с помо­ щью рассказа о сне, якобы приснившемся Сократу. Кратко рассмо­ трим суть «Хармида», чтобы уточнить предлагаемое понимание ме­ тода Сократа. Тема «Хармида» — попытка определить такую добродетель как «софросина», которая буквально переводится на русский язык как «целомудрие». Комментируя этот диалог, Лосев замечает, что в евро1 2 Асмус В.Ф. Античная философия. С. 112-113. См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 292. 48 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии пейских языках нет аналога этому понятию, хотя греки понимали под «софросиной» некую «сдержанную цельность ума» и очень це­ нили такое качество в человеке. В том переводе «Хармида», на кото­ рый мы будем опираться, «софросина» предстает как «рассудитель­ ность». До этого мы уже неоднократно упоминали эту добродетель. Теперь настал момент поговорить о ней подробнее. Сократ беседует о рассудительности с красавцем Хармидом, страдающим по утрам от головной боли. Сократ предлагает изба­ вить его от недуга, излечив душу Хармида с помощью заговора, ко­ торый он якобы узнал от фракийского врача. С самого начала он заявляет, что все хорошее и плохое порождается в теле душой. А на душу лучше всего действуют верные речи. Именно они, говорит Сократ, укореняют в душе рассудительность, способствуя здоро­ вью1. Дойдя до этого места в «Хармиде», можно было бы «реабилити­ ровать» Ксенофонта, который считал, что добродетель у Сократа формируется определением соответствующих понятий. Но уже по­ сле нескольких реплик со стороны Хармида и его брата и наставни­ ка Крития Сократ уточняет, что рассудительность может быть от ро­ ждения присуща такому благородному юноше как Хармид. Следо­ вательно, вопрос о происхождении добродетели здесь, как и в «Протагоре», остается открытым. Тем не менее, беседа о рассуди­ тельности начинается. Как и во всех предыдущих случаях, Хармид поначалу указывает на частный случай рассудительности, когда человек делает что-то, соблюдая порядок и не спеша. Но Сократ приводит ему примеры, как рассудительные люди делают все быстро и стремительно. Отка­ завшись от определения рассудительности посредством скорости, Хармид связывает ее со стыдливостью. Но и в этом случае Сократ заводит Хармида в тупик. И наконец, Хармид определяет рассуди­ тельность как способность «заниматься своим». Критикуя это опре­ деление, Сократ приводит в пример учителя грамматики, который в таком случае должен был бы читать и писать только свое имя. Все три попытки Хармида определить суть рассудительности не увенчались успехом. И новый поворот в беседе связан со вступлени­ ем в нее наставника Хармида Крития, который задает новый угол рассмотрения проблемы. Теперь рассудительность оказывается со1 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 345. 49 I Глава первая. Античность: постановка проблемы вершением добрых дел. «Значит, тот, кто совершает дурные дела, не рассудителен, а рассудителен лишь тот, кто вершит хорошие?» — за­ дает Сократ вопрос Критию1. «А тебе, достойнейший мой,— возра­ зил он,— разве не так это представляется?»2 Вступление в беседу Крития в «Хармиде» так же знаменательно, как вступление в спор полководца Никия в «Лахете». И в том, и в дру­ гом случае разговор сразу же переходит в область анализа знания, а не поступков человека. Причем в «Хармиде» в силу специфики самой рассудительности анализ знания и возможностей самопознания име­ ет более развернутый характер. Большую часть «Хармида» занимает рассмотрение того, как воз­ можно самопознание и чем знание о самом знании отличается от зна­ ния о конкретных делах и предметах. Постепенно становится ясно, что рассудительность, которая невозможна без самоанализа,— это не просто знание себя как знающего. В этом случае человек мог бы су­ дить только о своем знании и незнании и оказался беспомощным в суждениях о чем-либо другом — здоровье, справедливости, рассуди­ тельности и т. д. Итак, знание, лежащее в основе рассудительности,— это не зна­ ние в форме конкретных умений, например, врачевания или зодчест­ ва, но это и не знание самого знания. На этом месте наступает очеред­ ная заминка в споре или, как мы говорили ранее, развилка в нем. По­ сле того, как Сократ клянется собакой, что и ему кажется, что исследование идет в неверном направлении, он вдруг рассказывает свой сон, смысл которого верно разгадывает Критий. Сон Сократа — именно загадка. В нем идет речь о достоинствах рассудительной жизни как жизни сознательной, но знание, которое должно сделать жизнь людей сознательной, так и не называется. В конце концов Критий называет это знание, которое, конечно, ока­ зывается знанием добра и зла. Причем последующие реплики Сократа указывают на то, что Критий, скорее всего, с самого начала знал, чему учит Сократ, но скрывал свое знание. «Ах ты, злодей! — восклик­ нул я. — Ты давно уже меня водишь за нос и скрываешь от меня, что не сознательная жизнь приводит к благополучию и счастью и не все науки, сколько их есть, но лишь одна эта, единственная наука — о добре и зле»3. 1 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 354. Там же. ' Там же. С. 369. 1 50 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Напомним, что и полководец Никий в «Лахете», вступая в спор, признается в том, что знает, чему учит Сократ. В этом свете интересен комментарий А.Ф.Лосева к данному месту в «Хармиде». Он пишет: «Сократ высказывает одну из любимых своих мыслей, что знание, не различающее добра и зла, не является истинным и, наоборот, настоя­ щее знание всегда ведет к благу и пользе... Знание добра и зла стоит для Сократа выше любой науки и создает в человеке подлинное един­ ство всех его духовных и практических сил, которыми отличается на­ стоящая калокагатия»1. Сказанное здесь Лосевым можно признать с двумя оговорками. Во-первых, знание добра и зла, как мы показали на примере двух ди­ алогов, не может быть извлечено из чувственного опыта челове В качестве идеала человеческого поведения добро постигается каким-то особым путем, отличающим его от других видов знания. В качестве основы души знание добродетели является главной пробле­ мой у Сократа. И пытаясь осмыслить его природу как некое идеальное начало, он оказывается родоначальником классической философии. Вряд ли через две с половиной тысячи лет мы отводили бы ему эту роль, будь он лишь первооткрывателем индукции и общих определе­ ний. Во-вторых, выше было сказано, что определений добра и зла Сок­ рат, как правило, не дает. И это верно, хотя в заключении диалога «Хармид» мы находим важное уточнение насчет добродетели и поль­ зы. В приведенном выше комментарии Лосев рядополагает благо и пользу в качестве целей истинного знания. Но в том же «Хармиде» этот вопрос решается не столь однозначно. Следует обратить внима­ ние на мнение Крития о том, что, начальствуя над наукой о благе, рассудительность и сама должна приносить людям пользу. Но, согла­ сившись с этим, Сократ отмечает, что такого рода польза не может быть, к примеру, пользой в отношении здоровья, т. к. этим занимается врачебное искусство2. Из сказанного ясно, что отдельными видами пользы занимаются отдельные искусства. И это дает повод Сократу заключить, что рассудительность не имеет отношения к пользе вооб­ ще. И все же этот вывод не удовлетворяет обоих собеседников. Ведь рассудительность, как говорит Сократ уже Хармиду,— «...это великое благо, и, если бы ты обладал ею, то был бы блаженным человеком»3. 1 2 3 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 749. См. там же. С. 369. Там же. С. 370. 51 J Глава первая. Античность: постановка проблемы Уже здесь можно предположить, что рассудительность — такое благо, которое не совпадает напрямую с телесными удовольствиями и материальной выгодой. И это уточнение позволяет в первом прибли­ жении развести этический рационализм в том виде, в каком он пред­ ставлен у Сократа, и в том виде, в каком он представлен, например, у Д.С. Милля. Ведь утилитарист Милль также пытался понять приро­ ду добродетели. Но он определяет добро с точки зрения рассудка, а не разума. И в этом качестве Милль представляет неклассическую тради­ цию в анализе этических категорий. Но знание не все одинаково. И идеальные регулятивы Сократа несовместимы с расчетами Милля. Эта несовместимость стала жизненной драмой русского философа и революционера Н.Г. Чернышевского, который жил по Сократу, но рассуждал о «разумном эгоизме» явно по Миллю. Д.С. Милль ставил стремление к личному счастью выше стремле­ ния к справедливости. Иные приоритеты отстаивает Сократ в споре о справедливости в первой книге «Государства». Подобно «Лахету» и «Хармиду», это раннее произведение Платона построено как беседа Сократа сначала с менее опытными, а затем с более опытным в пу­ бличных диспутах человеком. Уже в начале разговора известным ора­ тором Кефалом высказывается мысль о том, что справедлив тот, кто говорит правду и отдает то, что взял. Но вступившему вместо отца в беседу Полемарху Сократ объясняет, что тогда справедливо вернуть оружие человеку, который обезумел. От этого определения справед­ ливости переходят к другому, суть которого в том, чтобы творить до­ бро друзьям и зло врагам. Данное определение стоит рассмотреть немного подробнее, пото­ му что здесь Сократ еще раз предлагает отождествить добро с пользой. При этом опять выясняется, что пользу здоровью приносит врач, пользу на море — кормчий, при строительстве — строитель и т. д. По­ сле перебора ряда дел оказывается, что справедливость полезнее все­ го в денежных вопросах, причем не там, где деньги тратят, а там, где их нужно сохранить. «Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?» — задает вопрос Сократ1. И чуть дальше за­ ключает: «Стало быть, друг мой, справедливость — это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности»2. После этого беседа меняет свое направление. Но еще раз подчерк­ нем, что в приведенном нами месте польза добродетели оказывается 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 86. Там же. С. 87. 52 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии отличной от пользы, приносимой людям врачеванием, корабельным искусством, зодчеством и т. д. Полезность справедливости в свете на­ ших телесных желаний и потребностей скорее выглядит как беспо­ лезность. Вот что хочет сказать Сократ, высказывая парадоксальное утверждение о бесполезной полезности того, на что способен справе вый человек. Противостояние мудрости Сократа точке зрения здравого смысла на полезное и бесполезное усиливается после того, как в беседу всту­ пает некто Фрасимах, известный в Афинах своим упрямством и само­ уверенностью. Разговор переходит на справедливость в государствен­ ных делах. Причем характерно, что анализ первой книги «Государст­ ва», представленный в «Античной философии» Асмуса, на этом месте как раз обрывается. Автор утверждает, что для характеристики метода Сократа достаточно того, что говорилось ранее. При этом он не пер­ вый раз замечает, что этическая проблематика у Сократа по сути тор­ мозит разработку им диалектики. И слово «диалектика» здесь неслу­ чайно взято Асмусом в кавычки. Он пишет: «По ранним диалогам Платона мы можем составить ясное и точное представление о том, чем была «диалектика» Сократа. Сократ несомненно дал толчок к развитию в философии учения об общем понятии. Однако от толчка до выяснения диалектической функции общего понятия дистанция оставалась еще значительной. Сократ не прошел этой дистанции не по недостатку проницательности, а потому, что весь его интерес был сосредоточен не на области общей теории диалектики, а на области этики. Диалектика Сократа есть только пропедевтика его этических исследований»1. Здесь стоит напомнить, что В.Ф.Асмус является автором ориги­ нальной для своего времени статьи о философах Л. Шестове и С. Киркегоре. В указанной статье, появившейся в 1972 году, Асмус неслучай­ но говорит о том, что критика гносеологического рационализма у обоих этих мыслителей неотделима от критики рационализма этиче­ ского2. Усилив эту мысль, можно сказать, что последовательное прео­ доление разума, по мнению Шестова, предполагает искоренение тех этических основ, о которых впервые заговорил с афинянами фило­ соф Сократ. Оценки Шестова были во всем радикальными и бескомпромисс­ ными. Он не проводил многих различий. Тем не менее, предвзятость 1 2 Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 120. Асмус В.Ф. Шестов и Кьеркегор// Философские науки. 1972. № 4. С. 71. 53 I Глава первая. Античность: постановка проблемы Шестова позволяет точнее обозначить контуры классического евро­ пейского рационализма. И прежде всего, понять, что истина — это не просто знание, а разум — не только способность познавать и знать для мышки страшнее кошки зверя нет, так для современного ирраци­ онализма нет ничего страшнее позитивизма с его вырожденным слу­ чаем человеческого разума. Сила Шестова, однако, в том, что в своих антипатиях он идет значительно дальше, призывая себе на помощь Киркегора. Для Л. Шестова ясно, что истина неотделима от добра, а разум — от способности постигать «наилучшее». И здесь во весь рост встает фигура Сократа. К сожалению, занимаясь творчеством самого Сокра­ та, Асмус не признает указанного тождества гносеологической и эти­ ческой сторон классического рационализма. Таким образом, критик рационализма Шестов оказывается более проницательным мыслите­ лем, чем его многие откровенные защитники. Что касается достижений Сократа в диалектике, то здесь главную проблему Асмус видит в объяснении сущности рассматриваемого предмета как единства в многообразии своих проявлений, как посто­ янства и тождества в изменяющемся многообразии1. С его точки зре­ ния, Сократ в проработанности этих вопросов явно уступает Платону. И это, безусловно, так. Отметим, однако, что диалектикой единого и многого уже занялись элеаты, а проблемой постоянного и изменчи­ вого — Гераклит, который, решая данную проблему, ввел понятие меры. Что касается Сократа, то его достижение — в стремлении понять всеобщее и объяснить, как оно предстает в качестве особенного. И здесь Сократ был безусловно первопроходцем. Уточним, что речь идет именно о всеобщем, а не об общем, делимом на части. В работе «О ча­ стях животных» Аристотель подчеркнул, что во времена Сократа ис­ следование природы остановилось, и философы обратились к поли­ тике и добродетели2. Именно в этой области и было обнаружено Сок­ ратом всеобщее в его тождественности себе и неделимости на част И эта диалектическая категория могла быть впервые обнаружена и подвергнута анализу только в указанной Аристотелем сфере полити­ ки и морали. А потому анализ добродетели не столько сковывает и тормозит, сколько способствует диалектической мысли Сократа. 1 2 Асмус В.Ф. Античная философия. С. 116. См. там же. С. 124. 54 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Обычно считают, что единая добродетель, согласно Сократу, де­ лится на части — справедливость, рассудительность, и т. д. И к этой трактовке как будто подталкивает диалог «Протагор», где Сократ приводит известный пример с частями лица, подобно которым могут соотноситься в рамках целого добродетели. При этом, поддержав Сократа, Протагор утверждает, что человек может обладать всего лишь одной добродетелью с ее особым назначением, не имея отноше­ ния костальным1. Но диалог на этом не оканчивается. И зная знаменитую иронию Сократа, можно предположить, что и в этом вопросе он заставит Протагора войти в противоречие с самим собой. Действительно, Сократ заводит Протагора в тупик, притом делает это два раза, доказывая, что добродетели не могут быть частями целого. Первый раз Сократ ставит Протагора перед выбором, то ли отказаться от собственного вывода, что одному должно быть противоположно только одно, то ли отказаться от признания того, что рассудительность и мудрость — разные добродетели, соотносящиеся между собой как части лица. Протагор с неохотой отказывается от второго. После этого Сократ еще раз уточняет: «Так не получится ли, что рассудительность и му­ дрость — одно и то же? Ведь и раньше у нас оказалось, что справедли­ вость и благочестие — почти то же самое. Но не будем унывать, Про­ тагор, а давай разберемся и в остальном»2. Беседа продолжается. И на очередном этапе речь идет уже о всех добродетелях сразу. «Вопрос, по-моему, состоял в следующем,— гово­ рит Сократ,— мудрость, рассудительность, мужество, справедли­ вость, благочестие — пять ли это обозначений одной и той же вещи, или, наоборот, под каждым из этих обозначений кроется некая особая сущность и вещь, имеющая свое особое свойство, так что они не сов­ падают друг с другом?»3 Возвращаясь к мысли о различии добродетелей, Протагор приво­ дит пример с мужественным человеком, у которого отсутствуют все остальные добродетели. В связи с этим Сократ подводит Протагора к различию мужества и смелости. Первое прекрасно и требует мудро­ сти, а второе может совершаться иступленным и несведущим челове­ ком. Значит можно сделать вывод, что мужество, в отличие от смело­ сти, неотделимо от красоты и мудрости. И по сути Протагор соглаша1 1 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 439. Там же. С. 444. Там же. С. 461. 55 I Глава первая. Античность: постановка проблемы ется с этим1. Так Сократ подводит собеседников к мысли о том, что о добродетели нельзя рассуждать с точки зрения «часть — целое». Спра­ ведливость, рассудительность, мужество um. д.— это не части, а явления одной и той же единой добродетели. Таким образом заявляе себе своеобразие добродетели как всеобщего, в отличие от общего, делимого на части. И то же самое можно сказать о природе идеала, переходя на язык более зрелой философской классики. Но, в отличие от классической философии в ее зрелой форме, эта позиция выраже­ на у Сократа отнюдь не однозначно, а потому далее он вновь спосо­ бен говорить о «частях добродетели»2. Единая добродетель, о которой печется Сократ,— свидетельство формирования идеальных основ человеческой жизни. Что касается п тивостояния Истины, Добра и Красоты в современной культуре, то таков итог отчуждения человека в ходе истории. Борьба с идеалами, которая началась в середине XIX-го и происходила весь XX век,— свидетельство обратного движения, т. е. разложения идеальных основ нашей жизни. И эта разнонаправленность движения по-новому выс­ вечивает и уточняет своеобразие двух переходных эпох — античной классики и современности — в европейской культуре. Но вернемся к первой книге «Государства» в том месте, где Фрасимах отстаивает представление о справедливости как пригодном силь­ нейшему. При этом становится ясно, что сильнейший — это прави­ тель, использующий власть в своих личных целях. Именно в этом смысле Фрасимах, говорит о полезности власти для человека. И тако­ му правителю выгодно, считает он, чтобы подданные исходили из справедливости, не ориентирующей на извлечение материальной пользы. «Справедливое», «справедливость», «несправедливое», «нес­ праведливость» — утверждает Фрасимах, — ...в сущности это чужое благо, это нечто, устраивающее сильнейшего, правителя, а для подне­ вольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость — наоборот: она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и спра­ ведливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно пра­ вителю, так как в руках его сила. Вследствие их исполнительности он благоденствует, а сами они — ничуть»3. Здесь перед нами вновь та позиция, которую обслуживали софи­ сты. Именно они помогали корыстолюбию надевать в политике мас1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 463. См. там же. С. 465. ' Там же. Т. 3. С. 99. 2 56 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ку приличия. По сути дела софист Фрасимах декларирует две морали. Одна — мораль сильного, а другая — слабого. Сильный использует моральные установки слабого. И как здесь не упомянуть Ф. Ницше, который через две с половиной тысячи лет вспомнил о ситуации вы­ бора в античной истории. И был, как мы знаем, отнюдь не на стороне Сократа. Но Сократ в первой книге «Государства» не только встал на защи­ ту единой добродетели, способной защитить слабого. Еще важнее для него разобраться с истинной целью политика, которую выражает идея справедливости. Сократ разными способами доказывает, что прави­ тель не должен руководствоваться своими интересами. Подобно тому, как кормчий занимается не собой, а гребцами, а врач занимается не собой, а больными, политик тоже должен заботиться о гражданах, по­ ясняет Сократ. «Следовательно, Фрасимах,— говорит он,— и всякий, кто чем-либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит»1. Фрасимах продолжает настаивать на том, что «всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым»2. При этом он отмечает: «Так-то вот, Сократ, достаточно полная несправед­ ливость сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость, как я с самого начала и говорил,— это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе»3. В той системе координат, в которой находится Фрасимах, точка отсчета — отдельный индивид и его эгоистические интересы. И с этой точки зрения, несправедливого человека и вправду никто не может использовать, т. к. он служит только себе. Именно в этом смысле его несправедливость пригодна только самой себе, а его несправедливые поступки вполне целесообразны. Иначе, с точки зрения Фрасимаха, выглядит справедливый человек, которого легко использовать в ко­ рыстных целях. Но в том-то и дело, что Сократ, доказывающий преимущества справедливости, находится уже в другой системе координат. И в этой системе, помимо частного интереса, вполне объективно существуе щий интерес и общее благо, которые есть условие процветания от 1 2 3 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 99. Там же. С. 100. Там же. С. 101. 57 I Глава первая. Античность: постановка проблемы ных граждан. Имея в виду политика, Сократ уточняет: «Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хоро­ шенько угоститься за столом; или, что касается доходов, так, словно он стяжатель, а не пастух. Между тем, для этого искусства важно, ко­ нечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом, тогда овцы и будут в наи­ лучшем состоянии... Потому-то, думал я, мы теперь непременно со­ гласимся, что всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого-то иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем — в обще­ ственном и в частном порядке»1. Осознание общественных интересов для эпохи Сократа — это проблема. В прошлом было привычное подчинение традиции, в на­ стоящем — эгоизм людей, подобных Фрасимаху, для которого добро­ детель — если не фикция, то средство, которое удачно используют сильные для подчинения слабых. Задача Сократа, наоборот, состоит в том, чтобы доказать, что добродетель — не фикция, а реальность. И для политика она должна быть не средством, а целью. Ведь служить добродетели — это способствовать процветанию целого, без которого невозможно выжить единице. Первая книга «Государства» интересна тем, что в ней на примере справедливости видно, что добродетель для Сократа — это представитель всеобщего в душе отдельного челов И как раз это начало в душе не позволило ему бежать накануне казни, когда к этому не было серьезных внешних препятствий. Восхваляя несправедливость, Фрасимах по сути видит в ней исток для особого учения, в котором несправедливость — нечто мудрое, со­ вершенное и добродетельное. И это сильнее всего возмущает Сокра­ та. «Это уж слишком резко, мой друг, — говорит Сократ,— и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедли­ вость целесообразна, но при этом, подобно другим, признал бы ее по­ рочной и позорной, мы нашлись бы, что сказать, согласно общепри­ нятым взглядам. А теперь ясно, что ты будешь утверждать, будто нес­ праведливость — прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости»2. Учения Сократа и Фрасимаха — антиподы, и на первый взгляд взаимопонимание здесь исключено. И, тем не менее, у них есть точка 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 102. Там же. С. 106. 58 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии соприкосновения, что позволяет Сократу разрушить позицию Фрасимаха. Этой точкой соприкосновения является признание разума мерилом истины. У софистов разум имеет инструментальное назнач ние, а истина субъективна, чего не скажешь о Сократе, для которого истина разума объективна и должна совпадать с жизненной позицией. Но противоречие в суждениях для всех участников этого спора есть свидетельство ошибки, а значит поражения. И именно логика здесь, как и в других случаях, оказывается главным и единственным средст­ вом в борьбе Сократа против софистики. Сократ доказывает Фрасимаху, что справедливый притязает лишь на то, что знает, в отличие от человека несправедливого, который в трактовке Фрасимаха притязает на преимущества во всем и вся, а зна­ чит и в вопросах справедливости, чуждых ему. Но так может посту­ пать только невежда, а не мудрец, человек неразвитый, а не совер­ шенный. Следовательно, несправедливость не имеет отношения к мудрости и совершенству, заключает Сократ. И Фрасимах вынужден с ним согласиться1. Еще раз подчеркнем, что аргументы Сократа имели смысл для Фрасимаха по причине их общего уважения к разуму. В отличие от античного грека Фрасимаха, Ницше в аналогичной проповеди инди­ видуализма и культа сильнейшего, безусловно, более последователен. Ницше отвергает не только религию и мораль, но и разум. Он отбра­ сывает всю классическую культуру в том виде, в каком она была уна­ следована от античности. И в этой последовательности проявляет себя глубочайший кризис все той же классической культуры, в кото­ ром она оказалась в новейшее время. Но вернемся к первой книге «Государства», чтобы уточнить, в чем же Сократ видит целесообразность добродетели. Ведь только в этом разговоре о целесообразности анализ добродетели доводится Сокр до фундаментального отличия добра от зла. Ни в одном из других р них диалогов в уяснении сути добродетели Сократ до этого пункта не доходит. Именно на последних страницах этой книги Сократ говорит по поводу несправедливости то, что, опираясь на насилие, она сеет раздор, и этот раздор касается всего — взаимоотношений людей, от­ ношения к богам и даже души человека. Сократ так говорит по поводу несправедливости: «Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 106-109. 59 I Глава первая. Античность: постановка проблемы бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым»1. Противоположным действием, соответственно, обладает спра­ ведливость, следствием которой является не раздор, а согласие. Из этого следует, что добродетель есть объективное основание души, кото­ рое гармонизирует отношения индивида с целым, будь то космос, полис и его внутренний мир. Таким образом, представление о целесообразно­ сти у Фрасимаха и Сократа оказывается различным. Для Фрасимаха целесообразное должно соответствовать определенной цели. У Сок­ рата целесообразность добродетели есть сообразность не с личной це­ лью, а с некоторым целым. И в этой сообразности действий человека с целым, согласно Сократу, как раз и заключается счастье2. В античности еще не сложилась почва для объявления категори­ ческого императива, когда человек — всегда цель и никогда — средст­ во. Но античность уже создает почву для того, чтобы объявить сутью добра единство интересов одного с интересами всех. И важно не путать это единство с интересами отчужденного целого, которое сегодня именуют «тоталитарным государством». Для Сократа важно то, чтобы указанная гармония была результа­ том личного выбора, т. е. сознательно избранной добродетели. В конце первой книги «Государства» Сократ говорит о том, что только душа способна заботиться, управлять и советовать. Таково ее назначение подобно тому, как назначением глаз является зрение, а назначением ушей является слух3. И чем возвышенней душа, тем лучше она делает свое дело, исходя из добродетели. Вот что следует из спора Сократа с Фрасимахом. На этом первая книга «Государства», относящаяся к ранним рабо­ там Платона, завершается. Но анализ проблемы души Сократом тре­ бует еще ряда дополнений. Мы пытались показать, что уже у Сократа знание добродетели оказывается всеобщим началом в душе человека. И этот поиск всеобщих объективных основ придает проблеме души новый поворот и звучание, которые станут определяющими в фило­ софской классике. Сократ по сути намечает контуры идеала как средо­ точия души. При этом в ранних диалогах Платона нет рассуждений о телесности или бестелесности души, которые мы находим в более поздних его произведениях. 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 111. См. там же. С. 112. ' См. там же. С. 114. 2 60 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Душа, как следует из этих диалогов, противостоит телу, но не по­ тому, что она незрима, бесплотна и невещественна, о чем идет речь в христианском богословии. Сократ не исследовал вещественный со­ став души, как это было принято в фисиологии. Тем более, он не про­ тивопоставлял ее телу как невещественное вещественному, бестелес­ ное телесному, незримое зримому. И тем не менее, уже у Сократа душа оказывается антиподом тела в качестве его руководящего начала. Она противостоит ему как всеобщее частному, подобно тому, как принцип действия противостоит отдельному поступку. И в указанном отноше­ нии уже схвачено своеобразие идеала и его отношения к действитель­ ности. А потому, не затрагивая вопроса о бестелесности души, мы можем положительно решать вопрос об идеальности души применительно к позиции Сократа. Именно в качестве всеобщего принципа душа опреде­ ляет жизнедеятельность тела. И на этом основании можно заключить об идеальности души в учении Сократа. Заметим, что здесь позиция Сократа существенным образом отличается от того, чему будет учить Платон, у которого неразумная часть души тесно связана с телом. «Получается, что, отождествляя добродетели с науками,— читаем мы у Аристотеля,— Сократ упраздняет внеразумную (alogon) часть души, а вместе с нею и страсть (patos), и нрав»1. Душа у Сократа есть нечто всеобщее и неделимое на части, в отли­ чие от тела как чего-то частного и, в свою очередь, делимого. В каче­ стве всеобщего душа определяет у него цель и способ жизни человека. И по сути здесь идет речь об особом типе причинной зависимости, впервые обнаруженном Сократом. Ведь Сократ открыл и первым взялся исследовать особый тип детерминации. Дальнейшее развитие философской классики покажет, что это уже не отношения между ве­ щами в природном мире, а отношение всеобщего к частному в мире культуры, где общий принцип способен определять частные случаи в по­ ведении человека. У современного человека не вызывает сомнения тот факт, что люди могут руководствоваться принципами и идеалами. Всем извест­ ны имена тех, кто когда-то пошел на костер, не поступившись рели­ гиозными или, наоборот, научными убеждениями. «Это дело принци­ па!» — говорит один. «Это вопрос чести!» — утверждает другой. И каждый раз общее оказывается важнее частного, а идеал весомее 1 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 297. 61 I Глава первая. Античность: постановка проблемы материальных благ. Причем в иных случаях этим определяется выбор между жизнью и смертью. Принцип — это общее, которым человек руководствуется в своем отношении к природе, идеалом общее становится в отноше­ нии человека к человеку. Если в основе принципа лежит объектив­ ная мера природы, то в основе идеала — объективная мера челове ского в человеке. Но развернутый разговор об общем в форме прин­ ципа и идеала у нас еще впереди. Сейчас же уточним, что не любой принцип является идеалом. Но идеал безусловно является принци­ пом. Потому вполне допустимо говорить об идеале как принципе действия человека. Конечно, не все и не всегда руководствуются принципами. И в наши «просвещенные» времена сплошь и рядом наблюдаются колли­ зии, когда сталкиваются нравственные принципы и вековые тради­ ции, убеждения и предрассудки, идеалы и эгоистические интересы. Еще сложнее обстояли дела во времена Сократа, когда нравственный принцип впервые бросил вызов эгоистическому интересу, с одной стороны, и традиции — с другой. Сложность ситуации заключалась в том, что граждане Афин пре­ красно знали, как жертвуют жизнью во имя процветания родного по­ лиса, как приносят жертвы богам, как подчиняются законам государ­ ства. Но в каждом из этих случаев они следовали примеру и предписа­ нию. И авторитет староотеческих богов не допускал личных толкований общего закона. Именно из правила и отдельного примера исходят собеседники Сократа в ранних диалогах Платона, рассуждая о сути добродетели. Но человек, который знает, как поступать в строго определенных слу­ чаях, по существу несвободен. И там, где конкретное «правило» ему неизвестно, он вынужден использовать другие, пусть даже неудачные шаблоны. Именно так поступает дурак в народной сказке. И подоб­ ные персонажи есть у большинства народов. Причем действуют Иван-дурак или глупый Ганс одним и тем же способом. Сказки об уме и глупости подчеркивают своеобразие ума в его ис­ ходном жизненном смысле и действии, а не в том виде, в каком пред ставлен ум в действиях профессионально ограниченного ученого или «гносеолога». «Гносеолог», уверенный в том, что ум проявляет себя в действиях индукции и дедукции, будет двигаться от частного к обще­ му и от частного к частному. Но в реальных жизненных ситуациях ум­ ные люди двигаются как раз наоборот — от общего принципа к кон- 62 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии кретному решению. И как раз этим способом не может овладеть любой дурак, подменяя разумный выбор известным ему шаблоном. Напомним, о чем идет речь в сказке «Набитый дурак» в изложе­ нии А.Н. Афанасьева1. У старика со старухой был единственный сын-дурак, которому мать предлагает потереться между людьми, что­ бы у них ума набраться. Первое проявление его глупости — букваль­ ное понимание слов, когда дурак начинает тереться об мужиков, ко­ торые молотят горох. Второе и главное проявление глупости — дейст­ вие по шаблону. Мать, как известно, советует дураку говорить мужикам «Носить вам не переносить!» И он честно повторяет эту формулу другим людям, несущим покойника. Мать советует ему в другой раз слезно плакать и поклоны бить. И дурак честно плачет, по­ пав на свадьбу. Намного нелепее и в то же время кровожаднее немецкая сказка про смышленого Ганса, обработанная братьями Гримм2. В ней по ана­ логии с иглой Ганс втыкает в рукав нож, а по примеру ножа кладет козу в карман. Узнав же от матери, что козу следовало вести на верев­ ке, привязывает к ней сало, а вместо сала несет на голове теленка. Самая же страшная глупость Ганса в том, что по совету матери «ласко­ во на невесту глазами вскинуть», он выкалывает телятам и овцам гла­ за и кидает их в лицо своей невесте Гретель. Надо сказать, что, когда дурак обижается на мать, будто она его неправильно учит, в этом есть доля правды. Ведь мать не помогает ему понять смысл слов и применить принцип действия к конкретной ситу­ ации. Мать предлагает дураку готовые образцы поведения. Но в од­ них исторических обстоятельствах действие по шаблону и тради­ ции — норма, а в иных обстоятельствах — уже глупость. Сократ жил именно в такую переходную эпоху, когда созрела не­ обходимость избавиться от шаблонов во взглядах и поступках. И Сок­ рат предлагает «набираться ума», вовлекая людей в свои беседы. Раз­ ум у Сократа — это по сути способность не повторять готовый обра­ зец, а искать каждый раз особое решение, исходя из добродетели как парадигмы человеческого поступка. В этом свете идеал есть паради отношения человека к человеку. Умение мыслить — это умение применять общий принцип к частн ситуации. И такой способ действия есть не только свидетельство раз­ ума, но и залог свободы. Напомним, как Сократ дает Лахету в одно1 1 См.: Народные русские сказки: Из сборника А.Н. Афанасьева. М., 1979. См.: Братья Гримм. Сказки. Минск, 1983. 63 I Глава первая. Античность: постановка проблемы именном диалоге понятие скорости как «способности многого до­ стичь за короткий срок». В этом понятии, уточняет Сократ, не должно быть указано, идет ли речь о беге, разговоре, обучении или игре на кифаре. Однако, каждый, кто владеет этим понятием, будет верно по­ ступать во всех возможных случаях. Понятие «скорость» в данном случае выражает именно принцип действия человека. Оно дает нам знание определенного рода дейст­ вий, не описывая отдельных примеров и случаев, а выражая их прин­ ципиальное единство. И чтобы воплотить указанный способ действия на практике, человеку недостаточно тела и органов чувств. Их дейст­ виями должна руководить душа, умеющая воплощать один и тот же принцип разными и даже исключающими друг друга способами. Еще раз уточним разницу между принципом и идеалом. Понятие скорости выражает именно принцип действий человека, но никак не идеал, который мы чаще всего воплощаем противоположными путя­ ми. Так идеал милосердия един, и означает он бескорыстную помощь людям. Но действовать милосердно можно по-разному, например, отбирать наркотики у людей и, наоборот, давать их, как это делают при смертельных болезнях. Последнее нужно оговорить особо, поскольку упираясь в данную проблему, Сократ каждый раз прерывает свое исследование и конста­ тирует логическое противоречие, не позволяющее ему найти и опре­ делить истину. Сократ согласен с тем, что общая основа наших дейст­ вий предполагает различные, каждый раз особые поступки. Но он не может признать того, что одна и та же сущность может проявлять себя в противоположных действиях. И на это следует обратить особое вни­ мание, когда мы перейдем к оценке заслуг Сократа в области методо­ логии. Итак, всеобщий принцип человеческого действия реализуется не в отдельном поступке, а в особой линии поведения. Именно так на пра­ ктике утверждал всеобщее сам Сократ, и потому был назван К. Марк­ сом «воплощенным философом». Принцип действия, заложенный в его душе, Сократ воплотил в собственной судьбе. И в ранних диалогах Платона перед нами изображение души и ее основы — ума именно в сократовском, а не в софистическом или фисиологическом смысле. У фисиологов ум манифестировал законы космоса. У софистов он об­ служивал частные интересы. И только у Сократа ум пытается прояс­ нить свои всеобщие основы. Но декларируя эту цель, Сократ на деле решает более фундаментальную задачу. Он не только проясняет все- 64 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии общее, но и воплощает его в особенном. Сама жизнь и деятельность Сократа — пример диалектики особенного, где всеобщее предстае системное единство способностей, как конкретная душа и лично Таков еще один, пусть не совсем осознанный, но вполне явный итог его творчества. Еще раз подчеркнем, что идеальность души связана с особым ти­ пом детерминации, который существует в поведении человека. Имен­ но эта идеальная детерминация во взаимоотношениях души и тела была впервые очерчена в ранних диалогах Платона. Знание в форме идеала, на наш взгляд, стало главным открытием Сократа. Ведь таким образом в философию был введен феномен идеального и обознач главная тема философской классики — отношение идеального к мат альному. Естественно, что указанный вывод не соответствует привычной оценке заслуг Сократа, и потому требует уточнений. Для примера возьмем характеристику учения Сократа у Целлера, который, ссыла­ ясь на Аристотеля, пишет: «Средоточие исследований, которые Сок­ рат предпринимает вместе со своими друзьями, всегда образует опре­ деление понятий, и путь, на котором он достигает последнего, есть диалектически индуктивный метод»1. Таким образом, не знание в форме идеала, а именно индуктивные обобщения предлагаются здесь на роль искомого знания, к которому ведут беседы Сократа. Характерно, что Целлер исключает какие-либо противоречия в искомых индуктивных обобщениях, делая, тем самым, метод Сократа предельно ясным. «Эта индукция,— пишет он,— исходит не из точно­ го и исчерпывающего наблюдения, а из обычного опыта ежедневной жизни, из общепринятых положений; но, рассматривая всякий пред­ мет со всех сторон, проверяя всякое определение противостоящими инстанциями и привлекая все новые случаи, философ принуждает мышление составлять такие понятия, которые согласуются со всей совокупностью фактов и без внутреннего противоречия сочетают все существенные признаки объекта»2. Уже из этого описания применяемого Сократом метода можно за­ метить, что он не совсем похож на традиционную новоевропейскую индукцию. Целлер в данном случае говорит о неком «диалектически индуктивном методе». Что касается Асмуса, о котором здесь стоит вновь упомянуть, то у него сутью метода Сократа является выяснение 1 2 Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 95. Там же. 65 I Глава первая. Античность: постановка проблемы родовых и видовых понятий. При этом Асмус специально указывает на логические противоречия, которые на каждом шагу преследуют Сократа. И это, конечно, лишает его поиск той ясности и безоблач­ ности, в которой пытался нас убедить Э. Целлер. Итак, что касается метода Сократа, то здесь индуктивные заклю­ чения явно подчинены определению родо-видовых понятий. И такое исследование к элементарному обобщению, конечно, несводимо. Все это, впрочем, соответствует тому, на что как на заслугу Сократа указал в свое время Аристотель1. Но открытым остается один важный во­ прос. Почему Аристотель явно игнорирует ту форму знания, которую Сократ называет знанием «наилучшего»? Ведь, наряду с общими представлениями и родовыми понятиями, в ранних диалогах Платона присутствует особое знание добра и зла. И, подобно категориям, это знание ни индуктивным, ни дедуктивным путем никак не выведешь. Знание добра и зла — это знание с особым статусом. И, указав на него, Сократ, повторим, совершил едва ли не главное свое открытие. Аристотель прав в том, что Сократ много сделал в области индук­ тивных умозаключений и логического анализа. Но при этом Сократ сумел показать, что на данном пути знание добродетели недостиж Знание добра и зла, подобно категориям мышления, оказывается в душе иначе, чем представления о вещах и их свойствах, а также поня­ тия о родах и видах. Знание добра — это знание особого рода. И сколь­ ко ни обобщай поступки людей и не умозаключай по их поводу, зна­ ние добра как идеала человеческой жизни не получишь. Знание до­ бродетели нельзя получить, обобщая частные случаи, и его нельзя усвоить повторением чужих поступков. Его сложно вычитать из уче­ ных книг. Создается впечатление, что душа знанием добра владеет из­ начально. А в практике и беседах его только уточняют и проясняют. И тем самым душа совершенствуется. Таким образом, выясняя природу добродетели, Сократ упирается во вполне объективное противоречие. Самым сложным в природе иде алов оказывается их происхождение. Знание добра изначально прот речивым образом и дано, и не дано индивиду. Знание «наилучшего» (в форме идеала) невозможно узнать в обычном смысле этого слова. Но то, что невозможно узнать, оказывается, можно прояснить, пото­ му что оно изначально известно душе. Вот суть проблемы, зафикси­ рованной Сократом. 1 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 327-328. 66 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Докапываясь до сути добродетели, мы тем самым совершенствуем собственную душу Но саму добродетель — и это крайне важно — из­ менить мы не можем. Знание «наилучшего» дано человеку в форме готовой истины. Еще точнее эту ситуацию будут впоследствии опре­ делять через категорию абсолютного. Своеобразие абсолюта в том, что он не нуждается в порождающей силе, поскольку вечен. Он не способен меняться, поскольку самодостаточен. Что касается знания добродетели, то абсолютным его способна сделать форма. Та самая форма, которая у Канта будет фигурировать под именем «категориче­ ский императив». Во времена Сократа исполнение традиции гарантировалось волей и примером богов. Но разум в лице софистов стал разлагать авторите­ ты, совлекая рефлексией покровы святости. Сократа судили как раз за ниспровержение староотеческих богов. Однако афинский суд про­ игнорировал главное. Ведь святости традиции он противопостав абсолютный характер идеала в качестве нового гаранта добродет По сути у Сократа добродетель меняет способ бытия. Оставаясь объ­ ективной основой полисной жизни, она из внешнего предписания богов превращается во внутренний принцип поведения, непреложность к рого гарантируется самой формой этого знания. В анализе добродетели Сократ по-своему указывает на абсолют­ ную форму идеала, «эффективность» которого гарантирована имен­ но его непреложностью и самодостаточностью. Такое знание обла дает принудительной силой не благодаря авторитету богов и жрецов, а благодаря самому себе, своим особенностям. Оно является предпи­ санием к исполнению благодаря своей форме и без каких-либо внеш­ них подпорок. Аналогичным образом моральный поступок в учении Канта обусловлен самой сутью имманентного ему нравственного закона, в отличие от легального поступка, который имеет внешние причины. Общий пункт у Сократа и Канта еще и в том, что такого рода регулятивы поведения не могут быть созданы, а они могут быть нам даны в своей абсолютности извне. У Канта в этой роли выступает Трансцендентальный Субъект, наделяющий эмпирического субъекта (индивида) готовыми способностями, необходимыми формами по­ знания и абсолютным нравственным законом. Как и первооткрыва­ тель феномена идеального Сократ, Кант не видит возможности для рождения всеобщего и абсолютного в конечном, несовершенном об­ щении эмпирических субъектов. 67 I Глава первая. Античность: постановка проблемы Соответственно и Сократ воспринимает абсолютную форму идеала как некую изначальную данность, а не объективную видимость, с не ходимостью скрывающую динамику своего формирования. Диалог « нон» завершается указанием на то, что даже лучшие из лучших Фемистокл, Перикл и Фукидид не смогли выучить своих детей доброде­ тели. А из этого следует, что боги награждают людей знанием добродетели, опираясь во многом на игру случая. И многие, даже го­ сударственные мужи, опираются на знание о «наилучшем» без прояс­ нения разумом его основ1. Таким образом, абсолютная форма идеала превращает его в по­ сланца иного мира. И вне этой изначальной интенции на внеположенную абсолютную реальность идеал перестает быть самим собой. Таков своеобразие бытия идеала, с необходимостью рождающее философ­ ский идеализм. На эту внутреннюю связь идеализма с особенностями нравственного идеала напрямую указывает С.Н. Трубецкой в своем анализе учения Сократа. «Само присутствие идеальной, общей цели в нравственном сознании человека,— пишет он,— самое сознание все­ общих неписаных законов нравственного порядка свидетельствуют о сверхличном и благом Разуме»2. И немного погодя он еще раз отмеча­ ет, что самое живое и убедительное доказательство, а точнее, проявле­ ние божества, Сократ находит в рассмотрении нравственной жизни человека3. Нравственное сознание в определенных обстоятельствах предпо­ лагает и полагает идеализм в его религиозной и философской форме По-другому на этой связи будет настаивать Ф.М.Достоевский, у ко­ торого атеизм означает безнравственность. Ярче всего об этом сказа­ но в «Бесах», где точка зрения естественно-научного материализма представлена так: «Если средства науки ... окажутся недостаточными для пропитания и жить будет тесно, то младенцев будут бросать в нужник или есть. Я не удивлюсь, если будет и то, и другое, так долж­ но быть, особенно если так скажет наука»4. «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям,— пишет он в другом месте.— Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же одна — Христос»5. 1 2 3 4 5 С. 371. См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 612. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 288. См. там же. С. 290. Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Λ., 1974. Т. XI. С. 446. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. 68 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Но вернемся к Сократу, у которого указанная связь нравственного идеала с идеализмом европейского типа только намечается. В отли­ чие от князя Трубецкого, который находил у Сократа прообраз сред­ невекового богословия, отметим, что установка на иной мир как ро­ дину идеального у Сократа не выражена со всей определенностью. Проблема истоков общего в душе человека по большому счету так и остается у Сократа проблемой. В ранних диалогах Платона Сократ не дает развернутого ответа об истинной родине знания Добра и Зла. Он уверенно говорит лишь о его жилище в виде бессмертной души. И в такой постановке вопроса об общем в пределах души есть определен­ ные преимущества, которые по-своему смог оценить Аристотель. «А так как Сократ,— сообщает Аристотель в «Метафизике»,— за­ нимался вопросами нравственности, природу же в целом не исследо­ вал, а в нравственном искал общее и первый обратил свою мысль на определения, то Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому... И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувст­ венно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и имену­ ется сообразно с ними, ибо через причастность к эйдосам существует все множество одноименных с ними (вещей)»1. В свете указанной характеристики становится ясно, почему Ари­ стотель игнорирует знания добра у Сократа. Ведь именно в постанов­ ке вопроса о добре и происхождении добродетели у Сократа прогля­ дывают ростки платонизма. Здесь заключена предпосылка, из кото­ рой вырастает учение Платона об идеях. Потому борьба, которую вел Аристотель с платонизмом, в данном случае проявляется как стрем­ ление «реабилитировать» Сократа, отделить и противопоставить ве­ ликого учителя его не менее великому ученику. Сократ в трактовке Аристотеля не был и не мог быть объективным идеалистом в плато­ новском смысле. В чем же своеобразие решения проблемы души и идеального в платонизме? Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 79. Глава вторая Проблема души в платонизме Анализ проблемы души у Платона неотделим от природы самого европейского идеализма, аналогов которого не было на Древнем Востоке. Ни в Древней Индии, ни в Древнем Китае теоретическая рефлексия не поднялась до анализа природы идеального, как это про­ изошло у Сократа, у которого добродетель является идеальным нача­ лом в душе человека. Скудные сведения об учениях противников джайнов и буддистов в Древней Индии свидетельствуют о том, что в итоге там победил противоположный античному взгляд на душу. И если даже существовал свой индийский «Сократ», то в силу обстоя­ тельств последнее слово оказалось отнюдь не за ним. Что касается ве­ ликого Конфуция, то он, скорее всего, был бы среди тех, кто осудил Сократа. Идеализм, как и классическая философия в целом,— порождение античности. И как раз у Платона проблема идеального, поставленная Сократом в связи с природой идеалов, обретает космический мас­ штаб. Этот поворот в платонизме определил облик европейской куль­ туры и сказался на христианстве. Его влияние объясняет многое в ре­ шении проблемы идеального в наши дни. Но был ли этот путь, обо­ сновывающий противостояние души и тела, закономерным? 1. Платоновский идеализм и проблема «родины» души Начнем с того, что мир идей у Платона по-своему объясняет фено­ мен предзаданности идеала индивиду Именно там, в мире идей, душа, согласно Платону, приобщается к всеобщему. Но, как верно отмечает Аристотель, Платон придает открытиям Сократа более широкое и своеобразное звучание. В целом своим учением об «идеях» Платон пытается ответить сразу на два важнейших вопроса, поставленных его предшественниками. Первый был поставлен еще «фисиологами», и его суть в объяснении родового своеобразия вещей. Второй возник в учении Сократа, для которого главное — понять природу не вещей, а людей. 70 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Жизненный путь и трагическая гибель самого Сократа убедили Платона в том, что человека делает человеком не чувство, а разум, не эгоистические желания, а знание «наилучшего», которое устремляет нас к совершенству и благу. По сути, как уже говорилось, здесь речь идет об особом типе необходимости, когда поступки определяются причиной в форме цели и идеала. Такое возникает в мире культуры, и этого не может быть в природе. Но если на природу спроецировать способ жизни людей, то у вещей, как и у людей, появятся идеалы, они станут стремиться к совершенству и подражать вечным образцам. Именно это по большому счету и произошло в учении Платона, у которого мир идей содержит, с одной стороны, совершенные образцы вещей, а с другой — идеалы человеческого поведения, добродетели. Уточним, что возможность разместить родовую сущность вещи в иде­ альном мире уже таится в существовании особых вещей, созданных человеком для человека, о которых часто упоминает Платон. Такие вещи рождаются в практике, где присутствует и подражание образцу, и стремление к цели. В статье «Античная диалектика как форма мысли», которая в пол­ ном виде впервые была опубликована в сборнике «Философия и культура», Э.В. Ильенков уточняет, что идеальные формы, которых в самой природе нет, «внесены» в нее формирующей деятельностью че­ ловека. В связи с этим, он пишет: «Имея перед глазами эту «модель», легко понять и логику мышления Платона, суть «платонизма», а заод­ но и гегельянства, для которого весь чувственно воспринимаемый мир есть лишь колоссальная совокупность многократно тиражиро­ ванных копий с одного и того же бестелесного (лишь воображаемого) оригинала»1. И далее он продолжает: «Система Платона... действи­ тельно срисована с простейшей схемы целесообразной — целена­ правленной — деятельности общественного человека, выполняюще­ го в веществе природы некоторую несвойственную этой природе са­ мой по себе «форму»...»2. Скорее всего, именно там, где указывает Ильенков, следует ис­ кать тайну взаимоотношения мира идей и мира вещей в платонизме. Ведь вещи в учении Платона «подражают» своим идеям как неким образцам. И в силу такой «сопричастности» изменчивая вещь остается сама собой и не утрачивает связи с родом. Но нужно иметь в виду, что 1 Ильенков Э.В. Античная диалектика как форма мысли// философия и культура. М., 1991. С. 78. 2 Там же. 71 I Глава вторая. Проблема души в платонизме задолго до платонизма миф уже спроецировал человеческую деятель­ ность на богов в качестве демиургов. Боги творят природу в мифах греков, как и в других древних мифах, по аналогии с тем, как люди переустраивают свое ближайшее природное окружение. Отношение богов к природе в мифе — по большому счету калька с взаимоотноше­ ний людей. Но для Платона указанные взаимоотношения богов — не миф в нашем смысле слова, а реальность. И потому он указывает на действия бога как на некий архетип, когда определяет суть деятель­ ности человека. В диалоге «Тимей», который относят к поздним произведениям Платона, речь идет о рождении и строении Вселенной, истоком кото­ рой является деятельность демиурга как первотворца. Именно деми­ ург, согласно «Тимею», создал живое тело и душу мира, а также в от­ дельности небо, звезды, время, землю и четыре рода живых существ. Три таких рода оказались смертными, а четвертый — бессмертным. К последнему Платон отнес богов. При этом он пишет, что каждую из этих разновидностей существ бог создавал, «чеканя его соответствен­ но природе первообраза»1. Подражание первообразу в действиях демиурга — важный момент в «Тимее», который он обсуждает отдельно. «И все же поставим еще один вопрос относительно космоса,— отмечает Платон в этом диало­ ге,— взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял,— на тождественный и неизменный или на имевший возникновение?»2 То, что демиург действует согласно первообразу, для Платона бесспорно. Волнует его другое: «Если космос прекрасен, а его демиург благ, ясно, чтоон взирал на вечное; если же дело обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным; ведь космос — прекраснейшая из воз­ никших вещей, а его демиург — наилучшая из причин. Возникши та­ ким, космос был создан по тождественному и неизменному (образ­ цу), постижимому с помощью рассудка и разума»3. Итак, мир идей уже существовал до акта божественного творения, который в буквальном смысле был целесообразной деятельностью бога, где в качестве образца и цели выступала идея каждого рода. Ана­ логичным образом действуют и олимпийские боги, которым демиург поручил сотворить людей и впоследствии опекать их. Сам он творит 1 1 3 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 442. Там же. С. 432. Там же. С. 432-433. 72 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии для людей только разумную часть души, помещая ее на звезды как на колесницы. Здесь он являет разумным душам природу Вселенной и законы рока, согласно которым первое рождение для них всех будет одно и то же. Затем демиург переносит разумные души на Землю, Луну и пр. При этом он прямым текстом повелевает богам подражать своему могуществу в процессе творения. «Итак, чтобы они были смертными и Вселенная воистину стала бы Всем,— говорит демиург богам, имея в виду людей,— обратитесь в соответствии с вашей при­ родой к образованию живых людей, подражая моему могуществу, че­ рез которое совершилось ваше собственное возникновение»1. Из сказанного можно понять, откуда берется подражание образцу у человека, во всем равняющегося на богов. Но в «Тимее» соотноше­ ние действий демиурга и человека мы видим и оцениваем с божест­ венной точки зрения. Что касается противоположной позиции, уже не демиурга, а человека, то она ясно очерчена в десятой книге «Госу­ дарства», где речь идет об идее кровати, которой подражает мастер, создавая соответствующий предмет. Беседа Сократа, в данном случае с Главконом, касается подража­ ния, которое присутствует в действиях любого человека. Обычно мы заявляем, говорит Сократ, что мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею, будь то стол или кровать. «Но никто из мас­ теров не создает самое идею,— уточняет Сократ.— Разве он это может?»2 При этом существует такой искусный мастер, продолжает он, имея в виду первотворца, который сотворил все то, что не могут воспроизвести ремесленники. Речь идет о сотворении земли, неба, богов, а также всего на земле, на небе, под землей и в Аиде. После этого разговор переходит к особенностям творчества живо­ писца, который способен, как в зеркале, отразить все сотворенное демиургом. Если вернуться к взятой в качестве примера кровати, то живописец создает только ее видимость, а не подлинно сущую вещь. Но в сравнении с богом, замечает Сократ, плотник тоже создает некое подобие или, говоря по-другому, образ. «А что же плотник?— задает он риторический вопрос Главкону— Разве ты не говорил сейчас, что он производит не идею (кровати) — она-то, считаем мы, и была бы кроватью как таковой,— а только некую кровать?»3 И сам же отвечает: «Раз он делает не то, что есть, он не сделает подлинно сущего; он сде1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 444. Там же. С. 390. ' Там же. С. 391. 2 73 I Глава вторая. Проблема души в платонизме лает только подобное, но не само существующее. И если бы кто при­ знал изделие плотника или другого ремесленника совершенной сущ­ ностью, он едва ли бы бы прав»1. В результате этих размышлений Сократ и его собеседник призна­ ют трех создателей — бога, плотника и живописца. И во всех трех слу­ чаях мы имеем дело с подражаниями идее кровати. При этом бог со­ творил единственную совершенную кровать, плотник создает ее ме­ нее совершенные подобия, а художник создает самые смутные подобия подлинника, а потому должен быть признан «подражателем творениям мастеров»2. Именно здесь в «Государстве» говорится о том, что люди искусства, создающие по сути не вещи, а их призраки, стоят на третьей ступени среди творцов. Их произведения занимают третье место в воспроизведении сущности. А ближе всего к сущностям ве­ щей оказывается деятельность бога, которой и подражают люди. Сравнив деятельность человека с действиями бога с двух противо­ положных позиций, можно заключить, что в обоих случаях она ока­ зывается у Платона лишь калькой с того, на что способны боги. По­ нятно, что следствие здесь по большому счету принимается за причи­ ну Но такого рода мистификация целесообразной деятельности человека изначально принадлежит не Платону. Платон смотрит на природную сущность через призму сущности человека. Но до него это уже происходило в неотрефлектированном виде в античном мифе — стихийном и в этом смысле бессознатель­ ном сознании народа. Платон изначально включен в систему этой ми­ стификации. А значит, его философская система — не столько реф­ лексия самой целеполагающей деятельности человека, сколько по­ пытка рефлектировать миф, уже стихийно выразивший указанн отношение. Уточняя тезис Э.В. Ильенкова, можно сказать, что, сри­ совывая свою систему идеализма с действий человека, Платон делает это не прямо, а косвенно. В этом плане осмысление целеполагания Платона вырастает из рационализации мифа, а не из мистифика реального практического отношения. В учении об идеях Платона логика так и не одержала окончатель­ ной победы над мифологическим мышлением. В вопросах, касаю­ щихся сути платонизма, не только логика корректирует миф, но и миф корректирует логику Платона. И в этом парадоксальном для сов ременного человека взаимодействии — одна из особенностей учения 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 391. См. там же. С. 392. 74 J Ε.В. Мореево. Проблема души в классической и неклассической философии о мире идей. О том, как мифологические установки повлияли на его суть, а через него определили трактовку идеального во всей классиче­ ской философии, можно судить по диалогу «Федон», которым завер­ шается своеобразный триптих Платона, изображающий события, не­ посредственно касающиеся суда и казни Сократа. В указанный триптих, помимо «Федона», входят ранние произве­ дения Платона «Апология Сократа» и «Критон». «Федон» относят к зрелым произведениям Платона. Ведь здесь, на фоне этической про­ блематики, присущей ранним диалогам Платона, прорисовываются контуры учения о мире идей как родине души. Сократ в «Федоне» пере казнью указывает то направление, в котором будет двигаться мысль Платона. Говорил ли нечто подобное сам Сократ перед смертью или нет,— вопрос для узких специалистов. На таких специалистов, сводя­ щих почти на нет вклад Платона в философию, ссылается К. Поппер. Он пишет о Дж. Вернете, поддержанном А. Тейлором, который пред­ ложил новое решение «сократической проблемы». Согласно Дж. Бернету, Платон, введя Сократа в большинство своих диалогов, «сам ве­ рил и хотел, чтобы его читатели верили в принадлежность этих взгля­ дов учению самого Сократа»1. Не вдаваясь в тонкости «сократической проблемы», скажем, что для нас важнее понять, как именно из учения о добродетели можно перейти к учению о мире идей. Добавим, впрочем, что, если этот пе­ реход осуществил сам Сократ, то великий философ Платон — это миф. Существовал лишь удачливый популяризатор Аристокл, сни­ скавший всемирную славу пересказом взглядов учителя, которые не сравнимы с тем, что он говорит от себя в последних своих произведе­ ниях, в частности в «Законах». Итак, в «Федоне» разговор вращается вокруг бессмертия души, в чем Сократу суждено удостовериться в ближайшем будущем. Об этом впервые зашла речь в «Апологии Сократа», где воспроизводи­ лись слова Сократа, обращенные к афинянам после вынесения при­ говора. В этой речи Сократ утверждал, что смерть есть благо, по­ скольку существует переход или переселение души в «другое место». В ней ничего не говорилось о метемпсихозе, т. е. переселении душ, зато Сократ ссылался на рассказы других об Аиде. В духе обычных представлений речь шла об истинном суде богов — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех полубогов, перед которыми Сократ Поппер K.P. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. Чары Платона. С. 380. 75 I Глава вторая. Проблема души в платонизме должен предстать после смерти. «А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером!» — говорит Сократ в своем последнем слове в суде1. Сократ готов умирать много раз, если в Аиде ему предоставится возможность общаться с древни­ ми и разбирать, кто из них мудр, а кто нет, как он это делал в своей земной жизни. В ином контексте предстает бессмертие души в «Федоне», где раз­ говор об уходе души из этого мира неотделим от учения Сократа об истинном знании, скрывающемся в ее основе. То «другое место», куда отправляется душа, расставшись с телом, в «Федоне» оказывается ро­ диной общего, знание которого как раз и отличает у Сократа человече­ скую душу. В «Федоне» много говорится о достижении чистого знания, что возможно сделать, лишь отрешившись от связи с телом. «Тело на­ полняет нас желаниями, страстями, страхами, и такой массою все­ возможных вздорных призраков,— пересказывает Сократ в беседе с Симмием речи подлинных философов,— что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить!»2. И приведя ряд характерных примеров, он продол­ жает: «И, напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что до­ стигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душою»3. И далее: «Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы по всей вероятности, объединимся с другими такими же (чистыми сущностями) и собственными силами познаем все чистое, а это, скорее всего, и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено»4. В этом развернутом рассуждении в уста Сократа вложена мысль о чистом знании, которое открывается человеку после смерти, и, как говорится далее, до его рождения. Причем речь идет уже не только о человеческих добродетелях как главной теме Сократа. Знание, кото­ рое предзадано душе, если судить по данному фрагменту из «Федона»,— это любое чистое знание или, как говорится в приведенном рассуждении, чистое знание «чего бы то ни было», которое душа от­ крывает не здесь и сейчас, в мире вещей, а за его пределами. 1 2 3 А Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 95. Там же. С. 17. Там же. С. 18. Там же. 76 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Комментируя второй аргумент, приведенный Сократом в «Федоне» в пользу бессмертия души, А.Ф. Лосев уточняет: «Следовательно, мы еще до своего рождения имели понятие равенства, как и всего другого — прекрасного, доброго, справедливого, священного и вооб­ ще всего того, что отмечено печатью бытия самого по себе»1. Здесь перед нами важный момент в трансформации сократовского учения о добродетели в учение об идеях как сущностях вещей. В приведенном фрагменте из «Федона» речь идет уже о чистом знании «чего бы то ни было», но в качестве примера не случайно приводится идея равенст­ ва, которая греками соотносилась со справедливостью. Так, в частно­ сти, в «Никомаховой этике» Аристотеля равенство играет роль этиче­ ской категории, которая помогает устанавливать середину в челове­ ческом поведении и чувствах. А это значит, что в «Федоне» идеалы прекрасного, доброго, спра­ ведливого и связанного с ним равного постепенно меняют свой ста­ тус, превращаясь в истину всего мироздания. Здесь еще далеко до признания идей «стольности» и «чашности», за что Платона впослед­ ствии будет критиковать киник Диоген. Но «Федон» дает нам ключ к платонизму, обнажая тот переходный момент, когда нравственная идея оказывается сущностью как человека, так и вещи. С другой сто­ роны, уже в этом диалоге речь идет об истинном знании, которое можно получить лишь за пределами окружающего нас мира. А это означает, что никакая из истин, согласно Платону, не может быть лучена опытным путем. Для индукции в ее новоевропейском понима­ нии, начатки которой находят у Сократа, в платонизме места нет. И это результат экстраполяции, т. е. перенесения специфики знани добродетели на все истинное знание, доступное человеку. В «Федоне» и в других диалогах Платона речь идет не столько о знании, сколько о бытии общего самого по себе. В приведенном выше рассуждении Сократа уже есть определенность в том, когда и где мы обретаем истину. Но она сочетается со своеобразным, с классической точки зрения, пониманием того, что есть истина. «Чистое», о котором говорится в этом рассуждении, двулико: это и чистое знание души, и чистая сущность вещей самих по себе. Истина здесь чистое знание и одновременно его предмет. Рассмотрим подробнее то место в «Федоне», где речь идет об идее равенства в связи с припоминанием как способом постижения исти1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 417. 77 I Глово второя. Проблема души в платонизме ны. Здесь Сократ говорит о равенстве как существующем отдельно от равных вещей. «Тогда смотри, верно ли я рассуждаю дальше,— обра­ щается он к Симмию.— Мы признаем, что существует нечто, называ­ емое равным... я говорю не о том, что бревно бывает равно бревну, камень камню и тому подобное, но о чем-то ином, отличном от всего этого,— о равенстве самом по себе. Признаем мы, что оно существует, или не признаем?»1. Собеседник радостно выражает согласие с Сок­ ратом. Эти рассуждения напоминают то, что в ранних диалогах Сок­ рат говорил о добродетели. Но есть тут и важное различие. Ведь в ран­ них диалогах речь главным образом шла о знании добродетели, кото­ рое определяет поступки человека. Но одно дело общее знание добра в его отношении к поступку и другое дело — общее знание равенства в его отношении к предмету. Образ равенства в этом месте «Федона» явным образом двоится. То речь идет о знании равенства, то о равенстве самом по себе, то об отношении к равенству со стороны человека, то об отношении к ра­ венству со стороны вещей. Сократ задает риторический вопрос о том, откуда мы берем знание о равенстве, имея в виду припоминание. Но, отвечая на него, продвигается от изначального знания равенства, ко­ торым руководствуется человек, к существованию равенства в качест­ ве изначального бытия, которое таким же образом определяет сущест­ вование вещей. Последнее для понимания платонизма очень важно. Мы читаем в «Федоне»: «А скажи,— продолжал Сократ,— с бревнами и другими равными между собой вещами, которые мы сейчас называли, дело об­ стоит примерно так же? Они представляются нам равными в той же мере, что и равное само по себе, или им недостает этого равного, что­ бы ему уподобиться?»2. Чуть дальше он сам же на эти вопросы отвеча­ ет: «Ну, стало быть, мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы и уразумеем, что все они стремятся быть такими же, как равное само по себе, но пол­ ностью этого не достигают»3. Знание о равенстве действительно является мерой, вне которой человек не способен воспринимать предметы в качестве равных. Но у Платона, как следует из приведенных суждений о равенстве, такой же меры недостает самим вещам. И в результате одна и та же истин 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 27. Там же. С. 28. ' Там же. С. 29. 2 78 I Ε.В. Мореева. Проблема души в классической и неклассической философии находящаяся вне мира, начинает определять и наше знание, и сами вещи. У идеи в платонизме особый статус. Отражаясь в мышлении че­ ловека, она становится понятием, а, определяя отношения вещей ступает в роли их сущности. Таким образом Платон радикально и на долгие времена решает вопрос о критерии истинности наших знаний. Этим критерием соответствия между понятием и вещью становится определяющее их обоих истинное бытие — идея. Но залог указанного соответствия — взгляд на сущность природ­ ного мира через призму сущности человека. Вещи в платонизме ока­ зываются устремлены к идее как некоему совершенству, подобно тому, как стремится к идеалу всякий достойный человек. Признав, вслед за Сократом, что человек руководствуется идеалом добра как своей изначально данной сутью, Платон делает это основой сущест­ вования природных вещей. Предзаданность сущности вещам в платонизме можно и нужно соотносить с предзаданностью общих образцов и принципов в целе­ сообразной деятельности человека в любых ее формах — ремеслен­ ной, художественной и других. Это по сути своей верно. Но историче­ ски Платон проецирует на природу детерминацию человека нравст ным идеалом, гениально угаданную Сократом. Не столько труд, сколь нравственность оказывается у Сократа проявлением той целевой де­ терминации, которую Платон сознательно перенес на мироздание. И прилагая к природе меру человека, он не мог не опереться на авто­ ритет мифа, антропоморфного по самой своей природе. Касаясь вопроса об истоках платонизма в комментариях к «Федону», Лосев видит корень мистификации, породившей объективный идеализм, в некоем преувеличении, которое присутствует в учении Платона. Вознося общее над единичным в масштабе всего мирозда­ ния Платон, указывает Лосев, «логическое превращает в онтологиче­ ское само по себе»1. Вполне понятно, что без общих понятий мы не способны постигать единичное, и вне общего единичное оказывается непознаваемым и бессмысленным. Но из примата общего над еди­ ничным в процессе познания Платон, по мнению Лосева, делает не­ правомерные выводы по поводу устройства мироздания. Так откры­ тие в логике оборачивается мистификацией в области онтологии. Ло­ сев уверен, что примат общего над единичным в онтологическом и хронологическом плане — результат произвола со стороны Платона. Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 422. 79 I Глово второя. Проблема души в платонизме «Именно произвольно выдвинутый хронологический примат общего над единичным,— пишет Лосев,— Платон понимает как познание нашей душой общих сущностей еще до нашего рождения, т. е. в поту­ стороннем мире»1. Итак, согласно Лосеву, объективный идеализм рождается из гипостазирования общих понятий, чем изначально были платоновские идеи. То, что существует только в душе, Платон переносит вовне ее, в объективный мир. Но для такой детерминации души общим извне Лосев не видит никаких реальных оснований. А значит перед нами чистый произвол, о психологических предпосылках которого мож­ но узнать из развернутого изложения жизни и творчества Платона в книге А.Ф.Лосева и A.A. Тахо-Годи «Платон. Аристотель» (М., 1993). Такого рода грандиозные открытия, какое сделал Платон, усмо­ трев разницу между вещью и ее сутью, представленной в идее, по свидетельству авторов книги, вызывали неистовый восторг у древ­ них греков. Осознав различие между мышлением и ощущением, элеаты, читаем мы в указанной книге, воспевали его в стихах и ото­ бражали в величественных мифологических картинах. Открыв чи­ сло и числовые отношения, пифагорейцы восхваляли и обожествля­ ли их, воздавая почести числам первого десятка. Поэтому не нужно удивляться тому восторгу, который вызвало у Платона его открытие. «Вот теперь мы и спросим себя,— пишут авторы книги,— неужели открытие разницы между идеей вещи и самой вещью могло остаться в Греции чем-то прозаическим, чем-то обывательски-деловым и чем-то безразлично-житейским? После приведенных сейчас приме­ ров мы уже заранее должны сказать, что открытие разницы между идеей вещи и самой вещью должно было быть в Древней Греции каким-то небывалым торжеством науки, каким-то поэтическим и мифологическим торжеством, каким-то сказочным и мистическим умилением»2. Из указанного восторга и умиления по поводу бытия идей Лосев и Тахо-Годи и выводят объективный идеализм Платона. «Поэтому не нужно удивляться тому,— читаем мы в книге «Платон. Аристотель»,— что Платон восторгается перед существованием идей, всячески восхва­ ляет их существование и доходит даже до прямого их обожествления»3. Другими словами, для учения о мире идей авторы не видят ни реаль1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 423. Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. М., 1993. С. 80-81. ' Там же. С. 81. 2 80 I Ε.В. Мореево. Проблема души в классической и неклассической философии ного аналога в действительности, ни объективных предпосылок в развитии античной философской мысли. Примат общего над еди­ ничным как суть платоновского идеализма в такой трактовке никак не следует из развития философии, а рождается в связи с привходящи­ ми факторами, прежде всего психологического свойства. Возвысив идеи над вещами, Платон, с точки зрения Лосева, вступил на путь произвольной мистификации. Но в результате на зыбкой почве личного восторга возникло мощное здание объектив­ ного идеализма, простоявшее не одну тысячу лет. И этот парадокс никак не понять, пока от логики и гносеологии мы напрямую двига­ емся к онтологии, сознательно или бессознательно игнорируя осо­ бенности мира культуры. Если своеобразия в мире культуры нет, то примат общего над единичным в платонизме — чистой воды произ­ вол и выдумка. Но если оно существует, то Платон мистифицирует реальные отношения, что по-своему происходит и в мифах. Тогда именно идеальная детерминация в мире культуры, в особом взаимо ствии с античным мифом,— главная объективная предпосылка рож ния платонизма. Объективный идеализм рождается из экстраполяции целевой де­ терминации, присущей миру культуры, на природу и ее объективные закономерности. Законы культуры тоже объективны, но эти законы действуют иначе, чем в природе. Своеобразие их действия выражает­ ся, в частности, в той абсолютной форме, которая обеспечивает без­ условность идеала в отношении к человеческому поступку. Таковы социокультурные основания рождения объективного идеализма вслед за открытием идеальности души, что ясно прослеживается на примере античной классики от Сократа к Платону. Новизна и своеобразие предлагаемого взгляда на рождение объек­ тивного идеализма хорошо видна на примере «Философских тетрадей» В.И.Ленина, где идет речь о гносеологических и социальных корнях иде ализма1. В свете предложенной позиции ленинская характеристика гносеологических корней идеализма нуждается в корректировке. Дело в том, что она содержательно верна, но абстрактна и по этой причине внеисторична, а как раз из нее по сути исходит в вопросе о происхожде­ нии идеализма Лосев. Дело в том, что гносеологическая проблематика всерьез отделяет­ ся от этической лишь после Аристотеля, и именно тогда становится 1 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 322. 81 I Глава вторая. Проблема души в платонизме возможным абсолютизация понятийной формы знания, с чем во мно­ гом связан абсолютный идеализм Гегеля. Таким образом, ленинское определение гносеологических корней идеализма не теряет своей значимости, но применимо прежде всего к новоевропейскому, но ни­ как не к античному идеализму. Оно объясняет природу гегельянства, но неприменимо к платонизму и рождению идеализма в целом. И еще. Предпосылки объективного идеализма нельзя смешивать с присущим древнему человеку антропоморфизмом, рождающим ми­ фологию. Миф еще не знает идеального, и здесь перед нами как исто­ рически, так и по существу различные формы знания. Тем не менее, сходство этих форм отношения к миру базируется на способе экстра­ поляции культурно-исторического бытия на мир в целом, что ради­ кально преодолевается лишь естествознанием. Но вернемся к «Федону», поскольку истоки и эволюция плато­ низма хорошо видны уже там, где Сократ в одной из речей, обращен­ ных к ученикам, говорит о разных подходах к изучению природы. Прежде, однако, уточним, что вопрос о том, существовали ли космо­ логические представления у Сократа, также является одним из спор­ ных вопросов у историков философии. С одной стороны, всем из­ вестно высказывание Аристотеля о Сократе, который, по его мнению, занимаясь проблемами нравственности, природу в целом не исследо­ вал1. И эта точка зрения считается общепринятой. С другой стороны, некоторые исследователи предпочитают ве­ рить Ксенофонту, который в «Воспоминаниях о Сократе» приводит примеры бесед Сократа о сотворении божеством как человека, так и различных природных явлений и существ. К таким беседам относят «Разговор с Аристодемом об отношении божества к человеку» и «Раз­ говор с Евфидемом о богах». Конечно, картина устройства космоса, открывающаяся в указанных «Разговорах», несравнима с той, что мы находим в «Тимее». Тем не менее, исходя из того, что космос в учении Сократа сотворен с целью заботы о человеке, Ксенофонт вкладывает в его уста весьма подробное описание природных процессов. «А что солнце после зимнего поворота подходит,— говорит Сократ у Ксенофонта,— одни растения доводя до зрелости, другие, которым время пришло, высушивая; и, исполнив это, уже не подходит ближе, а пово­ рачивает назад, остерегаясь, как бы не повредить нам чрезмерным те­ плом, и, когда на обратном пути дойдет до места, где и нам уже видно, См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 79. 82 I Ε.В. Мореево. Проблема души в классической и неклассической философии что если оно отойдет еще дальше, то мы замерзнем от холода, оно опять поворачивает, подходит и пребывает в такой части неба, где мо­ жет принести нам пользы больше всего?»1. Таких подробных характеристик природных процессов в указан­ ных беседах несколько. И каждая из них должна доказать: боги творят природные блага, прилаживая их к телесным и душевным особенно­ стям человека. А сам человек создавался на основе стремления к со­ вершенству, которое ярче всего он проявляет в области нравственно­ сти и в деле почитания богов. Есть у Ксенофонта и указание на незри­ мого первотворца, который и сегодня «держит в стройном порядке вселенную, где прекрасно и хорошо»2. Но нет в этой картине, без­ условно, мира идей, в соответствии с которым первотворец создавал вселенную у Платона. Свидетельства Ксенофонта в данном случае перекликаются с «Федоном», подтверждая, что Сократ представлял себе устройство мира уже не так, как это было у фисиологов. В подаче Ксенофонта, основа космологии Сократа — приспособленность всего и вся к по­ требностям человека. Человек, таким образом, предстает в качестве цели природы. А значит, природа устроена целесообразно. И тот же принцип целесообразности мы видим у Платона. Но цель, с которой сообразуется природа у Платона,— не человек, а Высшее благо. И в этом разногласии между Ксенофонтом и Платоном — борьба двух тенденций, в учениях последователей Сократа. До сих пор мы говорили о софистах как антиподах Сократа и о Платоне как его талантливейшем ученике. Но среди последователей Сократа, создавших философские школы, помимо Платона, были Евклид из Мегары, Федон из Элиды, Аристипп из Кирены и киник Антисфен. И если два первых признавали общее в наших мыслях и действительности, то два вторых общее отчаянно отрицали, сближа­ ясь тем самым именно с софистами. Ксенофонт явно тяготеет ко второму крылу среди последователей Сократа. Недаром в объяснении сути добродетели Сократ у Ксено­ фонта даже не затрагивает проблему всеобщего. Рассуждая о нравст­ венном совершенствовании человека, он чаще всего отождествляет добро с пользой, как это делал Фрасимах в первой книге «Государст­ ва», хотя и без свойственных последнему крайностей3. Скорее всего, 1 Ксенофонт. Воспоминание о Сократе. М., 1993. С. 128. Там же. С. 130. ' См. там же. С. 35-36, 44, 53, 58-59 и др. 2 83 I Глово второя. Проблема души в платонизме Сократ давал повод для такового восприятия своих рассуждений. Не случайно Аристофан считал его софистом. Но суть и главный вопрос опять же не в том, чем и как Сократ дал повод для рождения школ киников и киренаиков, наряду с Академией Платона. Суть в том, что открытая им целевая детерминация в поведе­ нии человека породила две трактовки цели и целесообразности. Там, где целью человека, наравне с природой, оказался он сам, добродетель связана с удостоверенной чувствами телесной пользой. Там, где общей целью человека и природы стал заданный вовне мир идей, добродетель свя­ зана именно с душой и ее стремлением к совершенству. Эволюция вто­ рого понимания, сказавшаяся на облике классической философии, здесь интересует нас больше всего. Именно о ней и рассказывает Сок­ рат в «Федоне», объясняя, почему он разочаровался в исследованиях природы, а затем вернулся к ним опять. Сократ начинает свой рассказ с того, что в молодые годы был увлечен исследованием природы. И был уверен в том, что именно природными стихиями порождаются те или иные процессы. Сократ перечисляет воззрения на природу и мышление, принадлежащие Анаксимену, Гераклиту, а также Архелаю, а затем заявляет, что разо­ чаровался в них всех. «Размышлял я и о гибели всего этого,— гово­ рит Сократ,— и о переменах, которые происходят в небе и на Земле, и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непри­ годным к такому исследованию»1. Ранее, объясняет Сократ, он ясно понимал, почему человек растет. Причиной роста человека, он, по­ добно другим фисиологам, считал прибавление мяса к мясу, костей к костям, в результате чего малый человек становится большим. Впоследствии Аристотель назовет такого рода причины «матери­ альными». И вполне понятно, что ими одними нельзя объяснить, поче­ му из прибавления одного мяса к другому в одном случае получается человек, а в другом случае — коза или корова. Таким образом, сомне­ ния Сократа насчет сути природных процессов не были пустыми. И следующий этап в эволюции взглядов Сократа связан с надеждами на Анаксагора, в учении которого появился Ум как причина Вселенной. «Но однажды мне кто-то рассказал,— говорит Сократ,— как он вычи­ тал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум; и эта причина мне пришлась по душе, я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина — Ум»2. 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 55. Там же. С. 56. 84 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Объясняя преимущества такого взгляда на природу, Сократ ука­ зывает на то, что в таком случае нас интересует, как лучше всего лю­ бой вещи существовать, действовать или испытывать воздействие. Именно в этом он увидел причину бытия, доступную его разуму. И, исходя из такой причины, Сократ ждал от Анаксагора объяснения главных природных явлений. Сократ надеялся: «И если он скажет, что Земля находится в центре (мира), объяснит, почему ей лучше быть в центре. Если он откроет мне все это, думал я, я готов не искать при­ чины иного рода»1. Однако, надежды Сократа не оправдались. «Но с вершины из­ умительной этой надежды, друг Кебет,— продолжает Сократ,— я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать, увидел, что Ум у него остается без всякого применения и что порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается — совер­ шенно нелепо — воздуху, эфиру, воде и многому иному»2. Приведен­ ный далее пример, касающийся взаимоотношений души человека в качестве целевой причины и его тела, проясняет истоки нового под­ хода к природе у Сократа. Заметим, что это место уже упоминалось в предлагаемой работе. Сейчас же для нас важно, что, разочаровав­ шись в Анаксагоре, Сократ не разочаровался в новом подходе к миру. Новый взгляд на природу, который Сократ противопоставляет фисиологам, рождается из отождествления принципов существова­ ния человека и природной вещи или по-другому — из отождествле­ ния культуры и натуры. Характеризуя распространенные взгляды на природу, Сократ отмечает, что то, что чаще всего называют причина­ ми, наделе ими не является. «И вот последствия,— говорит он,— один изображает Землю недвижно покоящейся под небом и окруженною неким вихрем, для другого она что-то вроде мелкого корыта, поддер­ живаемого основанием из воздуха, но силы, которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть сейчас,— этой силы они не ищут и даже не предполагают за нею великой божественной мощи. Они надеются в один прекрасный день изобрести Атланта, еще более мощного и бессмертного, способного еще тверже удерживать все на себе, и нисколько не предполагают, что в действительности все свя­ зывается и удерживается благим и должным»3. 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 57. Там же. ' Там же. С. 58. 2 85 I Глава вторая. Проблема души в платонизме Далее Сократ говорит, что так и не смог выработать новой карти­ ны природы, а занялся исследованием отвлеченных понятий, а точ­ нее «отвлеченных речей». Но при этом он заявляет, что посредством них возможно приобщение к истинной причине бытия, которая, как оказалось, является одновременно причиной и бессмертия души. «Я хочу показать тебе,— говорит он, обращаясь к Кебету,— тот вид причины, который я исследовал, и вот я снова возвращаюсь к уже сто раз слышанному и с него начинаю, полагая в основу, что существует прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее»1. Комментируя предложенный Сократом в «Федоне» способ объяс­ нения вещей, Л.К. Науменко в книге «Монизм как принцип диалек­ тической логики» пишет: «Лучшее» — это и есть роль и «назначение» вещи в системе вещей, функция, возложенная на нее более широким целым»2. И далее замечает, что этим более широким целым в плато­ низме является не природа, а общество, его интересы и благо. Платон безусловно прав, подчеркивает Л.К. Науменко, когда отказывается сводить сущность вещи к ее субстрату, составу, соотношению входя­ щих в нее частей. Ведь субстрат, замечает он, является лишь условием целостности вещи, но никак не ее сущностью. Тем не менее, избежав одной крайности, представленной в фисиологии, в частности в учении Демокрита, Платон реализует другую крайность, поскольку в любой вещи он видит момент идеально орга­ низованного целого. Та система, в которую в платонизме включены все вещи, т. е. природа в целом, управляется не только посредством функций. Она управляется идеалом. Именно в качестве идеала мир идей является причиной, задающей космосу цель и направление дви­ жения. Целевая причина здесь оказывается идеальной причиной не только человеческой души, но и всего мироздания. При этом мир идей имеет прямое отношение к душе космоса, по аналогии с душой и телом человека. И в этом своеобразие платонизма. И в данном случае не так важно, присутствует мысль об идеальной причине природы уже у Сократа, или в своих существенных чертах она проработана Платоном. Важно то, что подобное развитие собы­ тий в классической философии не было чистым произволом, хотя, может быть, и уводило ее в сторону от адекватного осмысления сути идеального. Феномен идеального был, безусловно, открыт уже Сок­ ратом. А то, что принято называть объективным идеализмом, есть ут1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 59. Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики. Алма-Ата, 1968. С. 86. 86 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии верждение абсолютного идеального бытия за пределами земного мира вследствие проекции идеальной детерминации на все мирозда­ ние. Сам термин «идеализм», как известно, был введен в философский оборот только в XVIII веке. В результате лишь у Г.В.Лейбница мы на­ ходим ясное противопоставление идеализма в лице Платона и мате­ риализма в лице Эпикура, что явно перекликается с известным проти­ вопоставлением «линии Демокрита» и «линии Платона» у Ленина. Но суть дела, конечно, не в рождении адекватных терминов. И историче­ ски отцом идеализма в классической философии стал именно Пла­ тон, несмотря на всю непоследовательность в выражении им этой позиции. Прежде всего Платон, как верно подметил С.Н. Бычков, не разли­ чает идеального и всеобщего. Более того, в подражании вещей идеям в платонизме присутствует момент поглощения всеобщего идеальным, подобно тому, как это происходит в неотрефлектированном виде в ан­ тичном мифе. А философская рефлексия по поводу этого отношения и делает учение Платона своеобразным «идеальным материализмом». В данном случае платонизм определяется как «идеальный материа­ лизм», поскольку идеальная детерминация в масштабах мироздания в нем налицо, но мир идей еще не стал бестелесной субстанцией. И в этой особенности платонизма нужно разобраться отдельно. Аристотель, как известно, разрешил главный парадокс платониз­ ма, возвратив вещам из «занебесья» их собственную сущность. Родо­ вое своеобразие вещи у Аристотеля определяется не вечным идеаль­ ным образцом, а субстанциальной формой вещи в ней самой. И тот же Аристотель стал всерьез размышлять о бестелесных идеях как анти­ подах первоматерии. На первый взгляд, таким образом Аристотель возвращается к им же опровергнутому учению Платона. Но это толь­ ко на первый взгляд. Ведь, в отличие от Платона, Аристотель утвер­ ждает существование бестелесных идей в уме Бога-Перводвигателя. И в этом смысле Аристотель, превративший платоновское простран­ ство в первоматерию, является более последовательным идеалистом, чем сам Платон. В связи с этим уточним, что объективный идеализм связан с ут­ верждением примата идеального в качестве антипода всего телесного, вещественного, а точнее — всего материального. И главное — идеаль­ ное в идеализме выступает в качестве самодостаточной формы бытия именуемой в философии «субстанцией». Что касается второго, то в 87 I Глава вторая. Проблема души в платонизме учении Платона все именно так. Мир идей в платонизме абсолютен и самодостаточен, в свою очередь, вещи окружающего нас мира сохра­ няют себя, свою суть за счет «приобщения» к идеям. И роль «хоры» в становлении вещей несопоставима с их зависимостью от идей. А что касается противоположности идеи и вещи, то здесь не все так просто. Дело в том, что идеи Платона, как утверждают некоторые исследователи платонизма, противостоят вещам, но, тем не менее, они телесны. Речь идет о том, что вещи бренны и ущербны, а, в проти­ воположность им, идеи вечны и совершенны. Но это не означает того, что последние бестелесны в позднейшем христианском смысле этого слова. Уже Аристотель в «Метафизике» подчеркивает тот факт, что у последователей Платона «сущности тождественны чувственно воспринимаемым вещам, разве лишь что первые вечны, а вторые преходящи»1. Но это так же нелепо, замечает он, как считать богов наделенными вечностью людьми. «В самом деле,— пишет он,— и эти придумали не что иное, как вечных людей, и те признают эйдосы не чем иным, как наделенными вечностью чувственно воспринимаемы­ ми вещами»2. То, что идеи у Платона продолжают быть телесными, как телесна душа человека в учениях «фисиологов», можно отнести к непреодо­ ленной мифологической традиции в учении Платона и во всей антич­ ной культуре, как это делает, к примеру, Лосев. «Что такое античные боги?» — задает он вопрос в своем докладе об античной культуре, впервые опубликованном в 1983 году. И как бы в пику Аристотелю отмечает, что боги греков и римлян — это «абсолютизированные люди». Аристотель видел в таком представлении нелепость, Лосев ви­ дит в этом своеобразие античного взгляда на мир. «Что же получается? Да ведь это действуют те же самые люди, только абсолютизирован­ ные, тот же самый привычный мир, но взятый как некий космос и с абсолютной точки зрения...»3. Такая же абсолютизация вещей производится, согласно Лосеву, Платоном, когда тот говорит об идеях, открывающихся только уму. «Ну, когда доходит до видимого в мысли,— отмечает Лосев в своем докладе,— то там тоже видимость на первом плане. Этим отличается античное понятие идеи от понятия идеи в немецком идеализме, где 1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 105. Там же. ' Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. М., 1992. Кн. 1. С. 320. 2 88 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии понятие идеи абстрактно-логическая категория. А в античности кате­ гория какая? Такая, которая опять-таки восходит к космосу. И когда Платон говорит, что его идеи существуют в небесном мире, так в этом его материальное понимание идеи! Он не может свою идею предста­ вить вне вещи, пусть это будет эфирная вещь, а все-таки она — вещь, все-таки она видима, все-таки она то, что воспринимается либо чув­ ственным, либо умственным взором»1. В отличие от Аристотеля, критикующего вещественно-телесное представление о богах и идеях, Лосев, как мы видим, занимает иную позицию. Он констатирует связь таких представлений Платона с об­ щим характером античного мировосприятия, с пластичностью и те­ лесностью всей античной культуры. В результате Платон оказывается более органичной фигурой для античности, чем тот же Аристотель с его идеями в уме Бога, предвещающими христианство. Другое объяснение телесности платоновских идей мы находим в работах С.Н. Бычкова. Телесность идей здесь объясняется своеобра­ зием логики Платона, а точнее его пониманием характера взаимоот­ ношений идеи и вещи2. Дело в том, что бестелесность идей, согласно Платону, сказалась бы на составе вещей. И об этом прямо говорится в диалоге «Парменид». В споре с Парменидом Сократ высказывает предположение о том, что идеи — это мысли, возникающие в душе, и этим можно объяснить их единство и возможность охватывать одной идеей множество вещей. В ответ Парменид доказывает, что в этом случае из-за причастности вещей идеям вещи тоже будут состоять из мыслей. Он предлагает Сократу решить, будут ли такие вещи мысля­ щими или, несмотря на свой состав, лишенными мышления. Но Сократ прерывает данный ход рассуждений. «Мне кажется, Парме­ нид, что дело скорее обстоит так: идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподоблении им»3. Итак, идея не может быть мыслью. Ина­ че мыслями будут сопричастные идеям вещи. Зато в силу той же вза­ имной причастности вещей и идей последние должны быть чем-то телесным и даже вещественным в том виде, в каком это допустимо в «занебесье». 1 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 1. С. 320. 1 3 См.: Бычков С.Н. Греческое чудо и теоретическая математика. М., 2007. § 2.1. Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 353. 89 I Глава вторая. Проблема души в платонизме Таким образом, главный парадокс учения об идеях Платона свя­ зан с решением вопроса о родовом своеобразии вещей. Поскольку идея — это сущность вещи, то она с необходимостью должна быть вещественно-телесной. Отметим, что впоследствии у неоплатоников бестелесный дух путем эманации будет переходить в телесный мате­ риальный мир. Но такое превращение духа в материю уже предпола­ гает тождество противоположностей, причем на уровне не только явления, но и сущности, чего нет у Платона. Классический вариант отождествления противоположностей мы находим у Гегеля, где Абсо­ лютная идея полагает себя в форме природы и истории. Но филосо­ фия Гегеля — это вершина диалектической мысли, когда сущность осмысляется в развитии, которое происходит через совпадение про­ тивоположностей и их снятие в диалектическом синтезе. Платоновская диалектика, однако, является лишь началом пути, на котором затем будут осмыслены тождество и синтез противопо­ ложностей. Что касается Платона, то он начинает с того, что бросает вызов элеатам, размышляя о связи противоположностей и переходе от одного к другому. Диалектика, согласно Платону, является движени­ ем разума к истине посредством анализа противоположных суждений и точек зрения, что Сократ в диалоге «Теэтет» характеризует в качест­ ве родовспоможения. При этом разум осуществляет движение от еди­ ничных вещей к идеям, от случайного к необходимому, от преходяще­ го к вечному. Перед нами переход противоположностей. Но нужно иметь в виду, что этот переход Платон осуществляет не в понятийной форме, а в форме представления. Именно поэтому логическое движение от единичного к общему у него буквально совпадает с перемещением к «занебесью» — местопребыванию идей. Указанный переход с точки зрения позднейшей классической философии является движением от явления к сущности, которые не могут быть рядоположены, не могут соседствовать в пространстве. Ведь сущность есть необходимое отно­ шение и системная связь явлений, и в этом качестве ухватывается только умом. Потому перейти в познании от явлений к сущности можно лишь с помощью понятия. Его специфика позволяет адекват­ но преодолеть противоположность явления и сущности. А там, где понятий еще или уже нет, сущность неизбежно предстает в качестве особого тела, наряду с обычными телами, или в качестве особой части тел, наподобие ядра, а логический переход обретает черты движения в пространстве, как это и произошло в учении Платона. 90 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Итак, переход от явления к сущности, от единичного к общему у Платона предстает как пространственное перемещение от одной про­ тивоположности к другой. В связи с этим следует буквально, а не фи­ гурально понимать парадоксальное с современной точки зрения за­ мечание Чужеземца в «Софисте». Рассуждая о диалектических заня­ тиях философов, тот уточняет: «Философа же, который постоянно обращается разумом к идее бытия, напротив, нелегко различить из-за ослепительного блеска этой области; духовные очи большинства не в силах выдержать созерцания божественного»1. Итак, у основоположника объективного идеализма Платона еще нет классического понятия идеального как мыслящей бестелесной суб­ станции. Идеи у Платона уже стали основой мироздания. И они про­ тивостоят вещам. Но мир в учении Платона еще не расколот на про­ тивоположность телесного и бестелесного бытия. Бестелесная суб­ станция непредставима. И чтобы не просто обозначить, но всерьез осмыслить указанную противоположность, необходимо развитое абстрактное мышление, что мы видим у Аристотеля. Правда, в диало­ ге «Софист» Платон замечает, что к идеям можно относиться как к умопостигаемому и бестелесному бытию2. Но вразрез с этим замеча­ нием, в большинстве диалогов Платона речь идет об уподоблении и подражании вещей идеям, о сопричастности вещей и идей, о приоб­ щении одного к другому. И соответственно идеи в учении Платона оказываются представленными разуму точно так же, как и вещи. Идея, при всех своих различиях с вещью, находится в одной пред­ метной плоскости с нею, и это плоскость пространственных взаимо­ отношений. Надо сказать, что геометрические аналогии возникают в диалогах Платона в самых неожиданных для современного человека местах. Так в «Федре» ставится вопрос о правой и левой части безумия, а в «Софисте» речь идет о делении творческих искусств в длину, двига­ ясь от самых общих к частным. Соответственно и путь из мира вещей в мир идей Платон характеризует при помощи очень ярких предмет­ ных деталей. Этот путь у Платона проделывает душа со своим «воз­ ничим» или «кормчим», в роли которого выступает разум. Если вещи уподобляются идеям, то разум человека сознательно устремляется в «занебесье». Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 325. Там же. С. 314-316. 91 I Глава вторая. Проблема души в платонизме При жизни мы способны восходить из мира вещей в мир идей лишь косвенным путем, когда с помощью рассуждений о видах и ро­ дах бытия восстанавливаем утраченное знание истины самой по себе. А после смерти этот путь к миру идей душа проделывает прямо и непо­ средственно. Повторим еще раз, что этот путь Платон описывает со множеством телесных деталей. Из «Горгия» мы узнаем: «Когда душа освобождается от тела и обнажается, делаются заметны все природ­ ные ее свойства и все следы, которые оставило в душе человека ка­ ждое из его дел»1. Характерно, что этот мир идей как бы задвигается Платоном все дальше вверх. В «Федоне» мир идей пребывает, скорее, в пределах не­ кой «истинной Земли», которая расположена выше впадины, где на­ ходится Средиземноморье. В «Федре» этот мир уже за пределами неба, за так называемым «небесным хребтом». Согласно «Федру», занебесную область «...занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее и направлен истинный род знания»2. При этом души не в состоянии окончательно преодолеть ту грань, которая отделяет мир вещей от мира идей. Поднявшись ввысь, они только заглядывают за небесный хребет, созерцая истину. Что касается богов, то, согласно «Федру», они постоянно пребывают на границе двух миров, выгодно отличаясь этим от бессмертных душ. Заметим, что, уже согласно «Федону», худшие души уходят в Аид, а лучшие — в «истинную Землю», и часто там и остаются, получая воздаяние по заслугам. Здесь мы находим замечание о праведных ду­ шах, которые вселяются в пчел и муравьев, и неправедных душах, ко­ торые вселяются в ослов. Тем не менее, в последней части «Федона» тема метемпсихоза намечена довольно слабо. Яснее она выражена в «Федре», где описан круговорот душ, которые каждые 10 тысяч лет возвращаются в «занебесье». Именно отяжелевшие от чувственных удовольствий и преступлений души, сказано в «Федре», после смерти тела не долетают до мира идей и падают вниз, ломая крылья. Из «Федра» лучше всего видно, что душа в учении Платона, буду­ чи сродни миру идей, имеет, тем не менее, определенный состав. Души праведников, согласно «Федру» безвидны, что, скорее всего, го­ ворит об их эфирности. В отличие от них, души тех, кто жил непра­ ведной жизнью, более тяжелые и потому видны. А в «Тимее» демиург 1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 571. Там же. Т. 2. С. 156. 92 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии творит души богов из четырех элементов. И это подтверждает то, что разговор об идеальности души в учении Платона должен вестись в плоскости, принципиально отличной от христианской теологии. Но рассуждая о составе душ, подобно «фисиологам», Платон, тем не ме­ нее, связывает их идеальность со всеобщим, т. е. с совершенным и не­ изменным бытием. Взаимоотношения души с телом у Платона отличаются от взаимо­ отношений вещей с их идеями. Душа человека может испытывать влияние тела через свою неразумную часть, а идеи не испытывают воздействия вещей. Взаимоотношения души и тела уже в платонизме свидетельствуют о том, что в человеке сущность и явление связаны органичней, чем в природном мире. Приобщение к идеям в «занебесье» позволяет душам, руководствуясь полученным знанием, менять вещи. С помощью знания человек оказывается господином вещей. Труд, наука, искусство, в которых человек подражает богам, вьщеляют его из ряда других земных тел и существ. По сути в учении Платона душа за счет припоминания возвышает людей с их бренными телами над вещами. У души человека в платонизме особый, если можно так сказать, «онтологический» статус. Душа человека подвижна. И поскольку ма­ териальное и идеальное — противоположности, между ними необхо­ дима связь, взаимодействие и движение, которое осуществляет имен­ но душа. Душа — своеобразный посредник между двумя мирами, грань между которыми она пытается преодолеть путем механического дви­ жения. Из этого как раз и следует, что граница между сущностью и явлением в платонизме — это пространственная граница. Сущность и явление, материальное и идеальное у Платона, по сути, соседствуют в пространстве. Только после Гегеля станет возможным понятие иде­ ального как диалектического снятия материального. Ведь именно по­ нятие способно выразить тождество материального и идеального в качестве противоположностей. Иначе у Платона и в испытавшей влияние платонизма христианской философии. Представление об идеальном здесь не допускает тождества материального и идеально­ го, а фиксирует только их различие. В разговоре о движении души в мир идей и метемпсихозе, нужно иметь в виду ту разницу, которая существует между более ранними произведениями Платона, например, «Федоном», и более поздним «Тимеем», где явным образом представлено различие разумной и нера­ зумной души человека. В диалоге «Тимей» демиург творит лишь раз- 93 I Глава вторая. Проблема души в платонизме умную часть души, которая помещается в голове человека. Там же де­ миург помещает ощущения, которые подчинены разуму, т. е. ощуще­ ния, связанные со зрением, слухом и голосом. Остальное в человеке творят олимпийские боги, в том числе неразумную часть души, к ко­ торой принадлежат удовольствие, страдание, дерзость, боязнь, над­ ежда, гнев, любовь, а также все неразумные ощущения. Обителью этой неразумной души становится туловище, а между головой и туловищем боги воздвигают преграду в виде шеи. Но в са­ мом туловище неразумная душа также оказывается разделена надвое, как делят дом на женскую и мужскую половину. Более благородные страсти боги помещают ближе к голове между грудобрюшной прегра­ дой и шеей. А самые низкие вожделения, связанные с пищей и прочи­ ми телесными потребностями, они помещают между грудью и пупом, превращая эту часть тела в кормушку для питания. Особую роль они при этом отводят печени, которая в неразумной душе все же приоб­ щена к истине, будучи органом, ответственным за прорицания1. Важнее всего здесь то, что демиург в «Тимее» творит бессмертную часть души, которая и устремляется после смерти тела в «занебесье». Что касается неразумной души, то она, согласно «Тимею», смертна в силу своей тесной связи с телом. Иначе в более раннем «Федоне», где речь идет о бессмертии души как таковой, а потому, отрешившись от тела и избавившись от его безрассудства, мы способны оказаться там, где можно созерцать «вещи сами по себе самою по себе душою»2. Итак, в конечном счете бессмертной у Платона оказывается лишь разумная часть души. Но здесь имеет смысл внести уточнения в пони­ мание Платоном самого разума, устремляющего душу в «занебесье». Стоит вспомнить, что в слове «идеализм» заключен еще один смысл, о котором еще не упоминалось. С одной стороны, идеализм — это признание примата духовного перед телесным, идеи перед природой. С другой стороны, идеализм — это преданность идеалам. На первый взгляд, перед нами различные трактовки идеального и идеализма. Но обращаясь к истокам классической философии и классической куль­ туры в целом, мы оказываемся перед тождеством «онтологической» и «этической» сторон идеализма. В предлагаемой работе уже шла речь о том, что знание о «наилучшем», к которому апеллирует в ранних диа­ логах Платона Сократ,— ключ к пониманию этого тождества, а зна­ чит истоков европейского рационализма и идеализма. Призывая най1 2 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 475-478. Там же. Т. 2. С. 18. 94 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ти это знание в своей душе, философия действительно искушала древнего грека, живущего мифом. На языке Шестова, это было иску­ шение Истиной и Добром. Еще точнее, это было искушение идеаль­ ным. Для примера возьмем «Послезаконие», где разум предстает в пла­ тонизме не только как способность постигать истину, но и действо­ вать в согласии с ней. Главное отличие души от тела, согласно «Послезаконию», в том, что она обладает разумом, а тело не обладает. Именно поэтому душа правит, а тело подчиняется. Благодаря разуму душа выступает в роли причины всего, сообщая телу определенный тип движения. Причем наиболее интересны здесь суждения об оду­ шевленности звезд и других небесных тел. «Людям же доказательст­ вом того, что звезды и все их движения обладают умом,— читаем мы в «Послезаконии»,— надо считать постоянную, длящуюся непостижи­ мо долго, предписанную издревле тождественность их действий. Зве­ зды не меняют своего направления, не движутся то вверх, то вниз, не делают то одного, то другого, не блуждают и не изменяют своих круговращений»1. Из приведенного отрывка можно сделать вывод, что проявлением одушевленности являются действия постоянные и единообразные. Но тут же приводится другая точка зрения, согласно которой единоо­ бразные движения звезд — свидетельство их неодушевленности. Ука­ занное разногласие говорит о том, что Платон был склонен представ­ лять душу в качестве некоего закона движения тела, но при этом ощу­ щал узость этого понимания применительно к человеку. Ведь одушевленность человека, как это следует из других работ Платона, выражается в знании «наилучшего». А обладая таким знанием, чело­ век действует отнюдь не единообразно. Платон, вслед за Сократом хочет выяснить способ жизни не толь­ ко вещи, но и человека. А здесь обнаруживается не только сходство, но и существенные различия. Люди, как и природные тела, подчиня­ ются законам. Но уже на первый взгляд видна, к примеру, разница между законом сословной чести и законом ускорения, принципом честной мены и принципом относительности. Принципам человек под­ чиняется не так, как телесным потребностям. И это прекрасно пон мали граждане греческих полисов, и тем более легендарный Сократ. Греки лучше, чем кто-либо, ощущали то долженствование, которое ' Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 4. С. 448. 95 I Глава вторая. Проблема души в платонизме несет в себе культурная жизнь, опосредствованная эстетическим иде­ алом и нравственной нормой. Здесь проявляет себя постоянство ино­ го рода, когда вводить в заблуждение друзей и вредить им несправед­ ливо, но делать это же по отношению к врагам — проявление добро­ детели. Иначе говоря, обсуждая природу добродетели, Платон, вслед за Сократом, связывает душу с принципом поведения, который прояв­ ляется отнюдь не в форме размеренного движения. Пытаясь по-своему разрешить эту проблему, Платон подчерки­ вает существование множества разновидностей тел и душ. При этом аргументом в пользу разумности небесных тел является и то, что они по-своему стремятся к благу. «Короче говоря, молвим те­ перь единое истинное слово обо всем этом, — говорится в «Послезаконии»,— невозможно, чтобы Земля, небо, все звезды и тяжелые небесные тела столь точно совершали свой годичный, месячный и дневной путь и чтобы все существующее существовало для всех нас благим, если всему этому не присуща душа, рожденная для каждо­ го из этих тел»1. Как мы видим, и представление о благе у Платона изначально двоится. Благо в платонизме — это и природная гармония, и челов ский идеал. Благо проявляет себя в равной степени в законосообраз­ ном движении и в справедливом поступке, что, конечно, не одно и то же. Двоится и представление Платона о законе. С одной стороны — это «необходимость», а с другой — «стремление к совершенству»1. Еще раз вернемся к вопросу о способе существования человека и вещи, в котором, согласно Платону, присутствует не только сходство, но и различие. Дело в том, что у человека сущность представлена как в общем — идее человека, так и в особенном — его душе. Идея челове ка — это сущность, общая для всех людей, а душа человека — особая сущность каждого. И благодаря ей человек, в отличие от вещи, может влиять на свое будущее, определять его. Всеобщая сущность людей неизменна, но особая сущность в форме души изменчива. Более того, в форме души как представителя всеобщего в человеке эта сущность способна испытать влияние жизни. Так в платонизме намечается тема обратной связи между явлением и сущностью. Душа у Платона — ана­ лог изменчивой сущности человека. Что касается вещи, то она на свою сущность повлиять не может. ' Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 449. См. там же. Т. 3. С. 450. 2 96 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии 2. Учение Платона и два современных подхода к идеальному Уже шла речь о том, что античность не только определила характер философской классики, но ее воздействие сказалось и на неклассиче­ ской философии XIX—XX вв. И это напрямую касается проблемы иде­ ального. Более того, противоречия в учении Платона дают о себе знать в спорах о природе идеального в марксизме XX в. Но прежде, чем за­ тронуть эту тему, мы рассмотрим более близкий и явный пример влия­ ния платонизма на тех, кто были нашими современниками. Речь пой­ дет о трактовке идеального А.Ф. Лосевым. Тем более, что комментарии к четырехтомному академическому изданию Платона 1990-1994 гг. снабжены критическими замечаниями к каждому произведению, сде­ ланными Лосевым уже с собственной продуманной позиции. Напомним, что главным открытием Платона Лосев считал родо­ вую сущность вещей, которую он на свой манер называл их «общим смыслом». По убеждению Лосева, грандиозное открытие Платона было связано с различением вещи и ее общей сути, которой у Платона является идея. Восхищение по поводу открывшейся истины, писал Лосев, подтолкнуло Платона к обожествлению и возвышению идей над вещами. Так философия узнала об одной из трактовок взаимоот­ ношения единичного и общего — с точки зрения объективного идеа­ лизма. В критических замечаниях к «Федону» Лосев говорит и о двух дру­ гих возможных трактовках этого отношения. Одна из них связана с выведением общего из глубин субъекта, что, в отличие от объектив­ ного идеализма, означает идеализм субъективный. «Третья возмож­ ность,— пишет Лосев,— это помещение общих закономерностей бы­ тия в недра самого же бытия, так что поверхностное и раньше всего бросающееся в глаза единичное, непосредственно воспринимаемое нашими внешними органами чувств, есть проявление этих глубинных и вполне бытийных общих закономерностей, а наличие этих послед­ них в субъекте есть отражение этих же самых общностей, залегающих в самом бытии»1. Это третье понимание общего в его взаимосвязи с единичным в дальнейшем характеризуется Лосевым как диалектический материа­ лизм. У нас нет возможности вдаваться в суть вопроса, что есть диаПлатон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 422. 97 I Глава вторая. Проблема души в платонизме лектический материализм и каким он бывает. Однако последующий анализ, в свете других работ автора, дает право утверждать: третья точка зрения близка и самому Лосеву. В указанных критических замечаниях к «Федону» Лосев говорит о двух преувеличениях, из которых родился объективный идеализм. Во-первых, отмечает он, из неопровержимого постулата о том, что об­ щее есть закон для единичного, Платон сделал вывод о существовании общего отдельно от единичного. Во-вторых, считает Лосев, Платон от­ делил общее от единичного не только онтологически, но и хронологи­ чески. Общее у Платона существует не только вне, но и до единичного и именно таким образом определяет существование земных вещей1. Таким образом получается, полемизирует Лосев с Платоном, что сначала мы познаем идеальное общее, a уже потом материальное еди ничное. Но такое утверждение, заявляет он, «ниоткуда не следует». «Гораздо естественнее было бы предположить,— продолжает Лосев,— что мы сразу и одновременно воспринимаем как общее с единичным, так и единичное с общим, но что ввиду слабости и несовершенства нашего познания мы отнюдь не сразу сознательно различаем то и дру­ гое, а сначала только еще учимся различать и дифференцировать то, что искони дано нам целиком, но в недифференцированном виде»2. Пафос противостояния платонизму в приведенных высказывани­ ях Лосева вполне определенный и даже эмоционально окрашенный. Но дальнейший анализ его взглядов показывает, что наследие плато­ низма у Лосева по большому счету не преодолено. Настаивая на един­ стве общего и единичного, он, тем не менее, исходит из идеальности общих закономерностей природы. Идеальное у Лосева, как и у Плато­ на, по-прежнему поглощает всеобщее. И это хорошо видно там, где о демонстрирует не только слабости, но и силу позиции Платона. В наиболее популярной форме идеальность законов природы Ло­ сев обосновывает в уже процитированной нами книге «Платон. Ари­ стотель». Главу «Что такое идеализм Платона?» он начинает с приме­ ра того, что следует понимать под идеей. И совсем не случайно речь сразу же заходит о произведении человека, каким в данном случае является стол. Лосев пишет: «Стол есть нечто деревянное, это — раз. Стол есть приспособление для разного рода бытовых целей, для при­ нятия пищи, для чтения и письма, для целесообразного помещения и размещения разных предметов. Вот совокупность всех этих сущест1 1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 422. Там же. 98 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии венных свойств стола и есть его идея. Ясно, что, если мы не понимаем устройства и назначения стола, то у нас нет и никакой идеи стола... Следовательно, если мы действительно познаем стол, то мы обладаем и идеей стола. Другими словами, идея вещи есть нечто существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы познавали эту вещь, общались с ней, пользовались ею, могли ее создавать, могли ее переделывать и могли ее направлять в тех или иных целях»1. Против всего выше сказанного ничего возразить нельзя. Но воз­ ражения вызывает следующее за всем этим обобщение. «В этом смы­ сле,— утверждает Лосев,— всякая вещь и вообще все, что существует на свете, имеет свою идею. Либо идей никаких нет, тогда вообще нельзя отличать одно от другого, и тогда вся действительность прев­ ращается в какой-то немыслимый и непознаваемый мрак»2. Следова­ тельно, либо идеи, которые у человека есть момент в познании и пре­ образовании вещей, принадлежат вещам вне воздействия человека, либо в мире царит мрак и хаос. Вот та дилемма, перед которой Лосев ставит читателя. Таким образом, Лосев честно воспроизводит логику Платона, считая, что в этом пункте он неопровержим. Для помещения общих понятий в недра вещей Лосев недаром избирает пример стола, со­ зданного человеком для человека. Здесь понимание целей и назначе­ ния предмета уже воплощены, причем в буквальном смысле этого сло­ ва. Стол, подобно паровой машине и самолету, есть воплощение че­ ловеческого замысла. Никто не будет отрицать, что перед тем, как человек берется что-либо создавать и творить, ему приходит в голову «идея», т. е. замысел, который затем воплощается в определенном ма­ териале, веществе природы, таком как дерево, металл и прочее. И в этом смысле идеи, конечно, первичны и определяющи по отношению к вещам. Но еще раз подчеркнем, что такого рода идеи включены в деятельность человека в качестве ее необходимого момента. И как раз их Лосев, ориентируясь на Платона, извлекает из деятельности чело­ века и помещает в недра вещей. Тем самым идеальное отождествляет­ ся с всеобщим, т. е. законами природы. Напомним, что сам Платон неоднократно привлекал к объясне­ нию взаимоотношения вещей и идей образ ремесленника, который творит, руководствуясь всеобщим образцом — идеей. «Под красотой очертаний,— пишет он в «Филебе»,— я пытаюсь теперь понимать не 1 2 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 73-74. Там же. С. 74. 99 I Глава вторая. Проблема души в платонизме то, что хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ или картин; нет, я имею ввиду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, рождающиеся под токарным резцом и построяемые с помощью линеек и угломеров...»1. Но действия реме­ сленника, как мы уже показали, убеждают Платона в том, что мир был создан демиургом как первотворцом в соответствии с такими же идеальными вечными образцами. Что касается Лосева, то существо­ вание идей у человека убеждает его в том, что то же самое лежит в ос­ новании вещей. И осуществляя эту ничем не подтвержденную экс­ траполяцию, он ссылается на современную науку, подкрепляя ее ав­ торитетом собственные выводы. Исходя, в конечном счете, из примата идей в жизни человека, Платон вынес эти идеи в «занебесье». Исходя из того же факта, Лосев поместил идеи, созданные человеком и человечеством, в недра ве­ щей. И при этом отождествил их с уже открытыми наукой законами природы. Или открытые наукой законы ничем не отличаются от идей самих ученых, или в природе царит хаос. Таков скрытый смысл при­ веденной выше дилеммы. Все это означает, что законы природы Лосев рассматривает через призму действий человека. И иначе их себе не мыслит. Суть любой вещи, говорит Лосев, есть ее назначение. И это назначение управляет вещью. Так знание общего принципа становится у Лосева принципом самой вещи. И указанный подход хорошо виден там, где он говорит о способе, каким идея в качестве общего закона определяет единичные проявления вещей. Каждый материалист, который стремится в своих обоснованиях оформить хаос жизни в виде формально-безупречных структур, пи­ шет Лосев, должен учиться у идеалиста Платона. Речь идет о том, что у последнего, как считает Лосев, идея вещи есть ее иное качест­ во, которое отличается от отдельных частей и проявлений вещи. Материальные составляющие вещи, например кислород и водород в составе воды, связаны чем-то воедино. При этом, с точки зрения своих компонентов, та же вода насквозь вещественна. Но объединя­ ющее эти компоненты новое качество, или идея, как доказывает Ло­ сев, невещественна2. Невещественность, а по сути нематериальность качества каждой вещи объясняется Лосевым не только тем, что это качество объединя1 2 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 58. Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 84. 100 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ет компоненты вещи в целое и тем самым превышает их возможности в отдельности. Единое качество вещи, или иначе — ее сущность, с его точки зрения, является обобщением единичных проявлений вещи. «Термин «вода» — читаем мы у Лосева,— а это значит прежде всего и идея воды, является настолько большим обобщением, охватывает та­ кое неисчислимое количество, также и несет с собой такие бесконеч­ но разнообразные функции, о каких никакой химик нам не расскажет в тех главах своего учебника, которые трактуют только о водороде или только о кислороде... Чтобы употреблять только самый термин «вода», уже приходится быть платоником...»1. Далее Лосев показывает, что идея вещи является не только обоб­ щением, но и осмыслением вещи в том плане, что именно идеей в нее привносится определенный смысл. «Итак, платоновская идея есть закон вещи,— пишет он,— и тем самым та ее общность, которая опре­ деляет собою и все единичное, а единичное при этом только и осмы­ сляется через свою общность»2. В этом, подчеркивает Лосев, плато­ низм неопровержим. Неопровержим он и в том, что идея определяет вещи, т. е. задает строгие пределы их существованию. «Следователь­ но,— читаем мы у Лосева,— всякая точно установленная идея вещи есть не только ее закон, и притом максимально обобщенный, но и ее предел, тоже максимально большой, то есть предел, бесконечный для всех конечных состояний и проявлений всякой единичной вещи, но­ сящей на себе эту идею»3. Анализируемая работа интересна как раз тем, что в ней отчетливо видна логика объективного идеалиста, часто скрытая или неадекватно представленная авторами различных учений. «Все дело в том,— ясно и определенно пишет Лосев,— что все конечное требует признания бесконечного, все реальное требует признание идеального, и все еди­ ничное управляется общим как своим законом, а всякий общий за­ кон имеет смысл только тогда, когда существуют единичные вещи, которые он обобщает и осмысливает... Мировоззрение можно иметь не платоническое и даже антиплатоническое, но научная методоло­ гия, выдвигаемая Платоном, неопровержима»4. Заметим, что на деле Лосев здесь подправляет Платона на манер неоплатоников, у которых сущность мира, подобно аристотелевским 1 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С.84. Там же. С. 87. ' Там же. С. 89. 4 Там же. С. 84. 2 101 I Глава вторая. Проблема души в платонизме идеям в уме Бога-Перводвигателя, уже бестелесна. Что касается исто­ рического Платона, то Лосев в работе «Платон. Аристотель», о кото­ рой идет речь, вполне определенно указывает на то, что идеи в «занебесье» телесны, и в этом проявилась зависимость Платона от мифо­ логического сознания. Но вернемся к тем урокам, которые, по мнению Лосева, нам сле­ дует извлечь из платонизма. Если термином, а точнее представлением о воде, считает он, обобщаются многообразные проявления водной стихии, то точно так же, обобщая, действует и закон, создавший воду. Если представление о воде позволяет нам осмыслить отдельные фак­ ты, то таким же осмысляющим образом действует и закон природы. Если в понимании сути воды, задан определенный предел, уточняю­ щий ее проявления, то тем же способом действует и закон природы. Таким образом, законы природы оказываются у Лосева подобием ог­ ромной корпорации ученых или, скорее, логиков, сидящих внутри природы и определяющих, обобщающих и осмысляющих вещи, что­ бы избавить мир от хаоса. Но в том-то и дело, что всемогущий логик внутри природы — это все тот же демиург, который в духе времени «задвинут» в недра природы и творит мир в соответствии с методами позитивной, а точнее позитивистской науки. Справедливости ради заметим, что, обобщая различные проявле­ ния воды и дойдя в таком обобщении до всевозможных пределов, мы никогда не получим закона воды, выраженного известной всем фор­ мулой. Связь между кислородом и водородом внутри воды не может быть открыта путем обобщения приводимых Лосевым фактов воды как дождя, пара, облаков, туч и т. п. Она раскрывается посредством экспе­ римента, результаты которого позволяют уяснить суть дела в форме понятия. И такого рода эксперименты по разложению воды на кисло­ род и водород, а затем по их обратному соединению осуществляют школьники на соответствующих уроках химии. Но дело даже не в этом. Суть в том, что закон природы у Лосева, как и мир идей у Платона, остается высшей инстанцией, в которой представлена уже готовая, вечная истина мира, от имени которой он и управляет вещами. «Платоновская идея вещи есть такое ее обобще­ ние,— пишет Лосев,— что в ней как бы заложено все бесконечное множество отдельных и частичных проявлений вещей»1. В законе природы, по Лосеву, уже заложены все возможные единичные проявАосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 87. 102 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ления природы. Сущность вещей, таким образом, уже предзадана яв­ лениям, подобно тому как идеалы и нормы предзаданы человеку. А.Ф. Лосев неоднократно подчеркивает, что общее определяет со­ бою единичное. Но нигде не говорится об обратном влиянии единич­ ного на общее, явления на сущность. Связь между сущностью и явле­ нием, на чем настаивает Лосев, очень тесная. Но эта прямая связь, которая не предполагает обратного воздействия. А ведь только таким образом, как показала наука, происходит развитие окружающего нас мира. И это стало наиболее явным с успехами биологии и социальных наук в XX в. Сущность — постоянная и необходимая связь явлений. Но постоянное и необходимое, хотя для рассудка это парадокс, может изменяться. Куда подевались законы социализма в том виде, в каком они действовали в нашей стране? Они не устранились, «обидевшись» на новые явления нашей жизни, а трансформировались вместе и вследствие существенности этих явлений. И как раз поэтому то тут, то там проглядывают черты нашей прошлой жизни. То, что законы истории не вечны, сегодня стало азами социальной науки. И то же самое касается биологии, в которой уже давно открыт геном — особая телесная структура, отвечающая за воспроизведение организма в данном конкретном виде. На основе расшифровки гено­ ма, как известно, клонировали овечку Долли. Но что станет с гено­ мом Долли, если ее потомство подвергнется мутации? Согласно нау­ ке, в таком случае изменится как раз геном, т. е. закон, определивший «устройство» самой известной овцы на свете. Но у Платона, в противоположность современной науке, сущ­ ность мира противостоит миру как вечное изменчивому, как совер­ шенное несовершенному И в этом не сила, а слабость платонизма, которая воспроизводится во взглядах Лосева, у которого закон — не­ что вне мира, хотя и внутри вещей. Как нечто неизменное закон у нег находится вне времени и пространства, а потому и не может испытать воздействия внешнего мира. Идеальный закон у Лосева — это вечный и неизменный уровень земного бытия, на который не могут влиять вещи. И таким у него оказывается не только закон природы, но и со­ циальный закон. «Всеобщую закономерность вещей,— читаем мы в заключении главы «Что такое идеализм Платона»,— конечно, можно не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой всеоб­ щей закономерности вещей наука отказаться не может. Законы при­ роды и общества тоже можно не называть идеями природы и общест­ ва, но от самих этих законов отказаться невозможно... Все тела пада- 103 I Глава вторая. Проблема души в платонизме ют. Но закон падения тел никуда не падает и вообще не является никаким телом, которое можно было бы понюхать или потрогать ру­ ками. Здесь платонизм неопровержим»1. Свое понимание закона как идеальной нормы природного и со­ циального существования Лосев постоянно доказывает тем, что это никакое не тело, а потому закон падения не падает, идея воды не ки­ пит, а идею стола нельзя разломать и сжечь на огне. И все это нельзя понюхать и пощупать, повторяет Лосев, утверждая тем самым, что умопостигаемое не может не быть идеальным. Разобраться в этом вопросе никак нельзя без целого ряда уточне­ ний. Ведь одно дело идея как результат постижения сущности умом и другое дело — сама постигаемая сущность. Формула воды и вправду идеальна, но не просто потому, что она «в уме», а потому что рождает­ ся в процессе идеализации мира человеком. Как впрочем и самолет, в котором закон свободного падения, на который ссылается Лосев, действует настолько идеально и совершенно, что тот не падает, а, на­ оборот, летит. Все, что освоил человек, втянув в орбиту своей жизни и деятельности, в той или иной форме идеализировано им. В этом смы­ сле идеальное — это закон, который стая принципом деятельност ловека. Именно деятельность человека является тем «медиумом», в кото­ ром материальное переплавляется в идеальное, поскольку только че­ ловек из известных нам существ способен выделить закон природы «в чистом виде» и превратить его в основу мира культуры. Так возни­ кают все технические устройства — пароходы, самолеты, компьюте­ ры и все прочее, чего не существует в первозданной природе. Конеч­ но, есть разница в степени идеальности водопровода, сработанного рабами Рима, и идеала справедливости. И об этом различии мы еще поговорим более подробно. Сейчас же важно понять, что вопросы об идеальном и умопостигаемом могут пересекаться, но при этом явля­ ются разными вопросами. Умопостигаемое — не синоним идеального. Да, законы не даны нашим чувствам, а постигаются умом. Но это не означает, что любые законы, в природе и в обществе, подобны уму и в таком качестве про­ тивостоят любым телесным проявлениям. Закон — не тело, но телес­ ная связь, если речь идет о необходимой связи между телами. Более того, если умопостигаемое — не синоним идеального, то точно так же Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 92-93. 104 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии идеальное, как мы пытаемся показать, не является синонимом бесте­ лесного. Вопрос об идеальности законов после всех коллизий класси­ ческой и неклассической философии, на наш взгляд, следует ставить иначе. А именно: закон природы не идеален, пока он не представлен качестве момента деятельности человека. Надо сказать, что в воззрениях Лосева смазано различие не только между умопостигаемым и идеальным, но и между законом природ­ ным и законом историческим. Так, объединив все законы воедино в свете идеальной детерминации, Лосев получил парадоксальную кар­ тину, в которой действуют вечные законы истории и осмысленные законы природы. Если А.Ф. Лосева и, наверное, не без основания подозревали в близости к неоплатонизму, то М.А. Лифшиц, в онтогносеологии кото­ рого идеальное играет весьма важную роль, открыто причислял себя к марксистам. Тем не менее, в их трактовках идеального есть внутрен­ нее единство. Дело в том, что в онтогносеологии Лифшица, как и у Лосева, идеальное коренится в самом природном мире, а идеально мире человека — только отражение идеального в природе. Тем не менее, у Лосева идеальны только законы природы, а у Лиф­ шица идеальными становятся тела и проявления природы, достиг­ шие в своем развитии определенной ступени. Таким образом, в рам­ ках онтогносеологии идеальность сознания определяется не столько характером и способом отражения, сколько его объектом. Именно такие объекты, достигшие естественного предела в своем развитии, а значит и определенного совершенства, сообщают идеаль­ ность нашему сознанию. Истинное сознание, считает Лифшиц, отра­ жая указанные природные формы, оказывается не Ideelle, a Ideale, и, тем самым, зеркалом зеркал, идеалом идеалов. Понятия Ideelle и Ideale Лифшиц различает вслед за Марксом, у которого Ideelle связано с от­ ражением незрелой формы явления и процесса, в отличие от Ideale как мысленного отражения зрелой формы. При этом имеется в виду такая форма, в которой бытие выразило свою сущность, и потому, на языке гегелевской философии, соответствует своему понятию. Именно в качестве зеркала идеальных форм бытия дух реализует под­ линное назначение человека. Дело в том, что различие между Ильенковым и Лифшицем в трак­ товке идеального принципиально важно для решения этой пробле­ мы. В свое время философскую общественность шокировала точка зрения Ильенкова на природу идеального. Эта позиция была впервые 105 I Глава вторая. Проблема души в платонизме изложена в статье «Идеальное» в «Философской энциклопедии»1, а затем в более развитом виде представлена в форме статьи в «Вопросах философии»2. Непонимание со стороны философствующей публики вызывали утверждения Ильенкова об идеальности не только созна­ ния в форме идей, но и определенного рода вещей, и, наоборот, ото­ ждествление им идеального с некими «объективными представления­ ми», определяющими мысли и поступки отдельных индивидов. М.А. Лифшиц был одним из тех, кто выступил с критикой взгля­ дов Ильенкова по поводу идеального. В своей статье «Об идеальном и реальном», опубликованной в 1984 году, Лифшиц обозначил ряд не­ достатков в позиции Ильенкова, причем, в отличие от его давних оп­ понентов, не упростив и не передернув чужие взгляды, что большая редкость в философской полемике3. В результате глубина и серьез­ ность заочного спора между этими философами и в наши дни позво­ ляет высвечивать новые грани проблемы идеального. Более того, на наш взгляд, сопоставляя указанные точки зрения, можно наметить пути преодоления платонизма, сыгравшего радикальную роль в реше­ нии проблемы идеального философской классикой. Итак, Лифшиц исходит из того, что переход от материального к идеальному происходит уже в самой природе. Природа, с его точки зрения, способна не только к эволюции, но именно к совершенство­ ванию. Она, как пишет Лифшиц, «расположена к известным пре­ дельным формам»4. И в этом смысле материальное всегда беремен­ но идеальным. Причем в свете такого рода идеальной детерминации онтогносеология оказывается как бы «неоплатонизмом наоборот». В неоплатонизме, как известно, идеальное начало мироздания в лице Единого нисходит вниз, растворяясь в косной материи. В онтогносеологии наоборот, материя, движимая внутренней тенденци­ ей к совершенствованию, восходит вверх, прорастая своими высши­ ми идеальными формами. Э.В. Ильенковым та же проблема соотношения материального и идеального решается принципиально иначе. Идеальное им характе­ ризуется как качество мира культуры, в котором материальное, т. е. природа оказывается «снята» посредством деятельности человек в гегелевской философии труд не снимает кальку с природной необ1 2 3 4 См.: Ильенков Э.В. Идеальное / / Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1962. Т. 2. Ильенков Э.В. Проблема идеального// Вопросы философии. 1979. № 6-7. См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном// Вопросы философии. 1984. № 10. См. там же. С. 128. 106 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ходимости, a диалектически отрицает ее, погружая законы природы в основание своих технических изобретений и промышленности в це­ лом. И то же самое имеет ввиду Ильенков, у которого материальное уходит в основание идеального в человеческой жизнедеятельности. У Ильенкова материальное тело становится идеальным, вовлекаясь в мир культуры, где оно живет иной жизнью, в конечном счете подчи­ няясь иным, а именно — социальным законам. Причем, в обоих слу­ чаях, у Ильенкова и у Лифшица, идеальное не означает нечто бес­ плотное, бестелесное, невещественное. В этом плане для них обоих неприемлем тот вариант идеализма, который мы находим у А.Ф. Лосе­ ва. Надо сказать, что Лифшиц считал мысль Ильенкова об идеально­ сти всех вещей, вовлеченных в социальный процесс и преобразован­ ных человеком, слишком общей и потому требующей уточнения. Если идеален результат деятельности художника, то как быть с трудом рабочего? Идеальна ли материальная деятельность человека? Идеа­ лизирует ли человек действительность в процессе труда? Так один из зарубежных исследователей его творчества Питер Е. Джонс (Великобритания) в своей статье «Символы, орудия и идеальность у Ильенкова» доказывает, что орудие труда в свете этой концепции не содержат в себе ни грана идеального. «Следова­ тельно, невозможно прямо отождествлять «идеальность» (которую Бэкхерст кое-где относит к «нематериальным свойствам»),— пи­ шет П.Е. Джонс,— с социально-исторически формирующимся функционированием полезных артефактов, орудий, средств труда и т. д. ...Короче, «идеальность» вообще не означает использование или функцию»1. Но вернемся к вопросам, заданным Ильенкову Лифшицем, ответ на которые, конечно, будет отрицательным, если не рассматривать само идеальное и процесс идеализации в развитии. А из этого следует, что, с точки зрения Ильенкова, идеальные значения несет в себе не только художественное произведение, но любое творение рук челове­ ческих, если это сделано по-человечески, то есть в соответствии с универсальной мерой самого материального бытия. Конечно, при этом есть разница между идеальностью полена, предназначенного для печи, и идеальностью Буратино, сделанного из того же полена. Иде­ альный момент представлен в культурной форме любого предмета, со1 Jones Peter Ε. Symbols, tools, and ideality in Ilyenkov / / http://caute.by.ru/ilyenkov/ comments/jones.htm — 1998. 107 I Глава вторая. Проблема души в платонизме зданного человеком для человека. И в этом смысле можно согласить­ ся с Ильенковым в том, что любая деятельность идеализирует, выде­ ляя в предмете его существенные черты. Но мера идеальности тех же дров сопоставима, но не равна идеальности Буратино как произведе­ ния искусства. Ведь в искусстве происходит то оборачивание формы и содержания, при котором идеальная форма становится целью, а ее предметная основа только средством. Указанный феномен оборачивания одного другим очень важен для понимания точки зрения Ильенкова. Решая проблему идеально­ го, считал он, мы исследуем способ бытия культуры, а не бытие приро­ ды. И он объяснял способ бытия культуры с помощью принципа представленности одного в другом. Здесь следует уточнить, что уже в немецкой классике, в частности у И.-Г. Фихте, был осмыслен прин­ цип полагания деятельности в форме иного, а именно — предмета. «Quid pro quo» означает «одно вместо другого». И в немецкой класси­ ке, а затем в марксизме в такой представленности одного в другом ст ли видеть способ существования идеального, мира культуры, мышл Так в культурной форме дров уже представлены определенные уме­ ния и знания человека. Но когда из древесины сделан угольник или наглядное пособие, перед нами новый шаг в процессе идеализации мира человеком, связанный с представленностью одного в другом в произведениях культуры. Э.В. Ильенков подчеркивал, что именно там, где в одном объекте деятельностью человека представлена природа другого объекта, все­ общие характеристики бытия, перед нами собственно идеальное. «Точно такое же отношение,— писал он,— между золотой монетой и теми благами, которые на нее можно купить,— теми благами (товара­ ми), всеобщим представителем которых является монета или (позд­ нее) купюра. Монета представляет не себя, а «другое» — в том же са­ мом смысле, в каком дипломат представляет не свою персону, а свою страну, его на то уполномочившую. То же самое и слово, словесный символ или знак, равно как сочетание таких знаков и синтаксическая схема этого сочетания»1. Наиболее ярким примером такой представленности для Ильенко­ ва была форма стоимости, которую он анализировал, опираясь на «Капитал» К. Маркса. «Идеальность формы стоимости,— читаем мы У Ильенкова,— заключается, по Марксу, разумеется, не в том, что эта Ильенков Э.В. Диалектика идеального// Философия и культура. М., 1991. С. 254. 108 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии форма представляет собой психический феномен, существующий лишь под черепной крышкой товаровладельца или теоретика, а в том, что в данном случае, как и в массе других случаев, телесная, осязаемая форма вещи (например, сюртук) является лишь формой выражения совсем другой «вещи» (холста как стоимости), с которой она не имеет ничего общего. Стоимость холста представлена, выражена, «вопло­ щена» в форме сюртука, а форма сюртука есть «идеальная или пред­ ставленная форма» стоимости холста»1. Именно форма стоимости как характерный случай идеального стала очередной мишенью для критиков Ильенкова. Не только Лифшиц упрекал Ильенкова в том, что, обсуждая проблему идеального, он не проводил существенной границы между подлинным и мнимым бытием, истинной и ложной формой. Для Ильенкова форма стоимо­ сти была интересна тем, что в качестве выражения абстрактного тру­ да, она демонстрирует наибольшую пластичность. Универсальность формы стоимости Ильенков видел в ее безразличии к материалу, в котором она в данный момент представлена. Нельзя не согласиться с тем, что адекватной, а не превращенной формой идеального является личность человека. И выражает этот подлинный образ идеального не рынок, а прежде всего искусство. Что касается безличности и лицемерности, то в искусстве и классической культуре в целом они всегда ассоциировались с силами зла, с сата­ нинскими силами. Рынок абстрагирует человеческую деятельность от ее конкретного содержания, доводя это безразличие до «чистой формы» в виде денег. И в этом смысле идеальность денег сопоставима с идеальностью гильотины. Идеализация денег по-своему тоже уби­ вает, уничтожая человеческое в человеке. В этих случаях способ дея­ тельности человека, который И. Кант называл «культурой умения», противостоит ее смыслу и сути. Идеальное здесь присутствует только как способ человеческой деятельности, отчужденный от ее внутрен­ ней цели — развития личности. Но вернемся к проблеме идеального, в ее постановке Ильенко­ вым. Занимаясь ею, Ильенков сосредоточил свои силы на выяснении взаимоотношений общего и единичного в культуре. «Эвальд Ильен­ ков,— писал в свое время Лифшиц,— очень хорошо понял одну сто­ рону дела и не без основания увлекся ею»2. Этим «увлечением» Иль­ енкова стали объективные формы сознания, которые в отношении от1 2 Ильенков Э.В. Диалектика идеального. С. 255. Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 132. 109 I Глава вторая. Проблема души в платонизме дельного индивида выступают в качестве внешней идеальной силы. Категория «идеального», писал в связи с этим Ильенков, приобретает новый смысл и значение, поскольку объясняет существование исто­ рически сложившейся и независимых от индивидуальных капризов форм и схем «объективного духа», «коллективного разума» человече­ ства. «Сюда входят,—уточнял он,—все общие нравственно-моральные нормы, регулирующие бытовую жизнедеятельность людей, а далее и правовые установления, формы государственно-политической орга­ низации жизни, ритуально узаконенные схемы деятельности во всех ее сферах, обязательные для всех правил жизни, жесткие цеховые ре­ гламенты и т. д. и т. п., вплоть до грамматически-синтаксических структур речи и языка и логических нормативов рассуждения»1. Как мы видим, интерес Ильенкова сосредоточен именно на той об­ ласти, в которой впервые обнаружил идеальную детерминацию Сократ. Ильенков констатирует существование объективных мыслительных форм в культуре, которые являются необходимым условием мышления и по­ ведения отдельного человека. Тем не менее, слабость этой позиции, по мнению Лифшица, состоит в том, что Ильенков не вводит ясного и чет­ кого критерия, позволяющего различать истинные и неистинные фор­ мы коллективных представлений. А в результате у него любая представ­ ленность означает идеальность в ее истинном виде. В итоге в культуре все кошки оказываются серы, и фетишистское иллюзорное сознание урав­ нивается с сознанием, выражающим подлинные идеалы человечества. Но не каждая общественная форма и не каждое коллективное представление, подчеркивал Лифшиц, раскрывает нам тайну идеаль­ ного. И здесь не разобраться, как считал он, без различения понятий Ideale и Ideelle, которое ввел в философию Ф.В.Й. Шеллинг и кото­ рым пользовался К. Маркс. К этому стоит добавить, что в таком слу­ чае идеал, будучи объективной силой, по самой своей сути не может выступать в качестве деспотической инстанции. Одно дело — идеал, и другое дело — идол. И движение от отчужденной к истинной форме сознания должно совпадать с формированием адекватного отноше­ ния идеала к человеческой душе, не имеющего ничего общего с под­ чинением внешнему диктату. Стоит согласиться с Лифшицем в том, что пафос, связанный с од­ ной стороной дела, завел Ильенкова слишком далеко, когда в реше­ нии проблемы идеального он стал уходить от собственных четких Ильенков Э.В. Диалектика идеального. С. 247. 110 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии критериев в различении идолов и идеалов, заданных в одноименной книге1. Здесь, однако, мы должны вернуться к тому, с чего начали в разговоре о трактовках идеального двумя известными марксистами. Дело в том, что причина всех слабостей позиции Ильенкова, согласно Лифшицу, состоит в так называемом «фетишизме культуры», а по-другому — «культурно-историческом редукционизме»2. А это зна­ чит, что нужно вернуться к вопросу о соотношении культуры и нату­ ры. Речь здесь вновь пойдет о родине наших идеалов. Ни Ильенков, ни Лифшиц не считали этой родиной небо. Но по Ильенкову ею была и есть культура, а согласно Лифшицу — природа. И игнорирование природной меры совершенства, по убеждению Лифшица, с необходи­ мостью приводит к путанице с истинными и ложными формами. Итак, если культура — это лишь орудие природы, с помощью ко­ торой последняя приходит к своему адекватному самоотражению, как считает Лифшиц, то ставить орудие и орган выше самого субъ­ екта — это, безусловно, редукционизм. И Ильенков, у которого при­ рода идеального объясняется устройством мира культуры, оказыва­ ется на обочине рассмотрения сути дела. Но это при условии, если суть дела именно такова, как она представлена в онтогносеологии. А если культура — это не одно из орудий природы, а результат ее диалектического снятия*! В этом случае все выглядит иначе, потому что как раз в вопросе о соотношении природы и культуры — исток принципиального расхождения между Лифшицем и Ильенковым. И, находясь на противоположной позиции, можно вынимать камни уже из фундамента онтогносеологии, в свою очередь, рискуя разру­ шить ее стройное здание. По сути дела речь здесь идет не об отдельных разногласиях, а о фундаментальном различии в подходах к проблеме идеального. И на­ меченное расхождение позиций нельзя объяснить тривиальностью взглядов одного из оппонентов. Спор Лифшица и Ильенкова о при­ роде идеального интересен тем, что в нем стянуты в единый узел важ­ нейшие философские проблемы, и полемика такого уровня неизбеж­ но заставляет вспоминать великих. Дух Гегеля безусловно витает над любыми рассуждениями о разви­ тии как самоотражении бытия. В гегелевской философии Абсолют­ ный дух проходит путь от природы к культуре, осознает себя в абсо­ лютном идеализме, и на этом завершается история его самопознания. 1 2 См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 142. Ill I Глава вторая. Проблема души в платонизме У М.А. Лифшица уже не дух, а природа восходит по ступеням совер­ шенствования и самопознания. Но человек как орган самопознания и самоотражения природы у Лифшица, в отличие от Гегеля, отработан «естественным процессом развития», а значит, его способности, вклю­ чая способность к идеальному отражению, есть нечто аналогичное ро­ довому качеству. Соловей поет, лев рычит, а человек говорит, мыслит и отражает суть природного бытия. Таковы его родовые отличия от дру­ гих существ и тел природы. И в понимании специфики родовых отли­ чий людей, «общественная физиология», как считает Л ифшиц, нам не помощник1. Здесь стоит вспомнить, что Л. Фейербах в свое время также не принял идеализм Гегеля как отчужденный взгляд на сущность челове­ ка. И в пику идеализму отнес все идеальное в человеке к миру приро­ ды. Теоретический разум, художественный вкус, моральное чувство и даже религиозная вера у Фейербаха — естественные способности че­ ловека. И то же самое мы видим у Лифшица. Все ненормальное и вы­ рожденное в нашей жизни, с этой точки зрения,— плод культуры, а нормальная жизнь без уродств и извращений — проявление естест­ венной природы человека. И тут нам трудно будет размежеваться с Ф. Ницше. Человек в своей практике, утверждает Лифшиц, должен раскры­ вать объективные качества природы. «Сказать, что в природе есть иде­ альное в виде «естественных пределов»,— пишет Лифшиц,— или ска­ зать, что в ней каждая вещь имеет свою собственную «форму и меру», по-моему, одно и то же. Мысль о том, что процесс исторической чувственно-предметной практики людей раскрывает в природе ее «чи­ стые», не замутненные всякой случайностью объективные формы, есть мысль верная, но она совершенно не вяжется с другой мыслью, соглас­ но которой идеальное присуще только человеческому миру. Историче­ ская практика людей — путь к сердцу природы, и в этом смысле чело­ век есть объективная мера вещей, или мера всех мер»2. Таким образом, согласно Лифшицу, только раскрывая и разви­ вая идеальность природных форм, труд реализует свое изначальное всемирное назначение. Но там, где человек начинает привносить 1 Более развернуто об учении Гегеля в свете «спора » Ильенкова и Лифшица о приро­ де идеального см.: Мареев С.Н. «Эстетика» Гегеля и спор Э. Ильенкова и М. Лифшица об идеальном / / Научные ведомости Белгородского ун-та. Философия. Социология. Право. Белгород, 2016. № 10. С. 184-189. 2 См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 128. 112 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии принципиально новое в природную норму, он вступает на путь искусственных и превращенных форм. Творчество, по Лифшицу,— это работа с чистыми формами природы. А всякая серьезная транс­ формация природной формы, попытка выйти за пределы меры при­ роды — путь к отчужденным формам, а с ними к разложению и ги­ бели человечества. Перед нами явно выраженная негативная реакция на отчужден­ ные формы культуры. И здесь стоит вспомнить критику Лифшицем всякого рода авангардизма в искусстве, с которым он вплотную столк­ нулся в 20-е годы, будучи студентом ВХУТЕМАСа. Но отрицание от­ чужденных форм культуры у Лифшица переходит в отрицание поло­ жительной специфики культурного бытия вообще. В работах Ильен­ кова он увидел пример того, как признание специфики культуры переходит в признание и оправдание ее отчужденных форм. Верно, однако, и другое: признать человека порождением природы еще не значит избавиться от апологетики отчужденной формы. То, что апологетика отчужденной формы возможна на почве противопоставления природы культуре, демонстрирует неклассиче­ ская философия. Ведь натуру противопоставил культуре не только Фейербах, но и Ницше. Но если Ницше воспевал естественную жизнь, в противовес прозябанию в границах отчужденной культуры, то у современных последователей Ницше, именуемых постмодерни­ стами, а точнее — постструктуралистами, жизненные силы проявля­ ют себя прежде всего в патологии. Все проявления индивидуальной и социальной жизни здесь творятся желанием, а слуга желания как стихии — это художник и безумец, колдун и дьявол, ребенок и ши­ зофреник. Их цель — свести с ума культуру. У Фейербаха характер­ ным проявлением человеческого в человеке является моральное чувство и религиозная вера, у Ж. Делёза — садомазохистские на­ клонности. Вообще-то, противопоставление натуры культуре предполагает жесткие правила игры. И если мы, вслед за Лифшицем, признаем, что идеал — это форма природы, достигшая своих естественных пределов, то вполне правомерно считать, что лучший соловей идеален, т. к. в нем представлен весь соловьиный род, а аппетит царя зверей идеа­ лен, поскольку в нем выражается тенденция к экологическому равно­ весию саванны. Последний пример про царя зверей приводится са­ мим Лифшицем, когда он критикует Ильенкова. «Лев хочет мяса,— пишет Лифшиц.— Но в этой потребности он, сам того не зная, 113 I Глава вторая. Проблема души в платонизме предвосхищает Ideell экологического равновесия саванны. Ибо, по утверждению зоологов, по крайней мере, некоторых из них, он «вы­ браковывает» слабых животных»1. Но почему лев идеален, когда пожирает антилопу, а человек идеа­ лен не в роли хищника, а там, где выступает зеркалом природы? Здесь возможны два ответа, если оставаться верным основам избранной по­ зиции. Первый ответ: таково устройство нашего организма. Второй ответ: такова наша природа и изначальная роль в мироздании. Имен­ но так проявляется преформизм, который содержится в любой разно­ видности фейербахианства. Справедливости ради нужно заметить, что тот же преформизм лежит в основе гегелевской философии, где не только формы при­ роды, но и развитие культуры предзадано неотрефлектированным состоянием Абсолютного духа. И в этом пункте Фейербах не прео­ долел гегельянства. В определенном смысле в преформизме Фейер­ баха представлена консервативная сторона гегелевской системы. А преодоление преформизма возможно лишь там, где акцентируют внимание не на элементах его системы, а на методе, который не предполагает развития без диалектического снятия, и, прежде всего, снятия природы в культуре. В преформизме в духе фейербахианства характерно именно то, что он вынуждает смазывать специфику идеального в собственном смысле, или постулирует ее без всяких объяснений. Фейербах посту­ лировал идеальность человеческих чувств в качестве «теоретиков». Создается впечатление, что Лифшиц идет по тому же пути, хотя бы тогда, когда утверждает, что уже любовь скорпионов, где оплодотво­ ренная самка поедает самца, предвещает Ромео и Джульетту2. Проще всего в этом пункте выдвинуть против Лифшица обвине­ ние в редукционизме. Ведь существует разница между убийством дру­ гого и самоубийством, а тем более самоубийством на почве любви, веры, убеждений, а не под влиянием инстинкта. Но пример с любо­ вью скорпионов интересен еще и потому, что позволяет прояснить и высветить своеобразие любви как именно идеального чувства, прису­ щего человеку. Мы уже говорили о распространенной претензии к Ильенкову, суть которой в том, что он анализирует идеальное в качестве всеоб­ щих схем и объективированных представлений, в то время как это 1 2 См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 132. См. там же. С. 130. 114 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии только условие существования идеального в его особой форме — как человеческой личности. Третирование эмпирического субъекта от имени и в пользу трансцендентального субъекта действительно свой­ ственно классической философии. И в реабилитации отдельного ин­ дивида в качестве субъекта состоял положительный пафос некласси­ ческой философии, который остался одним лишь пафосом без реаль­ ных результатов. Ведь неклассическая философия, как известно, бросилась в другую крайность, лишив этого отдельного индивида каких-либо трансцендентальных предпосылок, а вместе с ними и воз­ можности становления личности. Но проблема, резко высвеченная С. Киркегором и Ф. Ницше, К. Ясперсом и М. Хайдеггером, осталась открытой. И, восходя от аб­ страктного к конкретному в анализе идеального, мы должны перейти с одного полюса проблемы на другой. Для Э.В. Ильенкова суть иссле­ дуемой проблемы — в особенностях того мира, в котором человек поднимается к вершинам идеального. Один полюс этого мира состав­ ляет преобразованный культурой предмет. Но другой полюс того же мира — это преобразованный культурой человек. А в нем средоточием идеального со времен Сократа считалась душа. В статье «Об идеальном и реальном» М.А. Лифшиц особо выделя­ ет тот факт, что в истории мировой культуры идеальное всегда связы­ валось с внутренней жизнью личности. Внутренний мир человека, подчеркивает Лифшиц, находится в особом отношении к идеально­ му, поскольку способен быть зеркалом не только отдельных вещей, но и всего мира. Но как возможно отражение бесконечности мира моз­ гом конечного человека? Ответ на поставленный вопрос нужно искать в специфике отно­ шения человека к миру. Но именно здесь перед нами очередной ка­ мень преткновения в споре Ильенкова и Лифшица. У Лифшица су­ тью практики является подражание природе или мимесис, как он ча­ сто говорит, следуя древним грекам1. Иначе у Ильенкова, у которого основой деятельности является не стилизация, а преобразование при­ роды в соответствии с «хитростью разума», описанной Гегелем. Куль­ турное бытие относительно самостоятельно по отношению к ушед­ шему в его основание бытию природы. И здесь, согласно Ильенкову, истоки самостоятельности духовной жизни человека, истоки явно выраженной автономии человеческой души от тела. См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 139. 115 I Глава вторая. Проблема души в платонизме Относительная самостоятельность духовного мира — существен­ ный пункт в позиции Ильенкова. И по большому счету он не нов для классической философии, всегда признававшей несводимость жизни духа к жизнедеятельности тела. А неклассическая философия высве­ тила еще одну сторону этой проблемы. Ведь индивидуальный дух — это нечто вроде отдельного космоса, который может быть бесконеч­ ным и неповторимым. Недаром мы говорим о «внутреннем мире», т. е. аналоге целого мира внутри человека. В экзистенциализме при этом акцент делается на слове «быть», поскольку дух в нем — особое бытие. По-другому видит это Ильенков, у которого духовный мир у индивида есть не всегда, а он должен, фигурально выражаясь, «стать» — через освоение наличного уровня культуры. Но вернемся к процессу отражения конечным человеком беско­ нечного мира, в котором Лифшиц отводил особую роль человеческо­ му мозгу как адекватному органу духа. У Лифшица мозг — лучшее из природных тел, способных к отражению. Его универсальность в том, что на уровне человека мозг может отражать всеобщее значение дру­ гих тел и всей природы. И его отражательные способности возраста­ ют с присоединением к мозгу, как он выражается, «искусственных зеркал» и их «средостений» из мира культуры. Уточним, что культура играет в онтогносеологии Лифшица поло­ жительную роль лишь тогда, когда она продолжает и усиливает отра­ жательные возможности мозга. Но любое проявление автономии со стороны культуры здесь причисляется к разряду ее «дьявольской не­ зависимости» от человека. Последнее — не просто яркий образ или фигура речи. Здесь мы подходим к одному из важнейших моментов во взглядах Лифшица. «Однако на этой более высокой ступени развития возникает и новая опасность,— пишет Лифшиц,— плоды историче­ ского развития приобретают дьявольскую независимость от первого источника здравого мышления — человеческой головы.. Благодаря системе «репрезентации» процесс мышления выходит из-под контр­ оля самой мысли, приобретает черты «интеллигибельные», «транс­ цендентальные», «имманентные» и так далее, в зависимости от при­ нятой философской терминологии»1. А это значит, что мозг и предметы культуры в момент постижения истины, должны зеркально отражать совершенные формы природы. Образами зеркала и зеркальности пронизаны все рассуждения ЛифСм.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном. С. 141. 116 I Е.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии шица об идеальном. В зеркальном отражении совершенных форм, по убеждению Лифшица,— залог красоты, истины и добра. А там, где зеркало отступает от следования совершенной форме бытия — начало дьявольской самостоятельности духа, способного не только высвет­ лять, но и затемнять существо дела. Здесь как будто все ясно. Но только до тех пор, пока мы не зада­ лись вопросом о свойствах зеркала, способного отразить бесконеч­ ность. Напомним, что познание истины, по Лифшицу, это постиже­ ние истинного предмета, выражающего свой род и его всеобщее зна­ чение. Мы знаем слова Маркса о Сократе как воплощенном философе. К. Маркс здесь, по сути, вторит Гегелю, который говорил о Сократе как об одном из великих пластических характеров античности и отме­ чал своеобразие этического учения Сократа, воплотившегося в его собственном образе жизни1. Величие Сократа именно в том, что он — воплощение разума в форме, где слово связано с поступком. Но суть дела в том, что здесь слово совпадает с делом не напрямую, а при посредстве рефлексии. Образ Сократа как воплощенной добродетели, где непосредственно совпадают слова и дела, нам рисует Ксенофонт. Преодолением его наивности является образ Сократа у Платона и Гегеля, где совпадение слова и дела опосредовано не только нравственным, но и теоретиче­ ским поиском, когда перед умственным взором предстает та связь до­ бродетели и поступка, которая невидима глазу. Из этого следует, что зримый и пластичный образ человека и мира, в котором зеркально, а значит непосредственно, представлено всеоб­ щее, безусловно органичен. Но этот образ, в котором искусство суще­ ствует до и вне философии и науки, неизбежно будет не только орга­ ничен, но и наивен. И такого рода парадоксы с необходимостью воз­ никают там, где есть уверенность: всеобщее должно представать в культуре лишь в форме образов совершенных порождений природы. Так обнаруживаются границы созерцательной трактовки духа. Здесь истина совпадает с красотой, а истинным зеркалом и подлинным те­ лом культуры оказывается произведение искусства. Но если цель истинного познания — постигать мир в его необхо­ димых связях, то в определенных ситуациях опорой познания может быть лишь знак, без которого невозможна ни философия, ни наука. Адекватная теоретическая постановка проблемы идеального связаСм.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1994. Кн. 2. С. 40. 117 I Глава вторая. Проблема души в платонизме на с вопросом о способах его существования. И здесь имеется в виду не только культурная форма особой вещи или воплощающий всеоб­ щее художественный образ. Речь идет и о теоретической идее в фор­ ме научного понятия, философской категории, логического принци­ па. Идеальность сознания Ильенков связывает с его способностью отражать сущность и меру любого вида, всеобщие характеристики бытия. В этом, в соответствии с классической традицией, он видел отличие идеи, или понятия, от представления. И такая трактовка идеального помогает прояснить соотношение идеального значения и знака в науке. Роль знака как тела мысли — еще один водораздел во взглядах Ильенкова и Лифшица. Речь идет об относительной независимости значения от знака, без которой невозможно мыслить скрытые от чувств отношения в самой действительности. Теоретическая деятель­ ность не является отчужденной формой, но, представляя сущность при помощи образов и знаков, теоретик действует совсем не так, как художник. Одним из предрассудков обыденного сознания, перенесенным в эстетику, является отмежевание «материального носителя» от идеаль­ ного образа в искусстве. Тем самым игнорируется существенное отли­ чие искусства от науки. Игнорируется то, что звуки в искусстве неот­ делимы от музыки, а краски от изображения. Уже в споре средневеко­ вых иконопочитателей с иконоборцами шла речь об одухотворении телесного, или, на современном языке, о поглощении идеальной фор­ мой природного тела в искусстве. Грубо говоря, скульптура — это н мул, несущий поклажу эстетической формы в лице, к примеру, Дави­ да. Специфика художественной деятельности в том, что она превра­ щает мула в саму поклажу, а глыбу мрамора превращает в образ Дави­ да. Таким образом, художественный образ не просто не безразличен к собственной телесности. Идеальная форма в искусстве непосредстве но сливается со своим содержанием. Суть искусства в опосредованно деятельностью тождестве идеального и материального. Не так в науке и философии, т. е. в теоретическом мышлении, где нетождественность смысла и его носителя является условием само научного поиска. Достоинство ильенковской концепции идеального заключается в обосновании того, что наша мысль всегда предметна, а идеальное всегда опредмечено — в словах и текстах, образах искусст­ ва и понятиях науки, и, конечно, в орудиях труда. Поэтому о «мате­ риализации» мысли Ильенков говорит в кавычках. Снять кавычки — 118 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии значит признать существование чистого духа до материи. А чистая беспредметная мысль, идеальное как абсолютный антипод матери­ ального, согласно Ильенкову, являются кардинальными иллюзиями человечества. Причем его подход к проблеме позволяет продуктивно обсуждать и этот вопрос. Если уточнять социальные корни идеализма, то к ним следует отнести существование тех объективных мысли­ тельных форм, анализ которых Ильенковым по преимуществу сто­ ронниками «диамата» воспринимался как явно выраженное геге­ льянство. Если следовать Ильенкову, тело мысли должно обладать беско­ нечной свободой, чтобы не столько отразить, сколько выразить бес­ конечность мира. И такой возможностью обладают не сами тела, а их деятельные функции. Здесь мы вновь касаемся различия искусства и науки. Когда нечто выражается телом или сочетанием тел, мы в обла­ сти искусства, образец которого — античная скульптура. Но для вы­ ражения бесконечности человечество прежде всего использует воз­ можности не искусства, а науки, где бесконечность выражает не тело, а его деятельная функция, в содержательном плане безразличная к телу мысли — мозгу и знаку. Человек сумел выразить бесконечное при помощи особых услов­ ных средств — знаков. Работая со знаками, мы почти безразличны к их виду, но зато чутко относимся к их смыслу и значению. На абстрактно-логическом уровне наука находит свое орудие в автоном­ ной от собственного носителя понятийной деятельности. В этом со­ стоит принципиальное отличие теории от художественной практики, от искусства, где дух непосредственно сливается с телесностью, и бес­ конечное выражается только через конечное. Сосредоточившись на втором, онтогносеология по большому счету ограничивает мышле рамками представления, в пику научной абстракции, а духовную ку туру — искусством, в противовес науке. Уточним, что в определенном смысле знаковые средства мышле­ ния — это никакое не зеркало, а, наоборот, его антипод. Но услов­ ность здесь не является неизбежной уступкой дьяволу, а, скорее, яв­ ляется одной из дорог к Богу, если так именовать истину. В знаке те­ лесность снята, и посредством диалектического отрицания телесной формы дух овладевает вечностью и бесконечностью. А тем самым по­ средством духа сам человек обретает бесконечность. Ведь духовный мир — это способ отрицания человеком своей единичности, бренн конечности. И это наиболее явно выражено в христианских воззрени- 119 J Глава вторая. Проблема души в платонизме ях и мироощущении, где душа опосредует конечное и бесконечное в человеке. Следуя логике Ильенкова, нужно признать, что личность — это та особая форма идеального, в которой единичный эмпирический субъ­ ект обретает всеобщность, конечный человек — бесконечность, брен­ ное существо — вечность. При этом личность является не средством, а целью. Мы не приобщаемся с ее помощью к всеобщему, а она сама становится особым универсумом — духовной всеобщностью. И в этом пункте трактовка Ильенковым идеального особо нуждается в уточне­ нии и дальнейшей проработке. Душа невозможна без тела, без мозга. Можно представить себе без­ рукого или безногого человека, но «безмозглый» человек человеком по сути не является. Но все сказанное не отменяет того, что в становление души изначально входит диалектическое отрицание собственного тела, оборачивание взаимоотношений между ними. Таков же исходный прин­ цип отношения культуры к природе, идеального к материальному. Ди­ алектическое отрицание или снятие — собственная мера культуры, а не козни дьявола, хотя свобода может показаться дьявольской игрой, если смотреть на нее с точки зрения первозданной природы. Мы говорим об автономных силах культуры, которые выводят человека за границы природной жизни. Но автономия культуры — это формальная возмож­ ность отчуждения человека от человека. Достоинства автономных сил культуры в учении Ильенкова бросают положительный отблеск и на ее отчужденные формы. Иначе в онтогносеологии Лифшица, где отчуж­ денные формы, наоборот, бросают густую тень на весь мир культуры, вынуждая воспринимать в качестве порока любое обнаружение авто­ номных сил и возможностей культурного бытия. Э.В. Ильенков пытался объяснить механизм рождения культуры из природы, а тем самым, раскрыть своеобразие собственной меры культурного бытия. Но эта мера выражается не только в, выявлении чистых форм природы и погружении их в основание культуры как «второй природы». Таков механизм материального производства и суть создаваемой им материальной культуры. С другой стороны, куль­ тура меняет не только форму, но и характер детерминации природно­ го тела. И там, где сама форма и формирующая способность стано­ вится целью производства, мы имеем дело с другим важным отличием культуры от природы. Ведь мера культуры проявляется не только в пре­ образовании природной закономерности, но и в оборачивании формы и содержания человеческой деятельности. 120 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Это оборачивание, при котором целью становится не столько преобразование предмета, сколько формирование человеческой способ ности, рождает феномен духовного производства и мир духовной куль­ туры. Именно в этом пункте, если следовать Ильенкову, проясняется своеобразие души как средоточия деятельных способностей человек также природа ее главенства над телом. Здесь же становится понят­ ным культурно-историческое назначение искусства, которое, соглас­ но Ильенкову, связано с развитием человеческих способностей, и только в свете этой главной задачи способно к отражению совершен­ ных форм природы. Итак, результатом развития культуры как идеализации мира чело­ веком является относительная самостоятельность духовного про водства как производства человеческой души. Другим результатом это­ го процесса становится относительная автономия души как средото­ чия деятельных способностей личности. И в том же контексте должна быть понята автономия идеала в качестве должного от мира культуры как сущего. Ведь идеалы как принципы нашей жизни, и прежде всего идеал добра, сложнее всего вписать в рамки природного бытия. Характерно то, что в разговоре об идеальном Лифшиц исходит из идеала красоты, а в результате добро и истина теряют свою спе­ цифику, становятся паллиативами красоты. И это неслучайно. Ведь, ограничивая в себе телесное, человек стал тем, чего не может быть в природе. И идеал добра — главное тому подтверждение. Стремление к добру, или Высшему Благу, уже Сократ и Платон по сути связывали со способностью человека к ограничению себя во имя другого — человека, рода, принципа, мироздания. Добро — высший пункт в идеализации мира человеком. Причем нравственное самоотрицание выражается не только в телесном самоограниче­ нии, но может иметь более сложный и драматичный характер. Ведь служение добру может выражаться не только в ограничении тела, но и самой души в ее стремлении к всеобщему, как это было у из­ вестного русского философа С.Н. Трубецкого. В канун революции 1905 года у князя С.Н. Трубецкого был выбор между служением Истине в лице философии и служением Добру в роли просветителя и общественного деятеля. Выбор в пользу общест­ венных дел стал осознанной жертвой, и это подтвердила скорая смерть Трубецкого. Его усилиями и усилиями его коллег в августе 1905 года Московский университет получил автономию, а сам Тру­ бецкой вскоре был избран ректором. Но уже в сентябре занятия были 121 I Глава вторая. Проблема души в платонизме сорваны, а университет превращен в огромную и неуправляемую по­ литическую сходку. После того, как университет был временно за­ крыт, Трубецкой прожил всего неделю. С.Н. Трубецкой умер в 43 года. Он не полностью реализовал себя как философ, но вполне состоялся как человек. И коллизии такого уровня не объяснить на почве онтогносеологии. Феномен Трубецкого невозможно вывести из природы, как нельзя вывести из нее гибель Ромео и Джульетты. Но вернемся к платонизму, влияние которого, как мы видим, можно ощутить даже в марксизме. Лифшиц и Ильенков не признава­ ли бестелесной субстанции. Но по большому счету их разделяет ме­ тодологическая граница — между созерцательным и деятельност подходом к феномену идеального. С другой стороны, у идеалиста Ло­ сева и материалиста Лифшица есть общий пункт в воззрениях. Он связан с идущим от Платона погружением идеального в природу, с проекцией идеальной детерминации на мироздание. У Платона родовая сущность людей и вещей по сути едина. А там, где идеальное поглотило всеобщее, различение природы и культуры становится бессмысленным. В учении Платона душа, усматривая истину, отражает идеи в «занебесье». У Лифшица душа человека ус­ матривает истину, зеркально отражая совершенные формы природы. И в этом созерцательном подходе — один из ключей к трактовке иде­ ального, предложенной платонизмом и дожившей до наших дней. Представление о бестелесной субстанции стало лишь развитием того понимания идеального, которое заложил Платон и которое опреде­ лило облик философской классики более, чем на две тысячи лет. Взгляд Ильенкова на природу идеального вызрел в недрах той же классической философии. Но суть этой позиции, в отличие от онтогносеологии Лифшица, нельзя понять вне немецкой классики и ро­ жденного ею деятельностного понимания духа. В немецкой классике поглощение всеобщего идеальным, как мы знаем, сохранилось. Оно обернулось тем, что в учениях от Фихте до Гегеля природа — форма жизнедеятельности духа. Тот же принцип в онтогносеологии, на по­ чве созерцательного подхода, проявляет себя иначе, в результате чего уже идеализированная природа поглощает культуру. Указанная разница носит не внешний, а принципиальный харак­ тер. Ведь только там, где культура оказывается не отражением, а де тельным преобразованием натуры, намечается путь за пределы плато низма, к иной постановке вопроса о специфике идеального. В этом смысле немецкая классика — это подготовка выхода за пределы фил 122 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии софской классики вообще. В свете своеобразия платонизма классиче­ ская философия тем самым совершила круг, возвратившись в поста­ новке проблемы идеального к ее собственно человеческому измерению, т. е. к Сократу. Недаром в неклассической философии, которая стала реакцией на философскую классику, Сократ вновь воспринят как важнейшая, рубежная фигура. Тем не менее, учение Платона двойственно, и в нем скрываются предпосылки деятельностного подхода к идеальному. Проецируя иде­ альное на весь мир, Платон, тем самым, закладывает в его основу стремление к цели, идеалу, совершенству И самым ярким воплоще­ нием этой «природной» устремленности к Высшему Благу у него явля­ ется государство, в том случае, когда оно соответствует своей идее. Недаром Гегель видит заслугу Платона в том, что реальность духа у него предстает в высшей правде именно организацией некоторого го­ сударства1. Соответственно Ильенков усматривает уже у Платона предпосыл­ ки иной постановки проблемы идеального, в сравнении с тем, что ле­ жит на поверхности его учения. Он имеет в виду прежде всего нормы морали и права, логические и эстетические каноны, которые у Плато­ на являются отражением мира идей. Иначе их понимает Ильенков, для которого именно здесь заключена суть бытия идеального. У Пла­ тона детерминация индивида идеалом — отражение особенностей вечных идей в их взаимосвязи с вещами. У Ильенкова в такой детер­ минации выражается адекватное бытие идеального и мира культуры. Таким образом, чтобы выйти за пределы платонизма в трактовке иде­ ального, надо разобраться с его двойственностью в решении вопроса о сущности вещей и человека. * ** Итак, безусловно, что, будучи продуктом античной классики, фи­ лософский идеализм затем сам оказывается влиятельной силой евро­ пейской духовной культуры. И от этого процесса неотделима ради­ кальная трансформация представлений о душе, которая теперь вос­ принимается как посланница идеального мира, лишь на время соединяющаяся с бренным телом. Конечно, уже в древности у такого понимания души были альтернативы. Но серьезные оппоненты ни­ когда не считали представление о душе как антиподе тела и идеализм Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.2. С. 188. 123 I Глава вторая. Проблема души в платонизме в целом колоссом на глиняных ногах. Ведь не только осознание телес­ ной кончины, чего нет у животных,— почва для стихийных идеали­ стических воззрений. Порождаемое этим знанием желание попрать смерть бессмертием души — психологическое основание идеализма. Однако то, что фило­ софский идеализм, зародившийся в Европе, с необходимостью пред­ полагает идеальное как антипод материального, имеет не только пси­ хологическое и гносеологическое, но и культурно-историческое объ­ яснение. Речь идет о фундаментальных особенностях мира культуры, в котором идеалы с необходимостью обретают форму абсолюта, а добродетель предстает как самодостаточное основание действий ин­ дивида. С этим связана и так называемая целевая детерминация души в качестве необходимой предпосылки философского идеализма. В античной Греции, где ответом на вызов времени стала демократия, сделали ставку на обуздание и окультуривание той субъективной сти­ хии, которая проявляет себя каждый раз, когда индивиду «дают» сво­ боду. Частная инициатива, частная собственность всегда чреваты про­ изволом. И величие греческой цивилизации в том, что она впервые смогла превратить произвол частного лица в свободу фажданина, а его страстям придала форму идеального чувства, опосредованного до­ бродетелью (идеалом). Именно поэтому классическая европейская философия будет объяснять идеальность псюхе, а затем анима, спо­ собностью обуздывать произвол тела нравственностью как особой си­ лой общего, представленной в каждой отдельной душе. Глава третья Споры о душе в истории аристотелизма В учении Аристотеля о душе, как и во всей его философии — энциклопедии античного знания,— представлены ростки разных ме­ тодологических подходов. «В его учении,— писал в связи с этим Э.В. Ильенков,— сплавились воедино великие непреходящие досто­ инства античной мысли; это грандиозный перекресток путей: в его учении сходятся, как в фокусе, все основные тенденции развития фи­ лософской мысли Греции (в том числе и взаимоисключающие), что­ бы сразу же после этого разойтись на тысячелетия»1. Именно в учении Аристотеля, задолго до христианства, сформи­ ровалось представление о бессмертной и бестелесной душе человека. И решающую роль здесь сыграл трактат «О душе» — одна из наименее ясных работ великого Аристотеля. Как раз его внутренние противоре­ чия подготовили почву не только для споров средневековых схола­ стов и ренессансных аристотеликов, но и для психологических дис­ куссий уже в XX веке. 1. Душа как энтелехия тела Учение Аристотеля отличается тем, что душа в нем впервые представлена как энтелехия тела. Слово «entelecheia» — неологизм, введенный именно Аристотелем. Но следует подчеркнуть, что термин «энтелехия» в классической философии распространения не полу­ чил. В отличие от философов, среди которых им пользовался только Г. В. Лейбниц, на него сделали ставку биологи-виталисты Нового вре­ мени. И именно они определили на долгие годы вперед взгляд на эн­ телехию как некую жизненную силу. Но энтелехия как витальная сила есть одна из многих, упрощенных трактовок исходного понятия Ари­ стотеля, которое пусть не прямо, но косвенно сказалось на развитии классической философии. Не пользуясь самым термином «энтеле­ хия», Фома Аквинский, П.Помпонацци, Д.Бруно и др. дали такие Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 85. 125 I Глава третья. Споры о душе в истории арисготелизма толкования аристотелевским представлениям о душе, которые суще­ ственным образом повлияли на различные направления классиче­ ской философской мысли. Принято считать, что в соответствии с понятием энтелехии Ари­ стотель впервые ввел различие трех разновидностей души: расти­ тельной, животной и разумной, которую мы находим только у челове­ ка. Но внешняя ясность и простота такой позиции оборачивается се­ рьезной проблемой при первом же вопросе о сути так понятой энтелехии. При этом представление об энтелехии начинает двоиться, подобно платоновскому представлению о законе в диалоге «Тимей», который, напомним, с одной стороны,— «необходимость», а с дру­ гой — «стремление к совершенству»1. Двойственность энтелехии тела в том, что в ней просматриваются контуры как природного генотипа, так и человеческого идеала. С одной стороны, указанная энтелехия у Аристотеля подобна действию природного закона, а с другой — идеал ной детерминации индивида. А в классической системе координат это означает, что душа является материальной и идеальной одновременно. Но как такое возможно? Сразу же уточним, что вопрос о своеобразии индивидуальной души впервые будет поставлен только в неоплатонизме. Что же каса­ ется Аристотеля, то он в учении о душе хочет разобраться в природе живого. Признаками жизни, неоднократно подчеркивает он в тракта­ те «О душе», являются питание, рост, продолжение рода, перемеще­ ние, ощущение, стремление и познание. И все эти проявления жизни Аристотель хочет объяснить при помощи души. Живое у Аристотеля тождественно одушевленному. В философии существует понятие гилозоизма, когда одушевлен­ ность признают у всего на свете. Противоположность такому воззре­ нию — признание того, что душой обладает только человек. Аристо­ тель, как уже говорилось, признает наличие души у того, что обладает жизнью. При этом он отрицает переселение душ из тела в тело и в том числе переход души из тела человека в тело животного, на чем настаи­ вал Платон. Метемпсихоз, считает Аристотель, невозможен в силу особой связи между душой и телом. Имея в виду пифагорейцев и пла­ тоников, он пишет в первой книге трактата «О душе»: «Эти же фило­ софы говорят так, как если бы кто утверждал, что строительное искус­ ство может проникать в флейту; на самом же деле необходимо, чтобы См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 450. 126 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии каждое искусство пользовалось своими орудиями, а душа — своим телом»1. Почти вся первая книга трактата «О душе» посвящена критике от­ личных от аристотелевской точек зрения на душу. Главными призна­ ками одушевленности, указывает Аристотель, всегда считались дви­ жение и ощущение. Но у большинства философов это означает, что зримые движения тела порождаются движением скрытой бестелес­ ной души. В данном случае под «бестелесностью» Аристотель имеет в виду ее отличие от обычных тел природы. Отличая душу от тела, боль­ шинство философов признают, что она состоит из природных эле­ ментов или из их смеси с дисгармоничным или гармоничным соотно­ шением. Все свойства души, включая ее «бестелесность», чаще всего объясняют ее особым природным составом. Так, в частности, рассуждал Демокрит, к критике которого Ари­ стотель возвращается неоднократно. Как известно, душа в учении Де­ мокрита производна от внешних телу шарообразных и огневидных атомов, которые заполняют тело, проникая в человека в процессе ды­ хания. Но такой взгляд надушу, когда она оказывается сродни природ­ ной стихии, разлитой в космосе, вызывает у Аристотеля самые резкие возражения. «Некоторые также утверждают,— пишет он,— что душа разлита во всем; быть может, исходя из этого, Фал ее думал, что все полно богов. Такой взгляд вызывает некоторые сомнения. А именно: почему душа, находясь в воздухе или в огне, не производит живого существа, а, находясь в смеси (элементов), производит, хотя, казалось бы, в этих двух элементах она лучше. Впрочем, можно было бы спро­ сить, почему душа, находящаяся в воздухе, лучше и бессмертнее, не­ жели душа живых существ? В обоих случаях получается нелепость и нечто противоречащее разуму»2. Предпочтительнее видеть в душе активное начало, несводимое к природным стихиям и вообще к чему-то, напоминающему тело. В душе присутствует единство, отличающее ее от стихии. Но при этом душа, постоянно повторяет Аристотель, не может быть неким подо­ бием тела. Иначе наличие души в теле будет означать присутствие в одном и том же месте двух тел3. Души не могут, считает он, состоять из каких-либо природных начал. Аристотель не намерен связывать душу и с какой-либо пространственной величиной, как это делает, к при1 2 3 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 384. Там же. С. 391. Там же. С. 388. 127 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма меру, Тимей, у которого она составлена из элементов и разделена в соответствии с гармоническими числами1. Душа, согласно Аристоте­ лю, не способна к движению и самодвижению и, соответственно, не может занимать определенного места в пространстве. Допустив пере­ мещение души самой по себе, пишет он, мы тем самым допускаем, что выйдя из тела, она может затем вернуться в него. «Из этого следо­ вало бы,— замечает Аристотель,— что живые существа, умерев, могли бы ожить»2. В силу сказанного душа не может сообщать телу движения извне, будучи в чем-то подобной ему. К ней неприложимы никакие телесные характеристики. И, тем не менее, душа напрямую связана с телом. В каком же смысле и качестве душа управляет телом? Именно во второй книге трактата «О душе», Аристотель дает определение души как энтелехии тела, подробно комментируя харак­ тер связи между душой и телом. Понятие энтелехии, как и энергии, применяется им там, где речь идет о действительности, в противопо­ ложность возможности. При этом в примечаниях к «Метафизике» можно прочесть, что первоначально под энергией Аристотелем по­ дразумевалось некое движение или деятельность, а под энтелехией — «фактическая данность или осуществленность чего-то»3. Но сказать, что душа есть «осуществленность», это значит еще ничего не сказать. Вполне закономерен вопрос: осуществленностью чего является душа? Согласно Аристотелю, душа осуществляет сущность живого тела. Рассуждая о душе, Аристотель приводит характерный пример с топо­ ром, суть которого проявляется в действии раскалывания. Если бы топор был естественным и притом живым телом, говорит Аристотель, то раскалывание было бы его сущностью и соответственно его ду­ шой4. И другой пример: «Если бы глаз был живым существом, то ду­ шой его было бы зрение. Ведь зрение и есть сущность глаза как его форма (глаз же есть материя зрения); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве только по имени, так же как глаз из камня или нарисован­ ный глаз»5. Из приведенных примеров можно сделать вывод, что душа как осуществленная сущность является сущностью живого тела в дейст1 1 3 4 5 См.: Там Там Там Там Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 381-382. же. С. 381. же. С. 478. же. С. 395. же. 128 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вии. Здесь нужно уточнить, что способ действия топора определен­ ным образом представлен в его внешней форме. И то же самое мож­ но сказать о живом теле. Живое тело, в отличие от неживого, счита­ ет Аристотель, невозможно без определенных органов. Например, для питания у животного приспособлен рот, а у растения — корни и листья. А это значит, что устройство живого тела также несет в себе возможность жизни, и душа превращает ее в действительность. От­ сюда общее определение души у Аристотеля, которое выглядит так: «душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего органами»1. Понятно, что устройство тела в качестве внешней формы нужно отличать от его сущности как внутренней формы, который определяет способ жизнедеятельности растения или животного. Вполне опреде­ ленным образом Аристотель говорит о внутренней субстанциальной форме, присущей живому телу, в критике Эмпедокла по поводу роста растений. Дело в том, что, согласно Эмпедоклу, корни растений рас­ тут вниз согласно естественному направлению составляющей их зем­ ли, в то время как рост стеблей вверх соответствует естественному направлению огня. Аристотель задает в связи с этим правомерный и по сути риторический вопрос о том, что может скрепить в растении землю и огонь с их противоположным направлением движения. Но главный объект его критики — представление об огне как источнике питания и роста. «Некоторые полагают,— пишет Аристотель,— что вообще в при­ роде огня заключена причина питания и роста, ибо, кажется, что из всех тел или элементов только один огонь есть нечто питающееся и растущее»2. Аристотель не согласен с этим, и прежде всего потому, что свойство огня — в возрастании до бесконечности, если имеется горю­ чее вещество. Между тем, в отличие от огня, пишет Аристотель, «для всех естественных образований есть предел и соотношение (logos) ве­ личины и роста»3. Именно эту меру во внешнем облике и способе су­ ществования и гарантирует, согласно Аристотелю, сущность живого тела, а по-другому — его душа. «А это зависит от души, а не от огня,— заключает он,— скорее, от выраженной в определении сущности (logos), чем от материи»4. 1 1 1 4 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 395. Там же. С. 403. Там же. Там же. 129 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Спроецированные на естествознание Нового времени, эти рассу­ ждения Аристотеля легко вписываются в представление о способе дей­ ствия законов природы, задающих предел и меру существованию раз­ личных тел. Здесь стоит упомянуть, что работы Аристотеля в области биологии, и в частности «Возникновение животных» и «О частях жи­ вотных», производили серьезное впечатление даже на сторонников эволюционизма. В 1882 году Ч. Дарвин писал переводчику работы «О частях животных»: «Редко я читал что-либо более меня заинтере­ совавшее, хотя до сих пор прочитал не больше четверти самой книги. По цитатам, которые мне приходилось видеть, я высоко ценил заслу­ ги Аристотеля, но не имел даже самого отдаленного представления, что за удивительный человек это был. Линней и Кювье были двумя моими божествами, хотя и в весьма различных отношениях, а между темони—простые школьники в сравнении со стариком Аристотелем»1. Итак, аристотелевскую энтелехию можно воспринимать как про­ явление законов природы в жизнедеятельности живого тела и даж в свете современных знаний — как выражение в жизнедеятельности особи ее генотипа. Недаром известный исследователь творчества Аристотеля В.П. Зубов позволяет себе говорить о душе как энтелехии тела на языке современной физиологии. «В этом смысле «душа» у Аристотеля,— пишет он,— была совокупностью функций, присущих живому телу, отличительных для живого организма»2. Но тот же В.П. Зубов, следует отдать ему должное, ясно видит, что аристотелевская «душа» несводима к набору жизненных функций в духе позднейшего естественно-научного материализма. Чтобы энте лехия Аристотеля превратилась в законосообразное действие природ­ ного тела, необходимо усилить одни тенденции в его учении и пре­ сечь другие. Такое возможно, во-первых, если формальная и движу­ щая причины тела помещены в саму материю, т. е. отождествлены с материальной причиной тела. А во-вторых, должна исчезнуть целевая детерминация тела, о которой постоянно напоминает Аристотель. Указанная ситуация говорит об изначальной двойственности аристотелевского учения о душе, которая провоцирует противопо­ ложные методологические подходы. В начале второй книги трактата «О душе» мы встречаем утверждение: «Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющее основание в нем самом...»3. Но 1 1 λ Darwin F. The life and letters of Ch. Darwin. London, 1887. Od.2. Vol. III. P. 252. Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. М., 2000. С. 179. Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 394. 130 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии одним из собственных оснований тела, наряду с формальной и дви­ жущей причиной, является целевая причина, устремляющая тело к вечности и совершенству, то есть к Богу-Перводвигателю. Целевая причина живого тела у Аристотеля, в отличие от Платона, находится не вовне, а внутри него самого. Именно вследствие такой детермина­ ции живого тела Аристотель именует его существование не просто «энтелехией» как реализуемой сущностью, а именно «душой». Но в результате и сама душа оказывается у Аристотеля не вовне, а в самом теле. В качестве реализуемой сущности и цели тела душа неотделима от него. И в этом кардинальная новизна позиции Аристотеля, в срав­ нении с Платоном и другими античными мыслителями. У Аристоте­ ля душа, включая питающую, ощущающую и даже отчасти разумную, как бы прорастает из тела, а не дается живому существу как нечто внешнее и отдельное от тела даже тогда, когда она находится внутри организма. В связи с этим стоит обратить внимание на некоторые различия в переводах одних и тех же мест из работ Аристотеля. Так, комментируя уже рассмотренный нами фрагмент из четвертой главы второй книги трактата «О душе» (II, IV, 416 а, 15-20), где Аристотель спорит с Эмпедоклом насчет огня как источника роста и питания, Зубов опирает­ ся на такой перевод, где слово «Логос» означает «разумное основа­ ние». В результате одно и то же место при разных переводах наполня­ ется разным смыслом. «Между тем,— читаем мы у Зубова,— у всех произведений природы есть для их величины и роста предел (πέρας) и разумное основание (λόγος)»1. «...Между тем для всех естественных образований,— читаем мы в первом томе сочинений Аристотеля, из­ данном в 1975 году,— есть предел и соотношение (λόγος) величины и роста»2. В переводе Зубова в основании жизни формальное перепле­ тается с целевым, а это значит, что душа живого существа сочетает в себе материальное и идеальное. Во втором переводе эта двойственность сглажена в пользу Аристотеля-естествоиспытателя, предтечи иссле­ дователей Нового времени. Взгляд на работы Аристотеля с позиций развитого естествознания с необходимостью провоцирует трактовку души с точки зрения фор­ мы, а не цели, и форма при этом предстает в качестве функции некото­ рого органа или всего организма. «При этом, говоря о форме,— чита­ ем мы в книге «История греческой философии в ее связи с наукой» у 1 2 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 169. Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 403. 131 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма П.П. Гайденко,— Аристотель имеет в виду не просто внешние очерта­ ния, а также окраску и т. д. живого существа: к форме здесь гораздо ближе функция, чем морфологические признаки»1. И чуть ниже: «Что же представляет собой «форма» живого, обеспечивающая его само­ сохранение и воспроизведение? Такой формой, по Аристотелю, явля­ ется душа»2. Итак, с позиций современного естествознания душа растения и животного у Аристотеля видится в качестве органической функции тела, ограниченной жизнедеятельностью организма. За эти рамки скорее всего, не выходит следующее утверждение Гайденко. «Как ви­ дим,— отмечает она по поводу души растения и животного у Аристо­ теля,— тело есть «средний член» между душой и пищей, т. е. «нача­ лом» живого и средой его обитания»3. Тем не менее, двойственность материального и идеального начал в душе составляет главную проблему аристотелевского учения о душе как энтелехии. И она обнаруживает себя уже там, где речь идет о ра­ стениях и животных. Уже здесь душе присуща идеальная устремлен­ ность к божественному, но она представлена в действиях тела по пре­ одолению границ единичного, бренного бытия. «Действительно,— пи­ шет Аристотель,— естественная деятельность живых существ, поскольку они достигли зрелости, не изувечены и не возникают само­ произвольно — производить себе подобное (животное — животного, растение — растение), дабы по возможности быть причастным вечно­ му и божественному. Ведь все существа стремятся к нему, и оно — цель их естественных действий. Цель же понимается двояко: ради чего и для чего. Так как живое существо не в состоянии постоянно соучаствовать в вечном и божественном (ибо не может вечно оста­ ваться тем же и быть постоянно единым по числу), то каждое из них причастно (божественному) по мере своей возможности: одно — больше, другое — меньше, и продолжает существовать не оно само, а ему подобное, оставаясь единым не по числу, а по виду»4. Органическую целесообразность и видовое постоянство в живой природе Аристотель здесь вполне определенно толкует в телеологиче­ ском духе. И надо сказать, что телеология в биологических воззрениях Аристотеля в том случае, когда под «τέλος» понималось не «целое», а 1 2 3 4 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000. С. 275. Там же. Там же. С. 276. Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 401-402. 132 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии именно «цель», сыграла роль тормоза в развитии биологии Нового времени. Но в исследовании аристотелевского учения о душе для нас важнее другое. «Очевидно также,— пишет Аристотель в трактате «О душе»,— что душа есть причина и в значении цели. Ибо так же как ум действует ради чего-то, так и природа, а то, ради чего она действу­ ет, есть ее цель»1. А в «Частях животных» Аристотеля мы читаем: «Ведь руководствуясь мышлением (διάνοια) или ощущениями, и врач и до­ мостроитель дают себе отчет в разумных основаниях (λόγοι) и причи­ нах (αιτιαι), по которым один занят здоровьем, а другой — постройкой дома, и почему (διότι) следует поступать именно так. Но в произведе­ ниях природы ради чего и прекрасное (το χαλον) проявляются в еще большей мере, чем в произведениях искусства»2. Это еще раз подтверждает, что в стремлении живых организмов выжить и продолжить свой род Аристотель видит подобие целесоо­ бразной деятельности человека. И как раз этим определяется целе­ вая детерминация растения и животного, которая придает их душам идеальный характер. Еще раз подчеркнем, что идеальность души в учении Аристотеля, как и у Платона, не есть свое иное бестелесно­ сти, какой она предстает в расхожем христианстве. Идеальность души у Аристотеля вырастает из ее целевой детерминации, и в этом он сходится с Платоном. Причем представление о душе как энтеле­ хии накладывает свой существенный отпечаток на характер целевой детерминации в учении Аристотеля. Целевая направленность здесь задается телу растения и животного не извне, а изнутри него самого, она причастна именно этому телу, вместе с которым она живет и по­ гибает. О бессмертии разумной души у Аристотеля разговор впереди. А сейчас уточним разницу между ним и его учителем в трактовке те­ лесности души. Уже было сказано о том, что душа растения и живот­ ного у Аристотеля идеальна, но еще не бестелесна в позднейшем хри­ стианском духе. Однако, выдвинув этот тезис, мы оказываемся в си­ туации заочного спора и даже конфронтации с известным русским философом и знатоком античности князем С.Н. Трубецким. Аристо­ тель в трактовке Трубецкого выглядит как явный предтеча христиан­ ского учения о душе. При этом Трубецкой и Гайденко в понимании души Аристотелем оказываются на противоположных позициях. 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 402. Цит. по: Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 167. 133 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма И Аристотель сам дает повод для таких взаимоисключающих оценок своего учения. С.Н.Трубецкой был основательным исследователем. И то хри­ стианизированное учение о душе, которое он приписывает Аристоте­ лю, возникает не вдруг, а вырастает из его трактовки аристотелев­ ской критики Платона. Трубецкой пишет об Аристотеле: «В общем он сходится с Платоном, поскольку его «форма» происходит от «идеи» Платона; он расходится с ним, поскольку он не признает идеала вне действительности, за исключением чистого божествен­ ного Разума, который сам есть первая из действующих причин или энергий. «Сущее», по Аристотелю, есть не идея, не отвлеченность, а сама действительность»1. Исток позиции Трубецкого — в сближении аристотелевской «формы» с платоновской «идеей». У Трубецкого выходит так, будто Аристотель лишь изменил местопребывание платоновских идей. У Платона они пребывали вне мира, а Аристотель поместил их внутрь самих вещей. Но, несмотря на то, что критика Платона была сильной и сокрушительной, Аристотель, по убеждению Трубецкого, был вы­ нужден давать одной рукой то, что разрушал другой2. В итоге идеаль­ ным началам внутри вещей стали соответствовать их образцы в уме Бога-Перводвигателя. Трубецкой так и характеризует аристотелевскую сущность вещи — как воплощенную форму, соответствующую понятию. Он пишет: «На вопрос, «что такое это за вещь» — τι εστί или τι ηυ το πράγμα τούτο — я по необходимости даю общее определение. Ари­ стотель следующим образом решает этот вопрос: сущность в самой ее индивидуальности определяется общим видом или формой, ко­ торая в ней воплощается»3. Надо сказать, что так же трактует нововведение Аристотеля, в сравнении с Платоном, А.Ф. Лосев. «Вся основа аристотелизма,— чи­ таем мы в книге «Платон. Аристотель»,— в том и заключается, что Аристотель мыслит себе идею вещи не как-нибудь отдельно от вещи и не где-нибудь в другом месте, чем то, которое занимает данная вещь, но в самой же вещи. Ведь идея вещи есть сущность вещи»4. И далее он еще раз подчеркивает: «Этот тезис о пребывании идеи вещи 1 2 1 4 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 432. Там же. С. 422. Там же. С. 423. Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 314. 134 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии внутри самой же вещи есть то основное и принципиальное, в чем аключается аристотелизм в его отличие от платонизма»1. Но для нас важно понять, как такой взгляд на критику Аристо­ телем Платона, сказывается на учении о душе. А потому вновь вер­ немся к Трубецкому, который, повторяя на разные лады мысль о воплощении идеальной формы в материю, остается, тем не менее, недоволен полученным результатом. И потому в «Курсе истории древней философии» в параграфе с характерным названием «Кри­ тика метафизики Аристотеля» он задается риторическим вопросом: «Форма» есть нечто общее, вид, соответствующий понятию; а мате­ рия — только определенная «потенция» такого вида. Откуда же конкретная действительность?»2. В указанном вопросе сквозит явное разочарование из-за того, что воплощением видового понятия в материю как субстрат никак не объ­ яснишь своеобразия и многообразия отдельных существ и предметов. Трубецкой пытается утешить себя тем, что Аристотель вовсе и не стремился выводить действительность из своих метафизических на­ чал3. И в этом он по большому счету прав. Что касается стремления вывести действительность из метафизи­ ческих начал, на манер наукоучения И.-Г. Фихте, то у Аристотеля его, конечно, нет. Но понять, чем определяется своеобразие отдельных существ и предметов, он, безусловно, пытался. Здесь от параграфа «Критика метафизики Аристотеля» в курсе лекций, составленном Трубецким, следует вернуться к параграфу «Критика Платона. Отно­ шение общего и частного». Ведь в аристотелевской критике Платона содержится важный пункт, который недооценил Трубецкой, создавая свою версию его учения. Дело в том, что Аристотель в «Метафизике» прямо заявляет: все, что нас окружает, не может происходить из эидосов ни в одном из обычных значений «из»4. В буквальном переводе речь идет о «несложимости» вещей из эидосов и невыводимости вещей из них как из неких образцов. «Говорить же, что они образцы и что все остальное им причастно,— пишет Аристотель,— значит пустословить и гово­ рить поэтическими иносказаниями»5. Не обсуждается Аристотелем и 1 Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. С. 314. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. С. 433. ' См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 330. 4 Там же. 5 Там же. 2 135 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма проблема происхождения мира вещей из идей, сосредоточенных в уме Бога-Перводвигателя. В «Метафизике» мир вещей предстает в ка­ честве «сущего», т. е. как некая данность, которую Аристотель берется только объяснить, имея в виду все богатство наличных подходов и ка­ тегорий. Отличие Аристотеля от Платона, а также от Трубецкого, состоит как раз в том, что даже в присутствии Бога-Перводвигателя он пыта­ ется объяснять вещи из них самих. Хорошо известно следующее вы­ сказывание Аристотеля: «Что это невозможно для всего, очевидно: ведь мы не можем принять, что есть некий Дом помимо отдельных домов»1. Из этого чаще всего делают вывод о номинализме, свойст­ венном Аристотелю. И он дает для этого повод, периодически утвер­ ждая, что существуют лишь отдельные вещи. Однако номинализм в его классическом виде отрицает наличие сущности и общего в реальном мире, позволяя им присутствовать только в нашем мышлении. Что же касается Аристотеля, то большая часть его «Метафизики» посвящена как раз уяснению того, какова сущность отдельных вещей и может ли такая сущность быть общей. В том, что одни обвиняют Аристотеля в номинализме, а другие — в прямо противоположном, то есть в возврате к платоновскому реализ­ му, проявляет себя все та же двойственность его учения. С одной сто­ роны, Аристотель склонен отождествлять сущность с эмпирическим бытием самих вещей. Ас другой стороны, он вынужден заявить: «Если помимо единичных вещей ничего не существует, то, надо полагать, нет ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувства­ ми, и нет знания ни о чем, если только не подразумевать под знанием чувственное восприятие»2. В своих попытках определить сущность отдельной вещи Аристо­ тель идет по пути взаимоисключающих выводов. Так в третьей и чет­ вертой главах третьей книги «Метафизики» он разоблачает, с одной стороны, отождествление сущности с самими единичными вещами, а, с другой стороны, отождествление ее с их общим родом и видом. У Ари­ стотеля выходит, что общее каким-то образом представлено в отдель­ ном, но от этого отдельное не перестает быть отдельным. И такая, на первый взгляд, межеумочная позиция выражает тот факт, что Аристо­ тель, определяя сущность вещей, находится на подступах к катег особенного. 1 2 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 110. См. там же. С. 109. 136 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Примером того, как Аристотель вплотную приближается к реше­ нию проблемы особенного, является характеристика им души расте­ ния и животного. Дело в том, что у Аристотеля это как раз тот случай, когда отдельное оказывается всеобщим, существуя, тем не менее, ря дом и независимо от других вещей. Характеризуя душу растения и жи­ вотного, Аристотель замечает, что здесь каждое предшествующее каким-то образом сохраняется в последующем. А потому не будет преувеличением сказать, что в животном присутствуют способности растения, а в человеке — животного, а через него и растения. Так что человек в определенном отношении есть растение. В результате у Аристотеля растительная способность оказывается как отдельной способностью, так и всеобщей, поскольку она присутст­ вует во всем живом. Поясняя это положение, Аристотель приводит пример с геометрическими фигурами: «С относящимся к душе,— пи­ шет он,— дело обстоит почти так же, как с фигурами, вот в каком еще смысле. А именно: и у фигур, и у одушевленных существ в последую­ щем всегда содержится в возможности предшествующее, например: в четырехугольнике — треугольник, в способности ощущения — расти­ тельная способность»1. Справедливости ради надо сказать, что растительная способность и треугольник отдельными являются у Аристотеля в действительнос­ ти, а всеобщими — только в возможности. Но это не меняет сути дела Даже при таком условии перед нами характерный пример того, как особенное оказывается всеобщим началом данного рода вещей и явл Категория особенного помогает выразить в мышлении тот спо­ соб, каким всеобщее представлено в единичном, и растительная спо­ собность, как и треугольник, явно демонстрируют нам это тождест­ во противоположностей. Правда, в данном конкретном случае Ари­ стотель пытается избежать прямого отождествления общего и отдельного. Что касается иных случаев, то в обсуждении темы общего и отдельного он на каждом шагу высказывает противоречащие друг другу суждения, вопреки собственным логическим запретам. Противоречивость позиции Аристотеля — не секрет для Трубец­ кого. Имея в виду как раз проблему отношения общего к частному, он пишет: «Это у Аристотеля не продумано до конца, и отсюда — множе­ ство противоречий его метафизики, необычайная запутанность неко­ торых ее понятий»2. Однако печально то, что, осознавая данную сто1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 400. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 424. 137 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма рону в учении Аристотеля, Трубецкой эти противоречия зачастую даже умножает. И прежде всего это касается его трактовки соотноше­ ния формы и материи. Здесь стоит уточнить, что Аристотель первым ввел в философию понятие материи (υλη), подобно тому, как Платон первым ввел в широкий оборот представление об идее (είδος).«А под материей,— читаем мы в третьей главе седьмой книги «Метафизики»,— я разумею то, что само по себе не обозначается ни как суть вещи (ti), ни как что-то количественное, ни как что-либо другое, чем опреде­ лено сущее»1. И в так понятой материи Аристотель видит антипода Бога-Перводвигателя. В результате в учении Аристотеля впервые обозначается противоположность материального начала мира как чистой возможности и потенции, пассивной «лишенности» любых определений, и идеального начала в лице Бога-Перводвигателя как формы форм. Но одно дело материя как изначально неопределенный субстрат, ко­ торый нельзя воспринять чувствами, а можно только помыслить, и другое дело — вполне определенный и чувственно воспринимаемый страт конкретной вещи. В той же третьей главе седьмой книги «Мета­ физики» можно прочесть: «Под материей же я разумею, например, медь; под формой — очертание-образ (schema tes ideas); под тем, что состоит из обоих — изваяние как целое»2. Перед нами, несомненно, два разных определения материи, которым соответствует введенное Ари­ стотелем различие между «первой материей» и «последней материей». По данному поводу В.Ф. Асмус, в частности, пишет: «В понятии «материя («субстрат») Аристотель различает два значения. Под «мате­ рией» он разумеет, во-первых, субстрат в безусловном смысле. Это только «материя», или, иначе, чистая возможность. И во-вторых, под «материей» он понимает и такой субстрат, который уже не только воз­ можность, но и действительность»3. И чуть далее Асмус уточняет: «Последняя материя», согласно разъяснению Аристотеля,— та «мате­ рия», которая не только есть возможность, той или иной «формы», но, кроме того, будучи такой возможностью, есть одновременно и особая «действительность». «Последняя материя» обладает своими особыми, ей одной принадлежащими признаками, и относительно ее может быть высказано ее определение, может быть сформулировано 1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 190. Там же. С. 189. ' Там же. С. 15. 2 138 I Ε.В. Мареева. Проблема души в ююссической и неююссической философии ее понятие. Так, — ...медный шар, медь, четыре физических элемен­ та — примеры «последней материи»1. Не будем далее разворачивать аргументы Асмуса. Отметим лишь то, что «первая» и «последняя» материя у Аристотеля отличаются тем, что одна оформлена, а другая нет, т. е. «первая» материя предполагает форму потенциально, а «последняя» обладает ею актуально. Иначе го­ воря, речь идет о материи в двух ее различных состояниях, на которые так любит ссылаться Стагирит и в других случаях,— потенциальном и актуальном. И в этом с Асмусом нельзя не согласиться. Добавим, однако, что аристотелевская «последняя материя» в дальнейшем получает другое название — «вторая материя», что не ме­ няет сути дела. Зато особого внимания заслуживает взаимосвязь между формой и «второй» материей в реальной вещи. У Аристотеля она так же проблематична, как и взаимосвязь между общим и отдельным. В толь­ ко что приведенной третьей главе из седьмой книги «Метафизики», сказано, что если форма (eidos) первее материи, то она на том же ос­ новании первее того, что состоит из материи и формы2. Это уточне­ ние можно понять в том смысле, что реальная вещь есть результат воплощения этой изначальной идеальной формы в материальный суб­ страт. И князь Трубецкой именно так понимает Аристотеля. У Трубецкого выходит, что все сущее, включая вещи и живые су­ щества, есть результат воплощения соответствующей идеальной фор­ мы из ума Бога-Перводвигателя в «первую» материю. В итоге чистая форма материализуется, а материя оформляется, и мы имеем дело с конкретной действительностью. «Бесформенная вещь,— пишет Тру­ бецкой,— не есть вещь, а разве лишь «вещество», т. е. «материал» (υλη) или возможность вещи; отвлеченная форма или родовое понятие так­ же не есть действительная вещь, действительное существо, или сущ­ ность (ουδια), Действительная вещь есть конкретная, воплощенная форма; она есть целое, состоящее из материи и формы»3. Но проблема заключается именно в том, что вещи и существа у Аристотеля невозможно разложить на чистую форму и неопределен­ ную материю. «Вторая» или, по-другому, «последняя» материя у Ари­ стотеля постоянно выходит за пределы пассивного и бесформенного субстрата. В уже приведенном примере с медным изваянием, медь как его материя отнюдь не является таким неопределенным субстра1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 17. Там же. С. 189. ' Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. С. 424. 2 139 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма том. Наоборот, она, в свою очередь, предстает как единство формы и материи, а последняя, в свою очередь,— тоже никакой не субстрат, а состоит из сочетания природных стихий — земли, огня, воды и возду­ ха. Уже здесь можно сделать вывод, что «вторая» материя оказывается у Аристотеля вовсе не материей, а единством материи и формы. Более того, при анализе бытия вещей она способна представать то формой, то материей. Та же медь в отношении формы изваяния является мате­ рией, но в отношении составляющих ее природных стихий — уже фор­ ма. С позиций более развитой диалектической мысли вполне понят­ но, что под «второй» материей у Аристотеля, скорее всего, скрывае категория «содержание». И все метаморфозы этой «второй» материи у Аристотеля порождены той органической связью между формой и со­ держанием, которая присутствует в реальных вещах и которая отвер­ гается Трубецким. Причем в свете этой неразрывной связи между формой и содержанием аристотелевские чистые актуальные формы в уме Бога и такая же чистая, но потенциальная первоматерия оказыва­ ются только абстракциями, порождениями теоретического ума чело­ века и не более. В них представлено рассудочное «разрешение» одно­ го из зафиксированных Стагиритом диалектических противоречий. Другой важный момент состоит в том, что относительно катего­ рии «содержание» нельзя изначально заключить, материально оно или идеально. На этот вопрос может ответить лишь исследование каждого конкретного предмета. Но Трубецкой, как уже говорилось, настаива­ ет как раз на изначальной идеальности аристотелевской формы внутри вещи. Рассуждая о четырех видах причин, он осознанно противопо­ ставляет материальной причине формальную, движущую и целевую причины как нематериальные. Он даже объединяет их в одно, настаи­ вая на том, что «в понятии формы или энергии совмещаются три не­ материальные причины или начала Аристотеля: они есть, во-первых, сущность (το τι εδτι); во-вторых, причина, от которой зависит движе­ ние, и, наконец, в-третьих, она является как цель, как благо, к которо­ му стремится все сущее»1. Именно здесь следует вернуться к проблеме души, которая у Аристотеля, в подаче Трубецкого, явно тяготеет к христианству. «Та­ ким образом, по Аристотелю,— пишет Трубецкой,— душа не есть тело, но не может без тела, как форма не может быть без материи; Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. С. 428-429. 140 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии она нематериальна и постольку неподвижна (в отличие от Платона, который считал душу самодвижущейся). Она есть движущее начало, форма тела, организующая его, и вместе с тем — цель его: тело есть лишь орудие, приспособленное к ней,— ее орган; душа — ...та нема­ териальная энергия, которая движет тело, созидает его, определяет его организацию»1. Из всего сказанного ясно, что душа, согласно Трубецкому, нема­ териальна именно в смысле бестелесности. Ведь нематериальные формы вещей, как он считает, производны от божественного Разума, или ума Бога-Перводвигателя. Но приведенное определение души носит общий характер, а потому его следует отнести не только к лю­ дям, но также к растениям и животным. И здесь мы обнаруживаем неприкрытый парадокс в суждениях Трубецкого, когда он вынужден приводить примеры, опровергающие его собственную точку зрения. Так в параграфе «Учение о форме и материи, энергии и потенции» Трубецкой в очередной раз заявляет, что каждый общий вид и каждая особая форма у Аристотеля вечна и неизменна, подобно идеям Пла­ тона2. И тут же приводит известный аристотелевский пример с мед­ ной статуей, ставящий под сомнение указанный тезис. Медь, пишет Трубецкой, следуя логике Аристотеля, в одном отношении есть форма вещества, а в другой — материя для статуи. Но как, напрашивается во­ прос, вечная и неизменная форма может оказаться субстратом? Вы­ хода из этого парадокса два: либо материя не является субстратом, либо статуя состоит из двух неизменных форм без какой-либо мате­ рии. В обоих случаях парадокс не разрешается, а корень противоре­ чия оказывается в предпосылках рассуждения. Не менее парадоксален следующий за этим пример Трубецкого с животной душой, которая в его трактовке является формой человече­ ского тела и одновременно материей его разумного духа3. Но это озн чает, что душа животного в одном отношении идеальна, являясь це­ лью тела, а в другом — материальна, выступая в роли субстрата, что противоречит исходным принципам Трубецкого. При этом цели жи­ вотных странным образом становятся причастны духу. Но, несмотря на указанные противоречия, Трубецкой остается ре­ лигиозным мыслителем и видит в душе как энтелехии нечто сугубо идеальное, которое дается любому организму извне. А с естествен1 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. С. 428-429. См. там же. С. 428. ' См. там же. 2 141 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма но-научных позиций та же энтелехия видится в качестве материальной функции, присущей самому организму и идущей изнутри него. И за этими полярными трактовками скрывается реальное противоречие в воззрениях Аристотеля. Это противоречие между душой как формой тела и душой как целью того же тела. По сути это противоречие между материальным и идеальным в основании одной и той же души. Осозна ется ли оно Аристотелем в качестве противоречия? И стоит ли воспри­ нимать его как заблуждение и нелепость, или за этим скрывается про­ блема, имеющая реальное разрешение? Еще раз уточним, что душу растения и животного лучше всего рассматривать в свете той самой «второй» материи, которая у Аристо­ теля всегда оформлена, а потому форму от нее можно отделить только посредством абстракции. Живое тело у Аристотеля не есть агрегат, разложимый на активную форму и пассивную материю. Живое тело — это организм или «вторая» материя в действии, которая не просто су­ ществует, а посредством души растет, питается и приходит в упадок. Но своеобразие позиции Аристотеля как раз в том, что душа не просто обеспечивает жизнедеятельность организма, но и устремляет его к высшей цели. Наиболее ясно и определенно целевую детерми­ нацию он демонстрирует на примере души растения. Именно эта душа, говорит Аристотель, обеспечивает питание и воспроизведе­ ние любого организма. И тем же самым способом она устремляет лю­ бой организм к вечности и совершенству. Эта цель представлена в Боге-Перводвигателе, а устремленность к нему выражается в вос­ произведении жизни в ее видовом постоянстве1. Целевая детерминация, задаваемая душой растения, выводит ор­ ганизм за пределы его отдельных нужд, ориентируя его на нужды вида, а посредством его и на общее как таковое. Но задавая телу такой идеальный ориентир, душа у Аристотеля не идет наперекор телу, не действует на него извне, не является антиподом тела, как это было, к примеру, у Сократа. Своеобразие души растения, подчеркнем еще раз, в том, что идеальные цели здесь задаются изнутри самого тела. При этом душа как цель, устремляющая тело к миру горнему, не про­ тивостоит душе как форме, отвечающей за питание и воспроизведе­ ние этого тела. В душе растения, как мы видим, интересы общего и отдельного расходятся, но не противостоят друг другу и, тем более, не осознают 1 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 401-402. 142 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ся Аристотелем в качестве противоречия. Аристотель декларирует со­ четание формального и целевого начала в составе любой души. Но применительно к душе растения такое сочетание оборачивается со­ вершенствованием способа жизнедеятельности тела. И это позволяет отдельному телу с такой душой соучаствовать в божественном, не вы­ ходя за пределы своего собственного бытия. Таким образом, сочетание идеального и материального начал в растительной душе на деле оборачивается у Аристотеля совершенно особым взаимоотношением. Именно в трактовке души растения Ари­ стотель оказывается на пути к пониманию идеального как снятого материального. Понятно, что в адекватном гегелевском смысле сня­ тие означает отрицание посредством радикального преобразования. И о таком снятии в процессе развития в учении Аристотеля речь не идет. И все же душа растения у Аристотеля придает телу идеальную направленность не просто в процессе роста, но в росте, сохраняющем его видовую идентичность. А это уже касается внутренней формы дан­ ного процесса. Включаясь в состав более масштабного целого, питание и рост ор­ ганизма, как правило, меняют свой характер, а вместе с ними по сути трансформируется и то, что Аристотель именует формальной причиной. Пример — преобразование человеком формы растения, исходя из представлений о прекрасном. Тот, кто знаком с цветоводством, знает, что путем подкормки, изменения освещения, прищипывания и дру­ гих приемов, можно трансформировать внешнюю форму растения. А селекционер способен изменить его внутреннюю форму, т. е. гено­ тип. И в обоих случаях физический процесс роста под влиянием чело­ века обретает новую, а именно — культурную форму, а с ней, соответ­ ственно, и черты идеальности. В указанном примере правомерно говорить об идеальности тела растения, т. е. всего его организма, «душой» которого становится культурная форма. Согласно такому пониманию идеального физиче­ ские процессы, управляемые тем, что Аристотель именует «формой», уходят в основание иного процесса, связанного с жизнедеятельностью человека, а значит с его идеалами и целями. Целевая причина, таким образом, оборачивается новой формальной причиной, подчиняющей себе предыдущую. Но у Аристотеля, напомним, такого рода идеализация связана с Богом-Перводвигателем, а не с культурой. В результате можно зафик сировать еще один парадокс аристотелевской позиции, суть которого 143 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма в том, что, характеризуя в трактате «О душе» душу растения, Аристо­ тель подготавливает почву для культурно-исторической трактовки идеального, а при анализе разумной души он возвращается на почву фило­ софского идеализма. Здесь следует обратить внимание на еще одно противоречие, свя­ занное у Аристотеля с взаимоотношениями души и тела. Дело в том, что, указывая на их нерасторжимую связь и в то же время — на их различие, Аристотель никак не определится в том, где тут орган, а где управляющая инстанция. Так в споре с платониками и пифагорейца­ ми, отделяющими душу от тела в процессе метемпсихоза, Аристотель пишет: «Как уже было сказано, о сущности мы говорим в трех значе­ ниях: во-первых, она форма, во-вторых,— материя, в-третьих, то, что состоит из того и другого; из них материя есть возможность, форма — энтелехия. Так как одушевленное существо состоит из материи и формы, то не тело есть энтелехия души, а душа есть энтелехия неко­ торого тела. Поэтому правы те, кто полагает, что душа не может суще­ ствовать без тела и не есть какое-либо тело»1. Но чуть погодя в том же трактате «О душе» мы читаем: «Ведь все естественные тела суть ору­ дия души — как у животных, так и у растений, и существуют они ради души»2. Но если душа — это энтелехия тела, то почему тело — орган души! Такого рода противоречия не редкость у Аристотеля. Но здесь они затрагивают самую суть представлений о душе. И объяснением в дан­ ном случае может быть лишь оборачивание взаимоотношений между душой и телом, происходящее при переходе от растения к животному, а от него к человеку. И действительно, если у растения душа управля­ ет телом в качестве энтелехии как его же осуществленной сущности, то уже у животного, а затем у человека эта управляющая функция обосо­ бляется и обретает свое особое представительство поначалу в психи­ ке, а затем — в виде ума. Душа животного — энтелехия, которая осу­ ществляется уже в действиях особого органа. И способ бытия этого органа, т. е. психики — одна из сложнейших проблем психологии. Еще сложнее объяснить, почему у человека указанная ситуация ради­ кально меняется, и уже предстает как управление телом со стороны души. Указанных трех способов реализации души как энтелехии в рабо­ тах Аристотеля вычленить невозможно. Но методологические осно1 2 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 398-399. См. там же. С. 402. 144 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вания для такого членения имеются. Сразу же отметим, что у Аристо­ теля нет и намека на естественную эволюцию живого, а есть некото­ рая иерархия живых существ и, соответственно, душ. Один из важных вопросов, касающихся учения Аристотеля о душе, связан с тем, счи­ тал ли он душу сложной или простой, делимой или неделимой. Дру­ гой аспект, связанный с этой проблемой: каково местоположение душ внутри организма. Для многих исследователей точкой отсчета является Платон, у ко­ торого душа, обладая особого рода телесностью, располагается в раз­ ных частях человеческого тела. Напомним, что, согласно «Тимею», разумная часть души находится в голове. Обитель неразумной души — туловище. Причем в самом туловище неразумная душа разделена над­ вое. Более благородная ее часть располагается ближе к голове (между грудобрюшной преградой и шеей). А та, что ведает низкими вожделе­ ниями, связанными с питанием и другими органическими потребно­ стями тела, располагается между грудью и пупом. Таким образом, ка­ ждая часть души у Платона имеет свое место в теле человека. Причем, отгораживая разумную часть души от неразумной телесными прегра­ дами, Платон по сути нарушает то ее внутреннее единство, на котором акцентировал внимание Сократ. Что касается Аристотеля, то его позицию в этом вопросе обычно противопоставляют взглядам его учителя. Речь идет о внутреннем единстве любой души, и, прежде всего, единстве ее способностей. «Душа, по Аристотелю,— пишет А.Ф. Лосев,— какие бы отдельные способности она не имела, настолько едина и неделима и настолько специфична, что к ней нельзя даже применять такое понятие, как гармония, потому что для всякой гармонии требуются разные части целого и разные соотношения этих частей...»1 Но здесь в трактовке души Лосев явным образом делает идеалистический акцент. А потому неделимость души у Аристотеля он объясняет тем, что она есть энер­ гия ума. Поэтому Лосев в данном месте продолжает: «...душа только потому и может иметь отдельные части, что в основе своей она, буду­ чи энергией ума, специфична и неделима»2. Принципиально иное обоснование единства души у Аристотеля мы находим у П.П. Гайденко. Она пишет: «Растения обладают только растительной душой, животные — растительной и животной, люди, помимо двух первых,— еще и разумной. Это, однако, не следует по1 2 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 401-402. Там же. 145 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма нимать так, что у животных — две души, а у людей — три: по Аристо­ телю, растительная душа составляет «часть» животной, другими сло­ вами, более элементарная «душа» — предпосылка и условие сущест­ вования более развитой»1. 0 большей или меньшей «развитости» душ в учении Аристотеля можно говорить, конечно, только условно. «Сущее» у Аристотеля не развивается, но оно организовано согласно родам и видам. В этом за­ ключается внутренняя целесообразность бытия, связанная с умом Бога-Перводвигателя. А потому в исследовании природы следует двигаться от частного к общему и от простого к сложному. Именно так организована известная «лестница природы» Аристотеля, воссо­ зданная в XX веке Ч. Сингером2. В соответствии с указанным принципом основанием любой души у Аристотеля является способность, ведающая питанием и воспроиз­ ведением тела. Будучи в действительности душой растения, она, как уже говорилось, в возможности присутствует в душе каждого живого существа. По сути такая способность коренится в самом теле расте­ ния, будучи наиболее явно выраженной в корнях (питание) и семенах (воспроизведение). Но каким образом эта низшая способность, или «часть души» может быть представлена в высшей? Чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к переводу тех терминов, которыми пользуется Аристотель. Распространенным и вполне устоявшимся является определение трех разновидностей души в учении Аристотеля как «растительной», «животной» и «разумной». И пока речь идет о первой из них, как она представлена в растении, никаких проблем не возникает. Но они с не­ обходимостью возникают там, где речь заходит о растительной части животной души, не говоря уже о растительной части души человека. Дело в том, что, ведая питанием и воспроизведением каждого из жи­ вых тел, растительная душа по сути должна формировать животного и человека согласно своему растительному виду и мере. Так почему же она у Аристотеля формирует из кошки кошку, а из человека — челове­ ка, а не растение, согласно своей растительной сущности, или «фор­ ме»? Путь к разрешению этого противоречия мы находим у В.П. Зубова, который говорит не о «растительной», а о «питающей» душе приме­ нительно к учению Аристотеля, и, соответственно, не о «животной» 1 2 Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. С.275. Singer Ch. Studies in the history and method of science. Oxford, 1921. V. 2. P. 16. 146 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии душе, a о душе «ощущающей». Характерно, что, отказываясь от обще­ принятой у нас терминологии, Зубов вынужден давать свои переводы широко известных мест из трактата «О душе». Так в первом томе со­ брания сочинений Аристотеля мы читаем: «Ведь растительная душа присуща и другим, (а не только растениям), она первая и самая общая способность души, благодаря ей жизнь присуща всем живым сущест­ вам. Ее дело — воспроизведение и питание»1. Что касается Зубова, то, опираясь на другой перевод этого места, он начинает цитату не с начала. А в самом начале, вместо «раститель­ ная душа», он употребляет термин «питающая душа». И это сущест­ венным образом меняет ситуацию. «Питающая душа»,— читаем мы у Зубова,— есть «первая и самая общая сила души, благодаря которой жизнь присуща всему живому. Ее функция — порождение потомства и усвоение пищи»2. Сразу же заметим, что терминология Зубова бли­ же к те кету Аристотеля, где используется слово «τρεπτικος» («treptikos»), производное именно от «питания». Но в результате Зубов оказывает­ ся ближе не только к самому Аристотелю, но и к сути дела. Свежему человеку, разбирающемуся в аристотелевском учении о душе, всегда бросается в глаза несоответствие растительной и живот­ ной души, с одной стороны, и разумной — с другой. В первом случае речь идет о субъекте души, во втором — о ее способности или качест ве. Более естественным, на первый взгляд, кажется разговор о душе растения, животного и человека. В отличие от общепринятой у нас классификации, деление душ на «питающую», «ощущающую» и «разумную» оказывается более логич­ ным, к чему стремился сам Аристотель. И главное: при таком делении разрешается указанное выше противоречие. Ведь differentia specifica питающей души выражается уже не в видовых особенностях расте­ ния, а в самой способности питания. И в таком качестве питающая душа может воссоздавать организм как по мерке любого животного, так и человека. Сложившаяся ситуация, скорее всего, была вызвана латинским переводом аристотелевской терминологии. В средние века, в том чи­ сле и Фомой Аквинским, использовались термин «vegetativus» для душ растений и «sensibilis» для душ животных3. «Sensibilis» перево1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 401. Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 180. ' См.: Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мы­ слителя. Долгопрудный, 1999. С. 160. 2 147 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма дится как «ощущающий» или «чувствующий». А вот под «vegetativus» можно понимать как то, что принадлежит к растениям, так и то, что способно к росту вообще. Из этой двусмысленности латинского тер­ мина «вегетативный» во многом и проистекает укоренившаяся пута­ ница с питающей душой у Аристотеля. Что касается того, как «ощу­ щающая» душа у Аристотеля превратилась в душу «животную», то это может прояснить только особое историко-философское ис­ следование. Но вернемся к позиции Зубова, своеобразие которой указанным выше моментом не исчерпывается. Дело в то, что, различая питаю­ щую и ощущающую душу у Аристотеля, Зубов не видит оснований противопоставлять им мыслящую способность в виде ядра третьей раз­ новидности — разумной души. В своей известной работе «Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия» он оговаривает тот факт, что в кон­ це жизни Аристотель склонился к существованию такой способности как «ум» (nous), но Зубов не считает возможным рассматривать эту способность в качестве основы особой разумной души. «Кажется ни один аристотелевский текст,— пишет Зубов,— не по­ родил стольких комментариев и споров, как главы 4 и 5 третьей книги сочинения «О душе». Сам Аристотель прекрасно понимал всю слож­ ность проблемы»1. И далее он добавляет: «В упомянутых главах треть­ ей книги «О душе», относящихся к последнему периоду жизни Ари­ стотеля, весьма решительно подчеркнута имматериальность ума, от­ сутствие связи ума с телом. И это звучит тем более неожиданно, что в других местах Аристотель, казалось бы, намечает пути для выявления подобных связей»2. В отрицании Зубовым «разумной души» можно увидеть сознатель­ ное усиление линии материализма в учении Аристотеля о душе как эн­ телехии тела. Но, представив «ум» как чужеродный элемент аристоте­ левского учения о душе, Зубов усиливает позиции естественно-научного материализма, внутренне связанного с эмпиризмом. И на этом нужно остановиться особо. Ранее мы уже обращались к книге Зубова об Аристотеле, где в 9 разделе главы «Наука» значительное место уделено анализу целевой причины как разумному основанию любой души. Речь шла об об­ условленности живого тела посредством души как цели областью веч­ ного и совершенного, т. е. умом Бога-Перводвигателя. Но, признав 1 2 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 189-190. Там же. С. 190. 148 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии такую обусловленность живого тела умом Бога в одном случае, Зубов отрицает ее в другом. Уже в следующем 10 разделе главы «Наука» он не считает правомерным говорить об особой разумной душе, напря­ мую связанной с умом Бога. Причину такой непоследовательности следует искать в понима­ нии самой мыслящей способности. И здесь наиболее примечательно: характеристику ощущающей души Зубов начинает с уточнения того, что к функциям такой души Аристотель относил суждение и мышле­ ние1. Все последующее изложение им трактата «О душе» должно скло­ нить нас к тому, что мыслительная способность у Аристотеля орга­ нично связана как с телом, так и с его ощущениями. Но за тенденци­ ей представлять разум в качестве производного от ощущений всегда стояла методология эмпиризма. Последний вполне совместим с мате­ риализмом и отличается как раз тем, что разум оказывается здесь чем-то вроде «усложненного чувства». Таким образом, признание или отрицание «разумной души» упирается в вопрос о том, был ли Ари­ стотель эмпириком. И чтобы ответить на него, обратимся ко второй и третьей книгам трактата «О душе». Прежде всего отметим, что именно во второй книге трактата «О душе» Аристотель дает вполне определенный ответ на вопрос о де­ лимости души. В отличие от Платона, он считает, что одну часть души нельзя отделить от другой пространственно, хотя можно это сделать мысленно. Прежде всего это касается питающей и ощущающей души. Правда, указывает Аристотель, существуют случаи рассечения расте­ ний и насекомых, при которых душ оказывается столько, сколько возникших из рассечения частей. В этих случаях одна душа в действи­ тельности оказывается множеством душ в возможности. Но и в полу­ ченном множестве душ то, что, ведает питанием, ощущением, стрем­ лением и т. д., будет единым, а различным будет только по смыслу2. Итак, если органы питающей и ощущающей души могут локали­ зоваться в пространстве, то иначе обстоит дело с самой питающей и ощущающей душой. Органами питающей души у растения являются прежде всего корни и семена, а у животного и человека — пищевари­ тельная и половая система. Ощущающая душа также существует за счет специализированных органов и среди них, прежде всего, органов осязания. При этом органы ощущения растут и формируются за счет питающей души, но по своей сущности и форме соответствуют душе 1 2 Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 180. См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 397-398. 149 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма ощущающей. Так сопрягаются усилия двух частей души в создании животного и человеческого организма. Ощущающая душа, согласно Аристотелю, в иерархии живых су­ ществ впервые появляется у животных. Правда, Аристотель считал, что растения тоже способны испытывать холод и тепло. Но это не яв­ ляется подлинным ощущением. «Ясно также,— пишет он,— почему растения не ощущают... причина в том, что у них нет ни средоточия, ни такого начала, которое бы воспринимало формы ощущающих предметов, а они испытывают воздействия вместе с материей»1. Последнее наиболее важно, поскольку суть ощущения как раз в том, что оно способно воспринять форму отдельно от материи. «От­ носительно любого чувства,— пишет Аристотель,— необходимо во­ обще признать, что оно есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому как воск воспринимает отпечаток перстня без железа или золота. Воск принимает золотой или медный отпечаток, но не поскольку это золото или медь. Подоб­ ным образом и ощущение, доставляемое каждым органом чувства, испытывает что-то от предмета, имеющего цвет или ощущаемого на вкус, или производящего звук, но не поскольку под каждым таким предметом подразумевается отдельный предмет, и поскольку он име­ ет определенное качество, т. е. воспринимается как форма (logos)»2. В предлагаемой трактовке ощущения видно, что воспроизведение формы внешнего предмета достигается ощущением за счет некоего уподобления ощущающего ощущаемому. И понятно, что посредством такого уподобления можно воспроизвести прежде всего внешнюю форму предмета. При этом Аристотель уточняет, почему ощущающая способность не совпадает с соответствующим органом чувств и пото­ му не обладает пространственной величиной. Если в воске мы нахо­ дим пространственный аналог формы, то ощущение формы есть не пространственная величина, а некое соотношение воздействий, кото­ рое сопоставимо с созвучием и ладом в музыке3. У многих исследователей аристотелевского трактата «Одуше» ос­ новной интерес вызывают те главы, в которых говорится о связи ощу­ щающего с ощущаемым в акте зрения, осязания, обоняния и т. п. Оригинальность позиции Аристотеля в данном случае состоит в том, что ощущающее у него, в отличие, к примеру, от Демокрита, всегда ' Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 422. Там же. С. 421. ' См. там же. С. 421-422. 2 150 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии связано с ощущаемым посредством приводимой в движение среды. Даже там, где среда почти неразличима, а это касается осязания и вку­ са, она передает воздействие, а иначе, указывает Аристотель, ощуще­ ние невозможно. Посредником в случае осязания и обоняния являет­ ся уже не воздух, вода и т. п., а сама плоть (soma). При осязании плоть оказывается той средой, которая передает воздействия органу чувств, находящемуся внутри тела. «А именно,— отмечает в связи с этим Аристотель,— нам кажется, что мы непосредственно соприкасаемся с предметом и что это никак не происходит через среду. Но осязаемое отличается от видимого и слышимого тем, что последние мы воспринимаем вследствие того, что среда воздействует на нас, осязаемое же мы ощущаем не через среду, а вместе со средой, подобно тому как получают удар через щит, ибо в этом случае не щит, получив удар, передает его, а принимают удар вместе и щит, и тот, кто носит его»1. Эти наблюдения и выводы Аристотеля особенно интересны при сопоставлении с достижениями экспериментальной психологии восприятия, развитие которой приходится на XIX—XX вв. Что каса­ ется перспектив, которые открываются перед ощущающей душой, то здесь особое место занимает познание «общих свойств», к кото­ рым Аристотель относит движение, покой, число, фигуру, величину и единство. Для их восприятия, отмечает Аристотель, не существует особого органа. «Общие свойства» фиксируются всеми органами чувств, причем «привходящим образом», т. е. нецеленаправленно. Но если нет органа для восприятия таких свойств, то есть орган для сопоставления полученных разными чувствами данных. В роли та­ кого органа выступает сердце. Именно оно является у Аристотеля органом «общего чувства» (αισθητηριον χοινον), располагающего зна­ нием величины, фигуры, числа и т. д. То, что у Аристотеля осуществ­ ляет сердце, сегодня считается функцией мозга. Но Аристотель иг­ норировал догадку Алкмеона о мозге как органе мышления, будучи уверенным в том, что мозг лишен крови и занят лишь охлаждением работающего сердца. По сути дела здесь мы уже находимся в области, которая свойствен­ на человеку. Ведь «общее чувство», согласно Аристотелю, позволяет нам сравнивать и различать образы, относить образы к предметам и от­ носить их к нам самим, что по существу есть начало рефлексии. Но АриАристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 420. 151 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма стотель не проводит четкой грани в ощущающей душе между тем, на что способно животное и на что — человек. Что касается воображения, то его Аристотель отрицает только у низших животных. «Возможно ли, чтобы у них было воображение и желание, или нет?— задает вопрос Аристотель, имея в виду низших животных. — ...Но каким образом у них может быть воображение? Не таким ли образом, что так же как их движения неопределенны, так и воображение у них имеется, но в нео­ пределенном виде?»1 И далее Аристотель продолжает: «По той же при­ чине, по-видимому, низшие животные не могут составлять мнения, потому что они не способны к умозаключению, между тем мнение опирается на умозаключение»2. Приведенные высказывания порождают много вопросов. Напри­ мер, кого в трактате «О душе» Аристотель имеет в виду под «высшими животными»? И причисляет ли к ним в качестве «общественного жи­ вотного» человека? Особого внимания здесь заслуживает характеристика «воображе­ ния», и прежде всего из-за его особого положения своеобразного по­ средника между ощущением и разумом. При этом нужно иметь в виду существенное различие между «воображением»(ЕтЫ1с1иг^) в немец­ кой классике после Канта и аристотелевской «фантасмой» (fantasia), которую иногда переводят как «фантазия», а чаще — именно как «во­ ображение». Дело в том, что, начиная с И.-Г. Фихте, в деятельности воображении будут видеть начало всех наших познавательных способ­ ностей, включая восприятие и теоретическое мышление. Иначе вы­ глядит эта способность у Аристотеля, где не восприятие производно от воображения, а воображение — от восприятия. По сути аристоте­ левская фантасма — это то, что в современной психологии и теории познания именуют «представлением». Такие представления чаще все­ го являются копиями прежних восприятий, а потому указанная спо­ собность у Аристотеля тоже связана с «общим чувством» и деятель­ ностью сердца. Наиболее интересно то, что без образов представления, по убеж­ дению Аристотеля, невозможно никакое размышление. «Размышляю­ щей душе,— пишет он в трактате «О душе»,— представления как бы заменяют ощущения. Утверждая или отрицая благо или зло, она либо избегает его, либо стремится к нему; поэтому душа никогда не мы­ слит без представлений, а подобно тому, как воздух определенным 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 444. Там же. С. 445. 152 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии образом воздействует на зрачок, а сам зрачок — на другое... (точно так же представления воздействуют на размышляющую душу)»1. И чуть далее он заключает: «Таким образом, мыслящее мыслит формы в образах (phantasmata), и в какой мере ему в образах проясняется, к чему следует стремиться и чего следует избегать, в такой мере оно приходит в движение и в отсутствие ощущения при наличии этих образов. Например, восприняв вестовой огонь и замечая, что он дви­ жется, мыслящее (существо) благодаря общему чувству узнает, что приближается неприятель. Иногда с помощью находящихся в душе образов или мыслей ум, словно видя глазами, рассуждает и принима­ ет решение о будущем, исходя из настоящего»2. Рассуждения Аристотеля об опоре размышления на образ в форме представления перекликается с учением И. Канта о «фигурном син­ тезе» и схематизме в целом. Но главное опять же не в этом. В трактате «О душе» Аристотель действительно много раз указывает на связь во­ ображения с ощущением, с одной стороны, и мышлением — с другой. И это создает формальный повод для того, чтобы увидеть в нем предте­ чу новоевропейского эмпиризма, где преимущества разума исчерпы­ вались возможностью сопоставлять и комбинировать не только обра­ зы восприятия, но и сложные представления. Тем не менее, Аристотель многократно указывает на серьезное различие между ощущением и мыслящей способностью. И вырастае это различие из того, что ощущение направлено на единичное, а раз­ ум—на общее1. Надо сказать, что в работе В.П. Зубова тоже приводит­ ся данное положение Аристотеля. Но трактовка этого положения мо­ жет быть различной, в зависимости от того, что понимать под об­ щим — сходные свойства отдельных вещей или сущность, вносящую единство и постоянство в их существование. В трактате «О душе» речь идет о постижении внешней формы вещей посредством ощущения, постижении их общих свойств посредством «общего чувства» и, наконец, о знании субстанциальной формы, кото­ рое связано с умом. «Поэтому правы те,— пишет в связи с этим Ари­ стотель,— кто говорит, что душа есть местонахождение форм, с той оговоркой, что не вся душа, а мыслящая часть, и имеет формы не в действительности, а в возможности»4. 1 2 1 4 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 438. Там же. С. 438-439. Там же. С. 407. Там же. С. 434. 153 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Эмпирическая философия всегда делала акцент на возможностях «общего чувства», о котором пишет Аристотель, с присущими ему на­ чатками мышления. И эмпирикам, в том числе, к сожалению, и Зубо­ ву, всегда казался излишним бесплотный «нус» с его знанием общего как субстанциальной формы. Но там, где эмпирику все ясно, перед Аристотелем стояла серьезная проблема. Ум у Аристотеля не может обойтись без чувственного образа как своего подспорья. И тем не ме­ нее, его трактовка бесплотного ума свидетельствует о том, что окон­ чательный выбор был сделан Аристотелем не в пользу эмпиризма. Аристотель не без успеха пытался разобрать тот механизм, по­ средством которого органы чувств воссоздают внешнюю форму пред­ мета. Но как аналогичное «сканирование» возможно в отношении субстанциальной формы вещи! Здесь стоит вспомнить об известной догадке Аристотеля. «Душа необходимо должна быть либо... предме­ тами, либо их формами,— пишет он в трактате «О душе»,— однако самими предметами она быть не может: ведь в душе находится не ка­ мень, а форма его. Таким образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так и ум — форма форм, ощущение же — форма ощущаемого»1. За рукой и осязанием им признана ведущая роль в воссоздании внешней формы предметов. Но как рука способна воссоздать субстан­ циальную форму? Этого Аристотель объяснить не может. И находит единственный выход — признать, что знанием о субстанциальной форме располагает вовсе не телесное существо, а отдельно существу­ ющая разумная душа. Но тем самым окончательно лишается стройно­ сти его учение о душе как энтелехии тела. «Итак,— читаем мы в треть­ ей книге трактата «Одуше»,— то, что мы называем умом в душе, до того, как оно мыслит, не есть что-либо действительное из существую­ щего (я разумею под умом то, чем душа размышляет и судит о чем-то). Поэтому нет разумного основания считать, что ум соединен с телом»2. По сути признание средоточием разумной души ум, существую­ щий отдельно от тела, означает разрыв с той методологией, которая легла в основу объяснения Аристотелем питающей и ощущающей души. Весь пафос его критики предшественников и современников состоит в том, что душа не может быть чем-то отдельным, со своим природным составом, и при этом извне воздействовать на тело. Уче­ ние о душе как энтелехии по сути направлено на укоренение души в 1 2 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 440. См. там же. С. 433. 154 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии самом живом организме. Напомним, что общее определение в тракта­ те «О душе» состоит в том, что «душа есть первая энтелехия естествен­ ного тела, обладающего органами»1. Иначе говоря, в аристотелевской трактовке питания и ощущения, присущих живому организму, доми­ нирует подход к душе как способу жизнедеятельности тела. К этому же направлению размышлений Аристотеля относится следующее предположение, высказанное в первой книге «Одуше»: «Если мыш­ ление есть некая деятельность представления или не может происхо­ дить без представления, то и мышление не может быть без тела»2. Но все упирается в способность познавать истину как субстанци­ альную форму вещи, которая из отдельного тела никак не выводима. В результате, обособив в третьей книге трактата «Одуше» ум от какого-либо тела, Аристотель оказывается на позиции философского идеализма, впервые заявленной Платоном. И эта смена методологии при переходе от питающей и ощущающей к разумной душе рождена не прихотью, а стремлением учесть и объяснить своеобразие и воз­ можности души человека. Тем не менее, философский идеализм Аристотеля представлен в учении о душе вовсе не так, как у Платона. И прежде всего потому, что бесплотный ум у Аристотеля не владеет истиной изначально, усма­ тривая ее прямо и непосредственно в мире идей. Не владеет он ею изначально и в позднейшем декартовском смысле. Дело в том, что бесплотному уму в учении Аристотеля истина не дана, а он производит ее своей собственной деятельностью. Чтобы разобраться, почему Аристотель понимает ум так, а не ина­ че, обратим внимание на то, что в трактовке этой способности души он различает ум деятельный и ум страдательный. Что касается терми­ нологии, то Э. Целлер специально указывает, что страдательный ум Аристотель называет νους παθητιχος, а ум деятельный обозначает эпи­ тетом ποιούν, тогда как термин νους ποιητιχος появляется только у позднейших писателей3. Еще раз уточним, что обе разновидности ума направлены на по­ стижение общего, а не единичного, и различаются способом выявления субстанциальных форм вещей. Ясную и образную характеристику возможностей ума, по Аристотелю, мы находим у А.Н. Чанышева. В своем «Курсе лекций по древней философии» он пишет: «Конечно, 1 2 1 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 395. Там же. С. 373. См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 182. 155 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма если абсолютизировать сенсуалистическую тенденцию Аристотеля, можно сказать, что знание общего является обобщением знания еди­ ничного... Но для Аристотеля характерно мнение, что знание общего не появляется из знания единичного, а лишь выявляется благодаря такому знанию». Приведенная характеристика лучше всего подходит для страда­ тельного ума, который выявляет субстанциальные формы на основе чувственного опыта. Другое дело — деятельный ум, который воссозда­ ет те формы, которые недоступны опыту. Такой ум может пользо­ ваться образами представления. Но это не меняет его существа как «ума самого по себе». Ведь своеобразие деятельного ума заключается в том, что он производит знание общего, опираясь не на внешний источник, а на свои внутренние силы и возможности. Речь по сути идет об особенностях теоретической деятельности. Осознавая ограниченность чувств и те возможности, которые откры­ вает такая деятельность, Аристотель как раз и выходит за рамки эмпи­ ризма. Другое дело, что ум у Аристотеля телесных органов не имеет, и понятийная деятельность осуществляется разумной душой за счет своих собственных возможностей. Но почему указанная деятельность ума рождает истину, а не заблуждение? Многие исследователи учения Аристотеля о двух разновидностях ума склоняются к тому, что истина как знание общего заложено в уме, а значит в разумной душе, потенциально. И в этом состоит одно из проявлений аристотелевского идеализма. Но тот же Аристотель явля­ ется автором представления о душе как tabula rasa. Совместить эти два момента в учении Аристотеля можно лишь в том случае, если гаран­ том соответствия истин деятельного ума устройству мира является Бог-Перводвигатель, который сам есть деятельный ум. И потому раз­ умная душа, даже будучи пустой, уже потенциально предрасположена к истине, предрасположена к ней гармонией мироздания. Итак, трактовка души как энтелехии тела сочетается у Аристотеля с представлениями о разумной душе как отделенной от тела. С одной стороны, в трактате «О душе» представлена попытка исследовать фе­ номен души с позиций нарождающегося естествознания. С другой стороны, естественно-научный подход к душе как энтелехии тела не осуществлен здесь в последовательном виде. С самого начала естественно-научный материализм в понимании души как способа жизнедеятельности тела соседствует у Аристотеля с чуждой естест­ вознанию идеальной детерминацией души как ее стремлением к со- 156 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вершенству. Что касается разумной души человека, то ее своеобразие Аристотель толкует явно с позиций идеализма. Естественно, что такого рода противоречия не могли обойти стороной последователи Аристотеля. В каких формах обнаружи­ лись эти противоречия у аристотеликов христианской эры, мы рассмотрим прежде всего на примере мыслителя Возрождения П. Помпонацци. 2. П. Помпонацци против Фомы Аквинского и Аверроэса в толковании разумной души Итальянец П. Помпонацци — наиболее яркая фигура среди ари­ стотеликов эпохи Возрождения. Его философские работы были опу­ бликованы на русском языке только в 1990 году. И главная их них — «Трактат о бессмертии души» — интересна прежде всего тем, что пока­ зывает, как учение Аристотеля можно использовать и для обоснования, и для критики христианской доктрины. Сочинения Помпонацци были тесно связаны с программой университетского образования, сложив­ шейся в Европе тех времен. А студенты университетов настоятельно требовали разъяснять им природу души. И «Трактат о бессмертии души» —посвящен именно этой проблеме. Во многом из-за критичного отношения к Аристотелю, которое наметилось уже в позднем Средневековье, философия Платона в эпо­ ху Возрождения переживала свой собственный «ренессанс». Но и аристотелики не сдавали своих позиций. Так в Италии эпохи Возрож­ дения существовали две известные школы последователей Аристоте­ ля. Причем полемика между ними по вопросу бессмертия души ска­ залась на дальнейшем развитии философии. Аристотелики Возрождения группировались вокруг Падуанской школы где исповедовались взгляды, близкие к учению арабского фи­ лософа XII века Аверроэса (Ибн-Рушда), и Болонской школы так на­ зываемых «александристов», ведущих свою родословную от аристотелика ΙΙ-ΙΙΙ вв. Александра Афродисийского. Что касается П. Помпо­ нацци, который родился в Мантуе, учился в Падуе, а затем преподавал в Падуанском и Болонском университетах, то его воззрения не связа­ ны напрямую ни с одной из этих школ. Но именно его философские взгляды считаются наиболее оригинальными среди аристотеликов эпохи Возрождения. Уже к концу XVI века Помпонацци был признан главой перипатетической школы Возрождения. 157 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Хотя Пьетро Помпонацци жил во времена Высокого Возрождения, его биография не содержит событий, достойных ренессансного титана. Внешне и по образу жизни он резко отличался от таких ярких лично­ стей, как представитель флорентийской Академии Пико делла Мирандола. В отличие от Пико, он был небольшим и некрасивым. Домосед Помпонацци предпочитал подвигам размеренное существование. Он был трижды женат, дважды вдовел. За всю жизнь Помпонацци не поки­ нул пределов Северной Италии, посвящая себя ежедневному чтению лекций в университете. В эпоху великих открытий стоило большого труда уговорить его выбраться из Болоньи на диспут в соседний город Модену. В том возрасте, когда автор «Речи о достоинстве человека» уже ушел из жизни, Помпонацци, который был старше его на год, только вступил в пору серьезных философских размышлений. В эпоху блистательной гуманистической образованности Помпо­ нацци писал на тяжеловесной латыни, смешанной с родным ему мантуанским диалектом, и совсем не знал греческого языка. Его работы полны комментариев и бесконечных различений, напоминая творче­ ство средневековых схоластов. И, тем не менее, это та самая универ­ ситетская философия, которая демонстрирует разложение схоластики изнутри. «Трактат о бессмертии души» Помпонацци, опубликованный в 1516 году, был вскоре публично сожжен в Венеции. Но скромного университетского преподавателя это не смутило. До костра, на котором будут сжигать Джордано Бруно вместе с его трудами, было еще почти сто лет. Взгляды «Перетто Мантуанца», как называли Помпонацци сов­ ременники, лучше всего демонстрируют нам переход от средневекового к ренессанс ному аристотелизму. Тем не менее, его философскую пози­ цию нельзя считать однозначной, и это касается именно сердцевины его учения — проблемы бессмертия души. Каждый раз, завершая чтение курса об Аристотеле, Помпонацци обращался к студенческой аудито­ рии со следующими словами: «Государи мои... Одно убедительное дока­ зательство бессмертия разумной души я предпочел бы и папской влас­ ти, и всем богатствам мира... Я больше хотел бы получить одно доказа­ тельство бессмертия, чем тысячу тысяч лет быть повелителем мира...»1 Уже в самом названии «Трактата о бессмертии души» Помпонацци проблема души поставлена в той форме, в какой она обрела актуаль­ ность именно в христианстве. В трактате Аристотеля «О душе» главная NardiB. Studi su Pietro Pomponazzi. Firenze, 1965. P. 280. 158 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии тема — соотношение души и тела в любом живом существе, а вопрос о бессмертии души тем самым оказывается вторичным. Более того, в этом сочинении он не выделен для особого обсуждения. В трактате Помпонацци, как и у христианских богословов, ситуация иная. В центре его внимания — природа разумной души. А анализ ее взаимоотношений с телом служит задаче обоснования или опровержения бессмертия души человека. Помпонацци разворачивает перед нами палитру взглядов на разум­ ную душу, производных от учения Аристотеля, которого он, как было принято в то время, именует Философом. Наиболее подробно Помпо­ нацци разбирает и критически оценивает трактовку Аристотеля араб­ ским мыслителем Аверроэсом (Ибн-Рушд), именуемого Комментато­ ром, а также позицию основателя томизма св. Фомы. Известный исто­ рический факт состоит в том, что система томизма была создана монахом-доминиканцем Фомой Аквинским в ответ и в противовес философии Аверроэса. Но томизм — это не просто усиление философ­ ского идеализма, представленного в аристотелизме, но и трансформа­ ция его в христианском духе. И на это неоднократно обращает внимание Помпонацци. В соответствии с нормами своего времени, разбирая взгляды Фомы, Помпонацци отмечает, что уверен в истинности его мнения, «коль ско­ ро его освящает каноническое Писание, которое, будучи дано Богом, должно быть предпочтено всякому человеческому разуму и опыту»1. Но тут же с позиций разума им высказывается сомнение в соответствии этих взглядов учению Аристотеля. А в ходе анализа томистских пред­ ставлений о душе он уже прямо указывает на то, что многие доводы здесь вносят путаницу. Более того, они «являются специально приду­ манными новшествами, ради поддержания этого мнения, и никоим образом не отвечают мысли Аристотеля»2. Ортодоксальные взгляды церкви Помпонацци пытается сверить с Аристотелем как с первоисточ­ ником. И в этом состоит характерная черта философии Возрождения, и позиции Помпонацци в частности. Несмотря на эти сомнения, прославивший Помпонацци трактат о душе полон критического пафоса. Подобно другим аристотеликам Воз­ рождения, Помпонацци не склонен доверять доказательствам бессмер­ тия души, предложенным в томизме. Всех аристотеликов этого времени 1 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». М., 1990. С. 48. 2 Там же. С. 56. 159 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма объединяет уверенность в том, что в учении Аристотеля нет аналога ин­ дивидуальной бессмертной души, о которой печется ортодоксальное хри­ стианство. Падуанцы, вслед за Аверроэсом, искали и находили у Ари­ стотеля подтверждения тому, что бессмертной является лишь надынди­ видуальная бестелесная душа, и другой разумная душа быть не может. Помпонацци признавал индивидуальную разумную душу, но стремился доказать, что такая душа у Аристотеля неотделима от тела, а потому смертна. Все аристотелики сходятся в том, что, признав душу формой отдель­ ного тела, св. Фома должен был признать ее тленной. Ведь у Аристотеля то, что признано энтелехией тела, вместе с ним живет и погибает. В пе­ реводе трактата Помпонацци используется выражение «акт тела». Но разница между «энтелехией» и «актом» здесь не меняет сути. Важно то, что душа человека в толковании св. Фомы также есть «форма» или «акт» тела, но, тем не менее, по природе своей признается бессмертной и толь­ ко в некотором отношении смертной1. Здесь Помпонацци видит главный пункт расхождения Фомы Аквинского с Аристотелем. Признать душу бессмертной — это значит, со­ гласно Аристотелю, признать ее бестелесной. Но как бестелесная душа может быть «актом» тела? И как такую бестелесную душу могут мучить в аду телесным огнем?2 Указывая на такого рода противоречия во взглядах Фомы, которые усматривали и аверроисты, Помпонацци утверждает, что они не соот­ ветствуют не только Аристотелю, но также логике и опыту, то есть «ре­ альности». В действительности, утверждает он, все наоборот. Душа че­ ловека, согласно Аристотелю, логике и реальному положению дел, по природе своей смертна и только в некотором отношении бессмертна. «Ведь если мы рассмотрим в человеке число его способностей,— пишет Помпонацци,— то мы найдем только две, свидетельствующие в пользу бессмертия, а именно разум и волю, и без числа таких, как чувствую­ щих, так и растительных, которые все свидетельствуют в пользу смертности»3. Другой важный пункт, в котором Помпонацци видит расхождение между св. Фомой и Аристотелем, касается происхождения человеческих душ. У Фомы Бог творит каждому человеку его индивидуальную душу. 1 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». С.45. 2 1 См. там же. С. 52. Там же. С. 49. 160 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Но здесь Помпонацци воспроизводит известный аверроистский аргу­ мент, который основан на том, что у Аристотеля, как и у Платона, мно­ жественность привносится в мир материей, а не Богом1. Следовательно, в античной классике речь может идти о множестве материальных смертных душ, а не бестелесных и бессмертных. Не соответствует Аристотелю и сотворение этого множества душ Богом, поскольку душа у Аристотеля не сотворенная, а возникшая. В этом вопросе Помпонацци также присоединяется к аверроистам. Ак­ центируя внимание на разумной душе, он пишет: «Но что она возникает не путем порождения, а в акте сотворения — это не представляется со­ звучным учению Аристотеля, поскольку он ни разу не упомянул о по­ добном творении, напротив, если бы он его принял, то явно погрешил бы непоследовательностью, поскольку в VIII книге «Физики» пытался доказать, что мир не имел начала, и обосновывал это только через про­ цесс истинного возникновения»2. И далее он уточняет: «Дальнейшее добавление, а именно что (душа) сотворена непосредственно Богом, также не представляется созвучным Аристотелю, поскольку он полага­ ет, что Бог не воздействует на вещи низшего мира иначе, как через по­ средствующие причины, в чем заключен присущий миру порядок»3. И наконец, пункт, касающийся посмертного существования души. Здесь Помпонацци указывает на обратимость понятий у Аристотеля, когда имеющее начало должно иметь и конец, а не имеющее начала, соответственно, и конца не имеет. Из этого следует, что, согласно Ари­ стотелю, возникшие души должны быть тленны. А если, мы признаем бессмертие души, то в аристотелевской системе координат это означает и ее несотворимость. По сути через посмертное существование души Фомой Аквинским обосновывается возможность выхода души за пределы тела. Но тем са­ мым подтверждается и возможность ее возвращения назад, т. е. фено­ мен воскрешения, чего не принимал Аристотель. Проводя грань между убеждениями св. Фомы и Аристотеля, Помпонацци замечает: «Кроме того, ему бы пришлось либо принять воскрешение, либо измышлять пифагорейские басни, либо допустить бездействие для столь благород­ ных сущностей — все это крайне чуждо Философу»4. 1 См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явлений». С. 56. 2 Там же. С. 57. 1 См. там же. 4 См. там же. С. 59. 161 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Сложность положения Помпонацци состоит в том, что, призна­ вая Бога началом мира и считая себя христианином, он по сути дела отрицает перспективу литого спасения. Если соединить христианство с аристотелизмом, доказывает он, то в нем не остается места для лич­ ного бессмертия, понимаемого как бессмертие бестелесной души каж дого отдельного человека. В этом позиция Помпонацци не отличает­ ся от убеждений других аристотеликов Возрождения. Недаром сугубо специальные споры аристотеликов были осуждены и запрещены ка­ толической церковью. В 1513 году V Латеранским Собором была принята булла Льва X, запрещавшая такого рода споры в качестве опасной ереси. «Поскольку в наши дни сеятель смуты, исконный враг рода человеческого,— утверждалось в ней,— осмелился посеять и взрастить в поле Божьем некие опаснейшие заблуждения... а именно о природе разумной души, т. е. что она смертна или едина во всех людях, и некоторые без­ рассудные философы утверждали истинность этого по меньшей мере в философском отношении... мы проклинаем и осуждаем всех, кто утверждает, что разумная душа смертна или едина во всех людях, или хотя бы рассматривает эти суждения как спорные»1. Трактат Помпонацци о бессмертии души, опубликованный через три года после указанного Собора, начинался и заканчивался восхва­ лениями Церкви и неделимой Троицы. Тем не менее, эта книга была подвергнута сожжению, а ее автор объявлен еретиком. Но для нас не так важны коллизии во взаимоотношениях философии и церкви в эпоху Возрождения. Важнее разобраться в том, чем отличается трак­ товка разумной души в античном идеализме, в данном случае пред­ ставленном Аристотелем, и христианском идеализме, представленном Фомой Аквинским. А также понять, содержит ли аристотелизм Воз­ рождения выход к иному пониманию разумной души? С этой целью имеет смысл присмотреться внимательнее к отли­ чиям точки зрения Помпонацци уже не от учения св. Фомы, а от Аверроэса, из учения которого исходили представители Падуанской школы. Все аристотелики Возрождения сходились не только в отри­ цании бессмертия индивидуальных душ. Объединяло их признание бессмертной надындивидуальной души, существование которой они выводили из учения Аристотеля о двух разновидностях ума. 1 См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явлений». С. 11. 162 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Именно аристотелевская трактовка деятельного ума легла в осно­ ву аверроистских представлений о надындивидуальном начале всех человеческих душ. В результате у аверроистов получалось так, что смертная душа у каждого из людей своя, а разумная душа с ее средото­ чием — нусом — на всех одна. «Аверроэс и, как я полагаю, еще до него Фемистий,— пишет в связи с этим Помпонацци,— согласно считали, что разумная душа численно едина во всех людях, а смертная же множественна»1. Странное, на первый взгляд, представление об одной разумной душе на всех Аверроэс связывал с содержанием этой души — знанием субстанциальных форм вещей, которое объективно, а не субъективно по своей природе. Своеобразным посредником между этим активным умом или умом «самим по себе» и душами отдельных людей является другая разновидность ума. Эту разновидность Помпонацци именует «возможным умом», и она соответствует страдательному уму у Арист теля, связанному с многообразием чувственного опыта. В своих рассуждениях Помпонацци не вдается в тонкости взаимо­ отношений активного и возможного ума у Аверроэса, который считал единство («совокупление») указанных форм ума — высшим благом для человека. Главное для Помпонацци — индивидуальна или надын­ дивидуальна разумная душа у Аристотеля, смертна или бессмертна А если бессмертна, то в каком смысле. Интересно то, что Помпонацци не отрицает существования на­ дындивидуального разумной души и соответствующей разновидно­ сти деятельного или активного ума. Принципиальное отличие его позиции от Аверроэса, однако, в том, что такого рода разумная душа с присущим ей умом не имеет отношения клюдям, а является принад­ лежностью вечных неподвижных сущностей — интеллигенции, актуа­ лизирующихся как небесные тела. Надындивидуальная разумная душа у Помпонацци вполне сопо­ ставима не только с душами небесных светил у Аристотеля. Вполне правомерна параллель между ней и Мировой душой в трактовке плато­ низма и неоплатонизма. Иначе у аверроистов, у которых над- или сверхиндивидуальный характер разумной души не отдаляет, а сближает ее с человеческими индивидами, поскольку она может быть истолко­ вана как разум человеческого рода. И у Аристотеля мы находим пред­ посылки для такой трактовки. В работе «О возникновении животных» 1 С. 31. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 163 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма он пишет: «Одни существа — вечны и божественны» (таковы свети­ ла), «другие могут быть и не быть» и «природа существ этого рода не может быть вечной, а потому возникающее вечно лишь в том мере, в какой для него возможно»1. И далее: «Иными словами, возникающее не может быть вечным нумерически (в каждом индивиде), ибо сущ­ ность существующих вещей заключена в каждой вещи, и если бы ка­ ждая вещь была такова (как и сущность), то и она была бы вечной. Поэтому всегда существует род людей, животных, растений»2. Не будем доискиваться, чем же в конце концов были люди в уче­ нии Аристотеля — родом или видом живых существ. Важнее понять, как ум, будучи общим для всех людей, проявляется в каждом отдель­ ном индивиде. Здесь мы опять упираемся в вопрос о соотношении общего и единичного. Причем Средневековье, а затем Возрождение обнаруживают в нем новые аспекты, которых не знала античность. Точку зрения аверроистов часто характеризуют как «монопсихизм», что в переводе на русский язык буквально звучит как «единодушие». Более определенно «монопсихизмом» принято именовать позицию французского аверроистаХШ века Сигера Брабанского, который по­ лемизировал с самим Фомой Аквинским. Но «монопсихизм» можно понять в том духе, что у людей вообще нет множества индивидуаль­ ных душ, а есть одна единственная душа. Хотя для того же Сигера Бра­ банского, как и для аверроистов Возрождения, вопрос вопросов — как единство интеллекта проявляет себя на уровне каждой отдельно взятой души. Иначе говоря, как «монопсихизм» разумной души соот­ нести с «полипсихизмом» душ неразумных? Комментируя представление аверроистов о бессмертной надынди­ видуальной душе, Э. Ренан писал: «Человечество непрерывно живу щее — таков, по-видимому, смысл аверроистской теории единосущности разума»3. Но в том-то и дело, что эту историческую трактовку, как и другие трактовки учения Аристотеля о двух видах ума и разумной душе, можно давать только за пределами античности. Они стали не только возможными, но и обычными после того, как в лице гуманистов во все­ услышание заявила о себе человеческая индивидуальность. Уже античные греки пользовались словом «характер» (charakter), обозначая различия между людьми. Ведь человек может быть разго­ ворчивым и молчаливым, суетливым и медлительным, остроумным и 1 Цит. по: Зубов В.П. Аристотель. Человек. Наука. Судьба наследия. С. 192. Там же. С. 192-193. ' Ренан Э. Аверроэс и аверроизм. Киев, 1903. С. 85. 2 164 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии рассудительным. В этике Аристотеля уже присутствуют начатки ха­ рактерологии, развитые затем Теофрастом, у которого дано описание тридцати человеческих характеров. Но эти черты отходили у греков на второй план, когда речь шла о человеке как гражданине полиса. Именно гражданские добродетели — критерий для оценки индивида в античности. И совершенно невозможным посчитал бы для себя грек или рим­ лянин стремление культивировать в себе индивидуальные отличия, т. е. то, что различает, а не сближает людей между собой. А ведь именно с оригинальностью и стремлением к самовыражению связывают само стоятельную личность сегодня. Указанный сдвиг в представлениях о человеке и произошел в эпоху Возрождения, хотя его истоки просма­ триваются в христианском Средневековье. Именно в это время твор­ ческая энергия впервые направляется внутрь, т. е. на культивирова­ ние своих уникальных сил и способностей, а не на развитие граждан ских доблестей, как это было во времена античности. Известно, что один из родоначальников итальянского Возрожде­ ния Петрарка считал самым важным и увлекательным делом раз­ мышления о собственном Я. И это индивидуальное Я в качестве не­ повторимого внутреннего мира стало едва ли не главным открытием эпохи Возрождения. Отныне, отмечает исследователь этой культуры Л.М. Баткин, жизнь и смерть человека потрясают не повторяемостью, а уникальностью. «Всякое человеческое существование,— пишет он о новом мироощущении эпохи Возрождения,— не только единично и подобно другим существованиям, но — единственное. Каждый раз это целая неповторимая вселенная, вполне соразмерная той, общей для всех вселенной. Поэтому индивид огромен, как мир, и бессмер­ тен, как мир. Если он все-таки определенно умирает, это очень труд­ но и даже невозможно вместить и разгадать. В это трудно поверить»1. Аристотель не знает понятия человеческой индивидуальности. И по сути он исследует в человеке соотношение не общего и индивидуально­ го, а общего и отдельного, общего и единичного. У Аристотеля не тольк общий всем людям ум, но и душа отдельного индивида лишена индиви­ дуальных черт, которыми ее во многом наделяет христианство. Именно потому, что христианское Средневековье, но в большей степени Возрождение, признает отдельную душу в качестве не еди­ ничной, а особенной, начинает формироваться подход к человеку как 1 Баткин A.M. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. С. 24. 165 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма к личности. Личность есть особое единство моих действий и состоя­ ний. И на слове «моих» стоит сделать акцент. В конце концов автомат тоже действует единообразно. Животное обладает единством действи более сложным, чем автоматизм. И только человек рефлектирует свои действия, осознавая единство собственных действий и состоя­ ний в качестве некоего Я. Указанный аспект проблемы души выйдет на первый план в не­ мецкой классике. Внутренний мир индивида будут определять в каче­ стве «личного Я», «индивидуального духа», но не только потому, чт внимание философов будет перенесено на деятельность самосозна­ ния. Дело в том, что латинское «анима», как и греческое «псюхе», как правило, предполагает нечто завершенное и готовое. Потому, присту­ пив к исследованию индивидуальной души в развитии, классическая философия уточняет свою терминологию. Но вернемся к аристотеликам Возрождения, чтобы понять, как новые представления могут складываться в стремлении к аутентично­ му прочтению классики. Опираясь на аристотелевское понятие раз­ умной души, не только Фома Аквинский, но и аристотелики Возро­ ждения неизбежно трансформируют его исходную позицию. Но про­ исходит это парадоксальным образом, когда каждый из последователей Аристотеля правомерно обвиняет других в модернизации взглядов учителя. И при этом никто не достигает аутентичной трактовки. Хотя все находят существенный пункт в первоисточнике, который позволя­ ет им развивать свою собственную тему. И таким парадоксальным образом, надо сказать, происходит развитие не только философской мысли, но всей духовной культуры. Напомним, что особенность деятельного ума у Аристотеля в том, что он лишен черт индивидуального существования. Но как говорить о личном спасении применительно к безличной мыслительной способ­ ности? Заслуживает или не заслуживает безличное содержание души спасения? Применительно к Аристотелю эти вопросы бессмысленны. Бессмысленны еще и потому, что разумная часть души у Аристотеля не может обрести бессмертия. Не имея индивидуального существова­ ния, она остается вечной как и была ею. Опираясь на эту сторону в учении Аристотеля, аверроисты толку­ ют бессмертие разумной души соответственно. У Аверроэса разумная душа бессмертна, но это бессмертие особого рода, не сопоставимое с бессмертием личной души в томизме. Но как в таком случае соотне­ сти родовое начало — активный ум — с отдельной питающей и ощущ 166 I Е.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ющей душой? Как возможно их органичное единство в рамках ка­ ждой человеческой индивидуальности! Постановка этих вопросов правомерна уже для средних веков, и тем более для Возрождения. На острие споров у аристотеликов Воз­ рождения — природа индивидуального ума и души. И этот угол рассмо­ трения сформирован новыми условиями христианской эпохи. Они же обнажают объективное противоречие между аристотелевской трактовкой деятельного ума и теми поисками, которые в отношении разумной души ведут аристотелики последующих эпох. До сих пор речь шла о различии в решении проблемы души у Ари­ стотеля, Аверроэса, Фомы Аквинского и П. Помпонацци в самых об­ щих чертах. Теперь наступил момент для того, чтобы дать более раз­ вернутую характеристику различий между Фомой и Помпонацци от­ носительно индивидуальной души у человека и уточнить перспективы предложенных подходов. На первый взгляд, Фома Аквинский реализует идею энтелехии даже более последовательно, чем сам Аристотель. Ведь у него не только вегетативная и сенситивная, но и разумная душа человека является формой его тела. На этот момент в воззрениях Фомы указывает извест­ ный историк философии Ф.Ч. Коплстон. В своей книге об Аквинате Коплстон пишет: «Он не хочет признать, что душа — независимая, за­ вершенная в себе субстанция... а он говорит о душе, в терминологии Аристотеля, как о «форме» (аристотелевская entelecheia) тела»1. Но туг же Коплстон указывает и на отличие Фомы от Аристотеля. «С другой стороны,— читаем мы у Коплстона,— он утверждает, что душа не зави­ сит в своем существовании от тела и что она продолжает жить по смер­ ти тела. Велик соблазн сказать, что срединная позиция Аквината рав­ нозначна попытке соединить аристотелевскую психологию с требова­ ниями христианской теологии. Хотя в этом утверждении и содержится истина, все же оно нуждается в оговорке. Ведь, используя аристотелизм, Аквинат в то же время развивает его...»2 Итак, взгляды Аквината характеризуются Коплстоном в качестве некой «срединной позиции», суть которой в том, что душа человека есть форма тела, но такая форма, которая, будучи бестелесной, спо­ собна к существованию вне его. Уточним, что католик Коплстон — специалист не только в области томизма. И ему, как историку фило1 Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслите­ ля. С. 159. 2 Там же. 167 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма софии, конечно, известны аналоги подобных воззрений. К примеру, то, что писал в V веке н. э. ученик неоплатоника Плутарха Афинского по имени Гиерокл Александрийский. Тот, в частности, указывал: «Разумная сущность создана творцом связанной с телом, так что она не есть тело, но и не существует без тела. Она бестелесна, но вся ее форма находит завершение в теле»1. Получается, что мысль Фомы о разумной душе как форме челове­ ческого тела, которой его наделяет Всевышний, в общем-то не нова. Как не является новым утверждение о том, что эта форма сотворена Богом в качестве бестелесной формы. Но как раз в этом качестве она изначально устремлена к своему телу, с которым она и представляет собой некое единство. Новации Фомы Аквинского, таким образом, заключаются не здесь, а там, где разговор о бестелесной форме нашего тела затрагива­ ет тему личного спасения. В конечном счете вся эпопея XIII века с встраиванием учения Аристотеля в фундамент католической доктри­ ны была вызвана стремлением увязать это учение со средоточием христианства — верой в личное спасение. Все известные исследователи томизма акцентируют свое внима­ ние на том, что душа и тело человека у Аквината являются неполными субстанциями. И только вместе они образуют единство, именуемое субъектом. Известный исследователь томизма Э. Жильсон так харак­ теризует эту ситуацию: «Понятия души и тела несомненно означают реальности и даже субстанции, но не действительные субъекты, каж­ дый из которых обладал бы сам по себе всем необходимым для раз­ дельного существования. Палец, рука, нога — это, конечно, субстан­ ции; но тем не менее они существуют только как части целого, то есть человеческого тела. Так же и человеческая душа — субстанция, и тело — субстанция; но они не существуют ни как разные субстраты, ни как разные личности»2. Личность, а на латыни «persona», у Аквината есть результат соеди­ нения души и тела. Причем происходит это у Фомы не так, как это было в учении Аристотеля. В соответствии с христианским вероуче­ нием, души людей сотворяются Богом и соединяются с телом в мо­ мент рождения данного человека. Иначе у Аристотеля, где душа не творится кем-то, а возникает и присуща уже семени. Таким образом, 1 Цит. по: Историко-философский ежегодник '98. М., 2000. С. 61. Жильсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.; СПб., 1999. Т. 1.С. 245-246. 1 168 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии одушевление тела у Аристотеля связано с зачатием человека, а у Фомы — с его рождением. Для сравнения следует сказать, что культурно-историческая теория связывает одушевление человека с его прижизненным общением и социальным развитием. Но еще более сложный момент в томизме — ситуация разъедине­ ния души и тела. Ведь если смерть, освобождая душу от тела, лишает ее качеств личности, то каким образом душа несет персональную от­ ветственность в свете грядущего Страшного Суда? А если душа, отде­ лившись от тела, остается личностью, то отчего, опять же, такая бес­ телесная персона несет ответственность за прегрешения прежде всего со стороны тела? Как мы видим, проблема души как персоны напрямую связана с идеей личного спасения. Здесь вероучение не только провоцирует определенную постановку проблемы души и тела, но и склоняет в пользу тех или иных ее решений. Тем не менее, такие авторитеты, как Э. Жильсон и Ф.Ч. Коплстон, предлагают нам разные трактовки души после смерти тела в учении Фомы Аквинского. Так Э. Жильсон, неоднократно заявляет о том, что душа человека «принадлежит к разряду уже тех форм, которые не обладают доста­ точным совершенством для обособленного существования»1. И тут же находит в себе силы для диаметрально противоположного утвер­ ждения. «Если подойти к этой проблеме с фундаментальной точки зрения... — пишет он в том же разделе своей книги о Фоме Аквинском,— мы увидим, что esse души никоим образом не зависит от esse тела. Верно обратное: будучи субстанциальной формой, душа сама обладает полнотой существования, и этого существования довольно не только для нее, но и для тела, актом которого она является»2. Все эти резкие повороты в суждениях о полноте и неполноте, со­ вершенстве и несовершенстве души вне тела подчинены у Жильсона главному — обоснованию того, что с утратой тела душа не утрачивает свою индивидуацию. В частности, он опирается на «многозначитель­ ное примечание» у Фомы, в котором, в частности, сказано: «Однако бытие души не уничтожается с гибелью тела. Также и индивидуация души, хотя и связана некоторым образом с телом, тем не менее не уничтожается с гибелью тела»3. 1 Жильсон Э. Избранное: Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. Т. 1. С. 239. 1 Там же. С.245. ' Там же. С. 304. 169 J Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма «Индивидуация» и есть то, что позволяет характеризовать душу человека как индивидуальную душу, свойственную конкретной лично сти. А это значит, что душа человека, которая, согласно Жильсону, не может быть личностью до своего слияния с телом, после того, как она пребывала в единстве с телом, уже не может утратить качеств лично­ сти. И Жильсон находит для такой трактовки души подтверждения в работах самого Аквината. Иначе представляет нам решение этой проблемы Аквинатом Ко­ плстон, согласно которому душа человека в своем посмертном суще­ ствовании, отделяясь от тела, но оставаясь его формой, уже не может считаться полноценной личностью, да и личностью вообще. Коммен­ тируя это положение в учении Фомы, Коплстон отмечает: «Аквинат называет это состояние praeter naturam (вне-природным); и он прихо­ дит к выводу, что душа в условиях отделенности от тела не является в строгом смысле слова человеческой личностью»1. По мнению Коплстона, аристотелевская энтелехия не позволяет Фоме говорить о полноценном личном спасении в мире горнем, но зато выдвигает на первый план тему воскресения из мертвых. Так, Коплстон акцентирует внимание на следующем фрагменте из «Summa contra Gentiles»: «Противно природе души — существовать без тела, но ничто, противное природе, не может быть вечным. Значит, душа не будет без тела вечно. Поскольку же душа пребывает вечно, она опять должна быть соединена с телом, и именно это и подразумевает­ ся под восстанием (из мертвых). Таким образом, представляется, что бессмертие души требует будущего воскресения тел»2. Оставим для специалистов в области средневековой философии вопрос о том, кто прав — Жильсон или Коплстон — в толковании по­ смертного бытия души у Аквината. Отметим лишь то, что выделяет в своих комментариях к русскому переводу четырнадцатого вопроса из «Дискуссионных вопросов о душе Фомы Аквинского» К.В. Бандуровский: «Для Фомы же... важно бессмертие не отделенной души, а чело­ веческой личности в целом; важно, чтобы концепция неразрушимо­ сти души могла обосновать христианский постулат о воскрешении человека во плоти. Для этих целей аргументация, выработанная пла­ тониками, негодна, и Фома обращается к скрытому потенциалу ари1 Коплстон Ч.К. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслите­ ля. С. 168. 2 Там же. С. 169. 170 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии стотелевского учения о душе как форме (энтелехии) тела, которая по­ зволяет обосновать возможность воскрешения»1. К.В. Бандуровский по сути фиксирует здесь своеобразие христи­ анского идеализма, из осмысления которого и родилось понимание души у Фомы Аквинского. Напомним, что специфику античного иде­ ализма в трактовке души наиболее последовательно выразил как раз Аристотель в своем трактате «О душе», где разумная душа оказывает­ ся бестелесной субстанцией, имеющей чисто внешнее отношение к че ловеческому телу. Ведь ее ядро — способность ума познать всеобщее не имеет основы ни в вещах, ни в организмах. Но Фома Аквинский в свете вероучения о личном спасении и вос­ крешении из мертвых уже не может подобным образом игнорировать человеческое тело. Индивидуальная душа в христианстве не может быть столь безразличной к особенностям тела, как аристотелевский Нус. Именно поэтому Фома берется распространить аристотелевское представление об энтелехии на разумную душу. Но внутренней формой тела и способом жизнедеятельности организма энтелехия у Фомы быт не может. Душа не может быть в христианстве той внутренней формой, кото­ рая неотъемлема от тела, как неотделимы мелодия от песни, образ от скульптуры. Если у Аристотеля душа в качестве энтелехии прорастает из тела, то Фома представляет душу некой духовной формой, которая, нуждаясь в теле и будучи актом тела, способна, тем не менее, к авто­ номному существованию. Иначе говоря, Фома и здесь подправляет Аристотеля с его трактовкой энтелехии как способа существования питающей и ощущающей души. С одной стороны, Фома даже в раз­ умной душе видит энтелехию тела, а с другой — превращает аристоте­ левскую энтелехию из внутренней во внешнюю форму тела в духе нео платонизма. Таким образом и вправду достигается компромисс, но не только между аристотелизмом и христианством. Аристотелизм помогает ка­ толицизму достичь компромисса между душой и телом там, где пред полагается их принципиальное единство и одновременно — коренное различие. Христианская идея личного спасения основана именно на таком противоречивом отношении между душой и телом в рамках ин­ дивидуального образования — личности. И томизм — это одна из по­ пыток теоретически представить, как возможно противоречивое 1 Бандуровский К.В. Предисловие к переводу вопроса 14-го из «Дискуссионных во­ просов о душе* Фомы Аквинского// Историко-философский ежегодник '98. М., 2000. С. 94. 171 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма единство души и тела в их земном существовании на фоне последую­ щего автономного бытия души в существовании посмертном. Но надо сказать, что найденный Фомой компромисс оказался сугубо теорети­ ческим решением. Предложенная им трактовка души как индивидуаль­ ного акта тела, способного к бытию вне тела,— это чисто схоластиче­ ское решение проблемы, о чем и свидетельствуют серьезные расхо­ ждения у его современных комментаторов. Для нас, однако, важен не столько результат размышлений Фомы, сколько обоснование им своеобразия человеческой души. И здесь, в вопросе о своеобразии души, заключено начало и исток, из которого по сути рождаются три разных трактовки человеческой души — ан­ тичное у Аристотеля, христианское у самого Аквината и, наконец, ренессансное у Помпонацци. Дело в том, что Фома, подобно Аристотелю, в своей характери­ стике разумной души делает акцент на универсальности разума (ин­ теллекта), из чего и следует у Фомы его бестелесная, нематериальная суть. В «Дискуссионных вопросах о душе. Вопрос четырнадцатый» он, в частности пишет: «Познание же, как доказывает Философ в тре­ тьей книге «О душе», не есть действие, исполняемое телесным орга­ ном,— ведь невозможно обнаружить некий телесный орган, который был бы восприимчив ко всем чувственно воспринимаемым приро­ дам; прежде всего потому, что воспринимающему надлежит быть ли­ шенным воспринимаемой природы, как, например, зрачок лишен цвета. Всякий же телесный орган обладает некоторой чувственно вос­ принимаемой природой. Интеллект же, посредством которого мы по­ знаем, постигает все чувственно воспринимаемые природы; поэтому невозможно, чтобы его действие, которое есть познание, исполня­ лось каким-либо телесным органом. Из этого становится ясно, что интеллект сам по себе обладает действием, в котором тело не прини­ мает участия»1. В этой аргументации — ядро томистского обоснования нематери­ альности разумной души, а значит и души человека в целом. И суть этой логики в том, что интеллект способен мыслить обо всем на свете, а значит не может принадлежать ни одному из органов, который бы ограничивал его возможности. Универсальные действия несопостави­ мы с конечностью телесных органов. Следовательно, интеллектуаль1 Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос четырнадцатый / / Историко-философский ежегодник '98. М., 2000. С. 99. 172 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ные действия, на которые способна душа человека, коренятся в нем самом, и разумная душа нематериальна. Фома здесь действительно еще не отступает от позиции Аристоте­ ля. Вспомним, чем была рождена аристотелевская мысль о нематери­ альной деятельности разума. «Душа, необходимо должна быть либо... предметами, либо их формами,— пишет Аристотель в трактате «О душе»,— однако самими предметами она быть не может: ведь в душе находится не камень, а форма его. Таким образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так и ум — форма форм, ощущение же — форма ощущаемого»1. Будучи «формой форм», ум у Аристотеля действительно не содержит в себе ничего телесного, а потому он — не­ материальная деятельность, воссоздающая формы, которые недоступ­ ны телу, органам чувств, то есть непостижимы при помощи опыта. Фома Аквинский един с Аристотелем в том, что ум способен по­ стигать общее, что на языке Средневековья называлось действием «с универсалиями». Об этом мы читаем в тех же «Дискуссионных вопро­ сах о душе», где Фома отмечает, что такого рода действия означают «бытие, возвышающееся над телом»2. Что касается нововведений Фомы Аквинского в этом вопросе, то они опять же связаны с разницей между прижизненным и посмертным бытием души — темой, чуждой Стагириту. Так, согласно Фоме, душа человека вся, без каких-либо исключений, разумна и, следовательно, бестелесна. А это значит, что не только интеллект, но и питающая (вегетативная), и ощущающая (сенситивная) способности души про­ должают существовать после смерти тела. «...Следует сказать,— отме­ чает Аквинат в «Дискуссионных вопросах»,— что чувствующая душа у животных разрушима; но у человека, поскольку она есть в одной и той же субстанции с разумной душой,— неразрушима»3. Иначе гово­ ря, если у животного его ощущающая способность в качестве энтеле­ хии телесна, то у человека под влиянием разума ощущающая способ­ ность уже оказывается энтелехией бестелесной и потому, наравне с другими способностями души человека, способна к автономному су­ ществованию в вечности. Тем не менее, в мире горнем актуально действуют лишь высшие способности души интеллектуального порядка. Что касается чувст1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 440. Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос четырнадцатый / / Историко-философский ежегодник '98. С. 100. 3 Там же. С. 101. 2 173 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма венных способностей, то они актуализируются лишь при воссоедине­ нии души с телом. Так мы подходим к важному пункту в воззрениях Фомы, согласно которому душа человека по природе своей бессмерт­ на и бестелесна, а смертна и телесна лишь в определенном отноше­ нии, а именно тогда, когда она использует органы тела для чувствен­ ного познания. Такое познание, доказывает Фома, возможно только посредством тела, в отличие от познания разумом, которое в теле не нуждается. Именно здесь имеет смысл сопоставить точку зрения Фомы с по­ зицией Помпонацци, осмелившегося в эпоху Ренессанса отстаивать противоположный тезис, суть которого в том, что душа человека по природе своей смертна, и только в определенном отношении бес­ смертна. Но еще важнее то, что за такой постановкой вопроса по сути скрывается иной подход к проблеме разумной души, отличный и от того, который провозгласил Аристотель, и оттого, который отстаивал Аквинат. П. Помпонацци говорит о существовании смертной, а не бессмерт­ ной души человека. И, разворачивая свою аргументацию, он исходит из того же пункта, из которого, вслед за Аристотелем, исходил Фома Аквинский, т. е. из универсальности человеческого интеллекта. Это ис­ ходная «клеточка» разума — способность воспринимать и воссоздавать бесконечное число материальных форм. Но в объяснении этой способ­ ности разума Помпонацци делает ставку не на деятельный, а на стра­ дательный ум в учении Аристотеля. А в результате перед нами вырисо­ вывается принципиально иное понимание разумной души. Способность разума осваивать и воссоздавать любые природные формы — это аксиома для Помпонацци. При этом в своем трактате он как будто повторяет мысль Аквината о том, что «разум нематериален, поскольку он воспринимает все материальные формы», и тут же уточ­ няет, что любое восприятие пассивно, а потому «разум окажется дви­ жим телесной материей и, таким образом, будет нуждаться в теле как в объекте»1. Множество раз и на разные лады Помпонацци в «Трактате о бес­ смертии души» воспроизводит одни и те же аргументы. Их суть в том, что разум можно было бы признать сугубо нематериальным, а разум­ ную душу бессмертной, если бы разум не нуждался в теле ни в качест­ ве субъекта, ни в качестве объекта. Но «...так как материальность про1 С 40. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 174 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии тивоположна нематериальности,— читаем мы у Помпонацци,— для (доказательства) материальности достаточно нуждаться в теле либо как в субъекте, либо как в объекте»1. При этом Помпонацци соглаша­ ется с Аристотелем, когда тот говорит в трактате «О душе», что разум не нуждается в теле как в своем субъекте. Однако в качестве страда­ тельной способности, подчеркивает он, разум связан с представления­ ми, а потому нуждается в теле как в объекте. Неоднократно Помпонацци воспроизводит слова Аристотеля из текста 12 книги 1 трактата «О душе», суть которых в том, что если мышление есть деятельность представления и не может происходить без представления, то и мышление не может быть без тела2. И только в одном месте он признается в том, что Аристотель здесь говорит «не безусловно», т. е. им высказано лишь предположение, наряду с други­ ми предположениями противоположного свойства3. Как мы видим, характеризуя ум человека, Помпонацци смещает акценты в трактате Аристотеля «О душе». Помпонацци признает уни­ версальность ума. Но по его утверждению, ум воссоздает многообра­ зие природных форм не в акте творчества, как деятельный ум в уче­ нии Аристотеля, а в процессе общения с внешним миром, как страда тельный ум у того же Аристотеля. Тем самым человеческий ум в трактовке Помпонацци оказывается прежде всего страдательной и в этом смысле материальной способностью, а активный ум он относит, как мы уже знаем, к способностям не человека, а высших сущностей, движущих небесные тела. А из этого следует, что человеческий ум по большому счету смертен. «Ибо он погибает, когда нечто гибнет внутри него,— заключает Пом­ понацци,— потому что он соединен с материей, отчего он и гибнет при гибели чувствительной способности. Стало быть, он по сущности сво­ ей тленен, а не тленен лишь в некотором отношении...»4. Ум человека у Помпонацци — субъект, но его своеобразие состоит в неразрывной связи с телом как объектом. А потому он и погибает вместе с телом. Оба — и Фома, и Помпонацци — признают главенство разума в душе человека. Но признав разум субъектом, они в итоге по-разному толкуют его действия и способности. И как раз из этого следуют их 1 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». С. 41. 2 3 4 См. там же. С. 33, 41, 61, 73 и др. Там же. С. 33. Там же. С. 55. 175 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма противоположные выводы о его перспективах. У Фомы активность и универсальность действий разума — достаточное основание, чтобы признать его бессмертным. У Помпонацци страдательный характер действий этого субъекта — достаточное основание, чтобы, наоборот, признать его смертным. Так, смещая акценты в трактовке ума у Ари­ стотеля, Помпонацци становится антиподом Аквината. Уточняя свое понимание человеческого разума, Помпонацци го­ ворит о том, что страдательный разум не отвлечен полностью от мате­ рии и полностью не погружен в нее. В этом смысле разум у человека, считает он, есть нечто среднее между познавательной способностью неподвижной интеллигенции, с одной стороны, и животного — с дру­ гой. В случае неподвижной интеллигенции познавательная способ­ ность не зависит от тела как субъекта и как объекта. Во втором случае эта способность полностью зависит от тела. И в случае человеческого разума мы имеем дело с чем-то средним, когда зависимость от тела как объекта сочетается с независимостью от него как от субъект Повторяя по многу раз одни и те же аргументы, Помпонацци, тем не менее, очень непоследователен. Но он интересен, подобно самому Аристотелю, как раз своей непоследовательностью и двойственно стью. И именно там, где он двойственен, начинают прорисовываться контуры наиболее оригинального для эпохи Возрождения понима­ ния человеческой души. Имеет смысл напомнить, что для Помпонацци наиболее ценно в аристотелевских воззрениях на душу взгляд на нее как на энтелехию или акт тела. Но, рассуждая об энтелехии применительно к разумной душе, Помпонации вынужден раздваиваться и все время уточнять, что со стороны объекта она — акт тела, а со стороны субъекта — нет. И эти метания между взглядом на проблему «с одной стороны» и «с другой стороны» достигают своей кульминации в X главе трактата, где Помпонацци заявляет, что субъектом мышления является сам раз­ ум, но орудие разума — все тело человека. «Но поскольку человече­ ский разум находится в материи как бы в некотором ее сопровожде­ нии,— пишет Помпонацци,— то и само мышление некоторым обра­ зом находится в материи, но достаточно акцидентально, посколько разуму в качестве разума случается быть в материи, однако же мыш­ ление не может быть помещено в какой-либо части тела, но лишь во всем теле, взятом в целом»1. 1 С. 79. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 176 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Речь здесь по сути идет об органе мышления, которого, в соответ­ ствии с Аристотелем и Аквинатом, у этой деятельности быть не мо­ жет. Но у Помпонацци ситуация выглядит иначе. Его аргументация строится на том, что животные при посредстве органов чувств пости­ гают единичное, неподвижные интеллигенции без каких-либо орга­ нов постигают всеобщее непосредственно всеобщим образом, а чело­ век в этом смысле опять же находится посредине, постигая всеобщее в единичном и через единичное. И такого рода познание возможно лишь там, считает Помпонацци, где общаются с миром всесторонним спосо­ бом, а не одной частью тела или одним органом. Иначе говоря, уни­ версальность мышления Помпонацци объясняет универсальностью действий человека во всей полноте его телесной организации. И толь человек, по его мнению, пользуется всем своим телом в качестве орга­ на мышления. Итак, универсальные возможности разума у Аристотеля и Фомы Аквинского стали поводом для того, чтобы настаивать на его бесте­ лесности. Совсем иначе поступает Помпонацци, у которого унив­ ерсальность разума достигается не ограничением, г. расширением уча­ стия тела в познании. И в этом новизна хода его мысли, органично связанная с культурно-историческим своеобразием Возрождения. Здесь следует, однако, еще раз уточнить, что по своей форме «Трак­ тат о бессмертии души» очень схоластичен. Там, где Помпонацци в десятой главе пишет о разуме как субъекте мышления и теле человека как его орудии, его рассуждения достойны образцов Средневековья. Влияние схоластики с ее бесконечными дистинкциями вообще очень ощутимо в работах Помпонацци. И на это отличие Помпонацци от Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла и других гуманистов указыва­ ют многие исследователи его творчества. Схоластическая форма, безусловно, сковывает мысль Помпонац­ ци, не позволяя адекватно выразить новые представления о человече­ ской душе. В соответствии со своей схоластической манерой изложе­ ния, Помпонацци заключает, что разум находится в самой материи, и тут же уточняет, что он находится как бы в сопровождении материи. Он заключает, что разумная душа умирает вместе с телом, но тут же отмечает, что в некотором отношении она остается бессмертной. Но во многом указанная двойственность проистекает из того, что, переходя на позиции материализма, Помпонацци не может отказать душе че­ ловека в том своеобразии, которое отметили уже представители ан­ тичной классики и которое в наши дни именуют «идеальностью». 177 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма В предыдущих главах речь шла о целевой детерминации человече­ ской души, ее обусловленности не частным, а общим, не столько по­ требностью, сколько идеалом. И вполне естественно, что первая по­ пытка объяснить это своеобразие души человека породила идеализм Платона. А его своеобразной альтернативой можно считать естест­ венно-научное понимание души, впервые заявленное в трактате «О душе» Аристотеля. Именно из идеальности человеческой души так, как она представ­ лена в познавательном процессе, проистекает главное противоречие аристотелевского трактата «О душе» — между материальными спо­ собностями питающей и ощущающей души и нематериальностью способностей души разумной. Что касается Помпонацци, то он также не может представить разумную душу производной от сугубо матери­ альных процессов, происходящих в отдельно взятом теле, а точнее — организме. Но, в отличие от Аристотеля, он не делает из этого вывода о бестелесности разумной души. У Помпонацци мы наблюдаем дви­ жение к иному решению этой проблемы, чем он особенно интересен. Напомним, что в трактате «О душе» Аристотель дополняет в чело­ веке органические способности к питанию и ощущению идеальной способностью постигать всеобщее. И материальное с идеальным в та­ кой трактовке по большому счету соседствуют. Иначе говоря, то, что является энтелехией отдельного тела, у Аристотеля как бы дополняет­ ся тем, что энтелехией такого тела не является. По-другому выглядит это соотношение у Помпонацци, у которого разумная душа, пред­ ставленная не деятельным, а страдательным умом, также сродни энте­ лехии тела. Вслед за Фомой Аквинским, как уже говорилось, Помпо­ нацци распространяет аристотелевскую идею энтелехии на разумную душу человека. Но последствия этого преобразования, как и в толко­ вании разума в качестве субъекта души, у Фомы и Помпонацци раз­ личны. Если у Аквината идеальность души, безусловно, означает ее бестелесность, то у Помпонацци в свете гуманистических идей Воз­ рождения идеальность души уже не отрицает, а, наоборот, предпола­ гает ее телесность. Но подобный взгляд возможен лишь в том случае, когда идеаль­ ное уже не воспринимается в качестве антипода материального. Здесь перед нами по сути отказ от средневековых представлений о духе как антагонисте материи. Новизна толкования разумной души у Помпо­ нацци в том, что она производна от тела, происходит из способа его с ществования. И такая органическая связь духа с материей будет затем 178 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии обосновываться Д.Бруно. Преемственность между Помпонацци и Бруно, который родился уже после смерти «Перетто Мантуанца», ко­ нечно, не в манере письма, но в сути воззрений на природу души и духа. Недаром в XVIII веке их имена будут сведены вместе в аноним­ ном трактате «Джордано Бруно возрожденный, или Трактат о народ­ ных заблуждениях. Критическое, историческое и философское сочи­ нение в подражание Помпонацци». Важно и то, что у Д. Бруно мы находим еще одну интерпретацию аристотелевского понимания души, которая сказалась на развитии классической философии. Начнем с того, что Бруно отвергает и аристотелевское понятие первоматерии как чего-то абсолютно бесформенного, и аристотелев­ ское понятие формы как чего-то внешнего материи. «Нельзя и выду­ мать,— заявляет он,— ничего ничтожней, чем эта первая материя Аристотеля»1. А в работе «О причине, начале и едином» мы читаем, что «материя не является каким-то почти ничем, т. е. чистой возмож­ ностью, голой, без действительности, без силы и совершенства»2. Материя, согласно Бруно, возможна лишь в ее единстве с фор­ мой. И как раз внутреннюю способность материи к образованию форм Бруно называет Душой мира. Подобно неоплатоникам, он иногда именует ее также Мировой душой. Но при этом у Бруно это понятие не заключает в себе ничего спиритуального. С другой сторо­ ны, взглядам Бруно часто приписывают так называемый гилозоизм, имея в виду то, что в его учении вся материя одушевлена. Но в том-то и дело, что у Бруно материя одушевлена не более того, как одушевлен растительный или животный организм. Ведь своеобразная «душа» за­ ключена, например, в семени растения, и именно она выгоняет из него стебель, ветви, листья, цветы, плоды. Таким образом, душой у Бруно оказывается как раз то, что схола­ сты, вслед за Аристотелем, называли субстанциальной формой, кото­ рая имела рациональный смысл, утраченный позже механистической философией Нового времени. Душа в учении Бруно — это форма, но не та, которая на материи, а та, которая организует материю изнутри. Согласно его учению, «формы происходят и освобождаются из глуби­ ны материи...»3. Таким образом, Бруно по сути расширяет представление Аристо­ теля о душе как энтелехии. Но делает это совсем не так, как Фома 1 2 3 Цит. по: Горфункелъ А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. С. 271. БруноД. Избранное. Самара, 2000. С. 292. Там же. С. 294. 179 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Аквинский, который спроецировал представление об энтелехии на разумную душу человека и получил еще один аргумент в пользу до­ ктрины воскрешения из мертвых. Бруно проецирует аристотелевское представление о душе как энтелехии на мир в целом. И в результате природный мир у Бруно оказывается чем-то вроде безмерного тела, которое обладает душой, восходящей до мыслящего духа. Мировая душа в учении Бруно находится не вне мира, а внутри него — в качестве его внутренней формы. Но это не значит, что мышление в учении Бруно в качестве неотъемлемого свойства или атрибут мира представлено ве­ зде и всюду. Так в каких же случаях эта внутренняя способность мате­ рии предстает в виде мыслящего духа? Отвечая на этот вопрос, Бруно различает два способа образования форм: в человеческой деятельности, которую он именует «искусством», и в природе. Он пишет: «Искусство производит формы из материи или путем уменьшения, как в том случае, когда из камня делают статую, или же путем прибавления, как в том случае, когда, присоединяя ка­ мень к камню и дерево к земле, строят дом. Природа же делает все из материи путем выделения, рождения, истечения, как полагали пифа­ горейцы, поняли Анаксагор и Демокрит, подтвердили мудрецы Вави­ лона. К ним присоединился также и Моисей, который, описывая по­ рождение вещей, по воле всеобщей действующей причины пользуется следующим способом выражения: да произведет земля своих животных, да произведут воды живые души, как бы говоря: производит их материя» '. Но как мыслящий дух производится «всей материей»? Здесь мы подходим к тому же вопросу, но как бы с другой стороны. Как душа мира доходит до состояния мыслящего духа, или как мысля­ щий дух производится всей материей — суть у этих вопросов одна и та же. Она в том, как именно из всеобщего (материи) рождается особенное (мыслящее тело). По большому счету Бруно ответа на этот вопрос не дает. Но оригинальность его позиции в том, что он не видит в духе чего-то противостоящего материи. Христианские представления о духе и материи, какими их застал Бруно, были основаны на противопостав­ лении одного другому в качестве антиподов. При этом вечный дух в лице Бога творит материю как свою противоположность. Великий Ноланец доказывает обратное. В противовес католиче­ ской доктрине, он говорит о духе как о производном материи. Причем дух у Бруно произволен от материи не как отделимый от нее продукт, БруноД. Избранное. С. 295. 180 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии a как неотделимая от нее субстанциальная форма. Эта форма, говоря современным философским языком, раскрывает себя в способе суще­ ствования одного из порождений материи — человека. И такой поста­ новкой вопроса Бруно предваряет диалектические идеи XVIII и даже XIX века. Человек считает Бруно, есть та часть мировой материи, в которой она мыслит. Но это не значит, что мыслит всякая часть материи. Если вся материя представлена в возможностях человека, то посредством че­ ловека она действительно вся мыслит. Человек есть в этом смысле, как утверждал уже Николай Кузанский, микрокосм, который стягивает в себе весь бесконечный макрокосм. «...Все вещества,— пишет Бруно,— в своем роде испытывают все превращения господства и рабства, сча­ стья и несчастья, того состояния, которое называется жизнью и кото­ рое называется смертью, светом и мраком, добром и злом»1. Понятно, что всякое вещество может стать мыслящим, если оно окажется организованным соответствующим образом. Тело человека, считал Бруно, организовано именно в качестве мыслящего тела. Большую роль в этой организации, по его мнению, играет человече­ ская рука. Здесь Бруно отдает должное мысли Аристотеля о руке как «орудии орудий», но придает ей новое звучание. У Аристотеля, на­ помним, это был, скорее, художественный образ, позволявший оце­ нить возможности ума как «формы форм». Бруно, обращаясь к этой идее, уже имеет в виду особую роль руки в жизни людей, без чего чело­ век не может быть человеком. И как только такая телесная организа­ ция прекращает свое существование, считает он, вещество, из кото­ рого состояло тело человека, перестает быть «мыслящим». Итак, в учениях Фомы Аквинского, Помпонацци и Бруно пред­ ставлены разные толкования аристотелевского учения о душе. При этом Бруно и Помпонацци, в отличие от Фомы, движутся в направле­ нии философского материализма. Их сближает стремление вывести дух и душу из устройства природы и тела человека, которая получит свое развитие у диалектиков XIX века. Но вернемся к анализу аргу­ ментов Помпонацци. Уже в первой главе «Трактата о бессмертии души» Помпонацци делает предположение о человеке как существе, обладающем двумя природами одновременно, материальной и нематериальной. И тут же он высказывает сугубо возрожденческую мысль о человеке как о том, 1 БруноД. Избранное. С. 175. 181 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма кто «властен принимать ту или иную, какую пожелает, природу»1. А результатом такого положения дел, согласно Помпонацци, являют­ ся три разновидности людей. Одни люди, пишет он, «подчинив ра­ стительную и чувственную способности, почти стали разумными су­ ществами. Другие, совершенно пренебрегши разумом и устремив­ шись к одним лишь растительным и чувственным (частям души), превратились почти что в скотов; вероятно, именно это имеет в виду Пифагорова притча, гласящая, что души людей переселяются в тела различных животных. Иные же, напротив, именуются просто людь­ ми — это те, кто избрал средний путь жизни, согласно нравственным добродетелям: они не полностью предались разуму и не совершенно удалились от телесных наклонностей»2. Указанное место в трактате «О бессмертии» получает новую окра­ ску, если сопоставить его с еще одним местом уже в четырнадцатой главе, где Помпонацци присоединяется к тому, что, вслед за Гермесом Триждывеличайшим, говорил Пико делла Мирандола об универсаль­ ной природе человеческого существа в целом. «Ведь говорят некото­ рые,— подчеркивает Помпонацци,— что великое чудо есть человек, поскольку он является всем миром и способен обратиться в любую природу, так как дана ему власть следовать любому, какому пожелает, свойству вещей»3. Хотя и в первом приближении здесь выражена та мысль о челове­ ке, способном творить по меркам любого вида, которая затем через немецкую классику войдет в марксизм. Здесь достаточно вспомнить слова К. Маркса из «Экономическо-философских рукописей» насчет того, что «животное производит только самого себя, тогда как чело­ век воспроизводит всю природу»4. И далее: «Животное строит только сообразно мерке и потребностям того вида, к которому оно принад­ лежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек строит также и по законам красоты»5. Как мы видим, мысль об универсализме человеческого ума у Помпонацци трансформируется в представление об универсализме действий человеческого тела. И это скажется на дальнейшем ходе фи1 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». С. 29. 2 Там же. С. 29-30. ' Там же. С. 118. 4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 92. 5 Там же. С. 94. 182 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии лософской классики и ляжет в основу понятия предметно-практи­ ческой деятельности как сути отношения человека к миру Помпонацци, конечно, мыслит не так радикально. И тем не менее, указан­ ный момент серьезным образом меняет и его понимание разумной души, и его понимание природы человека. 3. Парадокс Помпонацци: смертная душа в присутствии Создателя Главный парадокс позиции Помпонацци, как уже говорилось, со­ стоит в том, что Бог творит только смертные души, не делая исключе­ ния для человека. Естественно, что такое крамольное для христиани­ на допущение возможно на фундаменте иного понимания природы человека, отличного от оснований католицизма. Причем в основе этого понимания мы обнаруживаем ту же своеобразную двойствен­ ность, что и в вопросе о материальности и нематериальности разум­ ной души. Причем первое внутренне связано со вторым. Вот как Помпонацци пишет об особом «материально-немате­ риальном» статусе человеческой души: «Поэтому в сравнении с нема­ териальным сущностями душа может считаться материальной, а в сравнении с материальными — нематериальной. И она не только дос­ тойна такого наименования, но и причастна свойствам крайностей: ведь по сравнению с белым зеленое не только именуется черным, но и воспринимается глазом как черное, хотя и не в такой сильной мере»1. Итак, душа человека, согласно Помпонацци, безусловно, телесна. Но такую телесную душу он не может однозначно причислить к мате­ риальным явлениям окружающего мира. На материальности разум­ ной души он настаивает в свете ее неразрывной связи с телом. Но суть в том, что, будучи связана с телом, разумная душа по характеру своих действий явно выходит за его пределы. Как раз это своеобразие телес­ ной жизни человека привносит в душу момент нематериальности. И то же самое касается бессмертия. Душа, согласно Помпонацци, од­ нозначно, телесна, но она связана с такого рода телесным бытием, которое придает ей явный налет нематериальности и бессмертия. В трактате «О душе» Аристотель специально оговаривал тот факт, что способ действия растительной и питающей души представлен уже в строении действующего органа. Например, для питания у животно1 С. 118. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 183 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма го приспособлен рот, a у растения — корни и листья. Что касается действий разума при помощи тела, то они у Помпонацци не могут быть зафиксированы в строении отдельного органа или же всего тела. Разум тем и отличается от других способностей человека, что действу­ ет не одним присущим этому телу образом. Наоборот, его универсаль­ ность обусловлена этим постоянным преодолением своей телесной ог­ раниченности. Иначе говоря, тело человека — это единственноетело в универсуме, которое стремится воспроизводить в своих действиях при роду других тел. Здесь важно отметить, что стремление обрести универсальность, не покидая пределов тела, Помпонацци расценивает не как достоин­ ство, а как недостаток человеческого разума, в сравнении с духовны­ ми сущностями, мыслящими универсально без всякого тела. Иначе говоря, своеобразие человеческого ума, разумной души и природы человека в целом оказывается у Помпонацци неким компромиссом, связанным со срединным, а отнюдь не высшим положением человека на лестнице разумных существ. Во многих местах своего трактата Помпонацци высказывает со­ жаление по поводу несовершенства человека, в сравнении с высшими духовными сущностями, в результате чего нашей душе присуща лишь некая доля нематериальности. «Но, поскольку она есть благородней­ шая из материальных сущностей,— пишет он о душе человека,— и находится на грани нематериальных вещей, ей присущ некий при­ вкус нематериальности, но не по ее природе»1. Это «привкус нематериальности» и, добавим, бессмертия в мате­ риальной душе, конечно, является наиболее интересным пунктом учения Помпонацци. В данном учении отсутствует принцип развития, впрочем, как и весь категориальный аппарат для адекватного анализа диалектики материального и идеального в человеке. И тем не менее, Помпонацци делает важный шаг на пути к философской позиции, в рамках которой как раз и сложилось культурно-историческое объясне ние человеческой души. И такая подвижка связана с новым пониманием способа действия человека. Ведь именно потому, что в своих действиях человек преодолевает положенную устройством тела границу, его душа из материальной функции превращается в нечто, подобное деятельнос ти, и из сугубо материальной становится душой идеальной. 1 С. 67. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 184 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Подобный мотив можно встретить и в трактате Аристотеля «О душе», но только там, где он говорит о соотношении материально­ го и идеального в растительной душе. Именно в растительной душе, согласно Аристотелю, сочетание идеального и материального начал оборачивается особым взаимоотношением, когда одно подчиняет себе другое. Парадоксальным образом эта новация Аристотеля в ха­ рактеристике растительной души дает свои всходы в анализе разум­ ной души у Помпонацци, где материальное уже не столько подчиня­ ется, сколько переходит в идеальное. Но еще раз подчеркнем, что адекватная терминология и развитый понятийный аппарат, необходимый для анализа проблемы идеально­ го, в учении Помпонацци отсутствует. Помпонацци — не Шеллинг, и живет он не в XIX-м, а в XVI веке. Здесь нет и намека на диалектиче­ ское различение материальной и идеальной деятельности, в котором совершенствовалась немецкая классика, начиная с «Системы транс­ цендентального идеализма». Тем не менее, диалектический переход материального в идеальное — в анализе Помпонацци нематериально­ сти и бессмертия души в некотором отношении — здесь уже представ­ лен. Учение Помпонацци интересно еще и тем, что указанные возро­ жденческие акценты заставляют его противоречить самому себе и по сути отказываться от исходных идей, заимствованных у Стагирита. Ранее речь шла о подобных коллизиях у Фомы Аквинского, который сделал ставку на аристотелевское понятие деятельного ума. Однако христианская вера в личное спасение заставила его придать Нусу Аристотеля несвойственную античности трактовку. То же происходит и с Помпонацци, который кладет в основу сво­ его понимания разумной души страдательный ум у Аристотеля. Глав­ ные аргументы Помпонацци в пользу телесности и смертности души, если судить по его «Трактату о бессмертии души», связаны именно со страдательным характером нашего ума, который неотделим от чувст­ венного восприятия. Но рассуждения Помпонацци об универсально­ сти действий человека по сути меняют его представления о разуме. В контексте этих идей и рассуждений разум уже не может быть за­ мкнут на пассивное восприятие. Наоборот, он оказывается активной способностью человека, неотделимой от полноценного и всесторон­ него существования индивида. Таким образом, возрожденческая мысль о человеке как универсальном существе, в противоположность универсальности одного лишь ума, трансформирует исходные пред- 185 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма ставления Помпонацци. Так он по сути преобразует страдательный ум Аристотеля в новую разновидность активного ума, неизвестную антич ности. Исподволь в учении Помпонацци место разума как страда­ тельной способности занимает разум в форме разумных универсальных действий человеческого тела. Но тем самым наполняется новым смыслом и представление о смертной душе человека. В ней появляется момент бессмертия и на­ лет идеальности, неизвестные животным. Этот новый взгляд на душу человека связан у Помпонацци, и это стоит оговорить особо, не с пас­ сивностью, а именно с активностью человеческого разума, выражен­ ной в форме телесных действий. И такого рода активность ума была неизвестна Аристотелю, а потому есть результат неявной, но сущест­ венной ревизии его учения. Указанный поворот в воззрениях Помпонацци можно считать су­ щественным шагом в направлении деятельностного подхода к реше­ нию проблемы идеального и, соответственно, природы человека. Но между широко понятым «деятельностиым подходом» и куль­ турно-исторической точкой зрения на сущность человека есть важное различие. Первое является только предпосылкой второго, поскольку культурно-исторический подход к человеку — это признание того, что его универсальность формируется не где-то в глубинах действий отдельного индивида, но во вполне предметном пространстве его сов­ местной деятельности с другими людьми1. А из этого следует, что субстанциальным истоком своеобразия че­ ловека и его разумной души является не некая абстрактная субъек­ тивная деятельность, а те ее вполне конкретные объективные формы, которые рождаются в культурно-историческом деятельном общен людей и являются не только результатом такого общения, но и его не­ обходимой предпосылкой. Таким образом, культурно-историческая методология предполагает не только объективное содержание, но и объективные формы, в которых осуществляется универсальная дея­ тельность людей. Итак, универсальность универсальности рознь. И человек — от­ нюдь не мифический Протей, способный воплощаться в любую сущ­ ность и оборачиваться любой природой. В бесчисленных американ1 В России (и бывшем СССР) такая методология была представлена в философии Э.В. Ильенкова, психологической теории Л.С. Выготского, работах K.P. Мегрелидзе, иссле­ дованиях психологов А.Н. Леонтьева, ПЛ. Гальперина, В.В. Давыдова, а также в педагоги­ ческой теории и практике А.И.Мещерякова. 186 j Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ских фильмах о внеземных пришельцах, которые способны внедрять­ ся в земные тела, есть свои штампы. Их суть наиболее отчетливо выражена в фильме режиссера Д. Карпентера «Нечто». Найденное в арктических льдах внеземное «нечто» обладает особой пластично­ стью, границы которой, однако, определены жизнью. «Нечто» спо­ собно воплощаться только в живые организмы. И это понятно. Если бы «нечто» воплощалось во все подряд, то рассказанная история ли­ шилась бы сюжета. «Телом» этого внеземного пришельца должна была молниеносно стать вся Земля и по сути все мироздание. «Философия» такого рода фантазий интересна именно тем, что здесь по-своему решается вопрос о пределах и формах пластичности живого существа. Ведь абсолютно пластичное живое тело — это тоже нонсенс. Если оно способно становиться любым живым существом, то как тогда понять, где в плененном существе свое и где чужое? Именно поэтому во всех указанных кинофантазиях, включая «Не­ что», одна органическая форма воплощается в другие, имея при этом свой собственный облик в виде отвратительной помеси осьминога с пауком, снабженного не менее ужасными и отвратительными зубами. Такая картина, конечно, впечатляет, но философски искушенно­ му человеку ничего не объясняет. Ведь абсолютно пластичная органи­ ка не может иметь своей собственной определенной формы. Самый распространенный на Земле способ внедрения живого в живое пред­ ставлен пресловутыми бактериями и микробами. Но микроб, в отли­ чие от «нечто», внедряясь в живое тело, не трансформирует его внеш­ него вида. А если бы он мог это сделать, то, скорее всего, навязал свой внешний вид, а не уподобился чужому. В указанном выше кинематографическом штампе нет логики, но есть предыстория. Ведь, в конце концов, и сын бога Посейдона Про­ тей, обладая способностью воплощаться в любое животное существо, а также в природные стихии, т. е. в огонь, лед и пламень, согласно ан­ тичным мифам, имел и свой собственный облик сонливого старичка. И тому, кто добирался до этого подлинного облика Протея, он преду­ гадывал будущее и раскрывал тайны богов. Но находясь на почве науки и философии, а не мифологический фантазий, мы можем говорить, прежде всего, о самоуподоблении жи­ вых существ, когда они мимикрируют в борьбе за выживание. При­ чем, если до появления человека главный способ выживания, соглас­ но Ч.Дарвину, заключался в приспособлении своего тела к окружаю­ щей природе, то с появлением человека возникает новая стратегия 187 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма жизни. Человек, как уже не раз говорилось, целенаправленно уподо­ бляет свою деятельность формам внешнего мира, создавая таким образом из самой природы приспособления для выживания своего рода. Биологические возможности тела, тем самым, дополняются у человека возможностями многообразных «искусственных органов», принадлежащих миру культуры. Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что речь идет о воплощении в деятельности человека именно формы другого тела. Но подобное «сканирование» внешних и внутренних форм вещей — отнюдь не са­ моцель нашего существования. Стремление к универсальности как воссозданию форм природы вне всяких границ — нечто тоже из обла­ сти фантазий. Таким образом, вновь возникает вопрос о собственных внутренних регулятивах универсальной деятельности человека. Итак, универсальность человека не в том, что он может, как Протей, превращать свое тело в любую природную форму. Его уни­ версализм не стоит отождествлять и со стремлением бесконечно воссоздавать формы природы — в теоретической мысли, искусстве и практической деятельности. В деятельном воссоздании форм внеш­ него мира должна быть своя внутренняя мера и граница, которая при­ надлежит уже не природе, а именно миру культуры. И как раз она выражает универсальность человеческого существа наиболее адек­ ватным образом. В наши дни существование этой внутренней меры наиболее на­ глядно проявило себя в дискуссиях по вопросу клонирования челове­ ка. С точки зрения технологии деятельности препятствий для подоб­ ного тиражирования уже живущих людей как будто нет. Зато во весь рост встал вопрос о нравственной стороне дела, когда узкоспециаль­ ную деятельность биологов начали мерить универсальной мерой До­ бра и Зла, кантовским категорическим императивом: «Человек всегда цель и никогда средство». Этот конкретный случай — прекрасный пример того, что универсальность нашей деятельности, скорее, не отменяется, а ут­ верждается ее самоопределением посредством нравственных, эстети­ ческих и других норм и идеалов. Иначе говоря, человеческая универ­ сальность выражается не в том, сколько природных форм освоил че­ ловек, но в том, как он их освоил. Универсальность человека выражается не абстрактно-общим представлением о бесконечном числе освоенных природных форм. Она, скорее, отсылает нас к уни­ версальному способу освоения мира человеком. И анализ этого спо- 188 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии соба с необходимостью становится анализом всеобщих форм и регулятивов, которые присущи только деятельности в мире культуры. Но вернемся к П. Помпонацци, у которого данный поворот про­ блемы универсальности человека связан с его анализом счастья как цели нашего существования. Причем, обращаясь в связи с этим к эти­ ческим работам Аристотеля, Помпонацци опять же корректирует его позицию. У Аристотеля неразумная душа всегда существует как отдельное, а разумная в виде деятельного ума как общее. Деятельность Нуса и по форме и по содержанию своему, согласно Аристотелю, является все­ общей. Иначе у Помпонацци, у которого отдельное может стать об­ щим через универсальную телесную деятельность. «Кроме того,— чи­ таем мы у Помпонацци,— если мы рассмотрим все местности, обита­ емые людьми, то мы обнаружим, что больше людей более похожих на диких зверей, чем на людей, и лишь немного найдется действительно разумных. Да и эти разумные могут именоваться по своей природе не­ разумными и называются разумными только в сравнении с другими в высшей мере зверскими...»1. Указанный разброс в состоянии человеческих душ, согласно Пом­ понацци, не абсолютен. В каждом из нас, считает он, присутствует начало индивидуального выбора. А потому каждому доступно восхо­ ждение от неразумного состояния к разумному, по мере которого воз­ растает и нечто бессмертное и нематериальное в душе человека. В ход воспитания и самовоспитания индивидуальная душа, согласно Пом­ понацци, не столько даруется нам, как следует из христианской до­ ктрины, сколько именно возникает. При этом, как уже говорилось, человек может, с одной стороны, дать волю питающей и ощущающей способностям, а с другой — может подчинить их разуму и нравствен­ ности, которые придают всему меру Вечное и абсолютное бытие интеллигенции ясно, как божий день. Сложнее с человеком, хотя и здесь Помпонацци находит выход из по­ ложения у Аристотеля — в его этике прижизненного приобщения ко всеобщему. Помпонацци говорит о бессмертии человека, но только в отношении целей души, а не ее самой, неотделимой от смертного тела. Душа — это единство действий человека, которые только по своим ориентирам бессмертны. Именно таким способом индивидуальная душа оказывается у Помпонацци в «некотором отношении» бес1 С. 49. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души », «О причинах естественных явлений ». 189 J Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма смертной. Но что говорится о таком приобщении к бессмертию у са­ мого Аристотеля? Каковы всеобщие ориентиры человеческой души, по Аристотелю, и как их обретает душа? Ответ на эти вопросы предполагает развенчание одного из «ми­ фов», касающихся творчества Аристотеля. В его основе модерниза­ ция оценки Стагиритом человека как «общественного животного». Взятое вне контекста, такое определение выглядит неким преддвери­ ем марксизма, и отсюда частые ссылки на него в философии совет­ ского периода. Но такого рода модернизация обнаруживает свою бес­ почвенность, если обратиться к работе «История животных», впервые изданной на русском языке в 1996 году, поскольку именно в ней, а не в этических или политических произведениях Аристотеля, мы нахо­ дим исходное определение человека как «общественного животного». Как следует из названия, «История животных» относится к биологическим работам Аристотеля. На протяжении столетий она слу­ жила источником знаний для многих поколений биологов, среди ко­ торых великие К.Линней и Ж. Кювье. В этой работе Аристотель дает свод эмпирических знаний о фауне многих регионов, а также пытает­ ся описать и распределить обнаруженных животных согласно родам и видам. Именно в этом контексте и появляется у Аристотеля впервые понятие «общественное животное». В первой же главе первой книги «Истории животных» Аристотель относит человека по образу жизни и действий к «стадным» живот­ ным, какие могут быть и среди ходящих, и среди плавающих, и среди летающих. Стадные животные противопоставляются им одиночкам. В свою очередь, среди стадных животных Аристотель выделяет «об­ щественных животных», которые живут не разбросанно, а вместе, вы­ полняя определенную функцию в животном коллективе. К таким «общественным» по характеру жизни существам Аристотель относит человека, пчелу, осу, муравья и журавля1. В другом месте, правда, Ари­ стотель отмечает, что человек по образу жизни может быть не только общественным, но и одиночным существом, т. е. «бывает и тем и другим»2. Классификационные признаки человека в «Истории животных» приведенным выше не ограничиваются. Так Аристотель, к примеру, относит человека к «домашним животным», наравне с мулом. «Да­ лее,— пишет он,— есть животные домашние и дикие; одни бывают 1 2 См.: Аристотель. История животных. М., 1996. С. 74-75. Там же. С. 74. 190 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии такими всегда, как человек и мул всегда бывают домашними, пард, волк всегда дикими, другие быстро могут одомашниваться, как слон. Или иначе: все роды, которые являются ручными, бывают и дикими, например, лошади, быки, свиньи, овцы, козы, собаки»1. Кроме этого, в «Истории животных» можно найти определение человека как животного, которое, будучи двуногим, единственное яв­ ляется живородящим2. Также, по мнению Аристотеля, «неподвиж­ ным ухом из имеющих эту часть обладает только человек»3. К отличи­ тельным признакам человека, помимо прочего, Аристотель относит трехкамерное сердце, единое, хотя и разделенное на две части, лег­ кое, двурогую матку и 8 пар ребер. По Аристотелю, человек еще и единственное существо, у которого не болит сердце и который не за­ болевает после укуса бешеной собаки. Приведенные медицинские и анатомические сведения, конечно, неверны, анатомические — по причине существовавшего запрета на вскрытие умерших. Но суть не в фактических ошибках Аристотеля, а в другом. Человек у Аристотеля, как следует из «Истории животных», не выделяется из животного мира, а является одной из ступеней в иерархии живых существ. И даже там, где речь идет об одомашнива­ нии диких животных, человек оказывается одним из них. Но если че­ ловек не является субъектом окультуривания животного мира, то как возможно само одомашнивание, и кто хозяин в этом доме? Наибольшую последовательность в этом вопросе Аристотель про­ являет там, где речь идет о способности человека к воспитанию и о его способности рассуждать, которые, согласно Аристотелю, не меняют положения человека в ряду других живых существ. В этом вопросе Аристотель расходится даже со своим учеником Теофрастом, в биоло­ гических исследованиях которого можно прочесть: «Человек — суще­ ство или единственное, или по преимуществу поддающееся культуре»4. В противоположность Теофрасту, Аристотель в «Топике» заявляет, что если человек — это «живое существо, от природы поддающееся вос­ питанию», то не нужно преувеличивать эту способность человека, т. е. представлять ее «в превосходной степени», как это по сути выходит у Теофраста5. 1 Аристотель. История животных. С. 75. См. там же. С. 193. ' Там же. С. 85. А Феофраст (Теофраст). Исследования о растениях. М., 1951. С. 21. 5 См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 461. 2 191 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Здесь следует заметить, что в работах, посвященных проблемам этики и политики, Аристотель часто использует характеристику чело­ века как «политического животного» или же «полисного животного». Именно так следовало бы переводить выражение «dzoion politikon» в первой главе первой книги «Никомаховой этики», где мы читаем: «Понятие самодостаточности мы применяем не к одному человеку, ведущему одинокую жизнь, но к человеку вместе с родителями и детьми, женой и вообще всеми близкими и согражданами, поскольку человек — по природе [существо] общественное»1. Но в случае с «dzoion politikon» как «полисным животным» Аристотель фиксирует внимание лишь на внешней стороне образа жизни человека. Аристотель действительно встраивает человека в иерархию живот­ ного мира, но с другой стороны, он определяет черты животных, поль­ зуясь этическими оценками «дурной-хороший», «верный-неверный», «разумный-неразумный». Все это, по мнению Старостина, говорит о «человеческом масштабе», который Аристотель прилагает к животным и всему остальному миру. А в результате мир в учении Аристотеля един и гармоничен во всех частях и проявлениях2. Стремлении Аристотеля к гармоничной картине мира, безуслов­ но, проистекает из фундаментального античного ощущения мировой гармонии. Ведь недаром слова «космос» и «косметика» происходят от одного греческого корня, означающего красоту и совершенство. Дру­ гой вопрос — каким способом достигается эта гармония. И здесь, Аристотель, скорее всего, действует наперекор своему учителю Пла­ тону. Напомним, что именно основоположник европейского идеализ­ ма Платон мерял природный мир человеческой мерой. А потому в его учении мир идей венчает Высшее Благо — начало как природного, так и человеческого бытия. Иначе выглядит учение Аристотеля, в кото­ ром человек рассматривается с точки зрения животного и растения, а растение и животное — с точки зрения человека. Иначе говоря, если платонизм — можно считать результатом проекции меры человека на природу, то аристотелизм — это во многом результат проекции мер природы на человека. Конечно, Аристотель, отнюдь не однозначен. Каждый раз вопрос о методологии Аристотеля нужно решать кон­ кретно. И тем не менее, этические представления Аристотеля по 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 63. См. там же. С. 20. 192 J Ε.В. Мареево. Проблема души в классической и не класс и чес кой философии большому счету адекватны тому естественно-научному подходу к че­ ловеку, который представлен в «Истории животных». В анализе того или иного учения нельзя идти на поводу у терми­ нологии. И если Аристотель говорит о человеке как об «обществен­ ном животном», то это еще не означает, что именно общественной жизнью у Аристотеля определяется природа человека. Несмотря на разные эпохи, Аристотель здесь сопоставим с Л. Фейербахом, кото­ рый исписывал страницы рассуждениями о роли общения в жизни че­ ловека. Творчество Фейербаха — это гимн общению, братской любви, любви мужчины к женщине. И тем не менее, общение Я и Ты в антро­ пологическом материализме Фейербаха не имеет отношения к реаль­ ному обществу и культуре. «Но любовь!— иронизировал по этому по­ воду Ф.Энгельс,— да, любовь везде и всегда является у Фейербаха чудотворцем, который должен выручать из всех трудностей практиче­ ской жизни,— и это в обществе, разделенном на классы с диа­ метрально противоположными интересами!»1 Итак, в случае фейербахианства в отношении основных качеств человека реальная культура и история оказываются бесплодны. И прежде всего потому, что человек наделен такими качествами от природы. Взаимная любовь и сердечное общение у Фейербаха — про­ явление внеисторической сущность человека. А реальные формы культуры в лучшем случае исполняют здесь роль инструмента. Аналогичное инструментальное отношение к культуре по сути представлено в этической теории Аристотеля. И это при том, что ис­ следованию взаимоотношений людей посвящены здесь три больших произведения, связанных с именем Аристотеля,— «Никомахова эти­ ка», «Эвдемова этика» и «Большая этика». Указанные произведения отличает та же энциклопедичностьу что и его труды в области биоло­ гии. И в них так же, как и в биологических работах, довлеет эмпириче­ ская сторона дела, т. е. описание многообразных склонностей и типов поведения людей. Как верно подметил С.Н. Бычков, в своих этических произведе­ ниях Аристотель вновь предстает перед нами как «первый позити­ вист». И это видно уже в полемических выпадах против платоновско­ го Высшего Блага в пользу всегда конкретного относительного блага. Именно в связи с этой критикой Платона в «Никомаховой этике» по­ является широко известное выражение, ставшее затем афоризмом: 1 С. 34. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. М., 1966. 193 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма «Платон мне — друг, но истина дороже». Идея Блага «самого по себе», узнаем мы из «Никомаховой этики», не оправдала себя, хотя эту идею и «ввели близкие [нам] люди». «Что же касается блага,— читаем мы в самом начале работы,— то оно определяется [в категориях] сути, ка­ чества и отношения... а значит, общая идея для [всего] этого невозможна»1. И далее ситуация уточняется следующим образом: «Так, например, благо с точки зрения своевременности, если речь идет о войне, определяется военачалием, а если речь идет о болезни — врачеванием; или благо с точки зрения меры для питания [определя­ ется] врачеванием, а для телесных нагрузок — гимнастикой»2. Понятно, что и нравственную добродетель, в противовес Сокра­ ту и Платону, Аристотель не признает в качестве самодостаточного начала, хотя и причисляет добродетельные поступки к деятельностям, которые избираются сами по себе, наряду с развлечениями и созерцанием истины3. В этом вопросе Аристотель опять демонстри­ рует двойственность. И, тем не менее, этическое знание (to ethikon) отнесено у Аристотеля к практическим знаниям, и в качестве пра­ ктики нацелено не на общее, а на отдельное в виде действий и по­ ступков человека. Своеобразие его позиции в том, что нравственная добродетель у Аристотеля по большому счету не субстанциальна, а акцидентальна. Если у Сократа и Платона такая добродетель — изна­ чальное основание человеческой души, из которого выводится сво­ еобразие действий человека, то у Аристотеля она, будучи основани­ ем поступков, в свою очередь, выводится из практики. И выводит Аристотель нравственные добродетели из практической жизни, опираясь на силу рассудка. Любые добродетели, согласно Аристотелю, даны нам не от при­ роды, но и не вопреки природе. В людях заключена возможность стать добродетельными. Но чтобы она была реализована, необходимы дей­ ствия рассудка и усилия воли. Уточняя суть добродетели вообще, Ари­ стотель говорит о ней, как о складе души, «при котором происходит становление добродетельного человека и при котором он хорошо вы­ полняет свое дело»4. Во всем непрерывном и делимом, согласно Аристотелю, можно взять части большие, меньшие и равные, а равенство у него это «не1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 59. Там же. С. 60. ' См. там же. С. 279-281. 4 Там же. С. 85. 2 194 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии кая середина (meson ti) между избытком и недостатком»1. Аристотель различает простую арифметическую середину, когда десять много, а два мало, и в этом случае серединой будет шесть. В отношении чело­ века, уточняет Аристотель, такое недопустимо, и, как в питании атле­ тов, каждый человек в соответствии со своими потребностями ищет «золотую середину» сам. Известно, что Аристотель различал две разновидности добродете­ лей: дыаноэтыческые, т. е. мыслительные, и собственно этические, ко торые проявляют себя не в мышлении, а в поведении. Обеими разно­ видностями добродетели человек у Аристотеля овладевает при жизни: дианоэтическими — в процессе обучения, а этическими — в процессе воспитания. «Итак, при наличии добродетели двух [видов], как мы­ слительной, так и нравственной,— читаем мы во второй книге «Никомаховой этики»,— мыслительная возникает преимущественно бла­ годаря обучению и именно поэтому нуждается в долгом упражнении, а нравственная (ethike) рождается привычкой (ex ethoys), откуда и получила название: от этос при небольшом изменении буквы»2. Что касается нравственных добродетелей, то их Аристотель характеризует как «середину двух пороков». В страстях и поступках, от­ мечает он, тоже есть свой недостаток, избыток и середина. «Рассуди­ тельность» (phronesis), согласно Аристотелю, является как раз той дианоэтической добродетелью, которая помогает выявить подобную «золотую середину» в поведении человека. Дианоэтическая доброде­ тель в данном случае выступает в роли предпосылки добродетелей соб­ ственно этических. Примеров того, как рассудок определяет нравственную доброде­ тель, отталкиваясь от двух крайностей в поведении человека, в «Никомаховой этике» множество. Если такие дурные страсти как злорад­ ство, бесстыдство, злоба, и такие поступки, как блуд, воровство и че­ ловекоубийство, согласно Аристотелю, не могут иметь «золотой середины», то она возможна в других случаях. К примеру, мужество (andreia) — это середина между страхом (phobos) и отвагой (tharrhe). В отношении чести (time) и бесчестия (atimia) серединой является ве­ личавость (megalopsykhia) и т.д.3 «Итак,— пишет Аристотель,— добродетель есть сознательно избираемый склад [души], состоящий в обладании серединой по от1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 85. Там же. С. 78. ' См. там же. С. 88-92. 1 195 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма ношению к нам, причем определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек»1. Исходя даже из этого общего определения добродетели, уже видно, что она у Аристотеля несопо­ ставима с идеалом в традициях, заложенных в свое время Сократом. К идеалам такую норму поведения, выводимую посредством рассуж­ дения, а по сути здравого смысла, можно отнести условно, а точнее — в условиях и рамках, задаваемых позитивно-научным подходом. И как раз при таком подходе к добродетели область нравственного выбора и вся социальная жизнь оказывается чем-то сугубо прикладным и ин­ струментальным. По большому счету социальная жизнь у Аристотеля должна обес­ печить выживание человеческому роду подобно тому, как обеспечива­ ет выживание стадным животным их стадо, а одиночным живот­ ным — их изоляция. Человек как «общественное животное» пользует ся у Аристотеля социальными нормой как инструментом. И таки нормы, как и вся социальная жизнь, остаются внешними сущности че­ ловека. Социальность у Аристотеля — такая же внешняя форма, как и в антропологии Л.Фейербаха. Вовсе не здесь, согласно Аристотелю, выражает себя назначение человека, не здесь он достигает наивысше­ го счастья. Итак, после взвешивания на весах рассудка нравственные добро­ детели у Аристотеля, в отличие от Сократа и Платона, лишаются сво­ его субстанциального смысла. Но этические воззрения Аристотеля, конечно, не такие элементарные и плоские, как, к примеру, этика позднейшего утилитаризма с его принципом «разумного эгоизма». И Аристотель, скорее всего, чувствует уязвимость своей позиции, тем более, перед лицом такого грозного противника, каким был и остает­ ся идеализм Платона. В частности, в своем в трактате «О душе» Ари­ стотель пытается обозначить иной угол зрения на этическую пробле­ матику, которым в силу его непоследовательности смогли воспользо­ ваться лишь философы отдаленного будущего. Речь идет о начале первой книги трактата «О душе», где Аристо­ тель различает две точки зрения на душевные движения человека та­ кого характера, например, как гнев. Один подход представлен здесь «рассуждающим о природе», и он, скорее всего, предваряет позицию современного естествоиспытателя. Другая позиция у Аристотеля представлена «диалектиком», и он по сути олицетворяет классичеАристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 87. 196 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии скую философию. Аристотель замечает, что представители этих двух позиций по-разному определили бы природу гнева. «А именно, — пи­ шет Аристотель,— диалектик определил бы гнев как стремление ото­ мстить за оскорбление или что-нибудь в этом роде; рассуждающий же о природе — как кипение крови или жара около сердца»1. Первый, по мнению Аристотеля, объясняет гнев сущностью, а значит формой вещи, второй — ее материей. При этом и то и другое может лежать в основе определения этого явления. Аристотель приво­ дит пример с домом, который можно определять через его форму и цель, т. е. как укрытие, защищающее от действия ветров, дождя и жары, а также через сто материю, т. е. как нечто, состоящее из бревен, камней и кирпичей. Но и эту материю, в свою очередь, можно рас­ сматривать с точки зрения формы и целей, теперь уже целей камня, кирпича и т. д. Приводя в пример подход математиков, отвлекающихся от материи отдельных тел в пользу их формы, а также подход «занимающихся пер­ вой философией», которые отвлекаются от всего телесного вообще, Аристотель предлагает занять новую позицию «рассуждающему о при­ роде». Поскольку в вещах материя всегда оформлена, и состояние тела неотделимо от самого тела, этот новый подход должен быть не одно­ сторонним, а синтетическим, т. е. строиться на рассуждениях о состоя­ ниях и форме тела как неотделимых от материи2. Таков ход рассужде­ ний Аристотеля в пользу нового варианта естественно-научного подхо­ да, который, скорее всего, и попытался реализовать Аристотель в своем трактате «О душе». В начале главы, посвященной Аристотелю, мы уже сравнивали исходные позиции и итоги, к которым он пришел в трактате «О душе». И здесь имеет смысл сделать лишь акцент, оттеняющий аристотелев­ скую этическую позицию. Дело в том, что, на первый взгляд, новый подход, предложенный Аристотелем «рассматривающим природу», способен поглотить или, на языке Гегеля, «снять» позицию «диалек­ тика». Но так ситуация выглядит только на первый взгляд. На деле «в остатке» оказывается самое существо дела, и именно потому, что в определении такого нравственного феномена, как гнев, Аристотель сделал выбор в пользу «рассуждающего о природе». Дело в том, что применительно к душевным движениям человека, и нравственным в частности, простой «синтез» точек зрения содержа1 1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 374. См. там же. 197 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма ния и формы ничего не дает. В случае с гневом такой «синтез» выгля­ дит как «кипение крови из желания отомстить за оскорбление». Но в том-то и дело, что в приведенном определении отсутствует объясне­ ние природы гнева. И как раз потому, что природа человеческой души находится за рамками методологических возможностей естествозна­ ния. Кипение крови есть материальный процесс, который присущ че­ ловеку, наравне с животным. И основой гнева он становится лишь в свете взаимоотношений между людьми. Подчеркнем еще раз: в свете взаимоотношений между людьми, а не между телом и душой, как это выходит у Аристотеля. А увязать материальный процесс с душевным состоянием человека, признав жажду мести формой и целью кипения крови у человека, еще не значит объяснить природу гнева. Гнев дейст­ вительно заставляет кипеть кровь! Но почему такое бывает у людей, и этого нет у животных? Объяснить природу гнева — это значит объяснить, почему люди именно гневаются, а не рычат и кусаются, когда их оскорбляют. По­ чему люди отвечают на оскорбление не прямым физическим действи­ ем, а душевным движением, и это идеальное движение опосредует материальные действия людей, в отличие от животных? И почему эти опосредующие душевные движения способны обрести такую гипер­ трофированную форму, что человек умирает и именно от пережива­ ний, а не от реальной опасности? Интересно, что Аристотель указывает в первой главе трактата «О душе» на случаи неадекватного поведения человека, когда он мо­ жет, к примеру, внешне не реагировать на постигшее его большое горе, зато в другом случае по незначительному поводу приходит в большое волнение и пугается там, где для этого как будто нет никаких предпосылок1. Всеми этими сложными моментами в поведении человека зани­ мается психология, а не физиология, имеющая отношение к процес­ су кипения человеческой крови. Но и психолог беспомощен, если не понимает того, в чем природа оскорбления, и почему его нет в живот­ ном мире, где ни у кого не кипит кровь в ответ на нескромный намек или дурное слово. Иначе говоря, объяснение природы гнева предполагает переход от натуры к культуре, где собственно и проявляют себя дружба и ненаАристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 373. 198 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии висть, гнев и смирение. И природу этих душевных состояний не объ­ яснить, исходя из соотношения души и тела в отдельном человеке. Вне анализа идеалов как субстанциальных форм поведения человека никак не объяснить идеальности душевных состояний человека, ко­ торые — состояния души, а не реакции организма. Итак, в первой главе трактата «О душе» присутствует только на­ мек на иной способ размышлений в образе «диалектика», который отли­ чен и от логики естествоиспытателя («размышляющего о природе»), и от логики философа-метафизика («размышляющего о первой фи­ лософии»). Но вернемся к сути добродетели, которая в этике Аристо­ теля оказывается прежде всего средством, которое используют для совместного выживания в этом мире. И как раз этому практическому занятию, наряду с творческими занятиями людей, Аристотель проти­ вопоставляет теорию как созерцание всеобщих основ бытия. Теорией, согласно Аристотелю, занимается философ, которого впоследствии будут именовать «метафизиком», поскольку он созер­ цает первопричины за пределами «фюсиса», т. е. природы. Здесь ис­ пользуют уже не «рассудительность», а «мудрость», которой, согласно Аристотелю, открыто не частное, но общее. Кстати, следует уточнить: насчет того, сколько и какие дианоэтические добродетели выделял Аристотель, у историков философии существуют разногласия. Так, всемирно известный немецкий историк философии Э. Целлер указывает на три дианоэтических добродетели в учении Аристо­ теля, среди которых мудрость (σοφία), рассудительность (φρονησιζ), и искусство (τέχνη)1. Другой немецкий историк философии В. Виндельбанд предлагает целое «дерево» дианоэтических добродетелей, от ствола которого отходят три ветви. Одна ветвь связана с мудростью как высшей дианоэтической добродетелью, другая — с искусством в форме «τέχνη» и третья — с практичностью, которая, в свою очередь, предстаетв форме рассудительности и здравого смысла или, по-другому, целесообразности2. В отличие от них, отечественные историки философии В.Ф.Ас­ 3 мус и А.Н. Чанышев4 указывают на другие дианоэтические доброде­ тели. С Э. Целлером и В. Виндельбандом наблюдается совпадение лишь в отношении мудрости, помимо которой Асмус и Чанышев счи1 См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 187. См.: Виндельбанд В. История древней философии. Киев, 1995. С. 240. ·' См.: Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 365. 4 См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С. 352. 2 199 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма тают дианоэтическими добродетелями у Аристотеля разумность и благоразумие. Повод для всех этих разночтений дает сам Аристотель, который в шестой книге «Никомаховой этики», посвященной дианоэтическим добродетелям, подробным образом характеризует множество способ­ ностей, которые так или иначе участвуют в действиях разумной части человеческой души. Разбираться в соотношении этих способно­ стей — дело специалистов. Нам же достаточно согласиться с оконча­ тельным выводом, который делает Аристотель в той же шестой книге «Никомаховой этики». «Но рассудительность,— пишет Аристотель,— все же не главнее мудрости и лучшей части души, так же как врачева­ ние не главнее здоровья, но только следит, чтобы мудрость возникла [и развилась]»1. Итак, рассудительность и мудрость — вот о чем в итоге книги о дианоэтических добродетелях говорит Аристотель. А потому имеет смысл присоединиться к мнению Ф.Х. Кессиди, различающему пра­ ктическую мудрость в форме «фронесиса», т. е. рассудительности, и теоретическую мудрость в форме «софит, которые в качестве диано­ этических добродетелей соответствуют двум частям разумной души в учении Аристотеля2. Итак, в созерцании первооснов при помощи мудрости как выс­ шей дианоэтической добродетели Аристотель видит подлинное счас­ тье, реально доступное немногим. Аристотель считает, что склонность к теоретическим занятиям со­ вершенствует людей и в нравственном плане. И в этом смысле не только рассудительность, но и мудрость является предпосылкой нравственных добродетелей человека. И тем не менее, по большому счету только теория у Аристотеля приобщает людей к идеальному миру. А значит только теоретическая идея в этике Аристотеля сопо­ ставима с представлением об идеале у Сократа и Платона. В теорети­ ческом познании у Аристотеля мы по сути имеем дело с мерой космо­ са, представленной в уме Бога-Перводвигателя, к которому приобща­ ется философ. Иначе выглядит эта ситуация у Помпонацци, для которого счастье — это не теория, а наоборот, нравственная практика И в этой практике человек воплощает скорее не космическую, а свою собственную абсолютную меру. 1 2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 190. Там же. С. 24. 200 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В «Никомаховой этике» можно прочесть: «Нет, не нужно [следо­ вать] увещеваниям «человеку разуметь (phronein) человеческое» и «смертному — смертное»; напротив, насколько возможно, надо воз­ вышаться до бессмертия (athanatidzein) и делать все ради жизни (pros to dzen), соответствующей наивысшему в самом себе...»1. Здесь, как и в других случаях, у Аристотеля приобщение к бессмертию совпадает с теоретическими занятиями философа. Но Помпонацци не устраива­ ет, что лишь философам открыта возможность приобщиться ко все­ общему. Как представителя Возрождения Помпонацци интересует такая деятельность, которая была бы доступна не избранным, а всем. До сих пор речь шла о различении Помпонацци, вслед за Аристо­ телем, деятельного и страдательного ума, а в другой терминологии — ума активного и пассивного. Но под конец своего «Трактата о бес­ смертии души», рассуждая о способах достижения человеком счастья, он говорит уже о трех разновидностях ума: созерцательном, деятель­ ном и практическом. Указанная система координат, скорее всего, за­ дана этическими работами Аристотеля. Но Помпонацци здесь, как и в других случаях, предлагает нам собственную трактовку и решение проблемы. Практический разум, отмечает Помпонацци, будучи механиче­ ским, является низшим из всех видов разума. По мнению Помпонац­ ци, ему причастны не только люди, но и животные, сооружающие себе жилища, а среди людей прежде всего женщины, которые ткут, прядут, шьют и пр. Мужчинам тоже присущ такой разум, пишет Пом­ понацци, имея в виду ремесленников, но в таком случае человек ис­ полняет лишь один вид деятельности, иначе он не преуспеет ни в од­ ном2. Иначе говоря, применительно к практическому уму не все люди в равной степени добиваются успехов. И то же касается, согласно Пом­ понацци, причастности к уму созерцательному, связанному со знани­ ем первых начал. Знание первых начал у Помпонацци, безусловно, обладает всеобщностью. Но, будучи всеобщим, такое знание не всем доступно. В результате после общих фраз о причастности людей ко всем видам разума, Помпонацци противопоставляет двум указанным разновидностям ум деятельный, благодаря которому люди различают добро и зло. 1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 283. См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явлений». С. 98. 1 201 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма «Не все могут обладать равным совершенством,— подчеркивает Помпонацци,— но одним оно дано в большей, другим в меньшей мере. Если же уничтожить это неравенство, род человеческий либо погибнет, либо будет лишен совершенства. Но есть у людей нечто, об­ щее им всем или почти всем. Иначе они не были бы частями одного рода, стремящегося к единому общему благу...»1 И далее он продолжа­ ет: «Деятельный же ум поистине подобает человеку. И всякий чело­ век, если он не убогий, вполне может в совершенстве следовать ему... Ведь человек именуется хорошим и дурным соответственно его до­ бродетелям и порокам. А хороший метафизик не называется хоро­ шим человеком, но хорошим метафизиком; и хороший домостроитель не называется хорошим в абсолютном смысле, но хорошим строите­ лем. Вот почему человек не будет считать себя оскорбленным, если его назовут метафизиком, философом или кузнецом; но если его на­ зовут вором либо припишут ему невоздержанность, несправедли­ вость, неблагоразумие и иные пороки, крайне вознегодует и вспылит, поскольку быть добродетельным или порочным — в нашей власти, быть же философом или строителем — не зависит от нас и не обяза­ тельно для человека»2. Итак, теоретической мудрости и практическим знаниям Помпо­ нацци противопоставляет именно нравственность как всеобщее, спо­ собное сделать любого человека человеком. «Поэтому всеобщая цел человеческого рода,— читаем мы у Помпонацци, — заключается лишь в относительной причастности созерцательному и практиче­ скому видам разума и в совершенной причастности разуму деятельному»3. И в таком понимании он ближе к Платону, чем к Ари­ стотелю. Именно благодаря нравственной добродетели человек, со­ гласно Помпонацци, становится хорошим в абсолютном смысле. И этот акцент, безусловно, чужд этике Аристотеля. Тема нравственной добродетели как абсолюта неоднократно по­ вторяется у Помпонацци и достигает своего апогея в утверждении са­ моценности добра. «...И поскольку нет ничего выше и счастливее са­ мой добродетели, — пишет Помпонацци,— то именно ее и следует предпочесть»4. Добродетель, которая совершается в надежде на воз1 См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явлений». С. 96. 1 Там же. С. 98. ' См. там же. С. 99. 4 Там же. С. 103. 202 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии даяние или из страха возмездия, настаивает Помпонацци, «привно­ сит в душу нечто рабское, что противоречит самим основаниям добродетели»1. Поэтому подлинным воздаянием добродетели должна быть сама же добродетель, которая делает человека счастливым. «Ибо человеческая природа,— пишет он,— не может достичь ничего более великого, чем сама добродетель, потому что она одна придает челове­ ку уверенность и избавляет от всяческого смятения»2. Те, кто считают душу смертной, утверждает Помпонацци, гораздо лучше защищают добродетель, чем те, кто считают душу бессмерт­ ной. И этот аргумент, конечно, направлен уже не против Аристотеля с его культом теории, а против другого оппонента Помпонацци — христианства. И тому, и другому Помпонацци противопоставляет не­ явным образом этику стоицизма. «Отом же, что и даже при смертно­ сти души, в иных случаях следует предпочесть смерть,— доказывает он,— свидетельствуют и многие поступки животных, относительно которых нет сомнений, что они смертны и руководимы природным инстинктом»3. Конечно, в отличие от животных, человек сознательно предпочи­ тает смерть бесчестью. И как раз таким образом, предпочитая смерть, он приобщается к бессмертию. Сохранились свидетельства кончины самого Помпонацци, который был неизлечимо болен и сознательно торопил смерть. Согласно свидетельствам, накануне его кончины со­ стоялся такой диалог: «Я ухожу, и ухожу с радостью.— Куда же ты хо­ чешь уйти, господин?— Туда, куда и все смертные.— А куда уходят смертные?— Туда же, куда я и другие»4. Приведенные слова Помпонацци могут показаться простой со­ фистикой. Но за ними скрывается философская позиция. В соответ­ ствии с ней выбрать смерть, исходя из идеального мотива,— это значит приобщиться к бессмертию. А потому, культивировать в разумной душе моральные начала, в противовес животному и растительному началу в человеке, означает у Помпонацци путь к бессмертию. Бес­ смертие здесь представлено мерой человеческого в человеке. О том, присутствует ли такая мера в мире горнем, Помпонацци умалчивает. Но в низшем животном мире аналога человеческой меры точно нет. 1 См.: Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явлений». С. 117. 2 Там же. С. 105. ' Там же. С. 104. 4 Cian V. Nuovi document! su Pietro Pomponazzi. Venezia, 1987. P.30. 203 I Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма Значит человек в свете нравственной добродетели уникален... Так, от­ талкиваясь от вполне скромного положения человека на лестнице разумных существ, как это было принято у схоластов, Помпонацци сдвигается в сторону возрожденческого антропоцентризма. Итак, человек у Помпонацци реализует свою сущность не в созер­ цании, а в действии. И это действие в соответствии не только с мерой природных вещей, но и с нравственностью как собственной мерой че­ ловека. У Аристотеля высший ориентир поведения человека — это умозрение, присущее Богу. И по сути такой ориентир является внеш­ ним природе человека. В свете идеологии Возрождения посредством умозрения человек сливается с мирозданием и приобщается к бес­ смертию, но утрачивает свою уникальность. У Помпонацци, как и у Аристотеля, разум позволяет противопо­ ставить смерти бессмертие. Смерть тела в аристотелизме в любой его форме допускает бессмертные действия человеческой души. Но у Аристотеля, совершая их, разумная душа отрекается от смертного тела. Иначе у Помпонацци, у которого дело идет к тому, что разумная душа есть само человеческое тело, способное преодолеть свою природ­ ную ограниченность. Причем через нравственное действие бессмертие обретает не одна душа, но человек. Парадоксальным образом в опре­ деленных обстоятельствах именно через смерть человек способен обре сти бессмертие. Но это не то личное бессмертие, о котором заботится христианство. Это личное бессмертие иного рода — бессмертие лично­ сти в мире культуры, которое не просто допускает, а предполагает фи лософский материализм. Завершая разговор о Помпонацци, следует сказать, что, предпо­ ложив с самом начале двойственную природу человека, материальную и идеальную, Помпонацци в итоге не просто склоняется к единству человеческой природы. Он закладывает основу для объяснения единой сущности человека как подчинения материального идеальным. Пи­ тающая и ощущающая душа у Помпонацци должна подчиниться душе разумной. Когда я действую универсально, хочет сказать Помпонацци, мое телесное действие из материальной функции превращается в нечто идеальное, в котором представлено другое — мера другого тела. Но эт еще не все, поскольку в этом действии представлена мера человеческо­ го в человеке. Разумная душа у Помпонацци руководствуется не мерой космоса в виде идей разума, а собственной мерой в форме нравствен­ ного идеала. В учении Помпонацци, и в этом его очередная новация, 204 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии добродетели имеют более субстанциальное значение, чем в этике Аристотеля. Ведь именно в них, согласно Помпонацци, представлен момент нематериальности и бессмертия в смертной душе. Добродетель у Помпонацци — собственная мера человека, в кото­ рой по сути снята природная мера. И это означает, что культура, буду­ чи снятой натурой, есть превышение меры природы. Природа в чело­ веке превышает саму себя, выходит за свои же пределы. И понятый так Помпонацци оказывается намного ближе к культурно-истори­ ческому пониманию человека, чем Аристотель. Глава четвертая Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма Если для философии средних веков душа, как правило, бестелесна, то Новое время, что вполне естественно, усиливает позиции противни­ ков такого подхода. В свое время Климент Александрийский гордо име­ новал философию служанкой богословия. В Новое время философы столь же истово выражают интересы науки, концентрируя свое внима­ ние на теории познания и методологии научного познания. В такой си­ туации закономерным образом меняет форму естественно-научный материализм, и, соответственно, меняется способ критики метафизиче­ ского понимания души. Тоже самое можно сказать о путях формирования культурно-исторического подхода. Классическая философия, как можно заключить уже post factum, зачастую ходила кругами, подступаясь к одной и той же проблеме с раз­ ных сторон в зависимости от эпохи. Во времена Возрождения ближе всех к культурно-историческому пониманию души оказался П. Помпонацци. Что касается Нового времени, то здесь движение в указанном направлении совпадает с движением от скептицизма Д. Юма к транс­ цендентализму И. Канта. В Новое время природа души, как и другие проблемы филосо­ фии, осмысляются с позиции опыта как главной объяснительной инстанции. При этом Д. Локк еще пытается как-то совместить по­ зицию опыта с идеей бестелесной души. В сравнении с ним, скеп­ тик Юм выступает более последовательно. От имени опыта он от­ крыто выступает против понимания души как бестелесной субстан­ ции. Но только трансцендентализм вплотную подводит философию к культурно-историческому пониманию души. Однако эта сторона учения Канта видна лишь в связи с последующими поисками нео­ кантианства и марксизма. Особняком здесь стоит антропология Гегеля, в которой душа при­ надлежит к природному миру, а потому ее эволюция, в отличие от ста­ новления объективного духа, не предполагает культурно-исторического объяснения. Более того, Гегель в чем-то усугубляет методологическую 206 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ограниченность трансцендентализма, не используя при этом открывае­ мых им перспектив в трактовке происхождения души. Но рассмотрим все по порядку. 1. Д. Локк о нематериальной душе и тождестве личности В «Опыте о человеческом разумении», над которым Д. Локк рабо­ тал с 1671 по 1686 год, т. е. целых пятнадцать лет, представление о душе разбирается в связи со сложными идеями, касающимися суб­ станций. С душой, согласно Локку, получается та же история, что и с любой другой субстанцией. Получая простые идеи от внешних ощу­ щений или из внутренней рефлексии над своими действиями, ум при­ выкает воспринимать их вместе. А в результате рождается предполо­ жение о неком субстрате этого комплекса простых идей, который обычно именуют субстанцией. Д. Локк, как известно, считает фикцией такое представление об особом субъекте или носителе качеств предмета. «А так как мы вообра­ жаем, что они не могут существовать sine re substante «без чего-нибудь, поддерживающего их»,— пишет он о качествах вещей во второй книге «Опыта о человеческом разумении»,— то мы называем этот носитель substantia, что в буквальном смысле слова означает «стоящее под чем-нибудь» или «поддерживающее»1. По мнению Локка, идея суб­ станции, рождаясь в опыте, всегда остается неясной и смутной идеей, и это в равной степени относится как к телесной, так и к духовной суб­ станции. «...Одну субстанцию (не зная, что это такое) мы предполагаем субстратом простых идей, получаемых нами извне,— отмечает Локк,— другую (в такой же степени не зная, что это такое) — субстратом тех действий, которые мы испытываем внутри себя»2. Идею нематериального духа в качестве субстанции, считает Локк, мы получаем, соединяя простые идеи мышления, хотения и возмож­ ности вызывать мыслью определенные изменения в нашем теле. По­ нятно, что столь же закономерным образом можно произвести редук­ цию этой сложной идеи к ее простым составляющим. И, тем не ме­ нее, чуть погодя, Локк неожиданно заявляет: «В то время как я познаю посредством зрения, слуха и т. д., что вне меня есть некоторый физи­ ческий предмет — объект данного ощущения, я могу познать с боль1 2 Локк А· Соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 346. Там же. С. 348. 207 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма шей достоверностью, что внутри меня есть некоторое духовное суще­ ство, которое видит и слышит. Я должен прийти к убеждению, что это не может быть действием чистой, бесчувственной материи и даже не могло бы быть без нематериального мыслящего существа»1. Налицо двойственность позиции Локка в отношении души как нематериальной субстанции. С одной стороны, он склоняется к фик­ тивности этой сложной идеи в силу ее смутного и неясного характера в нашем опыте, а с другой стороны — декларативно объявляет досто­ верность такого знания во внутреннем опыте, причем даже большую достоверность такого знания, чем то, что мы получаем от внешних вещей. То, что душа есть нечто нематериальное, в двадцать третьей главе второй книги «Опыта о человеческом разумении» Локк именно де­ кларирует. Но то, что душа, существуя отдельно от тела, способна к передвижению в пространстве, он в 19—22 пунктах этой главы пыта­ ется доказать. «Моя душа, будучи таким же реальным существом, как и мое тело,— пишет он,— в такой же степени, как и само тело, несом­ ненно, способна переменить свое расстояние от какого-нибудь дру­ гого тела или существа и, таким образом, способна к движению»2. «Каждый знает по себе,— продолжает он,— что его душа может мы­ слить, хотеть и воздействовать на его тело в том месте, где она нахо­ дится... Никто не может представить себе, чтобы его душа могла мы­ слить или двигать какое-нибудь тело в Оксфорде, пока он сам в Лон­ доне, и не может не знать, что его душа, соединенная с телом, в течение всего пути между Оксфордом и Лондоном беспрерывно ме­ няет место, так же как везущая его карета или лошадь... А если не при­ знают, что это доставляет нам достаточно ясную идею ее движения, надеюсь, признают таковым ее отделение от тела при смерти»3. В этом месте своего известного трактата Локк спорит со схоласта­ ми лишь по вопросу локализации души в пространстве. Дело в том, что со времен Средневековья схоласты признавали три способа нахожде­ ния тела в пространстве. Первый — «описательный» — позволяет точ­ но фиксировать положение тела в пространстве. Второй — «опреде­ лительный» — фиксирует лишь тот объем пространства, в котором находится нечто. Третий — «заполнительный» — свойственен тому, что заполняет собой все пространство, присутствуя всюду. ' Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 356. Там же. С. 357. 3 Там же. С. 357-358. 2 208 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Естественно, что третий способ пространственного бытия схола­ сты приписывали вездесущему Богу. Что касается души, то она, со схоластической точки зрения, присутствует в теле, не локализуясь в отдельном месте или органе. Схоласты доказывали, что душа не имеет места, т. к. духи находятся не in loco, но ubi. И именно с этим спорит Локк, настаивая на том, что душа способна менять место в процессе передвижения, а это косвенно свидетельствует и о ее конкретном ме­ стоположении1. Но такое изменение местоположения, считает Локк, недопустимо для Бога, поскольку он является бесконечным духом. Сравнивая идею души и тела, Локк фиксирует внимание на источ­ нике их движения. Тело, как он пишет, есть плотная протяженная субстанция, движение которой сообщается внешним толчком. В про­ тивоположность телу, душа способна сама по себе возбуждать движе­ ние мыслью. А потому душу нужно считать прежде всего мыслящей субстанцией. Но рассуждая о душе и теле с точки зрения их активно­ сти и пассивности, Локк вновь упирается в проблему нематериально­ сти души. «А потому заслуживает нашего рассмотрения вопрос,— пишет Локк,— не является ли активная сила отличительным свойством ду­ хов, а пассивная — отличительным свойством материи? Отсюда мож­ но предположить, что сотворенные духи не совсем отделены от мате­ рии, потому что они и активны и пассивны. Чистый дух, т. е. бог, толь­ ко активен; чистая материя только пассивна; те существа, которые и активны и пассивны, мы можем считать причастными и духу и материи»2. К сотворенным духам, безусловно, относится душа. А это значит, что из ее причастности как к активности, так и к пассивности Локк делает вывод о возможной материальности души, что в корне противоречит его предыдущим декларациям. Наблюдая движения локковской мысли от утверждения к отрица­ нию нематериальности души, можно увидеть в них некое преддверие кантовских антиномий чистого разума. Каждый раз утверждая то аб­ солютную нематериальность, то частичную материальность нашей души, Локк уточняет, что основой для размышлений разума является наш опыт, который свидетельствует прежде всего о простых идеях. А значит, выходя за пределы простых идей в своих рассуждениях о природе сложных идей, в частности о субстанции, разум способен противоречить сам себе. 1 2 Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 1.С. 358. Там же. С. 363. 209 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма «Отсюда мне кажется вероятным,— пишет Локк,— что простые идеи, получаемые нами от ощущения и рефлексии, суть границы на­ шего мышления, дальше которых, несмотря ни на какие усилия свои, душа не может подвинуться ни на йоту и не в состоянии что-то выя­ вить, когда она пытается проникнуть в природу и скрытые причины идей»1. Тем не менее, разум к таким проблемам подступается, а в ре­ зультате приходит к противоположным заключениям. «И я не знаю,— замечает Локк,— почему, имея в себе одинаково ясные и отличные друг от друга идеи мышления и плотности, мы не можем допустить существования мыслящей вещи без плотности, т. е. нематериальной вещи, так же как мы допускаем существование плот­ ной вещи без мышления, т. е. материи, особенно потому, что пред­ ставлять себе, как мышление существует без материи, не труднее, чем представлять себе, как материя мыслит»2. Последнее замечание наиболее важно, поскольку Локк таким образом по сути заявляет о равноценности противоположных толко­ ваний мыслящей способности души — как способности материаль­ ной и нематериальной. И заявив о равной возможности представлять душу как мыслящую отдельно от материи, так и посредством нее, Локк в очередной раз напоминает: «Ибо всякий раз, как мы хотим идти дальше простых идей, получаемых нами от ощущения и рефлек­ сии, и глубже вникнуть в сущность вещей, мы тотчас же впадаем в неведение и мрак, недоумение и затруднения и не можем обнаружить ничего, кроме своей слепоты и своего невежества»3. До сих пор речь шла о двойственности представлений Локка о душе, но не об оригинальности его позиции, которая проявляет себя только в двадцать седьмой главе второй книги «Опыта о человеческой разуме­ нии». Чаще всего своеобразие представлений Локка о душе связывают с идеей «tabula rasa», которая впервые была высказана Аристотелем. Образ души как чистой доски, на которой опыт пишет свои письмена, действительно распространен у представителей эмпирической тради­ ции. Но оригинальность позиции Локка как эмпирика проявляется как раз не здесь, а в его решении проблемы тождества человеческой личности, когда он сопоставляет его с тождеством Бога, вещи и живого организма. Именно здесь эмпирический подход Локка к проблеме души получает свое наиболее последовательное проявление. ' Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 364. Там же. С. 365. 3 Там же. 2 210 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Легко рассуждать о тождестве предметов с самим собой, если к ним ничего не прибавляется и от них ничего не отнимается. Другое дело меняющиеся тела и организмы. «Дуб, выросший из саженца в большое дерево, а затем подрезанный, все время остается тем же са­ мым дубом,— пишет Локк,— жеребенок, ставший лошадью, которая бывает то откормленной, то тощей, все равно остается той же самой лошадью, хотя в обоих случаях может быть явное изменение частей»1. В обоих приведенных случаях масса меняется, но организм остается тем же самым. Значит, замечает Локк, здесь мы имеет дело с другой тождественностью, нежели та, когда неменяющаяся масса материи тождественна сама с собой. Уточняя разницу между этими двумя вариантами тождества, Локк пишет: «Масса материи представляет собой лишь сцепление частиц материи, все равно каким образом соединенных; дуб представляет со­ бой такое расположение частиц материи, которое образует части дуба, и такую организацию этих частей, которая способна воспринимать и распределять пищу так, чтобы поддерживать существование и обра­ зовывать древесину, кору и листья дуба, в чем и состоит растительная жизнь»2. Итак, взаимосвязь частей в едином организме, участвующем в со­ вершенно определенном процессе жизнедеятельности, гарантирует, согласно Локку, тождество растительного организма. И то же самое мы наблюдаем в организмах животных, у которых особая организа­ ция тела и жизнедеятельности определяет родовое и видовое единст­ во. Надо сказать, что о родовой и видовой сущности растений и жи­ вотных Локк не говорит. И причина этого вполне понятна, поскольку род и вид для него такая же фиктивная сложная идея, как и любая субстанция. В результате, рассуждая о тождестве живого организма, Локк сосредоточивает свое внимание на внешней организации и жиз­ недеятельности организма, представленных в наших чувствах. Тождество человека, с точки зрения Локка, также предполагает тождество его «единой жизненной организации», а не одно лишь то­ ждество души. Иначе, пишет Локк, мы должны согласиться с теорией метемпсихоза, согласно которой душа человека за свои провинности может быть вогнана в тело животного с соответствующими органами и потребностями. В случае с переселением душ тело воспринимают 1 1 Локк А- Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 382. Там же. С. 382-383. 211 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма лишь как внешнюю оболочку, а не как органический момент единого человека. «Однако, я думаю,— пишет Локк, вспоминая римского им­ ператора, отличавшегося разнузданностью нравов,— ни один чело­ век, даже уверенный в том, что душа Гелиогабала поселилась в одной из его свиней, не станет утверждать, что эта свинья была человеком или Гелиогабалом»1. То, что идея «человек» предполагает существо, обладающее телом определенной организации, Локк подтверждает рядом примером. Если мы встретим человека, у которого разума не более, чем у попугая или кошки, отмечает Локк, мы будем считать его неразумным челове­ ком, а не попугаем или кошкой. И, наоборот, повстречав смышленых попугая или кошку, мы на этом основании не будем считать их людь­ ми. Но, как уже говорилось, наиболее интересны суждения Локка о тождестве человеческой личности, которое обеспечивается нашим ин­ дивидуальным действием по осознанию собственного Я. Человек, пи­ шет Локк, отличается от животного тем, что в процессе зрения, осяза­ ния, обоняния, обдумывания и прочее всегда знает, что он это делает. «Так бывает всегда с нашими настоящими ощущениями и восприятия­ ми, — подчеркивает он,— благодаря этому каждый бывает для себя «самим собой», тем, что он называет Я, причем в этом случае не при­ нимается во внимание, продолжается ли то же самое Я в той же самой или в различных субстанциях. Ибо поскольку сознание всегда сопут­ ствует мышлению и именно оно определяет в каждом его Я и этим отличает его от всех других мыслящих существ, то именно в [созна­ нии] и состоит тождество личности, т. е. тождество разумного существа»2. Говоря современным языком, единство личности, согласно Локку, представлено в самосознании, которое является неотъемлемым моментом любого индивидуального опыта. И как раз это индивидуаль­ ное самосознание пусть и неявным образом Локк превращает в исток и основание индивидуальной души. У схоластов в индивиде мыслит душа как нематериальная субстанция. У Локка, в соответствии с его пониманием тождества личности, мыслит индивидуальное Я, кото­ рое по сути является нашей жизнедеятельностью и опытом, рефлек­ тирующим и осмысляющим самого себя. В этом новом качестве чув­ ственный опыт отличается от опыта животных. В нем появляется но1 2 Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 384. Там же. С. 387. 212 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вое измерение, под названием сознание, на которое постоянно указывает Локк. Сознание, вырастая из индивидуального опыта, в свою очередь организует и направляет его. Соответственно и душа оказывается у Локка самим индивидуальным опытом, особым образ организованным и отрефлектированным. Так выглядит эмпиричес понимание души, впервые заявленное в Новое время именно Локком. Человеческая личность, согласно Локку, развернута во времени. А это значит, что эмпирически понятая душа ограничена процессом моей непрерывной жизнедеятельности. А там, где он прерывается сном, потерей сознания или другими естественными или катастро­ фическими событиями, Я сознательно устанавливает связь своих прошлых и настоящих состояний, подтверждая тем самым цельность индивидуальной души. Характерно, что Локк постоянно говорит о самотождественно­ сти, но не субстанциальности такого опыта, а значит и души. Единст­ во у эмпирически понятой души особого рода: это единство внешнее, а не внутреннее. А потому как материальная, так и нематериальная субстанция оказываются по отношению к так понятой душе чем-то внешним. Если в двадцать третьей главе второй книги «Опыта» Локк отождествляет душу с нематериальной субстанцией на манер схола­ стической философии, то в двадцать седьмой главе той же книги он размышляет о взаимоотношениях индивидуального Я с материальны­ ми и нематериальными субстанциями. И за этим сдвигом в рассужде­ ниях стоит существенное изменение самой методологии исследова­ ния души в учении Локка. Внешне подтверждая свое согласие с принятым церковью пред­ ставлением о душе как нематериальной субстанции, Локк на протя­ жении многих страниц убеждает читателя в том, что такое традицион­ ное понимание в лучшем случае не мешает современному взгляду на человека. Сутью конкретного человека является его личность, утвер­ ждает он, в отношении которой тело и любая телесная субстанция яв­ ляется частью. В обоснование этой мысли Локк приводит пример с отделенными конечностями. «Так, члены собственного тела,— пишет он,— являются для каждой личности частью ее самой', она сочувствует им и беспокоится о них. Отрежьте руку и тем самым отделите ее от вашего сознания, которое воспринимает тепло, холод и другие ее со­ стояния, и она уже больше не часть вас самих, так же как и самая от­ даленная часть материи. Таким образом, мы видим, что субстанция, 213 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма из которой в одно время состояла личность, в другое время может из­ мениться без перемены тождества личности, ибо нет сомнения в то­ ждестве личности, хотя члены, которые только что были ее частью, отрезаны»1. Итак, человек, в отличие от животного, есть личность, которая включает в себя некоторое тело, но только таким образом и до тех пор, пока она осознает это тело как часть самой себя. Это значит, что тело, согласно такому эмпирическому пониманию, присутствует в составе личности лишь в качестве собственного чувственного образа. Телесная субстанция, в соответствии с логикой Локка, предстает в со­ ставе личности как факт сознания. И иным способом тело не может быть включено в состав личности. Но настаивая на этом, Локк по сути в перспективе открывает дорогу субъективизму Д. Беркли. Иначе выглядят взаимоотношения личности с нематериальной субстанцией, которая при всем старании Локка, остается в лучшем случае безразличной, а в худшем — чуждой человеческому существу. Отчетливее всего чужеродность идеи нематериальной субстанции локковскому понятию личности видна на примере метемпсихоза, к критике которого Локк возвращается вновь и вновь. Те христиане, платоники и пифагорейцы, которые верят в предсуществование душ, отмечает Локк, настаивают на том, что в новые тела вселяется уже су­ ществовавшая личность. Я сам встречал такого человека, уточняет он, который был убежден, что его душа была душой Сократа, хотя в остальном он проявлял себя на весьма значительной должности как разумный человек с множеством знаний и способностей. Но если в этом человеке нет ни мыслей, ни действий Сократа, задается вопро­ сом Локк, то на каком основании можно утверждать, что в нем при­ сутствует личность великого философа?2 Там, где в нематериальной субстанции не содержится сознания предшествующей личности, хочет сказать Локк, подобная нематери­ альная душа есть фикция, ничего не дающая реальному человеку. И тогда совершенно безразлично, есть она в человеке или нет, а также сколько таких нематериальных субстанций присутствует в индивиде. «Я есть та сознающая мыслящая сущность (безразлично, из какой она состоит субстанции, духовной или материальной, простой или сложной), — пишет в связи с этим Локк, — которая чувствует и со­ знает удовольствие и страдание, способна быть счастливой или не1 2 Локк А- Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 389. Там же. С. 392. 214 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии счастной и настолько заинтересована собой, насколько простирает­ ся ее сознание»1. И далее он подчеркивает: «Ничто, кроме сознания, не может соединять в одну и ту же личность отдаленные существова­ ния; тождество субстанции не сделает этого. Какова бы ни была суб­ станция и как бы ни была она устроена, без сознания нет личности. И труп мог бы быть личностью в такой же степени, как всякого рода субстанция без сознания»2. И еще одно заключение, принадлежа­ щее Локку «Во всем этом исследовании о личности, — пишет он, — признается, что одну и ту же личность образует не одна и та же суб­ станция, а одно и то же непрерывное сознание, с которым могут соединяться и снова расставаться различные субстанции, составля­ ющие часть этой самой личности все время, пока они оставались в жизненном единении с тем, в чем тогда обитало это сознание»3. Всего вышесказанного Локком вполне достаточно, чтобы убе­ диться: схоластическому пониманию души, в сторону которого им сделано немало реверансов, здесь противостоит новая эмпирическая трактовка того же феномена. Но по отношению к этому новому пони­ манию Локк избегает применять традиционное понятие души, до­ вольствуясь рассуждениями о личности и человеческом Я и оставляя душу в ведении старой схоластической традиции. Итак, единство человеческого Я, согласно Локку, определяется актом нашей рефлексии. Именно действие рефлексии позволяет отне­ сти некоторые идеи к определенному индивиду. Тем самым чувствен­ ные данные превращаются в осознанный личный опыт. А рефлексив­ ное действие оказывается ядром нашей личности. Другое дело, что такого рода рефлексивные действия у эмпирика не могут иметь ника­ ких объективных законов и правил. Подобно тому, как тело природы является внешне связанным единством материальных частиц, лич­ ность у Локка является внешне сопряженным единством состояний дивида. В действиях рефлексии, согласно Локку, нет ничего необхо­ димого и субстанциального, а потому эмпирически понятое тождест­ во личности, в противоположность христианской anima, не несет в себе субстанциальности. Итак, с одной стороны, рассуждая о бессмертной душе, а с дру­ гой — о самотождествености личности, Локк говорит об одном и том же, но с разных позиций. И эмпирическое понимание тождества лич1 2 3 Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 394. Там же. С. 397. Там же. С. 399. 215 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма ности, по сути, служит опровержению субстанциальности души в ее ортодоксальном католическом смысле. Локк, правда, нигде не проти­ вопоставил одного другому в откровенной форме. И, тем не менее, сами схоласты со временем вынудили Локка высказаться по пробле­ ме души более определенно. При этом представления Локка о душе оказались еще сложнее и противоречивее. Произошло это в 1697-1698 гг., когда Локк был вынужден всту­ пить в полемику с епископом Вустерским Эдуардом Стиллингфлитом, обвинившим Локка в своей работе «Трактат в защиту учения о Троице» в создании антихристианского и безнравственного произве­ дения. Епископ Стиллингфлит подверг критике «Опыт о человече­ ском разуме» с давно известных ортодоксальных позиций. Зато три письма Локка, написанные в ходе этой полемики, позволяют сущест­ венным образом уточнить его трактовку человеческой души. Мы остановимся на том отрывке из первого письма Локка еписко­ пу Вустерскому, где речь идет о духовной субстанции, существование которой Локк, по словам епископа, отвергает. Свои контрдоводы по­ следний строит на различном понимании самих терминов «субстан­ ция» и «дух». «Субстанция», как мы уже знаем, означает у Локка «под­ порку» для некоторого действия. Действие мышления, пишет он, кото­ рое, безусловно, присуще человеку, не может «самоосуществляться», а потому нуждается в некотором субъекте. Такой своеобразной «подпор­ кой» для мышления и становится субстанция. При этом Локк без коле­ баний признает ее субстанцией мыслящей или духовной1. Другое дело, как именно понимать смысл слова «дух». И здесь Локк не утверждает, но лишь допускает, что духовная субстанция мо­ жет быть нематериальной. «И поэтому,— пишет Локк,— если Ваша милость под духовной субстанцией понимает нематериальную суб­ станцию, я согласен с Вами, что я не доказал и на основе моих прин­ ципов нельзя доказать (т. е. убедительно доказать — это, мне кажется, Вы имеете в виду, милорд), что в нас заключена нематериальная суб­ станция, которая мыслит»2. Локк говорит о высокой степени вероятности того, что такая ду­ ховная субстанция нематериальна. Тем не менее, по его мнению, од­ нозначного доказательства этого не существует. «Я бы с радостью,— пишет он,— получил бы от Вашей милости или от любого другого эти 1 2 Локк Д. Соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 303. Там же. С. 304. 216 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии доказательства»1. Более того, даже цели религии и нравственности, уточняет Локк, требуют признания бессмертия души, но не ее немате­ риальности. Как мы видим, признавая бессмертие души после кончины тела, Локк оставляет открытым вопрос о ее нематериальности в этом мире. Такую не совсем обычную точку зрения он подтверждает в письме к епископу Вустерскому словами апостола: «Ибо тленному сему надле­ жит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»2. Казалось бы, что после таких заявлений настало время и место из­ ложить вполне оригинальную концепцию перехода смертной души в бессмертную, которая бы отличала Локка от его предшественников. Тем не менее, свои дальнейшие рассуждения он посвящает уточне­ нию слова «дух» в свете античных авторитетов Цицерона и Вергилия. «Все согласны с тем,— пишет Локк,— что душа есть то, что в нас мы­ слит. И тот, кто обратится к первой книге «Тускуланских бесед» Цице­ рона, а также к 6-й книге «Энеиды» Вергилия, увидит, что эти два ве­ ликих человека, лучше всех римлян понимавшие философию, пола­ гали или по крайней мере не отрицали, что душа — это утонченная материя, которую можно назвать aura или ignis, или aether, и эту душу оба называли Spiritus, в понятие которого они, как это ясно, вклады­ вали только мысль и активное движение, не исключая, однако, пол­ ностью материю»3. Под хорошо известным нам от современных целителей и экстра­ сенсов словом «аура», Локк имеет в виду некую утонченную матери­ альную субстанцию, отличную от грубой и легко ощутимой вещест­ венности. Эту «тонкую материю» римляне сравнивали с aura (дунове­ ние воздуха), ignis (огонь), aether (эфир). Но для Локка важно, что в этом же ряду стоит слово Spiritus (дух), которым Цицерон и Вергилий пользовались, наряду с остальными. Локк уверен, полагаясь на авто­ ритет древних, что можно поставить знак равенства между современ­ ным словом anima и древним словом aura. В этом же ряду у него ока­ зывается греческое слово pneuma (воздух). Он указывает на соответ­ ствующее слово даже в древнееврейском, которым пользовался сам Соломон. Изложение своего взгляда на духовную субстанцию Локк завер­ шает констатацией того, что, без всяких сомнений, нематериальной ' Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 304. Там же. * Там же. С. 305. 2 217 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма субстанцией является Бог. Что касается достоверных знаний о мате­ риальности и нематериальности человеческой души, то их не сущест­ вует. С определенной долей вероятности можно говорить о том, что Бог вложил в нас нематериальную душу. Но он мог также наделить человека душой в виде ауры, не чуждой материальности. «Однако это не противоречит тому,— пишет Локк епископу Вустерскому,— что если бог, этот бесконечный, всемогущий и совершенно нематериаль­ ный дух, пожелал бы дать нам систему, состоящую из очень тонкой материи, чувства и движения, ее можно было бы с полным основани­ ем назвать духом, хотя материальность не была бы исключена из ее сложной идеи»1. Все приведенные выше рассуждения и лингвистические разыска­ ния Локка были бы просто любопытны, если бы за ними не стояла определенная философская позиция. По большому счету Локк не возражает Стиллингфлиту в том, что из принципов его «Опыта» сле­ дует особое понимание, отличное от традиционных взглядов на бес­ смертие души. Но это оригинальное эмпирическое понимание души как осознанного индивидуального опыта, Локк, как мы видим, «подпи рает» воззрениями Цицерона, которые ближе к Демокриту, чем к Платону и Аристотелю. Заявленное новое понимание души выражено у Локка крайне не­ последовательно. И не только из-за реверансов в сторону церкви. Эм­ пирическое понимание души у Локка, в свою очередь, застревает между идеализмом и материализмом. С одной стороны, в рассмо­ тренных нами фрагментах из «Опыта» телесная субстанция недвус­ мысленно представлена как факт сознания. С другой стороны, в поле­ мике с епископом Вустерским Локк склоняется к тому, что одушев­ ленной может быть сама материя. Но при этом он считает такой мыслящей материей не человеческое тело, как это было у П. Помпонацци, а особое «тело» самой души. Материализм в том виде, в каком он представлен у Локка, конеч­ но, естественно-научного толка. И он далек от тех открытий, которые задолго до него сделали Помпонацци и Аристотель. Помпонацци ин­ тересовало, каким образом становится одушевленным человеческое тело. Аристотель выводил одушевленность из способа жизнедеятельно­ сти живого существа. У Локка, если основываться на его довольно поздней по времени переписке со Стиллингфлитом, душа — не способ Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 306. 218 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии жизнедеятельности тела, а еще одно тонкое тело, наряду с другим гру бым телом человека. Но это как раз та точка зрения, над которой в связи с Демокритом надсмехался Аристотель. А из этого следует, что за представлением о «tabula rasa» могут скрываться различные представ­ ления о душе, уходящие истоками и к Аристотелю, и к Демокриту. В самом уважительном тоне Локк цитирует Цицерона из «Тускуланских бесед», где, в частности, говорится: «...Если душа — это сер­ дце, или кровь, или мозг, тогда, конечно, она — тело и погибает вме­ сте с остальным телом; если душа — это дух, то он развеется, если огонь — погаснет»1. Из этого можно сделать вывод, что Бесконечный и всемогущий Создатель, на которого постоянно ссылается Локк, со­ творил человеку смертную воздушную душу, которая в целях спасе­ ния должна превратиться в душу бессмертную. Строить догадки на­ счет того, как такое возможно, нет никакого смысла. Важнее понять, что синтезировать новоевропейский эмпиризм с материализмом в духе Демокрита непродуктивно. Материализм Локка, подобно современным трактовкам души как ауры, может вдохновлять своей «близостью» к науке. А во времена Локка он, безусловно, был едва прикрытым вызовом церкви. Но это не значит, что он близок к истине. Как это ни парадоксально, но естествен но-научный материализм в духе Локка даже дальше от исти­ ны, чем материализм Аристотеля. Все дело в том, что материальный мир в учении Локка лишен суб­ станциального единства. Как многократно подчеркивается в его «Опыте», в мире существуют только отдельные тела. Но если у антич­ ных стоиков, которых можно считать предтечей средневекового и но­ воевропейского номинализма, Бог присутствует в самих телах, то у Локка Бог как творец мира находится вне тел природы. И к этим взаи­ модействующим телам сотворенный Богом мир как раз и сводится. По большому счету мир у Локка един, поскольку природа сотворена единым Богом. А собственного развития, именуемого природной эво­ люцией, у такого мира быть не может. В результате высказывания Лок­ ка о том, что сама природа созидает сходные и различные тела, нужно воспринимать в качестве общей декларации, не имеющей в самом учении Локка серьезного обоснования. Более того, если растения и животные не связаны друг с другом происхождением как внутренней генетической связью, то любая кл Цит. по: Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 529. 219 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма сификация оказывается произволом ученых. А в результате любая на­ ука, и прежде всего теоретическая, уже исследует не объективные и существенные связи в природе, а субъективные связи между нашими идеями и построениями. Так, номинализм, которого придерживается Локк, оказывается чреват субъективизмом, хотя извлечет его оттуда только Беркли. Свою борьбу с материальной субстанцией Локк продолжает и углубляет, различая номинальную и реальную сущность вещей. И это закономерно, потому что материальное единство мира в отдельной вещи предстает как ее внутренняя, доступная практическим действи­ ям, а вслед за ними и уму, сущность. Именно поэтому последователь­ ный эмпиризм должен отказаться не только от субстанции мира, но и от сущности вещи. Что же касается Локка, то он упраздняет классиче­ ское понимание сущности, предлагая взамен его противоположное эмпирическое толкование. Если Ф.Бэкон, отталкиваясь от четырех аристотелевских причин, сделал ставку на формальную причину вещи, то для Локка это уже неприемлемо. Аристотель, а значит и Бэкон, связывают сущность вещи с ее внутренней субстанциальной формой, а на современном языке — скрытым от чувств законом, определяющим все ее внешние проявления и связи. Что касается Локка, то для него указанная «суб­ станциальная форма» — фикция. Если же говорить о «реальной сущ­ ности», то таковой, по его мнению, можно считать строение вещи, т. е. пусть скрытый от человеческого глаза, но, тем не менее, вполне определенный вид, размеры и соотношение ее плотных частичек. Свое понимание «реальной сущности», в отличие от его субстан­ циального понимания, Локк иллюстрирует на примере золота, чьи свойства — твердость, плавкость, нерастворимость, изменение цвета при соприкосновении с ртутью — зависят от чего-то скрытого от глаз. «Но когда я начинаю исследовать и отыскивать сущность, от которой проистекают эти свойства,— пишет Локк,— я вижу ясно, что не могу обнаружить ее. Самое большее, что я могу сделать,— это предполо­ жить, что так как золото есть не что иное, как тело, то его реальная сущность, или внутреннее строение, от которого зависят эти качест­ ва, может быть только формой, размером и связью его плотных ча­ стиц; а так как ни о чем этом я вообще не имею определенного вос­ приятия, то у меня и не может быть идеи сущности золота, благодаря которой оно обладает своеобразной блестящей желтизной, большим весом, нежели какая-нибудь другая известная мне вещь... Если кто 220 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии скажет, что реальная сущность и внутреннее строение, от которого за­ висят эти свойства, не есть форма (figure), размеры и расположение... плотных частиц золота, а есть нечто, называемое его особой формой (form), то я буду еще дальше прежнего от обладания какой-нибудь идеей реальной сущности золота»1. Итак, «реальную сущность», по убеждению Локка, нельзя воспри­ нять, но в качестве скрытого строения вещи можно предположить, а значит учитывать ее возможное существование в своих действиях и рассуждениях. Что касается субстанциальных форм вещей, то им в реальных вещах, согласно Локку, вообще ничего не соответствует. И потому «субстанциальную форму» он относит к так называемым «номинальным сущностям». Если «реальная сущность» в учении Локка указывает на скрытое строение самой вещи, то «номинальная сущность» указывает на вид и род, к которым вещь относят. При этом последние оказываются в луч­ шем случае названиями для больших групп вещей. «Номинальная сущ­ ность», пишет Локк, в действительности имеет отношение «не столько к бытию отдельных вещей, сколько к их общим наименованиям»2. Причем одним именам, согласно Локку, соответствует множество сходных вещей, а другим вообще ничего не соответствует. Именно к таким фиктивным общим именам и относит Локк «субстанциальную форму», идея которой у него выражает всего лишь сочетание звуков3. Здесь Локк оказывается солидарен с Росцеллином, у которого универ­ салии как общие имена, есть колебание воздуха, и не более. Таким образом, и наши представления о видах и родах вещей, и наши представления об общих сущностях Локк считает ложными. Но, отказываясь признавать материю самостоятельной субстанцией, Локк сохраняет сам этот термин, предлагая в качестве его содержания один лишь момент плотности (без протяженности и фигуры). Для него вполне очевидно, что слово «материя» имеет истинное содержа­ ние лишь тогда, когда обозначает то же, что и «тело»4. Именно в этом смысле и говорит Локк о возможной «материальности» души в своей полемике со Стиллингфлитом. Проверку опытом в учении Локка выдерживают лишь простые идеи, полученные извне и изнутри. Но картина будет неполной, если 1 2 71 4 Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 433-434. Там же. С. 500. См. там же. С. 434. См. там же. С. 556-557. 221 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма мы еще раз не напомним о той сложной идее, которую Локк вырывает из общего ряда. Это, конечно, идея Бога, которую Локк, в противопо­ ложность Декарту, не считает врожденной. Но утверждая, что идея этого вечного, всеведущего, всемогущего, бесконечно мудрого и бла­ женного существа — результат распространения в бесконечность тех сил и деятельности, о которых мы узнаем путем самопознания, Локк не устает повторять, что эта идея, безусловно, ясная и отчетливая, в отличие от других1. Здесь стоит уточнить, что в советской философии в Локке тоже видели не вполне последовательного материалиста, учение которого отягощено влиянием деизма. Такая трактовка происходит из характе­ ристики Локка в «Святом семействе» Марксом и Энгельсом, где в частности сказано: «Как Гоббс уничтожил теистические предрассуд­ ки бэконовского материализма, так Коллинз, Додуэлл, Кауард, Гартли, Пристли и т. д. уничтожили последние теологические границы локковского сенсуализма. Деизм — по крайней мере для материали­ ста — есть не более, как удобный и легкий способ отделаться от религии»2. В первой половине XIX столетия, когда Маркс и Энгельс давали указанную характеристику, деизм Локка, как и других мыслителей Нового времени, выглядел внешним допущением Бога, под прикры­ тием которого набирало силу материалистическое воззрение на мир. Но XX век с его торжеством позитивизма вынуждает относиться к Локку по-другому. Ведь именно у него материализм, не успев набрать силу, оказывается пораженным эмпиризмом. Как показала последующая эволюция философии, деизм для ма­ териализма представляет меньшую опасность, чем эмпиризм. Ес деиста после божественного первотолчка мир живет по собственным законам, то эмпиризм несовместим с самодвижением и тем более са­ моразвитием природы. Суть в том, что в эмпиризме Локка природа лишается силы и основы уже по другим, не связанным с религией, причинам. Бог в учении Локка, оставаясь всемогущим существом, уже не в состоянии придать миру субстанциальный смысл, но и сам мир в его эмпирически-номиналистской трактовке не в состоянии об­ рести силы и значимости. А в результате он рассыпается на тела и яв­ ления, по поводу которых с достоверностью можно говорить лишь об их отдельных свойствах. ' См.: Локк Д. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 503-504. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 144. 2 222 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Таким образом, отказывая материи в праве быть субстанцией, Локк делает материализм бесплодным. И естественное порождение та­ кого материализма — это его противоположность, т. е. идеализм берклианского типа. Материализм, идущий от Локка, не способен поро­ дить последовательного в своей оригинальности понимания души, по-новому объясняющего ее единство. В свое время Фома Аквинский синтезировал христианские представления о душе с языческой му­ дростью в лице Стагирита и получил предельно схоластичное, хотя и близкое идее личного спасения, решение проблемы. Локк также склоняется к компромиссу между христианством и языческой мудро­ стью в лице Демокрита и Цицерона. Но решение проблемы души, предложенное им в полемике со Стиллингфлитом, хотя и понятно наивному сознанию, но еще менее продуктивно, чем предложенное Фомой. И тем не менее, бросая вызов идее субстанциальности души, Локк, по сути, начинает расчищать дорогу субстан циализму иного толка. Ведь без эмпиризма Локка не мог возникнуть не только субъ­ ективизм Д. Беркли, но и радикальный скептицизм Д. Юма. А дости­ жение Юма как раз в том, что, не желая компромиссов, он доводит эмпирический подход к проблеме души до его предельной четкости и ясности, и тем самым провоцирует методологический переворот Канта. 2. Д. Юм и вызов единству души Начнем с того, что Давид Юм жил в век Просвещения и сам был выдающимся английским просветителем. Он родился в Эдинбурге — столице Шотландии, которая в XVIII веке достигла серьезного эконо­ мического процветания. Ранее Шотландия была известна лишь как родина клетчатых мужских юбок, виски и волынок. Но уже во време­ на Юма сельское хозяйство Шотландии стало образцом для всей Ев­ ропы. В Шотландии набирал силу промышленный переворот. Что касается культурной жизни этой части Британских островов, то она была весьма противоречивой. С одной стороны, национальная пресвитерианская церковь рев­ ностно следила за поведением мирян, запрещая даже выставлять картины и ставить пьесы. А с другой стороны, Эдинбург именовали Северными Афинами. И связано это было с шотландскими универ­ ситетами, в которых преподавали известные просветители Ф.Хатчесон, А. Фергюсон, Т. Рид, А. Смит и др. Большинство преподавателей 223 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма в университетах имели религиозный сан, и, тем не менее, в отличие от Оксфорда и Кембриджа, студентам здесь давали не узкое специ­ альное, а широкое гуманитарное образование, основу которого со­ ставляла «моральная философия» прославившей себя Шотландской школы. Обстоятельный анализ проблемы души мы находим в самом из­ вестном произведении Юма, полное название которого «Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опы­ те метод рассуждения к моральным предметам». Уже в самом этом названии прослеживается отношение Юма к «моральной филосо­ фии», мимо которой он пройти, конечно, не мог. Надо сказать, что это было первое крупное произведение Юма, написанное уже к 25 го­ дам, две части которого он опубликовал в 1739 году анонимно. Кри­ тикой субстанциального понимания души завершается первая книга трактата под названием «О познании», что само по себе вполне зна­ менательно и логично. Отличаясь от Локка однозначностью постановки и решения про­ блем, Юм в вопросе о природе нашего духа выступает против субстанциализма во всех известных ему формах, т. е. против материализ­ ма и идеализма одновременно. Идея субстанции, уточняет Юм, пред­ полагает присущность наших впечатлений, мыслей и аффектов чему-то другому, существующему само по себе. У материалистов та­ кая субстанция является протяженной, а значит, уточняет Юм, следуя этой логике, впечатления и аффекты должны занимать место в про­ странстве, что, по его мнению, нелепо. «И действительно, может ли кто-нибудь представить себе аффект длиной в один ярд, шириной в один фут и толщиной в один дюйм?»1— заявляет Юм, полемизируя с материалистами. А по сути он полемизирует здесь с Локком, у кото­ рого душа тоже занимает определенное место в пространстве. «Моральное размышление не может быть помещено направо или налево от аффекта, — замечает в другом месте Юм,— а запах или звук не может обладать круглой или квадратной фигурой»2. Речь, таким образом, идет о способе существования или, как выражается Юм, о ло­ кальном соединении души с материей. И его вывод состоит в том, что то, что принадлежит «душе», в отношении которой он применяет только английское слово «soul», реально существует, однако при этом нигде не находится. 1 2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. М., 1995. Кн. 1. С. 325-326. Там же. С. 327. 224 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Но опыт демонстрирует нам и другие проявления души, которые как будто бы связаны с протяжением. Таковы, согласно Юму, впечат­ ления и идеи, полученные зрением и осязанием, в отличие отданных слуха и вкуса. В качестве иллюстрации Юм приводит пример фиги, лежащей на одном краю стола, и оливы, лежащей на другом. Обычно сладкий вкус фиги, т. е. инжира, и горький вкус оливы отождествляют с определенными телами в некотором месте пространства. Но, по убеждению Юма, это иллюзия, которая рождается из склонности че­ ловека к смешиванию смежного со сходным и сходного в положении со сходным по качеству. И как всякая иллюзия, считает он, отнесение вкуса к определенному месту в пространстве должно быть критически преодолено разумом. «Итак,— читаем мы у Юма,— мы находимся под влиянием двух прямо противоположных друг другу принципов, а именно: склонно­ сти нашего воображения, которая принуждает нас объединять вкус с протяженным объектом, и разума, показывающего нам невозмож­ ность подобной связи. Колеблясь между этими противоречивыми принципами, мы не отказываемся ни от того, ни от другого, но оку­ тываем предмет такой неясностью и темнотой, что уже не замечаем противоположности. Мы предполагаем, что вкус существует в преде­ лах тела, но таким образом, что он заполняет последнее вполне, не будучи протяженным, и существует в каждой его части целиком, не разделяясь»1. Парадоксы такого рода возникают, согласно Юму, из-за сочета­ ния в нашем опыте разнородных впечатлений, которым материали­ сты и идеалисты дают противоположную трактовку. И выход из это­ го затруднения связан с принципиально иной позицией, отвергаю­ щей идею субстанции. Такую позицию, согласно Юму, занимает разум, в котором представлена самокритика чувственного опыта. Причем разум у Юма несопоставим с этой способностью у рациона­ листов, поскольку у него, как и во всей эмпирической традиции, он непосредственно вырастает из чувств. И здесь его прямым предше­ ственником, конечно, является Локк. Но важно иметь в виду, что даже в своей критической ипостаси разум в учении Юма не является проявлением активности и даже отдаленно не напоминает разум у философов-рационалистов. Юм часто намекает на то, что ум есть и у животных, а у человека он присутствует лишь β превосходной степе­ ням Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 330. 225 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма ни, т. е. отличается от ума животных только количественно. В любом случае человеческий ум в учении скептика Юма играет незавидную роль. Здесь следует заметить, что Юм критически относится ко многим сторонам в учении Локка и, в частности, считает, что тот смазал суще­ ственное различие между «впечатлением» и «идеей», представляя все и вся в роли простых и сложных идей. «Быть может,— отмечает он в самом начале своего трактата,— я скорее возвращу слову идея его пер­ воначальный смысл, от которого оно было удалено Локком, обозна­ чавшим с его помощью все наши восприятия...»1 В отличие от Локка, Юм считает исходной реальностью, с кото­ рой мы имеем дело в опыте, именно впечатление. «Впечатлениями» он называет «все наши ощущения, аффекты и эмоции при первом их появлении в душе»2. Однако стоит обратить внимание на то, что в сравнении с эмпиризмом, к примеру, того же Локка, отношения тут перевернуты. Ведь впечатление у Юма отнюдь не образ, а образом как раз является идея. «Идеями» он называет «слабые образы этих впечат­ лений в мышлении и рассуждении»3. И все же, переворачивая отношения между впечатлением и идеей, Юм по большому счету остается верен эмпирической традиции. Ведь разница между впечатлением и идеей у него остается чисто количест­ венной в то время, как differentia specifica идеи — в ее качественном отличии от чувственного образа. У Юма идея — это только образ «впе­ чатления», тогда как, к примеру, идея паровоза — это вовсе не образ впечатления, которое он производит в нас. Идея паровоза кому-то пришла в голову раньше, чем появился сам паровоз, и в этом смысле идея даже предшествует «впечатлению». Таков изначальный смысл понятия «идея», каким его ввел Платон. Ведь идеи у Платона — не образы, а прообразы вещей, а значит их всеобщие сущности. Англичане, как заметит потом Гегель, имея в виду филосо­ фов-эмпириков, «идеей» называют даже чувственный образ собаки. Но идея в изначальном ее смысле не есть чувственное, а она, наобо­ рот, выражает сверхчувственное в вещах. Если идеи нет в этом качест­ ве, то ее нет вообще. Иначе говоря, чтобы вернуть «идее» ее первона­ чальный смысл, нужно, как минимум, показать, каким образом в идее подвергается отрицанию чувственное «впечатление». Но именно 1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 58. См. там же. С. 57. ' См. там же. 2 226 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии этой отрицательности у Юма нет, и его «идеи» не выводят нас за пре­ делы чувственного опыта. А если бы такое возвращение Юму удалось, то это бы разрушило все его последовательно скептическое учение. По сути Юм переосмысляет большинство классических представ­ лений. А с другой стороны, он смазывает уже существующие разли­ чия. Например, Юм не уточняет различия между представлением и понятием и употребляет термин «notion» ( понятие) в значении, соот­ ветствующем «представлению». Впечатления и идеи — это своеобразные «атомы» теории позна­ ния Юма. И свою задачу он видит в анализе их соотношений. С этой целью Юм вводит принцип ассоциации психических образов, который стал затем основой ассоцианистской психологии. В Юме вообще ча­ сто видят одного из основоположников науки психологии. Сам же он считал, что на основе принципа ассоциации можно создать аналог ньютоновской физики применительно к человеку. В отличие от Бер­ кли, он видел в учении Ньютона образец научного знания и руковод­ ствовался им при написании «Трактата о человеческой природе». Особенно привлекательным для Юма был призыв Ньютона: «Физи­ ка, берегись метафизики!». Тем же пафосом проникнуты исследова­ ния Юма в области теории познания и моральной философии. Но если у Ньютона действуют определенные силы, к примеру, та же самая гравитация, то Юм разлагает и это классическое представле­ ние. Указывая на то, пишет он, что «какое-то существо высшей или низшей природы обладает некоторой мощью или силой, пропорцио­ нальной некоторому действию, говоря о необходимой связи между объектами и предполагая, что эта связь зависит от дееспособности или энергии, которой обладает один из объектов, пользуясь всеми этими выражениями в указанном применении, мы в действительности не придаем им точного смысла, но лишь употребляем привычные слова, не соединяя с ними ясных и определенных идей»1. Иначе гово­ ря, прояснив все эти смыслы, мы должны понять: кажущееся нам действием силы наделе является простым сочетанием идей. А потому мнимую идею силы можно редуцировать до сходных отношений по­ следовательности и смежности, к которым у Юма и сводятся главны образом ассоциации. И то же самое касается нашего ума. «Словом, акты нашего ума,— пишет Юм,— в данном отношении тождественны актам материи. Мы Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 245-246. 227 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма воспринимаем только их постоянное соединение и никак не можем выйти за его пределы при помощи рассуждения. Ни в одном внутрен­ нем впечатлении не содержится явно энергии более, чем ее имеется во внешних объектах»1. Иначе говоря, все наши действия и способно­ сти, а не только разум, лишены внутренней энергии и активности. Пассивна память, которая в учении Юма удерживает образы после прекращения воздействия извне. Лишено энергии воображение, ко­ торое перемещает идеи куда угодно. Хотя Юм отмечает живость и интенсивность наших впечатлений, в отличие от идей как их слабых образов, то и другое у него пассивно. Все, что представлено в нашем опыте, не взаимодействует, а только сочетается. И впечатления, и идеи, уверен Юм, отражают не общее (сущность), а частное (явление), не объективную связь, а субъектив­ ное отношение. А точнее говоря, это сугубо внешние соотношения, ко торые разлагать и упрощать дальше просто невозможно. Вообще, скептицизм очень часто играет роль своеобразного alibi, которое люди себе выдумывают, чтобы спокойно жить на свете. Суть этого alibi в том, что в мире нет ничего существенного и постоянного, отношения ни к чему не обязывают, нет никаких абсолютных ценно­ стей, а потому нечего и беспокоиться. Но скептицизм Юма еще не обрел того пошлого характера, какой он имеет в современном мире, где любая жизненная позиция принимается только сугубо условно в обмен на обеспеченную жизнь. И серьезность скептицизма Юма про­ является в том, что он выступил против субстанциальности Бога в то время и в той среде, где такой образ мыслей вовсе не приветствовался и не сулил гарантированного жизненного успеха. У Локка, как мы помним, материальная душа парадоксальным образом дополняется бытием нематериального Бога. Нечто подобное было и у Помпонацци. Юм более последователен в отрицании субстан­ ции любого толка. Новизна его позиции в том, что существование Бога так же сомнительно, как и существование материи. Ведь ни то, ни дру­ гое не дано нам в чувственном опыте. Бога, например, мы не видим, не слышим, вообще никак не ощущаем. Но откуда берется представление о нем не только в обыденном сознании, но и в теологии? Юм убежден, что христианская вера в Бога есть результат неправо­ мерного распространения опытных данных на сверхопытную область, распространения данных о конечном на бесконечное. Именно так, по 1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 244. 228 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии его мнению, поступают теологи в своих доказательствах бытия Божия. К примеру, они не правы, когда на основании идеи Бога в нашем разуме утверждают его реальное существование. А как раз на этом по­ строено известное «онтологическое доказательство» бытия Бога. Бо­ лее того, все катафатическое богословие, которое судит о Боге по ана­ логии с его творениями, с точки зрения Юма, не выдерживает крити­ ки. «Могут, правда, сказать,— заявляет Юм,— что связь между идеей бесконечно могущественного существа и идеей любого действия, ко­ торого оно хочет, необходима и неизбежна, но я отвечу на это, что у нас нет идеи существа, обладающего какой бы то ни было мощью, а еще менее такого, которое обладало бы бесконечной мощью»1. Здесь, как мы видим, объектом критики оказывается метафизика, а точнее рациональная теология с ее размышлениями над идеей Бога, которую затем будет критиковать Кант. И точно так же Юм не согласен с суще­ ствованием бессмертной души, идея которой в XVIII веке стала пред­ метом рациональной психологии. Именно в области метафизики, согласно Юму, мы имеем дело с множеством смутных и несовершенных идей. Дело в том, что разум, по его мнению, должен заниматься теми идеями, которые произошли из восприятий. В ином случае перед нами фикция, которую следует искоренять. Указанную позицию Юма впоследствии назовут «брит­ вой Юма», по аналогии с «бритвой Оккама», предлагавшего не пло­ дить лишних сущностей. Естественно, что главная фикция — это субстанция. С одной сто­ роны, субстанцией считают Бога. С другой стороны, в качестве суб­ станции нам представляются отдельные вещи. И происходит это за счет «игры воображения», способной представить множество («пу­ чок») впечатлений в качестве единого «нечто» с неизменными качест­ вами. Причем существенную роль здесь играет язык, который с помо­ щью имени закрепляет такую «игру воображения». «Особенная идея становится общей,— пишет Юм,— будучи присоединена к общему имени, т. е. к термину, который благодаря привычному соединению со многими другими особенными идеями находится в некотором отно­ шении к последним и легко вызывает их в воображении»2. И, наконец, бессмертная душа человека, которую также привыч­ но мыслят в качестве субстанции. Как и в других случаях, Юм под1 2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 341. Юм Д. Соч.: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 114. 229 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма робным образом объясняет механизм формирования этой иллюзии, суть которой в неприметности переходов между впечатлениями. И на этой основе воображение формирует видимость, будто мы имеем дело с чем-то единым. В главе под названием «О нематериальности души» Юм выдвигает, на его взгляд, несокрушимые аргументы против идеи души как нематериальной субстанции. И главный из них связан с ате­ измом Спинозы, который также признавал существование субстан­ ции. «Я утверждаю, что доктрина о нематериальности, простоте и не­ делимости мыслящей субстанции,— пишет Юм,— равнозначна чи­ стейшему атеизму и что ею можно воспользоваться для оправдания всех тех мнений, из-за которых Спиноза повсеместно пользуется столь дурной славой»1. Юм, издавший свой трактат анонимно, прекрасно сознавал, что главным обвинением против него будет обвинение в атеизме. И един­ ственный способ защиты он видел в том, чтобы обернуть это обвине­ ние против самих обвинителей. Особой мишенью здесь оказываются Локк и Беркли, которые, разоблачая материальную субстанцию, при­ знают субстанциальность за началом духовным, а точнее божествен­ ным. Юм не ставит знак равенства между собой и Спинозой, который, как мы знаем, считал Богом Природу. Кроме того, будучи скепти­ ком, Юм высказал как-то на обеде у барона Гольбаха сомнение в су­ ществовании стопроцентных атеистов. Но в любом случае у теизма и атеизма Юм видит общий серьезный порок. Его суть в том, что из единого, простого и неделимого бытия выводят различные и даже противоположные модификации. «Всякий душевный аффект, вся­ кое материальное образование,— пишет Юм о Спинозе,— как бы различны и разнообразны они ни были, принадлежат одной и той же субстанции и сохраняют в себе присущие им черты отличия, не передавая их той сущности, которой они принадлежат»2. И далее он уточняет: «Я думаю, что данное здесь краткое изложение принципов знаменитого атеиста окажется достаточным для настоящей цели и мне удастся, не углубляясь далее в эти мрачные и туманные области, доказать, что указанная мной непривлекательная гипотеза почти то­ ждественна получившей такую популярность гипотезе о нематери­ альности души»3. 1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 332. Там же. С. 332-333. ' Там же. С. 333. 2 230 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Юм воспринимает как полную нелепость спинозовское различие между единой субстанцией и многообразными модусами. В своей полноте учение Спинозы для него абсолютно неприемлемо. Но если отбросить спинозовскую субстанцию, то с модусами в общем-то мож­ но согласиться. По сути содержание нашего опыта в учении Юма на­ поминает лишенные своей основы модусы Спинозы, которые в итоге обрели призрачный характер субъективных впечатлений. При этом Юм отрицает не только душу как нечто единое и недели­ мое, но и не признает объективности ее содержания в общепринятом смысле. Уже приводились доводы Юма в пользу того, что впечатле­ ния, конечно, существуют, однако, они, тем не менее, нигде не нахо­ дятся. Соотнесенность впечатлений между собой налицо, но идея необходимой связи впечатлений с объективным материальным ми­ ром — очередная фикция. И все же надо сказать, что в убеждениях Юма присутствует элемент наивного материализма, который связан с чисто психологическим феноменом доверия. Вера, или доверие, оказывается у Юма одним из главных проявле­ ний человеческой природы. Причем Юм различает религиозную веру как «faith» и доверие как «belief». И как раз внутренняя уверенность в присутствии внешнего мира отделяет скептицизм Юма от субъекти­ визма типа Беркли. В отличие от Беркли, Юм не раз упоминает о том, что, хотя мы не можем судить о подлинном состоянии внешнего мира, а только о собственном опыте, этот мир существует, в силу на­ шего изначального доверия к нему. Любая вера, согласно Юму, проис­ ходит из обыкновенного человеческого доверия. И с этим связана оригинальность подхода Юма к феномену мистической религиозной веры. Тем не менее, в соответствии со своей теорией познания, Юм в конечном итоге редуцирует акт доверия к особой живости, прочно­ сти, твердости и стойкости впечатления. «Этот акт нашего духа,— пишет он,— еще никогда не был объяснен ни одним философом, по­ этому я вправе предложить свою гипотезу, состоящую в том, что акт этот не что иное, как сильное и устойчивое (strong and steady) пред­ ставление какой-нибудь идеи, до известной степени приближающей­ ся к непосредственному впечатлению»1. Если у Спинозы модусы, в отличие от субстанции как causa sui, не способны к самодетерминации, то «модусы» Юма не способны даже к механическому взаимодействию. Как уже говорилось, взаимоотноЮм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 168 (прим.). 231 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма шения впечатлений и идей Юм редуцирует до системы внешних соот­ ветствий. И, таким образом, в теории познания Юма человек оказы­ вается лишен не только субъектного начала, но и любых проявлений активности. Когда мыслители Возрождения, вслед за античными гре­ ками, говорили о микрокосме как отражении макрокосма, они имели в виду присутствие в мире и человеке активного творческого начала. Юм редуцирует активность возрожденческого субъекта к ассоциатив­ ным процессам, и не более. И эту методологию Юм осуществляет до­ вольно настойчиво, причем не только в теории познания, но и в своей этике. Во втором томе его «Трактата о человеческой природе» мы нахо­ дим специальный параграф, посвященный развенчанию мифа о сво­ боде воли. Каждый раз в поступках человека, доказывает Юм, при­ сутствует некая движущая сила. Пытаясь вернуть свободу, приводит пример Юм, узник будет воздействовать на камни и решетки, не по­ лагаясь на неумолимый характер тюремщиков. И во всем этом, по мнению Юма, проявляется необходимость, подтверждающая, что у каждого действия человека есть своя причина1. Таким образом, воля человека предстает у Юма как отличная от свободы воли и в своей необходимости исключающая какую-либо слу­ чайность. «Согласно моим определениям,— пишет он,— необходи­ мость является существенной частью причинности, а, следовательно, свобода, устраняя необходимость, устраняет и причины и оказывает­ ся тождественной случайности»2. Юм здесь мыслит, на первый взгляд, парадоксально, поскольку в других разделах «Трактата о человеческой природе» он как раз развенчивает миф о существовании причинно­ сти. Тем не менее, все становится на свои места, если предположить, что непреложной данностью для Юма являются факты нашего опыта и соотношения между ними. Что касается свободы воли, то она выгля­ дит как самопроизвольное действие, возникающее само по себе. Такого ни с чем не связанного факта опыта Юм потерпеть не может, а потому опровергает его существование от имени причинности. Ну а затем остается лишь представить указанную причинную связь как связь не генетическую, а чисто ассоциативную. Напомним, что Юм предпосылает теорию познания этике, считая решение моральных вопросов своей главной задачей. Но мостиком между теорией познания и этикой Юма является его учение об аф1 2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 2. С. 156. Там же. С. 157. 232 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии фектах, которое в наши дни можно трактовать как ассоцианистскую теорию эмоций. Дело в том, что, по мнению Юма, человеком руково­ дят аффекты, и на них построено объяснение как этических, так и политических явлений. Под аффектом, согласно Юму, мы должны понимать сильную и ощутимую эмоцию нашего духа, возникающую в ответ на некоторое благо, или зло, или какой-нибудь объект, кото­ рый в состоянии вызвать в нас стремление к себе. А главный аффект человека, если судить по «Трактату»,— это симпатия, противополож­ ная эгоизму. Характеризуя суть морального поведения, Юм выступает против этических учений рационалистов, идущих от великого Сократа. Разум, по мнению Юма, никак не влияет на наши поступки. «Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом,— иронизирует он,— если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец»1. Как мы видим, опровергая этический рациона­ лизм, Юм приводит примеры в духе «подпольного человека» Досто­ евского. Все тут как будто бы ясно. И в аффектах хотелось бы видеть аналог сил отталкивания и притяжения в учении Ньютона. Но наделе в уче­ нии Юма все иначе, и аффект в его трактовке столь же несамостояте­ лен и пассивен, как впечатление и идея. Обычно в аффектах видят различные проявления темперамента, характера и других особенно­ стей субъекта. Но у Юма опять все наоборот. И аффект в его трактов­ ке определяется не внутренним, а внешним, не субъектом, а внешни­ ми воздействиями. А логика при этом все та же: разные аффекты не могут быть обусловлены одним и тем же Я в качестве причины. А зна­ чит, внутреннее единство Я есть фикция. «Но, хотя связная последо­ вательность перцепций, которую мы называем своим я, всегда явля­ ется объектом двух упомянутых аффектов,— пишет Юм о гордости и униженности,— она не может быть их причиной и ее одной недоста­ точно для того, чтобы возбудить их»2. Итак, наше Я, согласно Юму, не может быть источником аффектов. И аргументирует он это тем, что один и тот же человек, к примеру, не может быть одновременно гордым и униженным3. Но почему же нет? Здесь Юм уже не предвосхищает, а явно не дотягивает до знания чело­ веческой психологии Достоевским, у которого состояния героев, как · Юм А- Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 557. Юм А· Трактат о человеческой природе. Кн. 2. С. 10. ' Там же. 1 233 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма правило, амбивалентны. Стоит вспомнить хотя бы любовь-ненависть Версилова и Ахмаковой в «Подростке». Как мы видим, диалектика нашего Я просто не умещается в рассу­ дочные клише Юма. И здесь стоит указать на примечательный факт из его биографии. Дело в том, что Юм с юности увлекался науками. Но его мать, умная и образованная женщина, оценила при всем этом таланты младшего сына следующим образом: «У нашего Дэви превос­ ходный характер, но он удивительно слаб умом»1. Эту характеристику большинство биографов воспринимают как парадоксальную и зага­ дочную. Своеобразной разгадкой, однако, может быть оценка его личности со стороны М.В.Сабининой, автора прекрасного очерка о Юме в «Биографической библиотеке Ф. Павленкова». «В своей про­ заичности,— пишет она,— Юм доходил до полного непонимания красоты и до неумения наслаждаться ею. Живопись, скульптура и му­ зыка решительно не существовали для этого сухого и строгого мысли­ теля...»2 Вполне возможно, что под «слабостью ума» мать имела в виду крайнюю рассудочность Юма, проявлявшуюся, прежде всего, в эсте­ тической ограниченности этого философа. Но, несмотря на эту яв­ ную ограниченность в развитии фантазии, Юм рисует в своих фило­ софских работах невероятную картину мира, в которой все сводится к аморфным впечатлениям, отношения которых с трудом поддаются выражению обычными словами. И надо сказать, что сам шотланд­ ский философ постоянно путается в своих построениях. Разоблачая активность субъекта и отвергая причинность, он регулярно соскаль­ зывает на рассуждения о волевых актах, причинно-следственной об­ условленности и взаимодействиях в окружающем мире, т. е. вступает в противоречие со своими собственными скептическими принципа­ ми и выводами. В связи с этим интересны те сомнения в своих построениях, кото­ рые Юм обнародовал в конце первой книги «Трактата о человеческой природе». «Интенсивное рассмотрение разнообразных противоречий и несовершенств человеческого разума,— пишет Юм,— так повлияло на меня, так разгорячило мою голову, что я готов отвергнуть всякую веру, всякие рассуждения и не могу признать ни одного мнения хотя бы более вероятным или правдоподобным, чем другое. Где я и что я? 1 См.: Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. СПб., 1998. С. 11. (Жизнь замечательных людей.) 2 Там же. С. 14. 234 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Каким причинам я обязан своим существованием и к какому состоя­ нию я возвращусь? Чьей милости должен я добиваться и чьего гнева страшиться? Какие существа окружают меня и на кого я оказываю хоть какое-нибудь влияние или кто хоть как-нибудь влияет на меня? Все эти вопросы приводят меня в полное замешательство и мне чу­ дится, что я нахожусь в самом отчаянном положении, окружен глубо­ ким мраком и совершенно лишен употребления всех своих членов и способностей»1. Собственные скептические построения могли вогнать даже до­ бродушного Юма в состояние меланхолии, исцеление от которой он видел только в обыденных занятиях, способных развеять любые хи­ меры. «Я обедаю, играю партию в трик-трак, разговариваю и смеюсь со своими друзьями, — пишет он,— и если бы, посвятив этим развле­ чениям часа три-четыре, я пожелал вернуться к вышеописанным умозрениям, они показались бы мне такими холодными, натянутыми и нелепыми, что я не смог бы заставить себя снова предаться им»2. Стоит обратить внимание на то, что в своем стремлении опирать­ ся только на опыт Юм в итоге приходит к самым «натянутым» и «не­ лепым» умозрениям, которые сам же в сердцах именует «бредом». А это говорит о том, что, отказываясь учитывать специфику разума, мы мо­ жем оказаться в плену его самых худших проявлений. И тогда эмпи­ ризм в своем предельном выражении оборачивается самой беспоч­ венной умозрительностью построений. В момент меланхолии Юм, по сути, проговаривается в этом. И по­ следнее подталкивает его к выводу о скептическом отношении к са­ мому философскому скептицизму. «Истинный скептик,— пишет Юм,— будет относиться с недоверием не только к своим философ­ ским убеждениям, но и к своим философским сомнениям, однако он никогда не откажется от того невинного удовольствия, которое могут доставить ему как те, так и другие»3. Но вернемся к тому месту в «Трактате о человеческой природе», где, разоблачая идею нематериальной души, Юм обвиняет Спинозу в мистицизме. При этом его собственная картина мира, выстроенная философствующим рассудком, не соответствует даже его обьщенному проявлению — здравому смыслу, а потому нуждается в таинственных подпорках, главной из которых оказывается «человеческая природа». 1 2 3 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. С. 364. Там же. С. 365. Там же. С. 369. 235 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма А в итоге противоборство с метафизикой оборачивается у Юма той же самой метафизикой в худшем из ее проявлений. В свое время Локк не смог вывести разум из ощущений, да это и невозможно сделать. Разум — особое качество, которое не содержит­ ся непосредственно в ощущениях, но, тем не менее, организует их, опираясь на возможности практики. А Юм даже не пытается всерьез объяснить природу разума. Так же, как и у Локка, разум появляется у него, как античный «бог из машины», взявшись неизвестно откуда. Более того, не только разум, но и все остальные способности челове­ ка, включая память, воображение, веру и пр., являются у Юма изна­ чальными «качествами» человеческой природы, которые он иногда именует «принципами», а иногда «инстинктом» наших душ. И сама идея подобных «качеств» — прекрасная «пал очка-выручал очка» в трудно объяснимых ситуациях. Выходит так, что избавляясь от одних фиктивных идей, Юм вво­ дит другие. Впрочем, рассуждения о непознанной, по сути, человече­ ской природе, на которую можно все списать, были очень популярны в его время. Юм нуждается в этом потому, что даже то минимальное своеобразие, которое он признает за способностями человека, полно­ стью редуцировать, т. е. свести без остатка к опыту, невозможно. И тогда появляется все и вся объясняющая «человеческая природа». Вот что пишет Юм о природе нашего духа: «Ибо мне представляется очевидным, что сущность духа (mind) так же неизвестна нам, как и сущность внешних тел, и равным образом невозможно образовать какое-либо представление о силах и качествах духа иначе как с помо­ щью тщательных и точных экспериментов и наблюдений над теми особыми действиями, которые являются результатом различных обстоятельств»1. Несмотря на некоторые авансы, которые Юм выдает здесь науке в исследовании природы духа, в других местах он не уступает ни пяди тем, кто надеется доказать внутреннее единство души или, как Локк, заменяют традиционную проблему души новой проблемой тождества личности. В своей критике души как особой духовной субстанции Юм вполне последователен, распространяя ее и на локковскую идею тождества личности. Он открыто выступает с критикой идеи реф­ лексивной деятельности нашего Я, посредством которой весь опыт осознается как опыт конкретной личности. Как всегда, Юм заявляет о 1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 2. С. 51. 236 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии фиктивности этой идеи и указывает на истинную, по его мнению, причину такой видимости — нашу память. Не активная рефлексия, а пассивная память, по мнению Юма, со­ здает видимость тождества личности за счет того, что мы можем зад­ ним числом пробежать последовательность своих восприятий. «Итак, с данной точки зрения,— пишет Юм,— память не столько произво­ дит, сколько открывает личное тождество, указывая нам отношение причины и действия между нашими различными восприятиями»1. Но такое личное тождество тождеством личности в общепринятом смы­ сле, конечно, не назовешь. Таким образом, Юм изничтожает не толь­ ко традиционное схоластическое понимание души как духовной суб­ станции, но и собственно эмпирическое понимание души, где она равн рефлексии опыта, формирующей нашу личность и наше Я. Юм раз­ рушает как внутреннее единство души как субстанции, так и ее внешне единство в виде тождества личности. Здесь стоит упомянуть еще об одной работе Юма, напрямую свя­ занной с проблемой души. Прижизненные издания «Трактата о чело­ веческой природе», написанного Юмом во Франции, были аноним­ ными по понятным причинам. То же самое касается его эссе «О бес­ смертии души», написанного значительно позже, между 1755 и 1757 годами. Это эссе он вообще изъял из печати, опасаясь преследо­ ваний со стороны церкви. В этой небольшой по объему работе Юм критикует метафизиче­ ские и физические доводы, приводимые обычно в пользу бессмертия души. Контрдоводы Юма здесь предельно ясны, доходчивы и кратки. Приведем некоторые из них. Если душа бессмертна, рассуждает Юм, то она существовала до нашего рождения. Но если нам нет дела до этого предыдущего существования, то почему должно интересовать последующее. Далее он формулирует уместный, по его мнению, во­ прос: «Несомненно, что животные чувствуют, мысляотят и даже рас­ суждают, хотя и менее совершенным образом, чем люди. Значит их души тоже нематериальны и бессмертны?»2 А вот рассуждения Юма о единстве души и тела: «Слабость тела в детстве вполне соответствует слабости духа; будучи оба в полной силе и зрелом возрасте, они совместно расстраиваются при болезни и по­ степенно приходят в упадок в преклонных годах. Представляется не1 2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 2. С. 356-357. Юм Д. Малые произведения. М., 1996. С. 173. 237 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма избежным и следующий шаг — их общий распад при смерти»1. И да­ лее он продолжает: «Поэтому противно всякой аналогии изображать, что только одна форма, по-видимому самая хрупкая из всех и подвер­ женная к тому же величайшим нарушениям, бессмертна и неразру­ шима. Что за смелая теория! Как легкомысленно, чтобы не сказать безрассудно, она построена»2. Такие доводы могут принадлежать только атеисту. Тем не менее, многие исследователи считают, что Юм, в соответствии со своей скептической позицией, все же допускал существование некой «выс­ шей причины», о которой мы не имеем свидетельств в опыте. Такую позицию принято именовать «естественной религией», и она, конеч­ но, не имеет ничего общего ни с католицизмом, ни с протестантиз­ мом. Характерная ситуация, в связи с убеждениями Юма, сложилась в момент его смерти. Молодой журналист Д. Босуэлл посетил умираю­ щего скептика для того, чтобы убедиться, как в смертных муках он будет каяться и просить помощи у Бога. Но Юм умирал с античной невозмутимостью. Более того, он поведал Босуэллу, что потерял веру в какую-либо религию, когда стал читать Локка и Кларка. Отвергнув возможность бессмертия на примере угля, брошенного в огонь, Юм с добродушной улыбкой поведал журналисту о том, как когда-то при­ знался атеисту лорду Маршаллу, что в каком-то смысле верит в Бога, из-за чего тот с ним неделю не разговаривал. Все это Босуэлл занес в дневник, как и то, что говорилось на похо­ ронах Юма, где обвинения в атеизме парировались заявлениями о том, что покойный был честным и порядочным человеком. Религиоз­ ным убеждениям журналиста обстоятельства смерти Юма нанесли большую душевную травму, которую тот пытался утопить в вине. В конце концов ему пригрезилось, что найден дневник Юма, в кото­ ром он признается в своей тайной вере в Создателя. Но вернемся к взглядам Юма и основному противоречию юмизма. Дело в том, что, опровергая абсолютную истину схоластической философии и христианской теологии, он по сути опровергает Истину вообще, в том числе и истину новоевропейской науки, истину ньюто­ новской физики. Именно это и выведет из себя Канта. Мы начали с того, что Юм был известным просветителем. Но идеи Просвещения, вырастающие на почве эмпирической филосо1 1 Юм Д. Малые произведения. С. 177. Там же. С. 178. 238 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии фии, дают специфический результат. Антидогматизм и критицизм Просвещения в этом случае чреват скептицизмом, подвергающим сомнению не только догмы, но и идеалы. Стоит заметить, что с само­ го начала новоевропейский философский материализм был связан с эмпиризмом и номинализмом. И поэтому, в отличие от его античной версии, такой материализм всегда грешил скептицизмом, последова­ тельно реализованным именно Юмом. Даже в античности скептицизм был направлен главным образом против философии Платона. Ведь скептицизм не признает идею суб­ станции, идеи причинности и необходимости, идеи Добра и Зла. Скептики всегда говорили об относительности доброго и злого. От­ сюда моральный релятивизм и индифферентизм скептицизма. Но ис­ ходя из него невозможно построить какую-то систему практической философии. Итог философии Юма почти тот же. Она все разрушает, но ничего не строит, ничего не предлагает взамен, и оставляет нас на развалинах всех прежних философских систем. Душа человека редуцируется Юмом до элементарных составляю­ щих, в отношении которых бессмысленно говорить о субстанциаль­ ном единстве. Но для последователей Юма, подобных Канту, такая «выжженная земля» — это предпосылка нового взгляда на человека, предпосылка перехода к иному пониманию субстанциальности. 3. И. Кант: природа души и трансцендентальная апперцепция Нам известно, что именно Юм пробудил Канта от «догматическо­ го сна». И это «пробуждение» проявилось, в частности, в формирова­ нии критического отношения к метафизике. Напомним, что в эпоху, когда формировались философские воззрения Канта, метафизика преподавалась во всех немецких университетах. В качестве ядра фи­ лософской системы она была призвана исследовать «основные фор­ мы всякого бытия». Причем, если естественные науки исследовали природу, опираясь на чувственный опыт, то метафизика была чисто умозрительной наукой, признающей одну лишь силу логического до­ казательства. В этом виде она господствовала в Германии вплоть до распространения учения самого Канта. Свое классическое завершение метафизика нашла в учении Хри­ стиана Вольфа, который как раз и разделил ее нерациональную космо­ логию, рациональную психологию и рациональную теологию. В рац нальной космологии чисто умозрительно обосновывалось существо- 239 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма вание мира в целом, в рациональной психологии — бессмертной нематериальной души, в рациональной теологии — Бога. Причем ра циональная теология, уходящая корнями в катафатическое богосло­ вие Средневековья, отличалась именно тем, что пыталась разумом доказать то, что в христианстве как религии откровения постигается прежде всего мистически в акте веры. Надо сказать, что Вольф, будучи учеником Лейбница, сумел при­ дать его учению «популярный» характер в лучшем смысле этого сло­ ва. Философия Вольфа действительно была популярной в том смы­ сле, что ее создатель сделал эту философию общедоступной. Он при­ дал ей диатрибинескую форму, т. е. форму популярного учебника. Большую часть своих сочинений Вольф писал на немецком языке, что для тогдашней Германии было внове. Вольф вообще был хорошим «методистом», и его учебники по философским дисциплинам полно­ стью вытеснили схоластические компендиумы, что было в общем-то благом для того времени и тех условий. Что касается Канта, то в Кенигсбергском университете его на­ ставниками были Франц Шульц и Мартин Кнутцен, лично знавшие и обучавшиеся у Вольфа. В частности Кнутцен читал у Канта филосо­ фию и математику, и его влияние на взгляды молодого Канта несом­ ненно. Но уже у него наблюдаются некоторые отступления от учения Лейбница-Вольфа. Так, вступая в 1733 году в должность заведующего кафедрой логики и метафизики, Кнутцен подготовил сочинение о связи души и тела, где выразил несогласие с идеей «предустановлен­ ной гармонии» применительно к этой проблеме. Если Вольф сузил «предустановленную гармонию» Лейбница до сугубо «антропологи­ ческой» гармонии души и тела, то Кнутцен отступает еще дальше, до­ пуская чисто физическое взаимодействие души и тела на основе нью­ тоновской физики. И надо сказать, что стремление «подправить» Вольфа при помощи Ньютона чувствуется и в ранних работах самого Канта. В «докритический» период творчества Кант на протяжении дол­ гих пятнадцати лет пытался стать профессором именно кафедры ло­ гики и метафизики. Интересным фактом из биографии Канта являет­ ся его обращение в 1758 году к императрице Елизавете после того, как русские войска в ходе Семилетней войны ненадолго заняли Кенигс­ берг. Долгие годы биографы Канта замалчивали тот факт что, будучи короткое время подданным российской короны, Кант обращался к императрице со следующим прошением: «Пресветлейшая, всесиль- 240 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ная Государыня, Самодержица всея Руси, всемилостивейшая Госуда­ рыня и великая жена! Вследствие смерти доктора и профессора Кипке (Курке) Professio ordinario логики и метафизики, которую он зани­ мал в здешнем Кенигсберге ком университете, стала вакантной. Эти науки всегда составляли главнейший предмет моих занятий. В про­ должение тех лет, которые я находился в здешнем университете, я каждый семестр читал обе эти науки на частных уроках... Надежда, с которой я льщу себя посвятить службе Академии наук... побуждают меня всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество всемилостивейше пожаловать мне освободившуюся professionem ordinariam...»1 Надо сказать, что царский чиновник генерал Корф предпочел Канту другого, причем ничем не примечательного преподавателя. И долгожданную должность Кант получил только в 1770 году, т. е. именно тогда, когда его воззрения в корне изменились и из адепта метафизики он стал ее последовательным критиком. Еще в 1759 году Кант написал произведение «Опыты об оптимиз­ ме», в котором ясно выразил свои метафизические убеждения, отчего впоследствии питал отвращение к этой работе. А уже с 1763 по 1766 г. он пишет цикл статей, направленных против духовидческой практи­ ки Сведенборга, который, по убеждению его сторонников, общался с мертвыми, как с живыми, а в душах живых вычитывал все тайны. Об­ щий пафос этих работ Канта сродни скептицизму Юма, который так­ же выступал против чудес языческого и христианского толка. 60-е годы чаще всего относят к переходному этапу в творчестве Канта, когда он уже отошел от метафизической точки зрения под влиянием Юма и вообще английской и шотландской философии, но еще не определился со своей собственной позицией. Именно в это время он и пытался разобраться со Сведенборгом. Уже из названия сатирического произведения Канта «Сновиде­ ния духовидца, поясненные сновидениями метафизики» видно, что он видит и в том, и в другом плод суеверия. Главный вопрос — что есть дух и как он связан с телом — у духовидцев остается без ответа. И так же бесплодна в объяснении природы духовной субстанции традици­ онная метафизика. Объяснить все эти феномены, по мнению Канта, можно лишь патологической работой воображения, когда его образы принимают за реальность. Будучи крайне раздраженным шумихой 1 Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. С. 93. 241 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма вокруг духовидения, Кант высказывается еще более грубо, проводя физиологические параллели. В частности он указывает в своей сатире на причину духовидения в виде некоего «ипохондрического ветра». «Если во внутренностях свирепствует ипохондрический ветер,— из­ девается Кант,— он может принять одно из двух направлений: либо вверх — тогда получаются явления духовидения, либо вниз — тогда выходит нечто иное»1. Понятно, что в данном случае Кант предлагает лечить от духовидения клистиром. Несмотря на то, что нападки на метафизику в этот период носят у Канта уже довольно резкий характер, серьезное наступление на нее он развернет только в «Критике чистого разума». Если общий замы­ сел этой работы, как известно, сложился у Канта уже к 1770 году, с которым связывают начало «критического» периода, то окончатель­ ный вариант работы он предложил почти через десять лет. Нас в этой работе будет интересовать раздел трансцендентальной диалектики, в котором обычно останавливаются на антиномиях чистого разума, проистекающих из космологической идеи. Но проблему души Кант об­ суждает в связи с психологической идеей и так называемыми паралогиз мами чистого разума. О них и пойдет речь дальше. Паралогизмы, как и антиномии, являются вариантами неверных умозаключений, на которых, по мнению Канта, базируется вся тради­ ционная метафизика. При этом Кант определяет их как трансценден­ тальные умозаключения, поскольку они возникают не в результате случайной ошибки, а как результат некоторой видимости, проистека­ ющей из природы нашего разума. Кант называет их «умствующими» заключениями и уточняет: «Это софистика не людей, а самого чисто­ го разума; даже самый мудрый из людей не в состоянии отделаться от них и разве только после больших усилий может остеречься от заблу­ ждений, но не в силах избавиться от непрестанно дразнящей его и насмехающейся над ним видимости»2. Рациональную психологию как раздел метафизики Кант, вслед за Вольфом, отличает от эмпирической психологии. Эмпирическая пси­ хология исследует душу, исходя из внутреннего опыта, тогда как ра­ циональная психология извлекает знание о душе из понятий и осно­ воположений. Но уже в трактовке возможностей эмпирической пси­ хологии Кант отходит от Вольфа, считая ее лишь описанием психических процессов, несовместимым со статусом науки о душе. ' Цит. по: Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. С. 114. Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 367. 2 242 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Что касается рациональной психологии, то здесь Кант — откровен­ ный противник Вольфа, поскольку он уверен, что выводы этой науки, связанные с паралогизмами, ложны. Но тогда смысл рациональной психологии лишь в том, чтобы продемонстрировать бесплодность по­ пыток извлечь знание о душе из основоположений чистого разума. Причем, бросая вызов рациональной психологии, Кант, в отличие от Юма, не декларирует свою точку зрения, а использует инструмента­ рий логики для выявления скрытых противоречий в существующем знании. Таким образом, эмпирическая психология исходит из Я, каким оно дано внутреннему чувству. Рациональная психология исходит из понятия Я, которое присутствует в любом мыслительном акте. «Итак, я мыслю,— отмечает Кант,— есть единственная ткань (Text) рацио­ нальной психологии, на которой она должна развить всю свою му­ дрость. Само собой разумеется, эта мысль, если она должна быть от­ несена к предмету (ко мне самому), не может содержать ничего ино­ го, кроме трансцендентальных предикатов предмета; ведь самый ничтожный эмпирический предикат нарушил бы рациональную чи­ стоту и независимость этой науки от всякого опыта»1. Как раз из этого «я мыслю» рациональная психология выводит все свое знание о душе. В начале появляется понятие субстанции, отме­ чает Кант, из чего следует ее неразрушимость. От тождества интеллек­ туальной субстанции переходят к понятию личности. Из всего этого следует понятие духовности. Отношение к предметам в пространстве толкуется как общение с телами. А в результате мы имеем «мыслящую субстанцию как принцип жизни в материи, т. е. как душу (anima) и как основание одушевленности', одушевленность, ограничиваемая ду­ ховностью, дает [понятие] бессмертия». Но как такое возможно? Кант уверен, что раскрыл тайну рациональной психологии, суть которой в том, что модусам самосознания и мышления, т. е. логиче­ ским функциям, приписывают онтологический статус. Вот как это де­ лается: 1) из того, что Я в мышлении должно всегда считаться субъек­ том, а не только предикатом, делается вывод о том, что Я есть само­ стоятельная сущность (субстанция); 2) из того, что Я во всяком мышлении не разложимо на множество субъектов, а значит есть про­ стой субъект, делается вывод, что Я есть простая субстанция; 3) из су­ ждения о тождестве меня при всяком сознаваемом многообразии, де1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 370. 243 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма лается вывод о тождестве личности; 4) из осознания мною себя как отличного от других вещей и своего тела делается вывод о существо­ вании меня как мыслящего существа отдельно от тела. Во всех этих случаях главный порок, согласно Канту, состоит в том, что логическое истолкование мышления выдается за «метафизи­ ческое определение объекта»1. При этом аналитические суждения приравниваются к синтетическим, а в результате новое знание о душе по сути извлекают ниоткуда. Обобщая суть трансцендентальных паралогизмов, Кант приводит следующий известный аргумент: То, что нельзя мыслить иначе, чем субъект, не существует инач субъект и есть, следовательно, субстанция. Мыслящее же существо, рассматриваемое только как таков нельзя мыслить иначе как субъект. Следовательно, оно и существует только как субъект, т. е. как станция. В приведенном паралогизме, указывает Кант, мышление берется в обеих посылках в разных значениях: в большой посылке в отноше­ нии к созерцанию, а в малой — в отношении к самосознанию. А в ре­ зультате вывод получается чисто софистический, на основе ложного умозаключения. Особое место в анализе трансцендентальных паралогизмов у Кан­ та занимает опровержение доказательства постоянности души, пред­ ложенного Мозесом Мендельсоном. Еще в 1762 году Кант написал сочинение на конкурс, проводимый Берлинской академией. Другим соискателем премии был как раз философ Мендельсон, известный как друг Лессинга и инициатор так называемой «еврейской реформа­ ции» в Германии. Премию присудили Мендельсону, а работа Канта была признана второй и напечатана без подписи рядом с премиро­ ванным трактатом. Имея в виду одноименный с платоновским диалог Мендельсона «Федон», Кант указывает на изобретенный им довод в пользу посто­ янства души. Традиционно постоянство души доказывали невозмож­ ностью раздробления, т. е. разделения ее на части. Но Мендельсон предположил, что душа может лишиться существования путем своего уменьшения, вплоть до полного исчезновения. И тут же опроверг эту возможность, объяснив, что душа не может перестать существовать Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 375. 244 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии указанным способом, поскольку тогда нужно допустить, что между мгновением, когда она существует, и мгновением, когда она не суще­ ствует, не должно быть времени, а такое невозможно. С завидной легкостью Кант вновь ставит Мендельсона в тупик, указывая на то, что душа может исчезнуть не только путем экстенсив­ ного уменьшения, но и интенсивного, т. е. через постепенное ослабле ние, что мы часто наблюдаем в области самосознания и других спо­ собностей. «Таким образом, постоянность души... остается недока­ занной и даже недоказуемой, — заявляет Кант, «расправившись» с Мендельсоном,— правда, ее постоянность при жизни, когда мысля­ щее существо (как человек) есть предмет также внешних чувств, вполне очевидна, но для рациональной психологии этого недостаточ­ но, так как она стремится доказать из одних лишь понятий абсолют­ ную постоянность души даже и после смерти»1. Явно издеваясь над метафизиками, глубокомысленно обсуждаю­ щими проблему делимости души на части, Кант в том же параграфе выдвигает гипотезу о том, что душа как простая субстанция может разделиться на несколько разных субстанций. Любые силы и способ­ ности души, пишет он, можно представить исчезнувшими наполови­ ну. Почему же утраченную половину нельзя обнаружить вне исходной субстанции? Кант не уточняет, имеет ли он в виду раздвоение лично­ сти, или что другое. Но не менее любопытно и другое его предполо­ жение. Точно так же, замечает Кант, можно предположить, что, нао­ борот, несколько субстанций могут слиться в одну единую простую субстанцию. Возможно именно таким путем, пишет он, пусть не че­ рез химическое или механическое воздействие, а каким-то другим динамическим способом, происходит создание душ детей из душ ро­ дителей. А затем родители пополняют убыль новым веществом того же рода. Кант тут же замечает, что не склонен придавать особую значи­ мость подобным вымыслам. Но если рационалисты столь дерзновен­ ны, иронизирует он, что способны превращать способность мышле­ ния в самостоятельную сущность, то почему же материалисты не имеют права на такую же «дерзновенность»?2 Параграф, посвященный Мендельсону, интересен как раз тем, что в нем Кант раздает «всем сестрам по серьгам». И больше всех достает­ ся Рене Декарту. «Положение я мыслю есть, как уже сказано,— пишет 1 2 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 378. Там же. С. 379-380 (прим.). 245 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма Кант,— эмпирическое суждение, содержащее в себе утверждение я существую. Но я не могу сказать все мыслящее существует, ведь в та ком случае свойство мышления сделало бы все существа, обладаю­ щие им, необходимыми существами. Поэтому утверждение я сущест­ вую не может считаться выводом из положения я мыслю, как это пола­ гал Декарт (так как в противном случае этому положению должна была бы предшествовать большая посылка все мыслящее существует), а представляет собой тождественное с ним суждение»1. Кант несколько раз возвращается к Декарту и обнаруживает не­ что, подобное паралогизму, в его исходном тезисе, когда из факта су­ ществования Я как мыслящего субъекта следует вывод о существова­ нии мыслящей субстанции. В авторе тезиса «cogito ergo sum» действи­ тельно можно увидеть создателя рациональной психологии. Но то, что обнаруживает Кант, является лишь одним из парадоксов сложной проблемы «обоснования» Декартом мыслящего Я. Ведь, с одной сто­ роны, существование мыслящего Я как будто бы вытекает из самой его идеи. А с другой стороны, существование конечного Я оказывает­ ся у Декарта возможным лишь при условии бытия Бога как его беско­ нечного прообраза. Так можно ли считать самодостаточным декар­ товское cogito?2 Здесь стоит отметить и выпады Канта против интеллектуальной интуиции как идеи недостаточно точной. В парафафе о Мендельсоне Кант указывает на «безымянных» логиков, которые выдают ясность того или иного представления за его осознание, среди которых первый из первых, конечно, Декарт. Наделе, ясным, доказывает Кант, следу­ ет считать только то представление, в котором сознание доведено до осознания отличия его от других представлений. «Если сознания до­ статочно для различения,— уточняет Кант,— но не для осознания различий, то представление должно еще называться неясным»3. В кульминационный момент исследования рациональной психо­ логии Кант указывает, что идеализм и материализм не способны объ­ яснить природу мыслящего субъекта и его субсистенцию, т. е. само­ сущность. «Следовательно, если материализм непригоден для объяс­ нения моего существования,— подчеркивает он,— то и спиритуализм 1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 383 (прим.). О других аспектах этой проблемы, включая так называемый «Картезиев круг», см.: Майданский А.Д. Реформа логики в работах Декарта и Спинозы / / Вопросы философии. 1996. № 10. С. 148-149. 3 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 378 (прим.). 2 246 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии также недостаточен для этой цели; отсюда следует, что мы никаким образом не можем что-либо узнать о свойствах нашей души, когда речь идет о возможности ее обособленного существования вообще»1. Само собой разумеется, что материализму и идеализму Кант про­ тивопоставляет трансцендентализм. А в трансцендентальной филосо­ фии суть мыслящего Я выражает единство апперцепции. Термин «ап­ перцепция», как известно, происходит от латинского предлога «ad» (к, при) и слова «perceptio» (восприятие). И первоначально в филосо­ фии Лейбница, который и ввел этот термин, апперцепция означала осознанное восприятие, в отличие от бессознательных восприятий — перцепций. Что касается Канта, то в «Критике чистого разума» транс­ цендентальное единство апперцепции оказывается именно тем, что собственно скрывается за метафизической видимостью под названи­ ем «душа». Трансцендентальное единство апперцепции Кант понимает как доопытное единство самосознания. В отличие от души в качестве мысл щей субстанции, Кант характеризует его как «то единство, благодаря которому все данное в созерцании многообразное объединяется в по­ нятие об объекте»2. В разделе «Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий» Кант подробно разъясняет суть этого единства. Так он уточняет, что пространство в качестве чистой формы внешнего чувственного созерцания вовсе не есть еще знание. Оно, по Канту, только a priori доставляет многообразное в созерцании для возможного знания. И чтобы познать что-либо в пространстве, например, линию, необходимо провести ее, т. е. «синтетически осуществить определен­ ную связь данного многообразного». А из этого следует, что единство этого действия есть одновременно единство сознания, и только благода­ ря этому познается объект (определенное пространство)3. Кант делает вывод, что синтетическое единство сознания есть объективное условие всякого познания. В нем нуждается всякое созер цание для того, чтобы «стать для меня объектом». А без этого единст­ ва, отмечает Кант, я имел бы «столь же пестрое разнообразное Я (Selbst), сколько у меня есть сознаваемых мной представлений»4. Уточняя свое понимание синтетического единства апперцепции, Кант пишет, что оно «есть высший пункт, с которым следует связы1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 382. Там же. С. 196. ' Там же. С. 195. 4 Там же. С. 193. 1 247 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма вать все применение рассудка, даже всю логику и вслед за ней транс­ цендентальную философию; более того, эта способность и есть сам рассудок»1. Связывая единство апперцепции с синтетической способностью рассудка, Кант отличает его от той рефлексии на манер Локка, кото­ рая у последнего как раз и определяет тождество личности. Нет ниче­ го общего у трансцендентального единства апперцепции и с внутрен­ ним чувством, допускаемым Юмом. В противовес тем, кто склонен отождествлять апперцепцию и ее синтетическое единство с неким внутренним чувством, Кант проводит здесь вполне определенную границу. Трансцендентальная апперцепция отличается от внутренне­ го чувства прежде всего своим априорным характером. И при этом, как мы видим, единство сознания, скрывающееся за метафизической видимостью души, через идею синтеза тяготеет у Канта к деятельно­ му единству. Кант постоянно подчеркивает, что в данном случае перед нами объективное единство самосознания. Но вся «Критика чистого раз­ ума» служит обоснованию того, что в априорных формах, принадле­ жащих субъекту, представлена объективность и необходимость иног рода, чем та, которая присутствует в природных и сверхприродных формах, исследуемых физикой и метафизикой. Однако до тех шагов, которые затем совершат Фихте и Шеллинг, еще нельзя говорить о де­ ятельности как особого рода субстанции. Движение к субстанциальн сти такого типа только намечено в «Критике чистого разума». Здесь нам стоит вновь перейти к трансцендентальной диалектике, где Кант однозначно заявляет об очень узких задачах, которые стоят перед рациональной психологией. «Итак, рациональная психоло­ гия,— уточняет он,— как доктрина, расширяющая наше самопозна­ ние, не существует; она возможна только как дисциплина, устанавли­ вающая спекулятивному разуму в этой области ненарушимые грани­ цы, с одной стороны, чтобы мы не бросились в объятия бездушного материализма, а с другой стороны, чтобы мы не заблудились в спири­ туализме, лишенном основания в нашей жизни...»2 Кант вновь повторяет, что источником рациональной психологии является заблуждение, суть которого в том, что единство сознания, ле­ жащее в основе категорий, здесь принимают за субъект, созерцаемый в виде объекта, и применяют к нему категорию субстанции. Но если Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 193. Там же. С. 382. 248 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии остановиться лишь на указанных разоблачениях, то картина будет не­ полной. И прежде всего потому, что в конце раздела трансценден­ тальной диалектики Кант опять возвращается к идее души, но рас­ сматривает ее уже как необходимый момент процесса познания, а именно как регулятивную идею разума. «Разум никогда не имеет прямого отношения к предмету,— пишет здесь Кант,— а имеет всегда отношение только к рассудку и посредст­ вом него — к своему собственному эмпирическому применению; сле­ довательно, он не создает никаких понятий (об объектах), а только упорядочивает их и дает им то единство, которое они могут иметь при максимальном своем расширении, т. е. в отношении к целокупности рядов...»1 Далее Кант уточняет, что, подобно тому, как рассудок объе­ диняет многообразное посредством понятий, разум упорядочивает содержание понятий посредством идей. Задача разума, таким обра­ зом, состоит в том, чтобы внести момент систематичности в позна­ ние. И наряду с космологической и теологической эту функцию вы­ полняет психологическая идея. Характеризуя роль психологической идеи в познании, Кант уточ­ няет, что она является неким принципом в объяснении явлений души. Исходя из этой идеи, пишет он, мы должны рассматривать все опре­ деления как находящиеся в едином субъекте, а всевозможные силы — как производные от первоначальной силы. Всякая смена должна мы­ слиться как состояние одной и той же сущности, а явления в про­ странстве осознаваться как отличные от действий мышления2. Кант признает, что указанная психологическая идея есть понятие (разума) о простой субстанции, которая сама по себе неизменна и со­ ставляет основу тождества личности. Но при этом недопустимы, уточняет он, легковесные гипотезы о возникновении, разрушении и возрождении душ, а также размышления о том, духовна ли природа души самой по себе. «Такая психологическая идея,— отмечает он,— может быть вполне полезной, если только мы будем остерегаться принимать ее за нечто большее, чем только идея, т. е. если будем счи­ тать ее годной только для систематического применения разума к яв­ лениям нашей души»3. Придавая идее души регулятивный статус, Кант отчасти реабили­ тирует ее. Ею уже можно пользоваться в познании в качестве некоего · Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 552. См. там же. С. 579. ' Там же. 1 249 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма трансцендентального идеала. Но при этом ее нельзя относить к самой реальности, как это делает рациональная психология. Но если мы, остановимся в анализе кантовского учения в этом пункте, то картина опять же будет неполной. Дело в том, что бескомпромиссный в сра­ жении с метафизикой, Кант допускает откровенные компромиссы, когда дело касается церкви. А это требует дальнейших шагов в реаби­ литации традиционного понимания души. Указанная тенденция становится совершенно явной, когда в транс­ цендентальной диалектике Кант предлагает тем, кто устал от бесплод­ ных теоретических спекуляций, искать ответы на возникающие вопро­ сы в области практики. Именно при практическом применении раз­ ума, уточняет Кант, становится ясно, что разум заимствует свои принципы «из более высокого источника». И как раз на практике мы поступаем так, «как если бы наше назначение выходило бесконечно далеко за пределы опыта, стало быть, за пределы земной жизни»1. Иначе говоря, что не позволено Юпитеру, то позволено быку, Что невозможно в теории, то вполне возможно на практике. А потому, ра­ зоблачив метафизические ухищрения в области теории, Кант предла­ гает нам переместиться в область морали, где полностью преодолева­ ются те запреты и «ненарушимые границы», которые только что определил сам Кант. Уже в «Критике чистого разума» он указывает на особый статус морального закона, который ориентирует нас не на пользу, как это происходит у животного, а на пренебрежение ею во имя иных целей, явно выходящих за пределы земного существования. Уже здесь Кант говорит о последовательном ряде (Ordnung) целей, которые относятся к естественному порядку, и, тем не менее, могут быть расширены практическим разумом за пределы опыта и челове­ ческой жизни. В трансцендентальном учении о методе, а именно там, где реч идет об идеале высшего блага как основании для определения конеч­ ной цели чистого разума, Кант уточняет и разворачивает эту свою ар­ гументацию. С самого начала Кант формулирует вопросы: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На что я могу надеяться? Пер­ вый вопрос чисто спекулятивный, и на него, по мнению Канта, он ответил всем своим предыдущим анализом. Второй вопрос сугубо практический, а потому лежит за пределами кантовского анализа. Только третий вопрос Кант берется разобрать как вопрос практиче1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 579. 250 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и не класс и чес кой философии ский и теоретический одновременно. И как раз в связи с этим он вы­ сказывает мысль об особом виде систематического единства, а имен­ но моральном единстве, сопоставимом с систематическим единством природы. «Таким образом, принципы чистого разума, — пишет Кант,— обладают объективной реальностью в его практическом, но особенно в моральном применении»1. Разворачивая далее свое представление об объективности морального, Кант говорит о некоем «моральном мире», который должен мыслиться как умопостигаемый. Но пони­ мать это нужно так, что моральная идея, обладая объективной реаль­ ностью, может и должна влиять на чувственно воспринимаемый мир, чтобы сделать его сообразным себе2. От этой системы саму себя вознаграждающей моральности Кант переходит к идее мыслящего существа, в котором морально совер­ шенная воля связана с высшим блаженством. Это и есть, по Канту, идеал высшего блага. В трансцендентальной диалектике Кант уже ха­ рактеризовал свое понимание идеалов, которые, в отличие от плато­ новских, не имеют творческой силы. И, тем не менее, они лежат в ос­ нове возможности совершения поступков. «Хотя нельзя допустить объективности (существования) этих идеалов,— писал Кант,— тем не менее нельзя на этом основании считать их химерами: они дают необ­ ходимое мерило разуму, который нуждается в понятии того, что в сво­ ем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовершенного»3. Но в дальнейшем Кант уточняет свое понятие идеала, морального идеала в частности, который из регулятивного принципа превращает­ ся в загробный мир4. Объективность особого рода, на которой Кант настаивал в первой части «Критики чистого разума» (трансценден­ тальное учение о началах), во второй ее части (трансцендентальное учение о методе) превращается в объективность вполне традицион­ ного толка. И такая метаморфоза сравнима с тем, что произошло в античной классике с сократовской добродетелью, которой Платон в качестве родины определил мир идей в «занебесье». Чтобы не было недомолвок, приведем собственные слова Канта, которого уже не устраивает самодостаточность морального закона. 1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 663. Там же. С. 664. ' Там же. С. 502. 4 См. там же. С. 665. 2 251 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма «Разум вынужден или допустить такого творца вместе с жизнью в та­ ком мире, который мы должны считать загробным, — пишет Кант,— или же рассматривать моральные законы как пустые вьщумки, так как необходимое последствие их, связываемое с ними тем же разу­ мом, должно было бы отпасть без указанного выше допущения»1. И Кант подчеркивает преимущества такой этикотеологии перед спе­ кулятивной теологией, а также трансцендентальной и естественной теологиями. В соответствии с ней блаженство и нравственность со­ ставляет высшее благо в том мире, в который мы должны перене­ стись2. А исследование природы в свете этикотеологии обретает ха­ рактер физикотеологии, поскольку мир нужно рассматривать как воз­ никший из идеи и тяготеющий к форме системы целей3. В указанном разделе Кант не дает развернутого понимания бес­ смертия души. Но мы его находим в «Критике практического разума», где бессмертие души предложено принять в качестве постулата чисто­ го практического разума. Характеристику этого постулата Кант начи­ нает с определения святости как полного соответствия воли и мо­ рального закона. В чувственно воспринимаемом мире такое соответ­ ствие недостижимо, поскольку оно предполагает прогресс, идущий в бесконечность. А значит, идеал святости предполагает бесконечное су­ ществование и бесконечную личность разумного существа, и, тем са­ мым, бессмертие его души. «Следовательно, высшее благо практически возможно,— пишет Кант,— только при допущении бессмертия души, стало быть, это бес­ смертие как неразрывно связанное с моральным законом есть посту­ лат чистого практического разума...»4 И в таком постулате Кант ви­ дит большую пользу не только для разума, но и для самой религии. Без такого постулата либо нравственный закон лишается святости, так как его портят, приспосабливая к нашим удобствам, либо, наобо­ рот, возбуждаются надежды на обретение святости воли, а в результа­ те предаются мечтательным теософским грезам, что, с точки зрения Канта, так же плохо, как и излишний практицизм5. Итак, проследовав за Кантом в практическую область, мы не на­ шли там разгадки тайны априорных форм. Кант не говорит о том, что 1 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. С. 666. Там же. С. 668. ' Там же. С. 669. 4 Кант И. Лекции по этике. М., 2000. С. 375. 5 См. там же. С. 376. 2 252 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии за их объективностью и необходимостью скрывается божественная сущность. Но Кант не говорит и обратного. А в итоге, решая пробле­ му души, он предлагает нам компромиссное решение. С точки зрения теоретического разума, доказывает Кант, души как мыслящей субстанции нет, а есть априорное единство самосозна­ ния. И объективность такого самосознания безусловна, хотя и не­ познаваема, как непознаваема природа трансцендентального субъек­ та. От этих рубежей и будут двигаться неокантианцы. С другой стороны, если проследовать в практическую область, можно убедиться в истинности традиционных воззрений. Не логика, а мораль склоняют нас, по мнению Канта, к существованию Бога и бессмертной души. К 1793 году у Канта был готов большой трактат под названием «Религия в пределах только разума», где, опровергнув пять известных теоретических доказательств бытия Бога, Кант разво­ рачивает свое «шестое» моральное доказательство. Именно об этом напоминает в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд Берлиозу. «Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу,— говорит он.— Но вот курьез: он начи­ сто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!» Здесь стоит вспомнить другой великий роман, а именно «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского, в котором напрямую высказана мысль о том, что, если Бога нет, то все позволено. В учении Канта именно Бог — тот нравственный идеал, без устремленности к которо­ му человек оказывается зверем. А значит вопрос веры и вопрос нрав­ ственности оказывается одним и тем же вопросом. И постулаты «Бог существует» и «Моя душа бессмертна» — это этические постулаты. Как раз с указанной точки зрения Кант критикует в работе «Религия в пределах только разума» всевозможные «суррогаты морального служе ния богу»1. К ним он относит благочестивые обряды, которыми часто подменяют моральный образ жизни и мыслей. Еще дальше от истинной связи с Богом находятся «лжеслужения», когда Богу приносят жертвы не только словами и благами природы, но и «своей собственной лично­ стью» в случае с факирами, отшельниками или монахами2. Суть кантовского компромисса в том, что, перешагнув через до­ гмы метафизики, Кант не в состоянии пойти против догматов цер­ кви. Душа как субстанция — это иллюзия, которую Кант уверенно · Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 398. См. там же. С. 397. 2 253 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма разоблачает. Но самодостаточность морального абсолюта оказывает­ ся тем препятствием и объективной видимостью, которая вынуждает его вернуть полномочия бессмертной душе. И, тем не менее, кантовская критика метафизики намечает путь к субстанциальности нового типа, о которой, вслед за Кантом, заговорят неокантианцы. 4. Проблема души в свете «философии культуры» В. Виндельбанда Анализ зрелой формы часто помогает лучше понять раннюю еще не развитую форму и перспективы ее развития. Характерным приме­ ром здесь является неокантианство с его новыми акцентами в учении Канта. Так или иначе на этих акцентах сказалось послекантовское философское развитие в XIX веке. И в первую очередь мы имеем в виду тот факт, что в знаменитой Баденской школе кантианство прев­ ратилось в «философию культуры». Глава Баденской школы Вильгельм Виндельбанд был учеником известного историка философии Куно Фишера и не менее известного в те времена философа Германа Лотце, под руководством которого в 1870 году Виндельбанд защитил диссертацию на тему «Концепции случайности». В последний период жизни Виндельбанд возглавил ка­ федру в знаменитом Гейдельбергском университете, сменив на этом посту своего учителя Куно Фишера. И эта замена была безусловно достойной. Свое отношение к Канту Виндельбанд выразил так: «Понять Кан­ та значит выйти за пределы его философии». И первый шаг, который он совершил на пути «за пределы Канта», состоял в отказе от кантовской «вещи-в-себе». Но при этом Виндельбанд стремится сохранить принцип трансцендентализма, который у Канта означал существова­ ние априорных форм, представляющих, как известно, объективную сторону в самом субъекте. Для Канта было совершенно ясно: априор­ ные формы не могут происходить из «вещи-в-себе», и они не могут быть извлечены из глубин индивидуального сознания, на которые будут уповать многие философы, начиная с Киркегора. И в этой ситу­ ации источником априорных форм оказывается трансцендентальный субъект. Но, постулируя существование трансцендентального субъ­ екта, Кант не берется его исследовать, и не берется за эту задачу из принципиальных соображений. Ведь тайна трансцендентального субъекта, как и «вещи-в-себе», для него имеет абсолютный, а не отно­ сительный характер. 254 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии За разгадку этой тайны в свое время, как мы знаем, взялся Фихте. Почти за сто лет до Виндельбанда Фихте уверенно отказался от кантовской «вещи-в-себе» в пользу трансцендентального субъекта как единственного и притом деятельного источника познания. Сделав это при жизни великого учителя, он навлек на себя его немилость, после чего последовал разрыв всяких отношений. Но Фихте был уверен не только в том, что наше знание зависит лишь от трансцендентального субъекта. Он был уверен также в том, что последний полностью про­ зрачен для рефлексии. Ведь деятельность трансцендентального субъ­ екта, согласно Фихте, сама по себе рефлексивна, то есть всегда исхо­ дит из Я и направлена на Я, а образ внешнего мира, опосредующий эту деятельность,— лишь проявление ее изначально практического характера. Уточним, что Фихте решает ту же задачу, что и Кант. Его интересу­ ет, как возможно истинное знание, и в первую очередь теоретическая истина в науке и в философии. Потому главная задача Наукоучения Фихте — это дедуцировать из сознательной и бессознательной дея­ тельности воображения те правила, которыми гарантируется объек­ тивность и истинность наших знаний. Но Виндельбанд живет уже в другую эпоху. Его не волнуют про­ блемы научно-теоретического познания в той мере, в какой они вол­ новали философов Нового времени и немецкой классики. Естествоз­ нание, как в своей опытной, так и в теоретической форме, является знанием о «сущем», то есть знанием о том, что есть. Но как возможно знание о «должном», то есть знание о том, как должно быть! Идеалы, предпочтения, цели, убеждения — вот что в первую очередь интересу­ ет Виндельбанда. И в своем понимании этих феноменов он опирается на трансцендентальный идеализм Канта. Великое завоевание Канта, считал Виндельбанд, заключается в том, что тот отказался от установки наивного сознания, для которо­ го наш опыт является отражением внешнего мира. Зрелому фило­ софскому сознанию открывается другая картина, где опыт не отра­ жает действительность, а выражает деятельность разума, активностьсубъекта.Вработе«Философиякультурыитрансцендентальный идеализм» Виндельбанд неоднократно уточняет условия, в которых было сделано данное открытие. «К этому взгляду Канта привела критика науки,— пишет он,— более всего отвечавшей его метафизи­ ческой потребности и потому более всего интересовавшей его, и на этой критике он построил затем свое опровержение догматической 255 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма метафизики и обоснование метафизики явлений в форме «чистого естествознания»1. Но с течением времени стало ясно, отмечает Виндельбанд, что де­ ятельность разума, дающая начало науке, имеет ту же структуру, что и всякое практическое и эстетическое творчество культурного челове­ ка. Так сложились предпосылки для возникновения всеобъемлющей «философии культуры», в которой априорные формы познания явля­ ются лишь частным случаем в «царстве всеобщих значимостей», или «разумных ценностей», как выражается Виндельбанд. В результате априорные формы у Виндельбанда становятся гаран­ тами всеобщности и необходимости знания не только в науке, но и в области морали, искусства, религии, права. Но при этом они не со­ здают даже иллюзии достоверности, как это было с научным знанием в учении Канта. «Вещь-в-себе» Виндельбандом отброшена, и априор­ ные формы в их кантовском понимании тоже должны стать излиш­ ними: их не к чему применять. А потому в неокантианстве Баденской школы они превращаются в нечто другое, а именно — в вечные ценно­ сти в качестве той абсолютной призмы, через которую мы рассматри­ ваем не столько мир, сколько самих себя. Таким образом, своеобразие этой философии выражается в том, что ее шаги «за пределы» Канта в сторону Фихте отличаются робостью и непоследовательностью. Раз­ ум здесь уже стал деятельным, но в осмыслении законов и истоков этой деятельности Виндельбанд порой оказывается даже позади Кан­ та, то есть на докантовском уровне. Философия, по убеждению Виндельбанда, должна быть филосо­ фией культуры как того мира, который создает человек. «Эта филосо­ фия культуры,— пишет он,— есть постольку имманентное мировоз­ зрение, поскольку она по существу своему необходимо ограничивает­ ся миром того, что мы переживаем как нашу деятельность. Каждая область культуры, наука, общественность, искусство означает для нее срез, выбор, обработку бесконечной действительности согласно кате­ гориям разума: и в этом отношении каждая из них представляет собой лишь «явление»...»2. Но в понимании указанного мира культуры для Виндельбанда всегда существует абсолютный предел. Непознаваемой «вещи-в-себе», как уже говорилось, в неокантианстве нет. В «ином мире», который допускал Кант, трансцендентальный идеализм новой 1 Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм// Культуро­ логия. XX век: Антология. М., 1995. С. 63. 2 Там же. С. 67. 256 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии эпохи уже не нуждается. В этом пункте взгляды Марбургской и Баденской школ полностью совпадают. Но в оценке глубинных основ явлений культуры они по большому счету расходятся. Для Виндельбанда существенная связь всех явлений культуры остается непостижимой. «Но эта последняя связь и есть не что иное,— пишет он,— как только целокупность всего того, что в отдельных частных формах представляют собой доступные нам разумные миры знания, общественности, художественного творчества»1. И далее он констатирует: «Эта причастность к высшему миру разумных ценно­ стей, составляющих смысл всех решительно законов, на которых по­ коятся наши маленькие миры знания, воли и творчества, эта вклю­ ченность нашей сознательной культурной жизни в разумную связь, выходящую далеко за пределы нашего эмпирического существования и нас самих, составляет непостижимую тайну всякой духовной деятельности»2. Таким образом, уже не Господь Бог, не идеалы и нравственный за­ кон, а мир культуры в целом оказывается здесь абсолютно самодоста­ точным. Этот мир культуры уже обладает субстанциальностью иного типа, чем в природе. И такую субстанциальность в новых историче­ ских условиях Виндельбанд уже не связывает с Создателем. Но в по­ нимании субстанции культуры он по-прежнему стоит на точке зрения статики, а не динамики, абсолютного бытия, а не человеческой дея­ тельности, вечности, а не историзма. Правда, в Марбургской школе, и в частности у Когена, ситуация не так однозначна. И прежде всего потому, что, сохраняя привержен­ ность трансцендентализму, Коген, тем не менее, ставит перед собой задачу выявить то логическое первоначало (Ursprung), которое для других кантианцев — великая тайна. Уточняя роль данного первона­ чала как исходного пункта не только познания, но и всей культуры, ученик Когена Наторп пишет: «Метод, в котором заключается фило­ софия, имеет своей целью исключительно творческую работу созида­ ния объектов всякого рода, но вместе с тем познает эту работу в ее чистом законном основании и в этом познании обосновывает»3. Из приведенной характеристики видно, что влияние Фихте на Марбургскую школу было более существенным. И оно сказывается 1 Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм. С. 63. Там же. С. 68. ' Наторп П. Кант и Марбургская школа / / Новые идеи в философии. СПб., 1913. Сб. IV. С. 99. 2 257 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма не только в попытках сделать прозрачной первооснову нашего мыш­ ления, айв явном стремлении придать ей деятельный характер. Но вернемся к Виндельбанду, у которого приверженность транс­ цендентализму сказалась на решении важнейших методологических вопросов. Те, кто имеют хоть малейшее представление о неокантиан­ цах Баденской школы, знают, что последние различали науки о при­ роде и науки о духе. И в общем это верно. Однако достижение Виндельбанда заключается в том, что он впервые стал различать эти науки не по предмету, как В.Дильтей, а только по методу исследований. В своей известной речи «История и естествознание», произнесенной 1 мая 1894 года при вступлении в должность профессора Страсбургского университета, Виндельбанд опровергает Дильтея, по мнению которого науки о природе наблюдают и изучают мир внешних объек­ тов, а науки о духе, главным образом история, приобщаются к миру человеческих отношений с помощью внутреннего переживания (Erlebnis). Согласно Виндельбанду, ситуация в науке выглядит иначе, и этот новый взгляд на соотношение наук сформировался благодаря кантовской философии. После Канта, считает Виндельбанд, философия обрела свой под­ линный предмет, которым является исследование условий и предпо­ сылок нашего мышления, переживания, поступков и т. д. Именно кантовская философия открыла нам глаза на то, что естествознание конструирует изучаемый мир объектов и делает это по своим строгим правилам. А это значит, что различие между естествознанием и исто­ рией не в том, что изучают, а в том, как подходят к исследуемому предмету. Более того, к одному и тому же предмету можно подойти как с точки зрения естествознания, так и с точки зрения истории. И вторая точка зрения, по убеждению Виндельбанда, предпочтитель­ нее, поскольку исторический взгляд раскрывает недоступный естест­ вознанию культурный смысл и ценность каждой вещи. Метод наук о природе Виндельбанд определяет как номотетический, что переводится как «основополагающий» или «законополагающий». Суть этого метода в выявлении общего и регулярного, именуе­ мого «законом». Метод наук о духе глава Баденской школы определя­ ет как идиографический, что буквально переводится как «описывающий своеобразие». В этом случае ученый стремится выявить нечто особен­ ное и даже уникальное. Его задача — понять не то, что есть всегда, а то, что возникает однажды в потоке становления. При этом еще раз уточ­ ним, что проявлением общего и чем-то особенным могут быть одни и 258 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии те же факты в зависимости от метода изучения. В одном случае мы рассматриваем факты под знаком общности и единообразия, в дру­ гом — как нечто частное и неповторимое. Так наука об органической природе, согласно Виндельбанду, номотетична, когда систематизиру­ ет земные организмы, и она же идиофафична, когда рассматривает процесс возникновения и развития этих организмов. Причем при идеографическом методе мы факт определяем путем «отнесения к ценностям». Роль идеографического метода ярче всего видна при анализе че­ ловеческого существования, истории, культуры. И действительно, если тот же этнофаф или археолог не соотносит обнаруженные им факты культурной жизни с определенными ценностями, то ему не ясен смысл изучаемых явлений. Обнаружив, к примеру, древнюю ста­ туэтку, исследователь не сможет понять, является она предметом ре­ лигиозного культа или просто украшением, если у него отсутствуют представления о религиозных, эстетических и других нормах этого народа. Виндельбанд писал, что в человеческом существовании всегда присутствует нечто, что не схватывается в общих понятиях, но осоз­ нается самим человеком как «индивидуальная свобода». А из этого можно сделать вывод, что такие, к примеру, науки, как этнофафия и социология, используют неадекватный своему предмету метод. Уже здесь мы видим, что Виндельбанд, подобно другим неокантианцам, критически относится к абсолютизации факта и опыта, свойственной позитивистам. В позитивизме наш опыт, составляющий фактическую базу науки,— единственный гарант истины и главная объясняющая инстанция в науке. У неокантианцев факт из объясняющего стано­ вится объясняемым. Вслед за Кантом, они рассматривают опыт в ка­ честве результата, а не предпосылки процесса познания. Факты та­ ковы, какими мы их видим и понимаем, то есть зависят от принятой системы координат, от методов рассмотрения, от исходных установок исследователя. В этом, подчеркнем, сходятся все неокантианцы. Рас­ ходятся представители Марбургской и Баденской школы в вопросе о том, какие именно внеопытные нормы и принципы гарантируют истинность научного знания. У Когена и его ученика Наторпа философия, будучи методологи­ ей научного познания, должна исходить из математики и математиче­ ского естествознания, а точнее — из выраженных в них чистых форм созерцания и рассудка. По мнению неокантианцев из Марбурга, не 259 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма только физике, химии, биологии, но также праву, этике и эстетике следует ориентироваться на точное знание, которое в этом учении становится идеалом для философии культуры и даже социальной пе­ дагогики. Таким образом, для Когена и Наторпа методологическими нормами любой науки должны быть открытые Кантом формы созер­ цания и рассудка. При этом пространство и время в Марбургской школе перестают быть формами чувственности, а становятся логиче­ скими законами, подобными категориям. И в этом качестве они фор­ мируют предмет любой без исключения науки. Иные акценты в кантовском учении проставляет Виндельбанд, а за ним Риккерт. Так для главы Баденской школы наиболее важным в теории познания Канта оказываются идеи разума, в которых можно увидеть переход к тем идеалам и ценностям, которыми человек руко­ водствуется уже в практической жизни. Регулятивные идеи, как мы помним, оказываются у Канта своеобразным мостиком между миром природы и миром свободы. Даже обыденный опыт свидетельствует о том, что в области знаний идея Бога и идея души играют одну роль, а в области поступков — другую. Именно это различие в способах де­ терминации, введенное Кантом, и становится наиболее существен­ ным для Виндельбанда. Здесь же следует искать корни того противо­ поставления наук о природе и наук о духе, которого нет у представи­ телей Марбургской школы, но которое очень значимо для Баденской школы. Напомним, что идиографический метод, по мнению Винде­ льбанда, более важен для понимания феноменов культуры, чем метод номотетический. А в результате точка зрения истории, а не позиция естествознания, оказывается у Виндельбанда и Риккерта исходным пунктом новой философии культуры. Соответственно на первый план в их учении выходят религиозные, этические и эстетические ценности, которые они ставят безусловно выше логических ценно­ стей. Если неокантианцы обеих школ являются родоначальниками особого направления под названием «философия культуры», то главу Баденской школы Виндельбанда к тому же считают «отцом» аксиоло­ гии как философского учения о ценностях. Учение о ценностях как фун­ даменте мира культуры Виндельбанд создавал, пытаясь синтезиро­ вать идеи Канта с теорией «значимостей» (Gelten) своего универси­ тетского наставника Лотце. Уточним, что существование ценностей признавали также неокантианцы Марбургской школы. Но у Когена с Наторпом ценности имеют место только в этике как сфере действия 260 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии «чистой воли». Что касается Виндельбанда, то именно у него вопрос о ценностях становится главным вопросом философии как философии культуры. Не будет преувеличением, если мы скажем, что на XX век прихо­ дится расцвет аксиологии. Но, учитывая все многообразие подходов к ценностям, существующее в наши дни, стоит иметь в виду тот куль­ турный контекст и традицию, в рамках которых рождалось это на­ правление у В. Виндельбанда. Дело в том, что «отцом» аксиологии XX века, наряду с Виндельбандом, называют М.Шелера. Виндель­ банда сближает с Шелером то, что, в противоположность таким их современникам, как В. Вундт и Ф. Паульсен, они не считают ценно­ сти чем-то сугубо историческим, а значит относительным. В ситуа­ ции, где историзм означает релятивизм, Виндельбанд безусловно оказывается на стороне абсолютного. И для Виндельбанда, и для Шелера мир ценностей объективен и даже абсолютен. Но если Виндель­ банд толкует ценности в духе кантовского трансцендентализма, то в философии культуры Шелера просматривается явное влияние Ф. Ницше. А поэтому, в отличие от Виндельбанда, Шелер балансиру­ ет между классической и неклассической трактовкой «ценностей». По­ следние у Шелера, с одной стороны, духовные, а с другой — жизненно-витальные, и приобщение к миру ценностей имеет, не раз­ умный, как у Виндельбанда, а экзистенциально-чувственный характер. Здесь следует напомнить, что даже уникальное в мире культуры, в соответствии с идиографическим методом, оказывается постижимым только в свете абсолютных ценностей. Иначе говоря, особенное здесь постигается не в свете всеобщего, а в свете абсолютного. И этим диалек­ тика особенного у Виндельбанда отличается от диалектики особенно­ го, как она представлена в методологии конкретного историзма. Абсолютные ценности у Виндельбанда не отменяют, а, скорее, оттеняют неповторимость мира культуры. Только в тени абсолюта можно распознать и прочувствовать уникальность творения культуры. И столь же парадоксально решает Виндельбанд проблему оснований культуры, применительно к которым никто из нас как отдельных ин­ дивидов не может приписать себе творческой силы. Налицо парадокс, причем такой, который присутствует в воззрениях любого мыслите­ ля, стоящего на позициях трансцендентализма. Суть этой проблемы, очень важной для неокантианства, связана с тем, кого следует признать субъектом культуры. Каждый знает, что культура, в отличие от природы,— произведение человека. Но уже 261 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма Кант доказал, что не только в науке, но и в элементарном чувствен­ ном восприятии мы опираемся на не нами созданные объективные нормы. Кем же является отдельный индивид: субъектом или объек­ том? Так проблема субъекта культуры обретает форму дилеммы. И от­ вет Канта на вопрос о том, человек — это субъект или объект, нам из­ вестен. Этим ответом стал трансцендентализм, когда в нас самих раз­ личают и разводят два начала и двух субъектов — эмпирического и трансцендентального. Всех сторонников трансцендентализма объединяет признание объективного начала в самом субъекте в качестве отдельной инстан­ ции. Все люди разные, но трансцендентальный субъект один для всех представителей человеческого рода. Наделяя нас общезначимыми, и в этом смысле объективными способностями, нормами и идеалами, он привносит единство в наши действия и тем самым в культуру. Еще раз подчеркнем, что способности и идеалы таким образом оказыва­ ются не дарованными свыше, а присущими нам изнутри. В этом как раз и заключается разница между трансцендентным как антиподом имманентного и трансцендентальным, которому противостоит эмпи­ рическое. Объективные нормы нашей деятельности, наши способно­ сти и идеалы оказываются неотъемлемыми от человека как субъекта, а точнее — трансцендентального начала в нем. Тем не менее, ни эмпирический, ни трансцендентальный субъект, как они представлены у Канта, не способны на творчество или, выра­ жаясь языком немецкой классики, продуктивную деятельность. В ка­ честве эмпирических субъектов мы создаем, исходя из трансценден­ тальных предпосылок своих действий. А потому наша деятельность по большому счету носит репродуктивный характер. Что касается трансцендентального субъекта, то напомним, что его истоки и суть, согласно Канту,— абсолютная тайна, и, следовательно, имеет смысл говорить лишь о том, что дано, а не создано трансцендентальным субъектом. Итак, в условиях трансцендентализма мы имеем дело с парадок­ сом, когда человек, будучи единственным субъектом культуры, не является ее творцом. И этот парадокс не только не разрешается, а усугубляется в неокантианстве Баденской школы. Мир культуры у Виндельбанда является произведением человека. Но человек созда­ ет, исходя из абсолютных ценностей, а потому в содержательном плане он не творец, а исполнитель, то есть в строгом смысле не явля­ ется субъектом. 262 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии С одной стороны, неокантианство в лице Виндельбанда дает нам своеобразный ключ к учению Канта. Превратив кантовский транс­ цендентальный идеализм в философию культуры, Виндельбанд ука­ зывает на differentia specifïca любого трансцендентализма. Ведь по­ следний вырастает из осознания того, что истоки абсолютного в чело­ веческом мире имеют не естественно-природное и не божественное, а именно культурное происхождение. Но differentia specifïca транс­ цендентализма в том, что абсолютные начала культуры в нем не выво­ дятся из чего-то другого, а именно постулируются в качестве самодо­ статочных. В этом смысле мир вечных ценностей культуры, которые, по словам Виндельбанда, не существуют, но значат,— средоточие на­ иболее последовательного, и одновременно тупикового варианта трансцендентализма. Превратив кантовского трансцендентального субъекта в царство вечных ценностей, Виндельбанд создает нечто, сопоставимое с ми­ ром идей у Платона. Уточним, что не только Вильгельм Виндельбанд, но и Пауль Наторп написал книгу, специально посвященную Плато­ ну. Но мир идей Платона тот и другой толкуют в духе кантовского априоризма, лишая его тем самым пространственного местопребыва­ ния. Суть дела, однако, не в этом, а в наличии вечной и неизменной мерки для наших мыслей и действий, которая в неокантианстве явля­ ется еще и крайне абстрактной. Мир ценностей, из которого исходит Виндельбанд, представляет собой как раз такую абстрактную меру человеческого в человеке. Логично предположить, что выход из тупика трансцендентализма связан с иным, а именно более конкретным и историческим понима­ нием объективной меры наших мыслей и действий. И тогда то, что сегодня чаще именуют «субъективностью», а когда-то называли «ду­ шой», будет не дано, а «выработано» каждым из нас в предложенных культурно -исторических обстоятельствах. В свое время Фихте вступил именно на этот путь, рассмотрев трансцендентальные предпосылки нашей деятельности исторически, а точнее генетически. В результате трансцендентальный субъект для Фихте уже не является тайной, а, наоборот, оказывается предметом специального исследования. В том варианте трансцендентализма, который мы находим у Фихте, наши всеобщие способности рождают­ ся в продуктивной деятельности трансцендентального субъекта, а по­ тому он уже является творцом, в отличие от эмпирического субъекта. Иначе говоря, в своем Наукоучении Фихте обнаруживает творческую 263 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма природу трансцендентального субъекта и тем самым в определенном смысле выходит за пределы этой позиции. Иногда говорят, что трансцендентальный субъект у Канта и Фихте является мистифицированным человечеством, создающим предпо­ сылки для материальной и духовной жизни отдельного индивида. По большому счету это именно так. И заслуга Канта в том, что он выде­ лил те основы культуры, не усвоив которых нельзя жить и действовать как человек. Категории логики, нравственный закон, суждения вкуса Кант обоснованно считал объективной предпосылкой человеческого в человеке. Фихте пошел дальше, доказав, что эти предпосылки могут меняться. Подобно отдельному человеку, человечество проходит сту­ пени своего развития. И Фихте выявил деятельный способ совершен­ ствования нашего коллективного Я, без которого внутри индивиду­ ального, эмпирического Я нет культуры, а есть одна лишь натура, то есть физиология. Но одно дело — постичь развитие объективного смысла и другое дело — понять, как этот смысл порождается нашим индивидуальным усилием. Кант отмечал, что от развития воображения зависит, как ин­ дивид будет осваивать всеобщие основы культуры. Но еще важнее по­ казать, каким образом отдельный индивид созидает культуру в ее объективных и всеобщих формах. Разобраться в этом, по большому счету, можно лишь на почве ре­ альной истории (со всеми ее хитросплетениями случайного и необхо­ димого). Ясно, что различия между физикой Ньютона и Эйнштейна нельзя вывести из исторической обстановки, личной судьбы или ха­ рактера одаренности того и другого. Но музыкальное творчество Бет­ ховена или Вагнера, философское учение Спинозы или Киркегора — это такие общезначимые достижения культуры, которые объяснимы лишь из особого сочетания объективных обстоятельств и личных уси­ лий. В свою очередь достижения предшественников становятся объ­ ективными обстоятельствами формирования культурного облика по­ томков. И к этим достижениям можно отнести не только музыкаль­ ные произведения и научные теории, но и формы мышления, нормы вкуса и морали, принципы веры,— все то, что неокантианцы считают «вечными ценностями». Итак, природу индивидуального творчества с позиций трансцен­ дентализма объяснить невозможно. Здесь граница между эмпириче­ ским и трансцендентальным субъектом — абсолютное препятствие, имеющее смысл лишь там, где невозможно адекватно понять харак- 264 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии тер взаимоотношения людей. Ведь принципиальное отличие генетизма Фихте от конкретного историзма Маркса в том, что в последнем случае одно поколение оказывается трансцендентальным субъектом для другого. Взаимоотношения трансцендентального и эмпириче­ ского субъектов здесь перемещаются в исторический план, а в резуль­ тате именно индивиды как творцы и творения своей эпохи становятся субъектами культуры. Тем не менее, указанное взаимоотношение между эмпириче­ ским и трансцендентальным субъектом для обычного, наивного со­ знания наглухо закрыто. Ведь мир идеалов «эффективен» лишь там, где он обладает статусом абсолюта. И эта непреложность и самодо­ статочность, как уже не раз говорилось, гарантируется его же собст­ венной формой. Такое знание является предписанием к исполнению само по себе, благодаря своей непосредственной форме и без каких-либо внешних подпорок. Вспомним, что моральный посту­ пок, по Канту, обусловлен самой сутью имманентного ему нравст­ венного закона, в отличие от легального поступка, который имеет внешние причины. В свое время Канта сумел развенчать объективную видимость метафизических понятий, связанную с природой нашего разума. Но для Канта и неокантианцев осталась неприступной объективная ви­ димость идеалов в виде абсолютных регулятивов, императивов и вечных ценностей. Как и первооткрыватель феномена идеального Сократ, Кант не видел возможности для рождения всеобщего и аб­ солютного в конечном, несовершенном общении эмпирических субъектов. Соответственно и Сократ воспринимал абсолютную форму идеала как некую изначальную данность, а не объективную ви димость, с необходимостью скрывающую динамику своего форми­ рования. И в этом постулировании самодостаточного и абсолютно среза бытия — начало и конец философской классики, а точнее — граница, за которую она не может выйти, в соответствии со своей сутью и происхождением. 5. Трансцендентализм и антропология Гегеля Обсуждая проблему души в философской классике, нельзя обой­ ти фигуру Гегеля. И на первый взгляд гегелевская методология с ее историзмом и принципом деятельности должна быть ближе всего к культурно-исторической трактовке души. Именно здесь стоит ожи­ дать преодоления методологической ограниченности трансцендента- 265 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма лизма. Но все это лишь на первый взгляд, поскольку гегелевский историзм по большому счету уравновешивается преформизмом. Самопознание Абсолютного духа у Гегеля недаром предстает в виде круга. И душа на этом пути оказывается лишь моментом самод­ вижения всеобщего. Более того, своеобразие души в учении Гегеля не способно проявить себя в нравственном поступке или эстетическом созерцании. Ее возможности не распространяются на область раз­ мышления. Дело в том, что в учении Гегеля душа примыкает к природ­ ному миру, в котором дух только «просыпается». В его учении душа — это нематериальное начало в самой материальной природе. И этим Гегель существенно отличается как от тех, кто не отделяет душу от мира культуры, так и от тех, кто считает ее творением Всевышнего. Гегель принуждает дух и идеальность «проснуться» уже в материи, а затем природная душа пытается совлечь с себя материальную форму. «Дух есть экзистирующая истина материи,— пишет в связи с этим Ге­ гель,— истина, состоящая в том, что сама материя не имеет своей истины»1. У Гегеля выходит, что по-своему правы те философы, пре­ жде всего на Востоке, которые представляли мировую душу средото­ чием мироздания. В этом случае перед нами еще «сон духа», но в сво­ их невесомых проявлениях в виде теплоты и света, а также в формах жизни материя начинает одухотворяться. «Душа есть нечто всепрони­ кающее,— подчеркивает Гегель,— а не что-то существующее только в отдельном индивидууме»2. В философии именно пантеизм, по мнению Гегеля, выражает эту начальную степень одухотворения природы. При этом в пантеизме указанное состояние природы находит свое адекватное или неадек­ ватное выражение. Так недостаток пантеистической философии Спинозы Гегель видит в том, что «субстанция не достигает в ней сво­ его имманентного развития,— многообразие только внешним обра­ зом присоединяется к субстанции»3. В формах представления, уточ­ няет он, пантеизм выступает в виде опьяняющей жизни и вакхиче­ ского созерцания. «И тем не менее,— пишет Гегель,— это воззрение составляет для каждой здоровой натуры естественный отправной пункт. В особенности в юности мы себя чувствуем через посредство все вокруг и нас самих одушевляющей жизни в братском единении со всей природой, симпатизируем ей; так обретаем мы ощущение миро1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3. С. 44. Там же. С. 155. ' Там же. С. 46. 2 266 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вой души, единства духа с природой, имматериальности самой природы»1. Но там, где философия делает шаг от чувства к рефлексии, ей от­ крывается противоположность души и тела. И в такой постановке во­ проса, согласно Гегелю, тоже есть своя истина, поскольку таким обра­ зом дух пытается дистанцироваться от телесности. Именно в христи­ анской философии душа и тело выступают как самостоятельные начала. Но помещая душу в пространство и время, старая метафизи­ ка, а точнее рациональная психология, по мнению Гегеля, не выходит за пределы природной реальности. Определяя душу как нечто простое, единое, неизменное, покоящееся, метафизика не покидает почвы природных характеристик. И это превращение души в вещь достигает кульминации у Декарта, где идет речь о седалище души. От такой постановки вопроса, согласно Гегелю, радикально отме­ жевалась спекулятивная логика, которая в лице Канта перешла от ана­ лиза души к сознанию и самосознанию, открыв дорогу диалектике Я и не-Я в учении Фихте. Что касается самого Гегеля, то переход от души к сознанию в его философии духа осуществляется именно спекуля­ тивно. А сознание в его рассуждениях возникает, подобно все тому же античному «богу из машины». Итак, душа в учении Гегеля «находится посредине между лежащей позади нее природой, с одной стороны, и вырабатывающимся из при­ родного духа миром нравственной свободы — с другой»2. Но в своей собственной эволюции она, по его мнению, не должна застывать на внешнем противостоянии телу. Душа не должна оставаться чем-то особенным рядом с телом. Попытку преодолеть указанный дуализм Гегель видит в учениях Декарта, Мальбранша и Спинозы, у которых противоположность души и тела, мышления и бытия преодолевается в Боге как их тождестве. Другой вариант преодоления этого дуализма Гегель указывает в третьем томе «Энциклопедии философских наук» в главе «Действи­ тельная душа» (§ 411-412). Здесь душа представлена как преодолев­ шая разобщенность с телом и поднявшаяся до опосредствованного единства со своей телесностью. По сути она здесь превращается во внутренний принцип самого тела. «Всвоей телесности, преобразован­ ной душой и ею освоенной,— пишет в связи с этим Гегель,— душа выступает как единичный субъект для себя, а телесность является, та1 2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 46. Там же. С. 53. 267 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма ким образом, внешностью в качестве предиката, в котором субъект относится только к самому себе. Эта внешность представляет не себя, но душу и является ее знаком»1. Под внешностью в данном случае Гегель имеет в виду в самом прямом смысле физиономию человека, которая, согласно распро­ страненному выражению, есть «зеркало души». Уточняя этот момент применительно ко всему телу человека, Гегель пишет: «Напротив, подлежащие теперь нашему рассмотрению свободно происходящие воплощения (внутренних ощущений. — Е.м.) придают человеческому телу столь своеобразный духовный отпечаток, что благодаря ему оно гораздо более отличается от животных, чем вследствие какой-либо только природной определенности. Со своей чисто телесной стороны человек не очень отличается от обезьяны; но по проникнутому духом внешнему виду он до такой степени отличается от названного живот­ ного, что между явлением этого последнего и явлением птицы суще­ ствует меньшее различие, чем между телом человека и телом обезьяны»2. Наиболее характерным образом духовная суть человека выраже­ на, как считает Гегель, в его лице, а также в вертикальном положении тела. И точно так же человек отличается от представителей животного мира рукой, в особенности кистью руки. «Рука человека, это орудие орудий,— отмечает Гегель,— способна служить выражением беско­ нечного множества проявления воли»3. Но предложив в главе о дейст­ вительной душе свое понимание тождества души и тела, Гегель связы­ вает его главным образом с чувственной жизнью человека. Очертив особый тип тождества души и тела, Гегель не усматривает здесь каких-то дополнительных методологических возможностей. Так, действительная душа представлена у Гегеля прежде всего на уровне привычек. И таким образом она все равно остается в пределах приро­ ды и в ведении науки антропологии. Стоит уточнить, что все ступени развития субъективного духа, со­ гласно Гегелю, находятся в ведении определенных наук. Проблемой души, как уже сказано, занимается у Гегеля антропология. Там, где душа переходит в сознание, появляется феноменология. А когда со­ знание превращается в собственно дух, им занимается психология. И каждая из этих областей знания в гегелевской трактовке выглядит 1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 210. Там же. С. 212. ' Там же. С. 212-213. 2 268 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии не так, как сегодня. К примеру, антропология после Л. Фейербаха ста­ ла заниматься всем человеком. А у Гегеля она исследует лишь его при­ родные основы, к которым Гегель относит расовые признаки, разли­ чия темперамента и физиономии, таланты, предрасположенности и идиосинкразии. В разделе антропологии также рассмотрены душев­ ные болезни. О теле человека у Гегеля речь идет только в соотнесении его с ду­ шой. Сознание и самосознание, по Гегелю, к телу уже отношения не имеют. Они рассматриваются в отношении к миру вокруг нас. В ре­ зультате главной проблемой сознания становится отношение Я и не-Я. Правда, в разделе «Объективный дух» Гегель опять возвращает­ ся к телу, теперь уже к «телу культуры». Взаимосвязь души с «телом культуры» — главный мотив предлага­ емой работы. Что касается Гегеля, то душа с миром культуры у него не соотносится. Общая траектория мирового развития у Гегеля выглядит так: Абсолют в виде логической идеи — природа — природная душа — субъективный дух — объективный дух — абсолютный дух. Душа, по­ вторим, происходит из мира природы, а культура разворачивается в формах объективного и абсолютного духа. Культура, таким образом, является внешней инстанцией по отношению к душе. И на лестнице бытия они не встречаются. Здесь стоит остановиться на доводах Гегеля против материали­ стов, которые, по его мнению, также пытаются преодолеть дуализм души и тела. Гегель замечает: «Этому спекулятивному пониманию противоположности духа и материи противостоит материализм, ко­ торый изображает мышление как результат материального и выво­ дит простую природу мышления из множественного. Нет ничего более неудовлетворительного, чем развитые в материалистических сочинениях объяснения многообразных отношений и связей, по­ средством которых должен быть порожден такой результат, как мышление»1. В материализме Гегеля не устраивает стремление вывести дух из чего-то, лишенного субстанциального смысла, какой является при­ рода в естественно-научном материализме. И из самой по себе при­ роды дух действительно не выводим. Из нее, как известно, не выве­ дешь даже бюрократа. Но между духом и природой существует опо­ средствование, из которого можно объяснить их принципиальное Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 50. 269 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма различие. Методология исследования идеального позволяет извле­ кать человеческие проявления не из физиологии нашего конечного тела, а из «тела культуры». В этом своеобразном опосредствовании, мире культуры, природа присутствует в снятом виде. И как раз через такое снятие природа способна стать основанием субстанциально­ сти нового типа. В доводах Гегеля против материалистов тоже фигурирует тема ди­ алектического снятия. Но Гегель считает снятой не природу в культу­ ре, а прежде всего дух в природе. Дух, по большому счету, не может быть снятием природного бытия, доказывает Гегель, наоборот, при­ родное бытие является снятием духа1. Но такая позиция имеет смысл, если постулировать своеобразие духа, что как раз характерно для фи­ лософской классики. Одновременно Гегель вынужден с самого начала приписывать природной душе качества того же духа, а иначе перейти от природы к духу он не может. В этом главный парадокс гегелевской системы и суть его преформизма. Но преформизм Гегеля — это защита от естественно-научного материализма. Итак, специфика духа в гегелевской философии задана как аксиома. Но если в трансцендентализме эта специфика отнесена не к Богу или природе, а к трансцендентальному субъекту, то Гегель, определяющий дух как Абсолют, а Абсолют как Бога, возвращается к более традиционной постановке вопроса. Даже там, где Кант вы­ нужден возвратить мораль в лоно Бога, он делает массу оговорок. Душа, переосмысленная Кантом на манер трансцендентального единства апперцепции, не умещается в рамки традиционного идеа­ лизма и тяготеет к иным подходам. У Гегеля культурно-историческая методология представлена лишь в деталях, на уровне гениальных догадок. Гегель, безусловно, еще дальше от культурно-исторической методологии, чем Кант, Фихте и неокантианцы. Но по большому счету он не выходит за рамки трансцендентализма, если иметь в виду методологическую ограниченность этого подхода. Ведь специфика души и духа им по­ стулируется, и в конечном счете все в гегелевской философии сво­ дится к Абсолюту. В этом проявляет себя общая черта философской классики, и специфическая черта учения Гегеля. И здесь стоит уточ­ нить детали. 1 См.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 50. 270 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Антропология, т. е. человекознание, писал Гегель, есть самое вы­ сокое и трудное занятие. Но в нем нужно исследовать не отдельные способности, характер и склонности людей, а сущность духа как тако­ вого. Истинным предметом самопознания, подчеркивал он, должны быть не особые «изгибы человеческого сердца», а всеобщее1. Страсти и слабости людей — это неподлинное, от которого нужно продвигаться к духу как к подлинной реальности, как к субстанции, скрывающейся за различными человеческими проявлениями. И только такое познание является философским. «Самопознание в обычном, тривиальном смы­ сле исследования собственных слабостей и погрешностей индивиду­ ума,— читаем мы у Гегеля,— представляет интерес и имеет важность только для отдельного человека, а не для философии; но даже и в от­ ношении к отдельному человеку оно имеет тем меньшую ценность, чем менее вдается в познание всеобщей моральной и интеллектуаль­ ной природы человека и чем более оно, отвлекая свое внимание от обязанностей человека, т. е. подлинного содержания его воли, вырож­ дается в самодовольное няньчанье индивидуума со своими, ему одно­ му дорогими особенностями»2. Итак, философская антропология в гегелевском понимании должна ориентироваться на всеобщее в человеке. Гегель, конечно, не отрицает человеческой индивидуальности. Но индивидуальность ему интересна только там, где она, выражает всеобщее, а потому стано­ вится «великим человеческим характером». В ином случае перед нам так называемая «дурная индивидуальность», выражающая единичное и неподлинное в виде прихотей, страстей, т. е. того, что является, по сути, не духовным, а природным в человеке. Таким образом, человеческую личность в трактовке Гегеля не сто­ ит воспринимать в свете всеобщего, которое особым образом выражено в единичном. Гегелевская диалектика еще не является той диалектикой особенного, в которой преодолена безликость всеобщего и бессмысле ность единичного. И если уйти от такой модернизации диалектики Гегеля, то в его философии духа личность способна выражать как то особенное, в котором представлено всеобщее (т. е. дух), так и то осо­ бенное, в котором представлено случайное, произвольное (т. е. при­ рода). И в условиях такого рода дополнительности, Гегель, конечно, на стороне всеобщего и духовного, в противовес единичному, а зна­ чит природному. 1 2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 6. Там же. С. 7. 271 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма В свете так понятой личности обретает особое значение тот вызов, который бросила Гегелю, а тем самым философской классике неклас­ сическая философия. Ведь то, что у Гегеля уходит на второй план, для неклассической философии становится сутью: единичный субъект, его неповторимая душа, уникальное Я, экзистенция. Но в своем ра­ дикальном отрицании гегелевской диалектики эта философия, начи­ ная с Киркегора, не преодолевает и перерастает его уровень, а по сути лишь меняет акценты. Если Гегеля интересовало то особенное, в ко­ тором представлено только всеобщее, то его антиподов интересует такое особенное, в котором ни фана всеобщего, а только в чистом виде уникальное, неповторимое, единичное. Киркегор выразит это изменение в акцентах наиболее ясно и откровенно, именуя самого себя Единственным. Таким образом, бросаясь в другую крайность, неклассическая фи­ лософия не в состоянии предложить нам принципиально нового реше­ ния проблемы. И ее сегодняшнее состояние подтверждает это. Но вернемся к Гегелю, который при изначальной устремленности к все­ общему, в своей философской антропологии все же предлагает рас­ смотреть дух в его инобытии. Таким природным инобытием духа как раз является душа. Форма души, согласно гегелевской философии, должна быть совлечена с духа вместе с оковами природного. А тем самым преодолевается и ее своеобразие в процессе перехода к созна­ нию. И тем не менее, исследуя душу, Гегель останавливается на целом ряде особых проявлений души в виде душевных расстройств. В главах, посвященных проблеме души, Гегель анализирует фено­ мен слабоумия, рассеянности, тупоумия, помешательства, вплоть до безумия, полагая, что эти отклонения являются метаморфозами при­ родной основы человека. Вот как выглядит у Гегеля характеристика тупоумия, которая следует за описанием бестолковости. Тупоумие, замечает он, «возникает в том случае, когда рассмотренная выше в своих различных модификациях замкнутость природного духа в себе получает определенное содержание и это содержание превращается в навязчивое представление вследствие того, что еще не вполне овладев­ ший собой дух в такой же мере погружается в это содержание, в какой он при слабоумии пофужен в самого себя, в бездну своей неопределен ности. Где начинается тупоумие в собственном смысле слова, с точ­ ностью сказать трудно. В маленьких городах, например, можно встре­ тить людей, особенно женщин, которые до такой степени погружены в до крайности офаниченный круг своих частных интересов и в этой 272 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии своей ограниченности чувствуют себя до того приятно, что подобного рода индивидуумов мы справедливо можем считать тупоумными людьми»1. Приведенный пример очень показателен в методологическом пла­ не. Гегель причисляет здесь тупоумие, как и слабоумие, к отклонени­ ям «природного духа», но при этом приводит пример совсем иного плана. В чем причина тупости мещанки из немецкого городка, кото­ рая согласно писаным и неписаным законам ограничена тремя «К»: Kinder, Küche, Kirche? Ею является природа или уклад жизни? Дальше Гегель рассуждает в том же духе, сравнивая тупоумие с собственно сумасшествием. Сумасшествие, по его мнению, возникает тогда, когда человек оказывается во власти единичного и субъективного представления. Такое душевное состояние, уточняет он, по большей части есть следствие замыкания в своей субъективности из-за недо­ вольства действительностью. Что касается причин такого «полного погружения души в самое себя», то Гегель здесь указывает на тщесла­ вие и высокомерие2. Вывести тщеславие и высокомерие из природного мира довольно сложно. Как сложно вывести из него зависть, распространенную в той же мещанской среде, или к примеру пресыщенность жизнью и ме­ ланхолию, которой, по мнению Гегеля, страдают, как правило, англи­ чане. Из этого душевного состояния у англичан, замечает он, нередко развивается непреодолимое влечение к самоубийству. Правда, Гегель тут же опровергает «непреодолимость» этого состояния, приведя слу­ чай с неким англичанином, который излечился в тот самый момент, когда на него, готовящегося утопиться в Темзе, напали разбойники. Борьба с разбойниками пробудила в нем ощущение ценности жизни, преодолевшее тягу к самоубийству3. Такого рода веселых (и не очень) примеров в гегелевской антро­ пологии много. И большинство из них демонстрируют нам предвзя­ тость его трактовки душевных расстройств как патологии только природного, а не культурного, нравственного, социального развития человека. Надо сказать, что Гегель и сам чувствует здесь ложную ситу­ ацию, что вынуждает его заявлять: «Мы имеем при этом в виду то, что помешательство, по существу, должно быть понято как одновременно и духовная, и телесная болезнь, что в нем господствует совершенно непо 1 2 3 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 190-191. Там же. С. 191. Там же. С. 192. 273 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма средственное, еще не прошедшее бесконечного опосредствования единство субъективного и объективного»1. Гегеля здесь можно понять в том смысле, что душевная патология является искажением того тождества души и тела, которое собствен­ но и есть человек. И тем не менее, он тут же замечает, что эта патоло­ гия напрямую не связана с сознанием, Я, рассудком и разумом. Нао­ борот, такая патология есть результат господства душевной стороны, природной самости, абстрактно-формальной субъективности над об ективным, разумным, конкретным сознанием2. Тут же Гегель пишет, что душевная болезнь — это то крайнее со­ стояние, до которого рассудок может опуститься. Но вдаваться в тон­ кости в данном случае не так уж и важно. Главное состоит в том, что Гегель не может возложить вину за патологические состояния челове­ ка на сам дух. И не делает он этого из принципиальных соображений Причиной патологических состояний человека, по его мнению, впол­ не может быть природа, которая сама есть отклонение от истины ми­ роздания. Что касается сознания, то оно находится слишком близко к этой истине, т. е. к самому духу, чтобы искать здесь причину патоло­ гий. Связать душевную болезнь с повреждением в разуме или нравст­ венным пороком можно лишь в том случае, если дух сам производен, к примеру, от мира культуры и социального развития. Но тогда для объ­ яснения душевных болезней нужно пожертвовать всей гегелевской системой. Гегель, естественно, не идет на такие жертвы. Не идет он на них и там, где речь заходит о природе человеческого эгоизма. В самом нача­ ле философии духа он замечает, как уже говорилось, что философии интересны великие человеческие характеры, выражающие природу человека в ничем не замутненной чистоте. Что касается иных черт ха­ рактера и своеобразия отдельных духов, то философия к ним безраз­ лична. И при этом Гегель замечает: «Для жизни такое знание несом­ ненно полезно и нужно, в особенности при дурных политических обстоятельствах, когда господствуют не право и нравственность, но упрямство, прихоть и произвол индивидуумов, в обстановке интриг, когда характеры людей опираются не на существо дела, а держатся только на хитром использовании своеобразных особенностей других людей, стремясь таким путем достичь своих случайных целей»3. 1 2 3 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 184. См. там же. С. 185. Там же. С. 7. 274 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Указанная здесь ситуация более подробно проанализирована Ге­ гелем в его «Философии права», где речь идет о гражданском общест­ ве. И здесь Гегель все же вдается в детальный анализ такой патологии, как эгоизм. Именно в гражданском обществе получает максимальное развитие тот тип поведения, пишет Гегель, когда «каждый для себя — цель, все остальное для него ничто»1. Но поскольку без взаимодейст­ вия с другими людьми человек не может достичь своих целей в пол­ ном объеме, «эти другие суть поэтому средства для цели особенного»2. Гегель, у которого история есть «прогресс в осознании свободы», не отождествляет эту ситуацию с торжеством свободы. Он прекрасно осознает, что эгоизм, когда мое Я превыше всего и вся, не есть свобо­ да, соответствующая своему понятию. Гражданское общество Гегель характеризует как зрелище нищеты и излишества на фоне общего фи­ зического и нравственного упадка. Он отмечает, что своими пред­ ставлениями и рефлексиями человек расширяет сферу вожделений, не представляющую замкнутого круга, как у животного. Но, с другой стороны, лишения и нужда есть тоже нечто безмерное. И запутан­ ность этого состояния может быть приведена к гармонии только си­ лой государства3. Уточняя цель гражданского общества, Гегель пишет, что ею явля­ ется конкретное лицо как «целостность потребностей и смешение природной необходимости и произвола»4. Но произвол, в свою оче­ редь, в гегелевской трактовке есть влечение, существующее уже в при­ роде. Однако, в отличие от животного, человек полагает это влечение своим. А это значит, что по большому счету эгоистическое поведение не выводит нас за пределы «животного царства». Противовесом эгоизма частных лиц в философии Гегеля, как уже было сказано, является государство, религия, мораль и философия. И с той же настойчивостью, с какой Гегель продвигает душу со всеми ее отклонениями в мир природы, он сближает с Абсолютом, а значит, идеализирует государство, религию, мораль и философию. Антаго­ низм материального и идеального, согласно такой трактовке граж­ данского общества, буквально раздирает тело современной цивили­ зации. И выход из этой ситуации Гегель видел лишь в балансе сил, что характеризует его, может быть, как консерватора, но не как утописта. 1 2 3 4 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 228. Там же. Там же. С. 231. См. там же. С. 227. 275 I Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма Напоследок еще раз напомним, что Гегель не только не преодо­ лел, но в чем-то даже усугубил методологическую ограниченность трансцендентализма, отказавшись при этом от присущего ему своео­ бразия в трактовке происхождения души. У Гегеля душа принадлежит к природному миру и проявляет себя ярче всего в патологических со­ стояниях — душевных болезнях. Иначе вопрос о своеобразии души будет ставить неклассическая философия. Именно ее духовную непов­ торимость противопоставит эта философия гегелевскому всеобщему. Но затем парадоксальным образом неклассическая философия вер­ нется к природной патологии как проявлению индивидуального от­ личия. И об этом пойдет речь в следующей главе. Глава пятая Неклассическая философия: проблема фрагментации души О противостоянии классической и современной неклассической философии у нас заговорили в 1972 году. Первый шаг в обсуждении этой темы сделали М. Мамардашвили, Э. Соловьев и В. Швырев в ста­ тье «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии»1. Статья стала событием, хотя проблема в ней ставилась достаточно узко — о противостоянии двух эпох в развитии западной философской мысли. Речь шла об отрицании философией XX века фи­ лософского развития XVII-XIX веков. Сегодня вопрос можно ставить значительно шире — об отрицании неклассической философской трад цией XIX—XX веков всей философской классики от Сократа до Гегеля Понятно, что неклассическая философия не явилась на свет, как джин из бутылки. В качестве одной из тенденций она присутствовала в недрах широко понятой философской классики. В античную эпоху это умонастроение явным образом выражали софисты и киники, в средние века — английские номиналисты, в Новое время — эмпирик Д. Локк и скептик Д. Юм. Оно присутствует даже у И. Канта. Но только в XX веке это умонастроение стало господствующим, о чем можно с уверенно­ стью заявить уже за его пределами — в XXI столетии. Такая смена го­ сподствующей тенденции дает повод говорить об особом неклассиче­ ском периоде в развитии философии. Причем наиболее актуальными являются вопросы о начале этого периода и его перспективах. Ситуация формирования неклассической философии чрезвычай­ но интересна, поскольку совпадает с расцветом философской клас­ сики. 40-е годы XIX века — это время наивысшей популярности геге­ левского учения. Хотя Г.В.Ф. Гегель скончался в 1831 году, он продол­ жал оставаться кумиром и воплощением классической философии. Но уже в 1819 году вышла, хотя и осталась незамеченной, работа А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». В 1841 году получиСм.: Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972. 277 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души ла серьезный резонанс «Сущность христианства» Л. Фейербаха. А в 1843 году появилось первое произведение С. Киркегора «Или-Или»1. Позиции этих мыслителей различны, но противник у них один — Гегель. И Л. Фейербах в этом ряду не случаен. Его учение — это одна из развилок в мировой философии, от которой дороги ведут к мар­ ксизму и к «философии жизни». Недаром, отказавшись от Гегеля, Л. Фейербах впоследствии поддержал А. Шопенгауэра с его противо­ поставлением гегелевскому спекулятивному разуму волевого начала. Именно сегодня можно конкретизировать вклад каждого из этих мыслителей в становление неклассической философии, яснее опре­ делить, как из отдельных ростков складывалась традиция и как итог совместных усилий спустя полтора столетия опроверг первоначаль­ ные замыслы. Сложность именно в том, что неклассическая филосо­ фия, которая сформировалась в XIX веке, отрицает философскую классику в самых важных и принципиальных вопросах. А поэтому отношение классической и неклассической философии — это не два этапа на пути, идущего по восходящей, а два разных пути в философии. Формально и хронологически неклассическая философия следует за классической и потому ее часто именуют постклассической, но по сути она претендует быть вместо классической. Здесь следует уточнить, что весь предыдущий и последующий анализ, в котором представлены эти две традиции, вовсе не историко-философское исследование в устоявшемся смысле. Наше от­ ношение к истории европейской философии по своим целям и задачам отличается оттого, что обычно делает академическая наука. Прошлое в данном случае интересно прежде всего в свете настоящего, когда на ранней стадии начинают проглядывать черты более зрелой формы. По сути перед нами разные подходы к историко-философскому процессу, разные точки зрения на его изучение и изложение. Ведь одно дело — быть фактически точным в воссоздании позиции автора, и другое дело — выяснить место этой позиции в более широком духовном и историческом контексте, определить ее отношение к современному решению проблемы. Вспомним, как излагал Фихте впечатлившее его учение Канта, и каково было возмущение самого Канта по поводу этой «более после­ довательной» версии его взглядов. При эмпирическом подходе к историко-философскому процессу указанный конфликт Фихте и 1 О различиях в написании имени датского философа С. Киркегора (Кьеркегора и пр.) в первом параграфе. 278 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Канта интересен прежде всего как исторический курьез. С теоретиче­ ской точки зрения за внешней сменой событий важно увидеть соот­ ношение позиций в решении определенной проблемы. Еще раз подчеркнем, что спор Фихте и Канта имеет особый смысл, если мы признаем объективное содержание проблем, кото­ рые ставят и решают философы разных эпох. Причем это содержа­ ние может отличаться от осознания его самими теоретиками. Поэ­ тому их оценки и самооценки нельзя понимать строго буквально. «Лучшее средство быть непонятым или ложно понятым,— писал Фридрих Шлегель,— это употреблять слова в их первоначальном значении, особенно слова, взятые из древних языков»1. Интересуясь развитиемтакогообъективногосодержаниявисторико-философском процессе, можно и нужно удержаться от крайностей позитивистски понятой достоверности, с одной стороны, и произвола в отношении фактов — с другой. Анализ этого движения как раз и позволяет пере­ нести историко-философское исследование с эмпирического уров­ ня на уровень теоретический. При такой постановке вопроса очень важна точка отсчета, и ею не всегда оказывается современность. Парадокс истории, и, в частно­ сти, истории философии, заключается в том, что объективной мерой может стать решение, выработанное не сегодня, а вчера. А иногда этой мерой оказывается не позиция, а методологический подход как тенденция в освоении и решении проблемы. Что касается проблемы души, то философия, как мы видели, то ставила ее на повестку дня, то ее снимала, ликвидируя окончательно или заменяя другими проблемами. Но при всех атаках на эту пробле­ му, в ней всегда оставалось определенное нередуцируемое содержа­ ние. И мы попытаемся уточнить его еще раз на примере неклассиче­ ской философии. В истории культуры нет банальных взлетов и падений. У истори­ ческих заблуждений, как правило, весомые причины. И порой важно вычерпать заблуждение до дна, чтобы обозначились новые пути к истине. Мы попробуем показать, что, отрицая философскую класси­ ку, экзистенциализм и постмодернизм так или иначе, но продолжают решать классическую проблему души. И даже там, где эта проблема­ тика как будто в очередной раз преодолевается, вдруг появляются но­ вые повороты в ее решении. 1 Литературные теории немецкого романтизма. Л., 1934. С. 182. 279 J Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души 1. С. Киркегор: отдельная душа в борьбе со всеобщим 2 октября 1855 года в общественную больницу Копенгагена при­ везли человека, упавшего посреди улицы в состоянии физического и нервного истощения. В регистрационной книге общественной боль­ ницы Фредерикса сохранилась запись: «Он рассматривает свою бо­ лезнь как смертельную. Его смерть, говорит он, необходима для дела, на которое он растратил всю силу своей души, ради которого он в одиночестве трудился и для которого, как считает, был единственно предопределен; отсюда тяжелая работа мысли при такой немощи тела. Если он будет жить, то должен будет продолжить свою религиоз­ ную борьбу, но она выдохнется, тогда как, наоборот, борьба посредст­ вом его смерти сохранит свою силу и, верит он, принесет победу»1. Через месяц с небольшим, находясь в больнице, он скончался. Звали странного господина Серен Киркегор (1813-1855). Фамилию этого удивительного датчанина также переводят на русский как Керкегор, Кьеркегор, Киргегард, Киркегаард и даже Кирхегардт, что го­ ворит об отсутствии традиций в переводе датских личных имен на наш язык. Мы остановимся на том варианте, который предложил первый переводчик его произведений на русский язык П. Ганзен. С момента окончания университета в 28 лет и до своей смерти в 42 года Киркегор нигде не служил и занимался литературным творче­ ством. Именно в такой форме он вел свою борьбу за возрождение христианской веры. Сам себя Киркегор именовал «религиозным пи­ сателем», и после 13 лет активной творческой работы он оставил 28 томов сочинений, из которых 14 томов составляют его дневники. «Толпа, — писал он в одном из своих дневников, — вот главный сю­ жет моей полемики... Хочу открыть толпе глаза, и если она не поймет меня добром, заставлю насильно. Надо, однако, понять меня. Я не хочу бить толпу (одиночка не может бить массу), но я хочу заставить ее бить меня. Вот в каком смысле только я пущу в ход насилие. Раз толпа примется бить меня, внимание ее поневоле должно будет про­ будиться. Еще лучше, если она убьет меня, тогда внимание ее сосре­ доточится всецело, стало быть, и победа моя будет полной»2. 1 Цит. по: Бибихин В.В. Кьеркегор и Гоголь / / Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. М., 1994. С. 89. 2 Киркегор С. Из дневников// Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. Челябинск, 1998. С. 350-351. 280 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В некотором смысле свой замысел Киркегор исполнил. Он начал свою творческую биографию с отрицания общепризнанной гегелев­ ской философии. А в конце жизни вступил в конфронтацию с датски­ ми церковными кругами. Биографы описывают его нападки на Г.Х. Андерсена и множество других конфликтов. И все это происхо­ дило на фоне неординарности внешности, манер и поступков Кирке­ гора, среди которых неожиданный разрыв помолвки с невестой, ко­ торую он продолжал любить всю жизнь. Киркегор обращал на себя всеобщее внимание и одновременно вызывал раздражение тем, что не хотел «быть, как все». Но его проти­ востояние «общему» было не легкомысленной бравадой, а осознан­ ной провокацией и способом борьбы. Обычная жизнь светского че­ ловека для Киркегора — проникнутое лицемерием прозябание. И это несмотря на все доводы рассудка. «Был ли апостол Павел государст­ венным служащим?— спрашивает Киркегор.— Нет. Имел ли он вы­ годную работу? Нет. Зарабатывал ли он большие деньги? Нет. Был ли он женат и производил ли на свет детей? Нет. Но ведь тогда выходит, что Павел не был серьезным человеком!»1 Современный человек очень серьезен. Что касается его души, то это, как пишет Киркегор в одной из статей,— болото, в котором все дружно и сидят. «Вместо радости — вечное брюзжание и недо­ вольство, вместо страдания — упрямая, вязкая, твердолобая терпе­ ливость, вместо воодушевления — речистая многоопытная смышленость»2. Парадоксальность позиции Киркегора заключается в том, что вырваться из объятий «общего» он предлагает через страх и отчая­ ние — состояния, хорошо известные ему самому. Вот одна из дневни­ ковых записей Киркегора: «Я только что пришел из общества, душою которого я был. Остроты сыпались с моих уст, все смеялись, востор­ женно смотрели на меня.— А я, и тут мое тире должно быть длинным, как радиус земной орбиты,— я погибал и хотел застрелиться»3. Меланхолия была каждодневной мукой Киркегора. В свое время его отец определил это состояние как «тихое отчаяние». Сам Кирке­ гор говорил о не покидающей его меланхолии как «вечном умирании без конца» и пытался докопаться до ее причин в своем творчестве. 1 Цит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 201. Там же. С. 182. 3 Цит. по: Бибихин В.В. Кьеркегор и Гоголь / / Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. С. 87. 2 281 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Страх, тоска и уныние без явных поводов, способные довести до пол­ ного отчаяния,— вот проявления меланхолии, которую в наши дни чаще именуют депрессией. Древние греки объясняли это состояние отравлением «черной желчью». Само слово «меланхолия» происходит от греческого «mêlas» — «желчь» и «choie» — «черный». Таким обра­ зом, уже у древних греков подавленность духа у меланхолика имеет не внешнюю, а внутреннюю причину. Страх меланхолика не вызван внешней угрозой его существованию, тоска не имеет определенного объекта, его отчаяние носит безотчетный характер. Именно у челове­ ка эта обусловленность переживания не внешним, а внутренним об­ ретает особую идеальную форму, по-своему осмысленную экзистен­ циализмом. Дело в том, что избавлением от меланхолии у Кирке гора была ли­ тературная работа. «Я счастлив, только когда творю,— отмечает он в дневнике.— Тогда я забываю все житейские страдания и неприятно­ сти, всецело ухожу в свои мысли. Стоит же мне сделать перерыв хоть на несколько дней, и я болен, угнетен душою, голова моя тяжелеет. Чем объяснить такое неудержимое влечение к работе?»1 Налицо та особая, свойственная лишь человеку, ситуация, в которой негативные переживания стали неотъемлемой стороной существования. Они со­ ставляют условие творчества, а, значит, душа уже ищет страданий, пе­ реплавляя их в творческое усилие. Сам Киркегор объяснял своеобразие своей личности следующим образом. «Благодаря неоценимому дару Божию,— пишет он в днев­ нике,— человек, испытывающий удары судьбы, уподобляется редко­ му инструменту. При каждом новом испытании лира его души не только расстраивается, но, напротив, приобретает еще одну струну»2. А это значит, что страдания Киркегора не бессмысленны и не напрас­ ны, в них нужно видеть божий дар и особое предназначение. Докапываясь до причин своей меланхолии, Киркегор видит в ней не аномалию физического свойства, а нечто метафизическое. При этом меланхолия как божий дар у него непосредственно совпадает с божьей карой, а кара парадоксальным образом открывает дорогу спа­ сению. Отец Киркегора был женат вторым браком на служанке. Смерть пятерых своих братьев и сестер Серен воспринял как кару за произошедшее в давние времена совращение отцом его матери — слу1 Киркегор С. Из дневников// Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 350. 1 Там же. С. 352. 282 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии жанки. Но еще более страшный грех, потрясший Киркегора, совер­ шил отец, когда десятилетним пастухом послал проклятье Господу Богу за свою невыносимо тяжкую жизнь. Серен был последним из семерых детей коммерсанта Михаэля Педерсена Киркегора. В живых, кроме него, оставался брат Петер Христиан — впоследствии епископ в Ютландии. Серен был уверен, что не доживет до 33 лет. А перейдя этот рубеж, окончательно убедил­ ся в своей особой миссии. Но для ее исполнения ему следовало усугу­ бить свои страдания как предпосылку «прыжка в веру». Меланхолия была личной бедой Киркегора. Но, разбираясь в причинах личных бед, Киркегор неуклонно придает фактам своей приватной жизни глобальный масштаб, соотнося их с Богом и вечно­ стью. В этом своеобразие его способа философствования, которое он противопоставил умозрительным философским системам, и прежде всего философии Гегеля. Если логика, считал Киркегор, применима лишь к ставшему, свершившемуся, т. е. прошлому, то будущее как об­ ласть индивидуального выбора, область свободы нуждается в особом экзистенциальном опыте. Главная проблема каждого человека, уверен Киркегор,— это его собственное существование, его личное будущее, его судьба. В своем стремлении осуществить вечное во временном, утверждает он, каждый действует и выбирает в одиночку. Но его лите­ ратурное творчество, в ряде случаев предназначенное для «единст­ венного читателя»,— свидетельство того, что на этом пути можно опереться на опыт другого. Иначе писания самого Киркегора были бы напрасны. Таким образом, метод философствования, предлагаемый Киркегором, провоцирует видеть в личной судьбе и своей духовной органи­ зации призму для рассмотрения судьбы другого и всего человечества. Заметим, что Киркегор уже пользуется термином «экзистенциаль­ ный», позаимствовавегоу выдающегося норвежского поэта-романтика Вельхавена. Именно последнему мы должны быть обязаны этим тер­ мином, подхваченным Киркегором и ставшим символом одного из значительных явлений в культуре XX века1. В свете его «экзистенциального» метода особую роль в творчестве Киркегора, сказавшемся на облике всей неклассической философии, сыграла не только знаменитая меланхолия, но и другой известный факт его биографии. Речь идет о разрыве с невестой Региной Ольсен См.: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 47-48. 283 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души (Ольсон, Ользен), впоследствии ставшей женой Фрица Шлегеля — датского губернатора на Антильских островах. Регина, которая пере­ жила Киркегора на полвека, написала незадолго до своей смерти уже в XX веке: «Он пожертвовал мною ради Бога». И это соответствует тому объяснению своего поступка, которое дает сам Киркегор в «Ста­ диях на жизненном пути». «Благодаря женщине в жизнь приходит идеальное, — пишет он.— И кем был бы мужчина без него? Многие мужчины благодаря девушке стали гениями, иные из них благодаря девушке стали святыми. Однако никто еще не стал гением благодаря той девушке, на которой женился; поступив так, он сможет стать лишь финансовым советником. Ни один мужчина не стал еще героем благодаря девушке, на которой женился; благодаря этому он может стать лишь генералом. Ни один мужчина не стал поэтом благодаря девушке, на которой женился, ибо посредством этого он становится лишь отцом. Никто еще не стал святым с помощью девушки, полу­ ченной в жены, ибо кандидат в святые не получает в жены никого; когда-то он мечтал о своей единственной возлюбленной, но не полу­ чил ее... Женщина вдохновляет, покуда мужчина не владеет ею»1. Рассуждения Киркегора, вложенные в данном случае в уста его героя Константина Констанция (Констанциуса, Констанциона), более чем убедительны. Герой, гений, поэт и святой нуждается в женщине-музе, а не в женщине-хозяйке дома. Муза вдохновляет и привносит в жизнь идеальное, тогда как отца семейства обычно по­ рабощают житейские, материальные заботы. Тут не грех вспомнить Платона, у которого философ, стоящий во главе идеального госу­ дарства, также не имеет права на женитьбу, чтобы не попасть в плен материальных забот, навязанных супругой. Но, несмотря на указан­ ное сходство, во взглядах Платона и Киркегора есть явное различие. Философ у Платона служит общему интересу в лице государства, которому противостоят частные интересы отдельных лиц. У Плато­ на именно общее идеально, а частное материально. И с точностью до наоборот у Киркегора, у которого государственная служба — это только должность, а не служение высшим целям. Быть генералом и финансовым советником во времена Киркегора совсем не то, что быть стратегом в эпоху Платона. А потому подчиниться власти «об­ щего», с точки зрения Киркегора, означает оказаться в тисках мате­ риальной необходимости. См.: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 107. 284 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Проблема в том, чем является власть: «кормушкой» или местом гражданского подвига. В первом случае жена подталкивает к власти, во втором — отталкивает от нее. Платон опасается, что жена, будь она у философа, превратит власть в «кормушку» для удовлетворения ин­ тересов семьи. К идеальному, согласно Платону, человек приобщает­ ся не как частное лицо, а в качестве гражданина — как участник об­ щего дела. Иначе у Киркегора, у которого идеальное доступно лишь тому, кто стоит в стороне от общих дел. Но являлось ли положение изгоя сознательным выбором Киркегора? Русский философ Лев Шестов был одним из немногих, кто считал необходимым говорить о скрытой физической стороне разрыва Кир­ кегора с невестой. Анализируя книги и дневники Киркегора, он дела­ ет вывод о том, что «жалом в плоть» для того стала невозможность «быть мужчиной». Но если и существовало такого рода отклонение, то безусловна его связь с душевной организацией Киркегора. Шестов приводит его дневниковую запись, в которой говорится: «Я в настоя­ щем смысле слова — несчастнейший человек, с ранних лет пригво­ жденный всегда к какому-либо доводящему до безумия страданию, связанному с какой-то ненормальностью в отношении моей души к моему телу..»1 Ненормальность во взаимоотношении души и тела Киркегора можно связать с его чрезвычайно развитым воображением. Но разви­ тое воображение и острая чувствительность здесь одновременно яв­ ляются причиной и следствием его необычной судьбы. Стоит вспом­ нить детство Киркегора, в котором не было особых развлечений. Но в качестве компенсации отец предлагал ему иногда побродить с ним по комнате. «И покуда они бродили взад и вперед по комнате, отец опи­ сывал все, что они видели на прогулке; они здоровались с прохожи­ ми; с грохотом проносились мимо повозки, заглушая отцовский го­ лос; фрукты у уличной торговки были заманчивее, чем когда-либо. Он рассказывал обо всем с такой точностью, так живо, с такой досто­ верностью вплоть до самых незначительных мелочей... что, погуляв с отцом полчаса, сын ощущал себя таким взволнованным и таким уста­ лым, словно провел на улице целый день»2. Приведенный отрывок взят из книги Киркегора «Иоганнес Климакус, или De omnibus dibitandum», а Иоганнес Климакус был одним из 1 Цит. по: Шестов А. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. С. 38. 2 Цит. по: Там же. С. 15. 285 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души литературных псевдонимов самого Киркегора. Именно отец приоб­ щил Серена к тому «искусству комбинирования», которое для отдель­ ных натур становится привлекательнее и интереснее реальной жизни. «Это волшебное искусство,— пишет Киркегор,— Иоганнес вскоре сам перенял у отца. То, что до тех пор протекало перед ним эпически, отны­ не стало поворачиваться к нему драматургической стороной; на про­ гулках они стали беседовать... Всемогущая отцовская фантазия прео­ бразовывала каждое его детское желание в составную часть драмы, раз­ ворачивавшейся у них на глазах. Иоганнесу казалось, что мир рождается в процессе их беседы, словно бы отец был Господом богом, а он сам — его любимцем, который мог по своему желанию весело вме­ шиваться в любую из его безрассудных фантазий...»1 Впоследствии уже взрослый Киркегор будет чувствовать себя в мире фантазий, художественных образов и философских рассужде­ ний куда увереннее, чем в обычной жизни. Внутренний мир станет главным миром, в котором будет находиться Киркегор. И это скажет­ ся на взаимоотношениях его души и тела. Совсем иной была Регина Ольсен. Эту разницу между Региной и Сёреном подметил и удачно выразил один из его биографов — Петер П. Роде. «Она была дитя при­ роды, юное и невинное, вдохновляемое само собой разумеющейся самоотверженностью, — пишет Роде.— Он же был артефактом, высо­ коценным искусственным продуктом, тысячу лет выводимым в про­ бирке; переполненным сознанием греха задолго до свершения самого греха; одним словом, как биологическое существо он был калекой»2. Но Киркегор мог превратить и превращал свои недостатки в дос­ тоинства. И «жало в плоть» — это не только беда, но и движущая сила его духовной работы. Более того, он начинает видеть в этой своей особенности свидетельство богоизбранничества. Еще до знакомства с Региной во времена вполне легкомысленного образа жизни Киркегор писал в своем дневнике: «Когда я внимательно рассмотрел большое количество человеческих феноменов из христианской жизни, то мне начало казаться, что христианство, вместо того чтобы даровать им силу... да-да, христианство лишило этих индивидов, если сравнивать их с язычниками, их мужского начала, и соотносятся они сейчас, со­ ответственно, как мерин и жеребец»3. 1 Цит. по: Шестов А. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). С. 15. 1 Цит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 91. 3 Цит. по: Там же. С. 55. 286 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В приведенном суждении Киркегора сквозит явная симпатия к языческому прошлому человечества. Но пройдет время, и в своей фи­ зической слабости и положении изгоя он будет видеть предпосылку чего-то неизмеримо более важного и высокого — христианского по­ двига. И в этом он будет отказывать служителям церкви, в том числе близкому его семье епископу П.Я. Мюнстеру как по сути своей языч­ нику и эстету. Характерно, что физические недостатки некоторых известных людей Киркегор также воспринимал как знак свыше. В частности, в хромоте Талейрана он видел указание на его религиозное призвание, которое тот проигнорировал. Не покорившись судьбе, Талейран сде­ лал блестящую светскую карьеру, но, по мнению Киркегора, погубил в себе религиозного гения. Отдавая всего себя без остатка сочинительству, направленному на воссоздание веры, Киркегор надеялся на результаты, сопоставимые с делом Лютера. Но его деятельность дала иные плоды. Киркегор начал с отрицания философии как Системы. Теоретической философии он противопоставил учение Христа, а логике веру. Но действия Киркего­ ра не сказались на религиозной жизни в Дании, и тем более во всем христианском мире. Киркегор не стал вторым Лютером. Тем не ме­ нее, он оказался одним из зачинателей иной неклассической фило­ софской традиции, сказавшейся на всей духовной атмосфере после­ дующего XX века. Киркегор настаивал на том, что личная судьба — единственный ключ к его воззрениям. И действительно, желание вернуть Регину яв­ ляется тем истоком, из которого вырастает его представление о «по­ вторении». А последнее — одно из важнейших открытий Киркегора, повлиявших на облик неклассической философии. В августе 1841 года Серен Киркегор возвращает Регине кольцо, разрывая тем самым помолвку А уже в 1843 году выходит его работа «Повторение», с начала и до конца проникнутая его переживаниями в связи с этим разрывом. Эту работу нужно рассматривать в единстве с первым оригинальным произведением Киркегора «Или — или», на­ писанным чуть ранее и изданным в том же 1843 году. (В России основ­ ные фрагменты «Или — или» были изданы в 1894 году в переводе П. Ганзена под названием «Наслаждение и долп>.) То же самое касает­ ся другой работы 1843 года под названием «Страх и трепет». То, что в «Страхе и трепете» доказывается на материале Библии, в «Повторе­ нии» Киркегор пытается извлечь из личного опыта. Недаром у работы 287 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души «Повторение» есть нечто вроде подзаголовка: «Повторение. Опыт экспериментальной психологии Константина Констанция». К «Повторению» можно относиться как чисто литературному произведению, поскольку в нем подробно излагаются впечатления от поездки в Берлин Константина Констанция — alter ego самого Кир­ ке гора, о котором у нас уже шла речь. Вторая сюжетная линия «По­ вторения» связана с любовной историей юноши, по отношению к которому Константин Констанций выступает в роли поверенного и наставника. Большинство исследователей сходятся в том, что второй герой, как и первый, является все тем же Киркегором. В этих героях представлены различные полюса его собственной личности. Известно, что Киркегор был литературным мистификатором, представляясь то издателем, то рецензентом, то героем (под псевдо­ нимом) своих произведений. Но при всем богатстве литературных приемов и множестве психологических наблюдений, придающих своеобразие этому произведению, «Повторение» посвящено реше­ нию проблемы, интересующей именно философов. И это деклариру­ ется автором в самом начале книги. На первой же странице Киркегор заявляет о том, что проблеме повторения предстоит играть важную роль в новейшей философии. «Греки учили,— пишет он,— что всякое познавание есть припомина­ ние, новая же философия будет учить, что вся жизнь — повторение»1. Но разобраться в этом вопросе можно лишь в реальном процессе са­ мой жизни. Так Диоген, напоминает Киркегор, в споре с элеатами противопоставил их аргументам реальное движение, прошагав не­ сколько раз взад и вперед. Он буквально выступил против элеатов, отрицавших движение, из чего следует, что разобраться в повторении можно, лишь реально пережив его. Позиция Киркегора здесь выражена вполне ясно, дальнейшее по­ вествование ему вполне соответствует. И на этом основании извест­ ный датский драматург Й.Л. Хейберг (Хайберг), приверженец Гегеля, в своей рецензии на «Повторение» причислил Киркегора к последо­ вателям «философии жизни». Киркегор с этим в целом согласился, уточнив лишь то, что его занимают «феномены индивидуального духа»2. Итак, заинтересованность Киркегора в том, «выигрывают или те­ ряют вещи от повторения», следует понимать в свете духовной жизни 1 2 Керкегор С. Повторение. М., 1997. С. 7. См. там же. С. 126. 288 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии индивида. Речь идет не о повторении природных явлений, а о повторе­ нии духовного состояния человека. Именно поэтому Киркегор берется исследовать эту проблему опытным путем. Древние греки, начиная с Гераклита и элеатов, исследовали вопрос об отношении изменчивого к постоянному теоретически. Киркегор решает проблему соотноше­ ния уникального и вечного практически. Его герой Константин Кон­ станций едет в Берлин, чтобы воссоздать переживания и настроения, которые он испытал в ходе предыдущей поездки. Кто выбрал повто­ рение, подчеркивает Киркегор в одноименном произведении, тот живет. Повторение, если оно возможно, делает человека счастливым. Поэтому поездка в Берлин была для главного героя «Повторения» по­ гоней за счастьем. Тот, кто прочел это произведение Киркегора, знает, что поездка оказалась неудачной. Константин поселяется у прежнего хозяина, посещает уже виденные ранее театральные представления, бродит по уже знакомым местам. Но прежние впечатления и переживания не возникают в его душе. Из театра он уходит с мыслью «Повторения не бывает». Окружающая обстановка в доме оказалась «искаженным по­ вторением прежней». И даже случайные неудобства при посещении полюбившейся кондитерской отбили охоту мечтать о повторении. И только там, где наблюдалась застывшая монотонность жизни, по­ вторение, с иронией замечает Киркегор, оказалось возможным. Единственное, что повторялось во время этой поездки, раздра­ женно замечает автор, это невозможность повторения. Психологиче­ ский эксперимент Константина Констанция, таким образом, потер­ пел провал. Но вместе с ним стали сомнительными суждения Кирке­ гора о том, что уже в учениях древних греков о бытии и ничто, небытии и переходе заключены истоки его категории «повторение». «Диалек­ тика «повторения» несложна,— рассуждает он в первой части кни­ ги,— ведь то, что повторяется, имело место, иначе нельзя было бы и повторить, но именно то обстоятельство, что это уже было, придает повторению новизну. Греки, говоря, что всякое познание есть припо­ минание, подразумевали под этим, что все существующее ныне суще­ ствовало и прежде; утверждая же, что жизнь — повторение, я говорю тем самым: то, что существовало прежде, настает вновь. Без катего­ рий воспоминания или повторения вся жизнь распадается, превра­ щается в пустую, бессодержательную игрушку»1. КеркегорС. Повторение. С. 30-31. 289 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Но уже эксперимент Константина Констанция доказал, что по­ вторения достойно не любое прошлое. Вторая часть книги «Повторе­ ние» показывает: феномен повторения связан не с любыми, а с иде­ альными устремлениями человека. Что касается припоминания, то у Платона оно было движением к истине и обращено не к бренным ве­ щам, а к вечным идеям. Но, в отличие от Платона, который противо­ поставляет конечным вещам вечные идеи, Кирке гора волнует совпа­ дение конечного и бесконечного в индивидуальном духе. У Платона истина за пределами земного мира, у Киркегора она внутри индиви­ да. Главная проблема для Киркегора — это возможность индивиду­ ального мгновения, проникнутого вечностью. И в этом принципиаль­ ное различие между древнегреческой и новейшей философией, пред­ ставленной в учении Киркегора. Жизнь есть поток изменений. Но Киркегора интересует прежде всего тот, кто «слишком горд и не желает, чтобы содержание всей его жизни оказалось всего лишь делом мимолетной минуты»1. Мгнове­ ние, проникнутое вечностью, он противопоставляет минуте суеты. И в этом пафосе противостояния обыденному и ничтожному он пред­ варяет Фридриха Ницше. Внимание Киркегора сосредоточено на собственных переживаниях. Но это совсем не тот индивидуализм, когда миру не стоять, а мне чаю пить. Скорее, миру не стоять, а мне вернуть любовь — Регину. Речь, таким образом, идет о любви как чув­ стве, достойном повторения. Любовь для Киркегора — убежище, где он прячется от прозябания и суеты. Любовь к женщине — это источ­ ник идеального в жизни мужчины. Но откуда происходят те коллизии, которые связаны с любовью Киркегора к Регине и которыми проник­ нуто все его творчество? Здесь мы должны вновь вспомнить об их сугубо физиологическом объяснении, принадлежащем Шестову и подтверждаемом им, среди прочего, выдержками из «Повторения». Намного сложнее выглядит ситуация в глазах Константина Констанция, который определяет со­ стояние своего подопечного, в котором легко узнать самого Киркего­ ра, как «любовь-воспоминание», когда собственные переживания и воспоминания становятся важнее самого предмета обожания. «Ясно было, что мой юный друг влюбился искренно и глубоко,— рассуждает Константин Констанций в первой части «Повторения»,— и все-таки он готов был сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 44. 290 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными отношени­ ями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой огромный скачок, что обгоняет жизнь. Умри девушка завтра, это уже не внесет в его жизнь никакой существенной перемены...»1 И далее: «...он с пер­ вой минуты превратился по отношению к молодой девушке в стари­ ка, живущего воспоминанием. Очевидно, его любовь являлась каким-то недоразумением... Яснее ясного было, что молодой человек будет несчастен... Воспоминание имеет большое преимущество,— начинаясь с потери, оно уверено в себе, потому что ему больше терять нечего»2. Таким образом, особенность «любви-воспоминания» в том, что она существует в форме тоски по любимой, и в этом качестве она ста­ новится источником поэтического творчества. «Молодая девушка не была его настоящей любовью, она была предлогом, поводом к тому, чтобы в нем пробудился поэт, — уточняет Константин в своих запи­ сках.— Вот почему он и мог любить ее лишь в том смысле, что уже не в силах был никогда забыть ее, полюбить другую, но при этом лишь тосковать о ней постоянно, а не желать ее. Она стала частью его суще­ ства, и память о ней была вечно свежа. Девушка имела для него гро­ мадное значение: она превратила его в поэта, а себе тем самым подпи­ сала смертный приговор как возлюбленная»3. В этом отрывке из «Повторения» перед нами очередное объясне­ ние тайны разрыва Киркегора с невестой. В связи с ним приведем одно характерное замечание из работы П.П. Гайденко «Трагедия эсте­ тизма. О миросозерцании Серена Киркегора». «Если и есть правда в словах Киркегора о тайне, которая уйдет в могилу вместе с ним,— пи­ шет Гайденко,— то эта правда в том, что он скрывал свои мысли дей­ ствительно наиболее верным способом — назойливо навязывая их другим. Его тайна в самом деле скрыта наилучшим образом: она вся — наверху. А поскольку тайны ищут обычно под явленным, за невыска­ занным, то ее найти достаточно трудно. Доказательство тому — такие «расшифровки» киркегоровской тайны как, например, шестовская»4. В своей работе о Киркегоре, которая была впервые опубликова­ на в 1970 году, Гайденко анализирует причину его разрыва с Реги­ ной, как и все его творчество, в контексте развития романтизма — 1 Керкегор С. Повторение. С. 14. Там же. ' Там же. С. 16. * Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. С. 128. 2 291 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души как типа личности, миросозерцания, художественной практики и философско-эстетической позиции. А во внутреннем мире роман­ тика любовные отношения всегда играли важнейшую роль, и выс­ шее наслаждение связывалось с напряженным эротическим пере­ живанием. «Мюссе, Жорж Занд, Байрон, Шлегель — все они не зна­ ют более адекватного способа раскрыть содержание внутреннего мира своего героя, чем через создание эротически-напряженного отношения «я» и «ты»,— отмечает Гайденко.— Именно поэтому та­ кая эротическая напряженность и становится не просто предметом изображения, но и предметом теоретического анализа Киркегора»1. Но своеобразие романтизма, объясняет Гайденко, заключается также в том, что другое «я» для романтика лишь момент его собствен­ ного внутреннего мира. Новалис говорил о стремлении поэзии рас­ творить чужое бытие в своем собственном. А это значит, что другое «я», включая возлюбленную, для романтика не является самостоя­ тельной реальностью. И он даже не пытается трансцендировать, как выражается Гайденко, то есть не пытается обрести другого не в своем воображении, а в реальности2. Романтическое чувство к Регине превратило Киркегора в поэта. Но он, подобно юному герою «Повторения», осознает себя заложни­ ком этой романтической любви, переживает ее как своеобразную психологическую ловушку. По сути дела жизнь Киркегора, как и пои­ ски юного героя «Повторения»,— это как раз попытка трансцендиро­ вать за пределы романтического чувства и умонастроения. Их цель — обрести любимую не в воображении, а в реальности. Но как такое возможно? Романтическая любовь не может выразить себя в обычном благо­ получном браке. «Каждое утро я подстригаю бороду всем моим чуда­ чествам,— пишет в письме Константину Констанцию герой «Повто­ рения»,— но на другое утро борода снова отрастает. Я кассирую само­ го себя, как государственный банк кассирует старые ассигнации, чтобы выпустить новые. Но у меня ничего не выходит. Я размениваю весь свой идейный капитал, все первородное богатство мыслей на мелкую монету брачной жизни,— увы и ах!— но в этой валюте богат­ ство мое тает без остатка»3. Мелкая монета брачной жизни несовме­ стима с идеальным содержанием романтической любви. Идеальное 1 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 75. Там же. С. 128. ' Керкегор С. Повторение. С. 105. 2 292 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии чувство — антипод реально существующего брака. Но это не значит, что идеальному чувству нет места в жизни нигде и никогда. Отталки­ ваясь от двух известных противоположностей, Киркегор и герой «По­ вторения» стремятся совместить идеальное чувство с реальностью. Но чтобы любовь повторилась как настоящая, нужен переворот, кото­ рый невозможен без Бога. «Словом, обстоятельства сложились так,— констатирует Конс­ тантин Констанций по поводу своего подопечного,— что ему остава­ лось только прибегнуть к религии. Вот как любовь постепенно заво­ дит человека все дальше и дальше»1. Юный герой ожидает повторе­ ния, как удара грома, способного в одночасье сделать невозможное возможным. Но почему только Бог дарует повторение? Почему без чуда, производимого «силой абсурда», невозможно пересоздать лич­ ность и ситуацию для подлинной любви? Здесь перед нами главная сложность и главная загадка в учении Киркегора. На собственном примере он констатирует разрыв между внутренним миром поэтических фантазий и реальным процессом жизни, когда первый лишен реальной силы, а второй — серьезного смысла. Жажда повторения — это стремление к воссоединению иде­ ального с реальным. Но для Киркегора такое возможно только силой Бога. Уточним, что юный герой, о котором идет речь в книге «Повторе­ ние», так и не воссоединился со своей возлюбленной. Она, подобно Регине Ольсен, вышла замуж за другого. Узнав об этом, герой спешит сообщить Константину Констанцию, что он, несмотря ни на что, до­ бился повторения. На последних страницах мы читаем: «Я снова стал самим собою. Мое «я», которое не нужно никому другому, снова стало только моим»2. И затем, иронизируя по поводу своих страданий, он уточняет: «Разве это не повторение? Разве мне не отдано все снова, да еще в двойном размере? ...Никто больше не властен надо мной, мое освобождение непреложно, я родил самого себя!»3 Однако такой трагикомический исход дела не соответствовал из­ начальным замыслам Киркегора. Развязка была изменена в связи с реальным известием о помолвке Регины с Фрицем Шлегелем, выз­ вавшим бурю чувств у автора «Повторения». Но, несмотря на указан­ ные коррективы, смысл и пафос этого произведения остался преж1 2 3 Керкегор С. Повторение. С. 71. Там же. С. 111. Там же. 293 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души ним. Более того, его анализ позволяет утверждать, что идея повторе­ ния — ключ к творчеству Киркегора. Там, где Киркегор стремится силой повторения воссоединить идеальное с реальным, он еще в пре­ делах классической традиции. Там же, где эта трансцендентная сила утверждает себя как сила абсурда, мы уже на территории неклассиче­ ской философии. И вне загадки повторения понять Киркегора как предтечу неклассического философствования едва ли возможно. 2. С. Киркегор о единстве души силой выбора К сведению счетов с романтиком внутри самого себя Киркегор приступил уже в первой работе «Или — или». В поисках выхода из ло­ вушки романтизма навстречу Регине он анализирует яркие примеры романтического противостояния миру, и оно предстает в «Или — или» в качестве своеобразной болезни духа, следствие которой — утрата собственной личности. Сюжет «Или — или» имеет некоторое сходство с «Повторением». Основа первой части этой книги — история взаимоотношений Иоан­ на и Корделии, описанная в «Дневнике обольстителя». Киркегор представляет дело так, будто к издателю Виктору Эремите этот днев­ ник, наряду с другими работами, попал совершенно случайно. Такова же судьба и комментариев к этому дневнику некоего асессора Виль­ гельма, выступающего в роли наставника и критика по отношению к Иоанну. Эти комментарии составляют весьма обширную вторую часть работы «Или — или». Любовные истории, рассказанные в «Или—или» и «Повторении», похожи. В обоих случаях эксцентричный молодой человек, живущий скорее в мире фантазий, чем в реальности, покидает свою возлюблен­ ную. Но если для юного друга Константина Констанция возлюблен­ ная становится поэтической музой, то из жизни Иоанна Корделия уходит навсегда. «Я любил ее — да, но теперь она не может занимать меня больше», — отмечает в своей последней дневниковой записи Иоанн. И далее он иронично замечает: «Будь я божеством, я сделал бы для нее то, что Нептун для одной нимфы; превратил бы ее в мужчину»1. Иоанн так же романтичен, как и юный герой «Повторения». Он принадлежит миру грез и способен откликаться лишь на сильные воз­ буждающие стимулы со стороны действительности. Именно здесь наКиркегор С. Или—или. М., 1991. С. 191. 294 J Ε.В. АЛареева. Проблема души в классической и неклассической философии чинается своеобразие его натуры, в отличие от героя «Повторения». Дело в том, что Иоанн поглощен поиском ярких ощущений и пере­ живаний, питающих его фантазию. Именно потому, что действитель­ ность способна привлекать его к себе ненадолго, Иоанн становится обольстителем, для которого любовь — игра, и ведется она лишь до тех пор, пока девушка не готова принести ему в жертву все и вся. «Женщина была для него лишь возбуждающим средством,— конста­ тирует Вильгельм по поводу Иоанна,— надобность миновала, и он бросал ее, как дерево сбрасывает с себя отзеленевшую листву: он воз­ рождался,— она увядала»1. Но, по мнению Вильгельма, позиция вечного обольстителя, вы­ раженная, в частности, в образе Дон Жуана, губительно сказывается на человеческой личности, как, впрочем, и эстетическое отношение к жизни в целом. «Можешь ли ты представить себе что-нибудь ужаснее развязки,— пишет он, обращаясь к Иоанну,— когда существо челове­ ка распадается на тысячи отдельных частей, подобно рассыпавшему­ ся легиону изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое дорогое, са­ мое священное для человека — объединяющую силу личности, свое единое, сущее «я»?»2 Здесь следует уточнить, что произведение «Или — или», подобно «Повторению», можно отнести к жанру художественной литературы, и не более того. Недаром современники ценили Киркегора прежде всего как прекрасного писателя, обладающего блестящим стилем. Но рассказанная Киркегором история является своеобразной «шкатул­ кой в шкатулке». И анализ личности Иоанна во второй части книги уже может быть воспринят как вариант некоей «моральной филосо­ фии». Для неискушенного читателя смысл «Или — или» — изложение жизненных принципов этика Вильгельма в противовес беспринцип­ ному эстетику Иоанну, «подвиги» которого изображены им самим в «Дневнике обольстителя». И только сопоставление «Или — или» с другими работами Киркегора позволяет выявить собственно экзи­ стенциальный план его размышлений, в котором проблема проблем — преодоление раскола между идеальным и реальным, между идеалом и жизнью. Критика судебным заседателем Вильгельмом эстетического от­ ношения к действительности в лице Иоанна, а также Дон Жуана, Фауста и Нерона,— лишь момент в решении более фундаменталь1 2 Киркегор С. Или—или. С. 36. Там же. С. 198. 295 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души ной проблемы. Это проблема взаимоотношений духа в лице искус­ ства и философии, с одной стороны, и жизни — с другой. Философ и поэт — два полюса личности самого Киркегора. И потому проти­ востояние философии и искусства реальной жизни, которое стало неотъемлемой чертой его времени, переживается Киркегором как личная трагедия. Состояние романтического искусства, как и спекулятивной фи­ лософии, не устраивает Киркегора именно в силу их отвлеченности от жизненных проблем данного конкретного индивида. Истина — Бог теоретика, подобно тому как Красота является Богом эстетика. Однако трудности умозрения растут, запишет в своем дневнике Киркегор, по мере того, как «приходится экзистенциально осуществлять то, о чем спекулируют». И далее он замечает: «Но в общем, в филосо­ фии (у Гегеля, и у других) дело обстоит так же, как и у всех людей в жизни: в своем повседневном существовании они пользуются совсем другими категориями, чем те, которые они выдвигают в своих умо­ зрительных построениях, и утешаются совсем не тем, что они так тор­ жественно возвещают»1. Анализ взглядов Киркегора в советской философии всегда начи­ нался с его понимания истины как чего-то экзистенциально личного, в противовес общезначимой истине науки и классической филосо­ фии. При этом истоки протеста Киркегора против системности и на­ учности в немецкой философии, как правило, усматривали в заявив­ шем о себе еще в античности субъективизме. И тут же перед исследо­ вателями возникали неразрешимые вопросы. Дело в том, что со времен древнегреческих софистов оборотной стороной субъективиз­ ма был релятивизм. Утверждая субъективную истину, софисты неиз­ бежно противопоставляли общему всем идеалу многообразие част­ ных интересов и забот. Но хотя для последовательного субъективиста все в мире относительно, «миру не стоять» и «мне чаю не пить» — вещи не одного порядка. А в результате закономерным итогом в эво­ люции субъективизма была и остается моя телесная потребность как мерило для любой истины, принципа и идеала. Но Киркегор не был релятивистом. Более того, как раз в реляти­ визме обвинял он своего антипода Гегеля, сравнивая его с «отцом» софистов Протагором. Невозможно уличить Киркегора и в идеологи­ ческой «всеядности», ассоциирующейся с релятивизмом в вопросах 1 Цит. по: Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964. С. 240-241. 296 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии истины. «Субъективист» Киркегор придерживался явно выраженных принципов, если разговор касался области духа. В результате, обвинив Киркегора в субъективизме, исследователь его творчества вынужден неизбежно путаться и противоречить сам себе, как это случилось с известным советским историком филосо­ фии Б.Э. Быховским. В своей книге о Киркегоре он заявляет: «В про­ тивовес объективному понятию истины и ее критерия Кьеркегор выдвигает субъективное понятие истины»1. Хотя на той же странице мы уже прочли: «Относительной истине он противопоставляет абсо­ лютную истину как единственно достойную признания и отвечаю­ щую понятию «истина»»2. Но и без этой путаницы ясно, что в лице Киркегора мы имеем дело с чем-то отличным от традиционного субъективизма. И там, где он настаивает на истине как экзистенциально личной, нет смысла по­ гружаться в мир обыденных забот и интересов. Спекулятивный фило­ соф Гегель не устраивает Киркегора потому, что служение идее за ка­ федрой и письменным столом тот совмещал с обывательским сущест­ вованием в качестве частного лица. Но чтобы преодолеть эту двойственность положения философа, нужно не измерять истину мерой повседневной жизни, а, наоборот, осуществлять экзистенци­ ально то, о чем раньше только спекулировал. Иначе говоря, философ должен жить в соответствии со своим идеалом. Философская истина должна подтвердить свою достоверность, превратившись в образ жиз­ ни. А если без «примирения», а вернее сосуществования отвлеченного идеала с обыденностью философия невозможна, то Киркегор не мо­ жет и не хочет быть философом. Киркегор безусловно был идеалистом. Но быть идеалистом в ре­ альной жизни в условиях гражданского общества может лишь изгой. Спекулятивной истине философа и обыденной жизни большинства Киркегор по сути противопоставляет нечто «третье» — обособленное существование того, кто сумел сделать истину образом собственной жизни. Здесь, однако, есть еще один аспект, который определил свое­ образие отношения к Киркегору в советской философии. Дело в том, что спекулятивная философия, по его мнению, ущербна еще и пото­ му, что ее истины сориентированы на общее благо и потому не каса­ ются никого в отдельности. А в результате интерес отдельного лица, утверждает Киркегор, приносится в жертву всеобщему. 1 2 Быховский Б.Э. Кьеркегор. М., 1972. С. 105. Там же. 297 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Таким образом, спекулятивная истина, по мнению Киркегора, аб­ страктна как бы вдвойне. С одной стороны, она отвлечена от жизни, а с другой — противостоит отдельному индивиду в качестве внешней силы, выдающей ему предписания от имени Всеобщего. Естественно, что, противопоставляя спекулятивному знанию экзистенциально лич­ ную истину, Киркегор делает двойной акцент — как на ее экзистенциальности, так и на ее личном характере. Истина — это то, что наполня­ ет смыслом мою жизнь и способствует моему выбору и свободе. В официальной советской философии нападкам Киркегора на объективную истину всегда давали резкий отпор. Эту точку зрения, причем не совсем заурядно, выразил в 1972 году Б. Быховский. Но ин­ тереснее понять другую позицию, представленную в те же годы в ра­ боте П.П. Гайденко. В первой главе ее книги «Трагедия эстетизма», где речь идет об экзистенциальном характере истины, альтернативой казенной философии и идеологии в целом оказывается не что иное, как обыденная жизнь. Высказана эта мысль, учитывая цензуру того времени, не совсем явно, но главное — от имени Киркегора. После того, что произошло с нами в 90-е годы, критика Гайденко абстрактных положений государственной философии, уже не так ак­ туальна и интересна как то, что предлагается в качестве ее альтерна­ тивы. А в качестве альтернативы абстрактным умозрительным исти­ нам здесь предлагаются конкретные истины, которые не только личностны и субъективны, но и извлечены из «обыденного бытия». Киркегор требует, пишет Гайденко, не такой философии, строя кото­ рую мыслитель уходит из своего обыденного бытия, чтобы потом в него вернуться, а «такой философии, в которой он мог бы постоянно оставаться «дома», не делая непрерывных переходов и не меняя рабо­ чего костюма общезначимости на домашние туфли и халат частной жизни»1. Такая философия, продолжает Гайденко, «должна исходить из реального существования человека так, чтобы он мог оставаться «философом» в своем повседневном существовании. Поэтому, стре­ мясь создать подобную философию, Киркегор никогда не называл себя философом, заявляя отом, что он—только «частный мыслитель»»2. И далее она добавляет: «Философия для Киркегора становится сфе­ рой, где он решает вопрос «быть или не быть», и решает его для себя, ибо никто не может решить такой вопрос для другого»3. 1 1 3 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 18. Там же. С. 18-19. Там же. С. 19. 298 I E.B. АЛареева. Проблема души в классической и неклассической философии Приведенные рассуждения уважаемой Пиамы Павловны очень интересны, но вызывают, в свою очередь, вопросы. И главный из них: если допустить, что экзистенциальная философия извлекает истину из обыденного существования, то можно ли обыденную проблему поднять до уровня классического «быть или не быть»? Или иначе, мо­ жет ли бытовой вопрос стать вопросом экзистенциальным? Здесь следует уточнить, что повседневность не стоит отождеств­ лять с обыденностью. Повседневная жизнь — антипод жизни нео­ бычной и выдающейся. Но только утратившая свой смысл и цель по­ вседневная жизнь становится изматывающей человека обыденно­ стью. Однако не только рутина отличает обыденную жизнь, но и ее замкнутость на вопросах быта. Иначе говоря, обыденная жизнь — это жизнь, единственным содержанием которой стал быт и соответству­ ющие ему ценности. Это жизнь той самой жительницы маленького городка, о тупоумии которой писал Гегель. В связи с этим требует разъяснения характеристика, данная Кир­ ке гором «рыцарю веры» Аврааму, который, по его словам, вел жизнь мирного обывателя, разделяющего порядки и нравы своего народа. Но так Авраам выглядел только внешне, а за фасадом частной жизни Авраама скрывалась тайна устранения этического. Вера Авраама, до­ казывает Киркегор в «Страхе и трепете», вывела его не только за пре­ делы логики, но и морали. Отношения Авраама с Богом недоступны уму и невыразимы на языке людей, а потому он молчит, готовясь при­ нести в жертву единственного сына Исаака. В данном случае проблема не в том, нравственна ли позиция обы­ вателя или, может быть, устранение этического происходит уже в мо­ мент превращения повседневности в обыденность. Речь идет о том, что частная жизнь не всегда скрывает за своим фасадом обыденные инте­ ресы, в чем мы убеждаемся на примере самого Кирке гора. Ведь «част­ ного мыслителя» Киркегора трудно назвать «философом» малых жи­ тейских радостей. Скорее он был «внутренним эмигрантом», решав­ шим в частном порядке вопросы, чуждые большинству датчан. Находясь дома и не снимая халата, он выходит за пределы здравого смысла. И его философию веры через абсурд даже условно нельзя при­ знать философией обыденного бытия, как это выходит у Гайденко. То, что частная жизнь для многих наших сограждан в 70-е годы была единственным островком свободы,— исторический факт. В условиях казенной общественной жизни «уход» в повседневность был своеобразным вызовом, чего не скажешь о наших днях, когда мы 299 J Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души оказались в зеркально противоположном мире. Одна крайность сме­ нила другую, и теперь уже быт стал сферой нашей общепризнанной свободы. Сегодня даже ребенку ясно, что пить «Колу» или «Пепси» — поле для личного выбора. А поднять такой бытовой вопрос до уровня смысла жизни — задача философии повседневности. Так время способно избавить от исторических иллюзий, проде­ монстрировав во всем убожестве дилемму, неистинность которой была уже ясна Киркегору. В советские времена кто-то пытался уйти от казенных форм жизни, эмигрируя в обыденность. Киркегор стре­ мился уйти и от казенщины, и от обыденности. Общезначимая исти­ на казенной философии или индивидуальные истины обыденной жизни? В рамках этой дилеммы формируются в 70-е годы позиции как Быховского, нападающего на Киркегора, так и симпатизирую­ щей ему Гайденко. В то время как сам Киркегор предпочитает «третий путь», на котором христианская истина — смысл и суть индивидуаль­ ного образа жизни. Известный теолог XX века Пауль Тиллих в своей статье «Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель» писал, что по сути дела Киркегор решает ту же проблему, что и Фейербах, Маркс и Ницше. Впоследствии ее назовут проблемой отчуждения и поставят в центр философских размышлений нашего времени. Если Маркс, отмечает Тиллих, выступал против обособления теории от практического су­ ществования человека, то Киркегор протестует против обособления мысли от нравственного существования человека. И тут же Тиллих ссылается на Фейербаха из «Основных положений философии буду­ щего»: не стремись быть философом в противовес своему бытию че­ ловека, думай как живое реальное существо1. По большому счету Киркегор, Фейербах, Маркс и Ницше дейст­ вительно решают одну проблему. Но решают ее по-разному. Как из­ вестно, Маркс видел возможность превратить философию из чистого умозрения в реальную социальную силу, и связывал эту перспективу с рождением науки нового типа. Совсем иначе выглядит эта проблема у Киркегора, у которого спекулятивность современной философии связана как раз с ее стремлением к идеалу научности, и в этом смысле спекулятивность современной философии непреодолима. Но главное своеобразие Киркегора в том, что соединить фило­ софскую истину с жизнью для него означает осуществить ее в качестСм.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М., 1995. С. 457. 300 I Ε.В. АЛареева. Проблема души в классической и неклассической философии ве образа жизни изгоя, одиночки. Выступая в роли социальной силы, любая идея, согласно Киркегору, порождает насилие и разнуздан­ ность1. Напротив, экзистенциально личная истина преображает жизнь человека подобно тому, как это произошло с учениками Хри­ ста. Таким образом, истинным философом у Киркегора оказывается христианский философ, поскольку именно в христианстве истинно то, что пережито индивидуально. И только Христос сказал: «Я есть истина и путь». Здесь, однако, нужно вспомнить о конфликте Киркегора с дат­ скими церковными кругами, который имел все ту же причину: раз­ двоенность существования теперь уже не философа, а церковника. То, что произносят с кафедры священники, доказывал Киркегор, не соответствует их образу жизни. А образ жизни философа и священни­ ка проистекает не из их идеалов, а из повседневности, определяемой толпой. Что же делать изгою? И может ли он изменить толпу? Вот проблема, которую Киркегор хочет решить ценой своей жизни, а точ­ нее мученической смерти, пытаясь таким способом возродить для истинной веры большинство. Сложность состоит еще и в том, что дилемма в качестве основы для выбора истины была предложена самим Киркегором. Недаром его первая книга называется «Или — или», а в трактовке Быховского «Либо — либо». На необходимости выбора из двух альтернатив, пред­ ставленных наслаждением и долгом, здесь настаивает этик — асессор Вильгельм, тогда как эстетик Иоанн стоит на позиции «или-или,— безразлично», или иначе — игнорирует выбор. Понятно, что ситуа­ ция, в которой индивид, выбирая, соотносит противоположные по­ зиции, уходит корнями в немецкую классическую философию от Канта и до Гегеля. Но, в отличие от Гегеля, у которого тезис и антите­ зис как моменты развития снимаются в синтезе, Киркегор настаивает на непримиримости противоположностей и невозможности их опосре­ дования диалектической связью. Но одно дело — декларации и другое дело — решение конкретных проблем, при котором Киркегор вынужден уповать на нечто «третье», стоящее вне заявленной дилеммы. Уже в работе «Или — или» выбор между наслаждением и долгом постепенно обретает новое, а именно религиозное решение. А в «Повторении», как мы помним, антитезы романтической любви и «мелкой монеты брачной жизни» вдруг доСм.: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 181. 301 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души полняются «третьим звеном» в виде подлинного чувства, реализуемо­ го силой абсурда. И та же ситуация в вопросе соотношения филосо­ фии и жизни, когда выбор между спекулятивным знанием и обыден­ ной жизнью Киркегор осуществляет в пользу веры, способной превратить идеал в образ жизни индивида. Противоположности у Киркегора не примиряются в результате компромисса и не снимаются в диалектическом синтезе. Диалектика как орудие субъективного выбора для Киркегора нечто иное, когда из столкновения противоположностей высекается искра «третьего» ре­ шения, рожденного парадоксом. Но вернемся к главной проблеме «Или — или». Ведь анализ про­ тивостояния спекулятивной философии и жизни в этом произведе­ нии Киркегора неотделим от решения вопроса о сути эстетического мировосприятия. «Ты стоишь на одной доске с философами»,— заяв­ ляет Вильгельм Иоанну. Конфликт с жизнью, который характерен для спекулятивной философии и романтического искусства, является конфликтом духа, идеального мира и реальности. Но он интересует Киркегора прежде всего применительно к личности. В глазах Кирке­ гора этот конфликт связан с определенным состоянием личности, а точнее — с ее непосредственностью. Здесь перед нами еще один парадокс в творчестве Киркегора, по­ скольку по ходу чтения второй части «Или — или» читатель выясняет, что возвышение романтика над жизнью сочетается с прямой и непо­ средственной зависимостью от нее. В поисках причины противоречий романтической натуры, чреватых как меланхолией, так и близостью безумия, Киркегор устанавливает сходство внешне различных харак­ теров. Примитивно устроенных людей и аристократов духа может объ­ единять одно — жажда наслаждений, стремление к удовлетворению своих желаний. А такого рода жизненная доминанта, как считает Кир­ кегор, связана с телесной или физической стороной человека. Определяющей силой в отношении к жизни у Иоанна, констати­ рует асессор Вильгельм, стало чувство, а главной целью — наслажде­ ние. Недаром людей такого рода Вильгельм, а вслед за ним Киркегор, именуют эстетиками. В данном случае для Киркегора важен изна­ чальный смысл слова «aisthetes», что по-гречески означает «чувствую­ щий*. Но в погоне за сильными ощущениями соблазнитель неизбеж­ но становится рабом случая и минуты. Всякий, кто желает постичь искусство наслаждения, пишет Вильгельм Иоанну, не ошибется, обратившись к тебе. Но желающего уяснить смысл и значение жизни 302 I Ε.В. АЛареева. Проблема души в классической и неклассической философии здесь постигнет разочарование. И причина в том, что живущего на­ слаждением человека жизнь по сути связала по рукам и ногам. В его существовании отсутствует настоящая свобода. Киркегор, что хорошо известно, был наблюдательным челове­ ком и тонким психологом. И на страницах «Или — или» он развора­ чивает целую палитру характеров, основу которых составляет стрем­ ление жить ради исполнения своих желаний. Того, кто, подобно Иоанну, стоит на высшей ступени эстетического отношения к жиз­ ни, читаем мы в «Или — или», может удивить и даже возмутить то, что его включили в одну компанию с прожигателем жизни, обыч­ ным кутилой. Тем не менее, того и другого, по убеждению Киркегора, объединяет стремление к наслаждению, делающее человека ра­ бом обстоятельств. Для одних эстетиков, отмечает Киркегор, высшим благом жизни является здоровье, сохранению которого они подчиняют все свое су­ ществование. У других эстетиков, среди которых много молодых лю­ дей, суть жизни — в наслаждении их внешней красотой. К эстетикам Киркегор относит тех, кто наслаждается своим богатством и почестя­ ми, а также тех, кто проводят жизнь, любуясь собственными таланта­ ми. Эстетиком, по убеждению Киркегора, является даже тот, кто, по­ добно античным киникам, превратно наслаждается отсутствием ра­ достей жизни. Вспомним, что киники избавлялись от каких-либо обязанностей, привязанностей и привычек, способных, по их мне­ нию, ограничить жизненную свободу. И даже в страстно влюбленной девушке Киркегор видит пример эстетического отношения к жизни, поскольку страстная влюбленность предполагает полное подчинение собственной жизни предмету обожания. «Как ни разнообразны различные категории эстетиков,— отмеча­ ет Вильгельм в своем послании Иоанну,— все они имеют между собой то существенное сходство, что непременным условием принадлежно­ сти к каждой из них является не сознательное умственное или душев­ ное развитие человеческой личности, а непосредственность»1. Иначе говоря, в образе эстетика перед нами человек, личность которого определяет непосредственное чувственное желание, телесная потреб­ ность. Последовательный эстетик — это тот, кто живет запросами тела, ставящими его поведение в зависимость от внешних условий, позволяющих удовлетворить плотское желание. 1 Киркегор С. Или—или. С. 220-221. 303 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Пример классического эстетика у Киркегора — человек, с детст­ ва подчиненный одному желанию, превратившемуся в страсть. Та­ кое сильное влечение способно придать личности цельность и опре­ деленность. Но эта цельность — следствие неразвитости личности и гарантируется как раз отсутствием духовной жизни. А там, где дух проснулся, он нуждается в иных основаниях для единства человече­ ского Я. «В жизни каждого человека,— подчеркивает асессор Виль­ гельм,— настает момент рано или поздно, когда непосредствен­ ность, так сказать, теряет свое главное жизненное значение, и дух стремится проявить себя в высшей форме сознательного бытия. Не­ посредственность, как цепь, привязывала человека ко всему земно­ му, теперь же дух стремится уяснить себя самого и извлечь человече­ скую личность из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в своем вечном значении»1. Итак, речь идет о разных способах детерминации человеческого Я. В первом случае цельность моего Я, а значит последовательность моего поведения, обусловлена неизменными желаниями тела. Во втором случае гарантом единства человеческой души уже является не тело, а дух. Не постоянство стремлений тела, а осознанные действия духа становится здесь объединяющей силой души. И граница между этими состояниями души, согласно Киркегору, пролегает через лич­ ный выбор. Мысль Киркегора неспроста вращается вокруг проблемы единст­ ва личности, распад которой, по его мнению, одна из ужасных развя­ зок в существовании человека. Может тебе и удастся достигнуть мно­ гого, не один раз повторяет в «Или —или» Вильгельм, обращаясь к Иоанну, но ты можешь лишиться самого главного, единственного, что придает жизни человека смысл: «Ты, может быть, и обретешь весь мир, но потеряешь себя самого, повредишь душе своей»2. Единство человеческой души для Киркегора такой же абсолют в нравственном и философском смысле, как и для всей классической философии и культуры. В этом пункте Киркегор, стоящий у истоков неклассической философии,— антипод ее современных представите­ лей в лице постмодернистов, у которых фрагментация личного Я превратилась из ужасной развязки в норму существования челове­ ка. В вопросе единства личного Я датчанин Киркегор — плоть от пло­ ти немецкой классической философии, за исключением одного. Киркегор С. Или—или. С. 229. Там же. С. 206. 304 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии И как раз в этом пункте Киркегор выходит за пределы философской классики. Дело в том, что сила, обеспечивающая единство и индивидуаль­ ное своеобразие Я, у Киркегора не имеет отношения к всеобщему, ко­ торое в философии Канта и Фихте представлено трансцендентальным субъектом, а у Гегеля — субъективным духом. У Киркегора основная связь привносится во внутреннюю жизнь личности самим индивидом как эмпирическим субъектом, который вступает в соприкосновение с вечностью в момент экзистенциального выбора. И именно здесь исток неклассического понимания человеческой души, вне которого не­ ясны его дальнейшие метаморфозы. Но прежде чем углубиться в этот вопрос, уточним особенности пе­ рехода от детерминации души чем-то внешним к ее самодетермина­ ции, который у Киркегора связан со свободой выбора. Здесь многое объясняют такие сложные и парадоксальные натуры, как обольститель Иоанн. Асессор Вильгельм отнес Иоанна ктем эстетикам-аристократам, главная гордость которых — богатство и разносторонность личности. Именно в этой разносторонности коренное отличие такого эстетика от того, кто живет, подчиняясь единственной страсти. Но как раз такой человек, с его разбросанностью интересов и стремлением удовлетво­ рить максимум желаний, по убеждению Вильгельма, ближе всего к рас­ паду личности. Кроме того, именно такие люди, как правило, страдают меланхолией. Ведь меланхолия, как определяет ее Вильгельм в «Или — или», есть не что иное, как «истерия духа». «И вот этот-то душевный недуг, или вернее грех,— пишет Вильгельм,— самое обычное явление времени, особенно заметное в Германии и Франции, где падают под его тяжестью целые поколения молодежи. Я не желаю раздражать тебя и охотно соглашусь, что в известном смысле меланхолия не совсем дур­ ной признак, так как поражает обыкновенно лишь наиболее одарен­ ные натуры»1. Но до тех пор, пока такой человек не совершил выбор, его удел — изнемогать от меланхолии. Однако это еще не все, что касается эстетического отношения к жизни. Дело в том, что на высшей ступени эстетического развития че­ ловек обычно погружается в мир своих фантазий, становясь поэтом. При этом особое наслаждение он получает от игры воображения, когда реальность оказывается для него лишь средством — источником пере­ живаний и образов. В этом пункте сходятся все романтики, среди котоКиркегор С. Или—или. С. 230. 305 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души рых герой «Или — или» Иоанн и юный герой «Повторения». Суррога­ том свободы у такого романтического поэта является ирония. И экви­ либристика иронических оценок заменяет ему свободу поступка. Следуя логике Киркегора, мы оставим в стороне историческую суть романтизма как масштабного явления в искусстве первой поло­ вины XIX века. Игнорируя нравы своей эпохи, романтики обраща­ лись к языческому и христианскому прошлому. Но прошлое для ро­ мантического искусства — это основа и предпосылка для воссоздания яркой творческой индивидуальности, которая по большому счету и противопоставляется существующей действительности. Главное со­ держание этого искусства — внутренний мир героя, который по сути занят самим собой. И такого рода миросозерцание становится приме­ той времени, в которое живет Киркегор, а также предметом его пси­ хологического анализа. Романтик погружен в собственные переживания и фантазии. В этом сходство юного героя «Повторения», который подчинил свое Я единственной «любви-воспоминанию», и обольстителя Иоанна из «Или — или», для которого любовь — способ получать кратковремен­ ные, но яркие переживания. Существенное различие между ними в том, что Иоанн — это прекрасное свидетельство того, как романтизм в конце концов приводит к утрате нравственных ориентиров. Отстраненное отношение к действительности, как известно, вы­ разилось в знаменитой романтической иронии. Но для Киркегора ро­ мантическая ирония — это путь к утрате серьезного отношения к жизни, когда действительность становится только сферой и средст­ вом бесконечной игры. Именно игровой момент в отношении к жизни, подчеркивает в своем исследовании Гайденко, лишает романтика ре­ альной ответственности. Для него одинаково весомы исключающие друг друга нравственные установки. Для него одинаково реальны гре­ ческий миф и христианская вера. Но такая позиция не позволяет лич­ ности действовать в реальном мире. Романтический художник знает наперед: то, во что он вжился, сменится другим. А значит, мир — это только средство для игры воображения, где нет места личному выбо­ ру, долгу, ответственности, т. е. подлинной свободе1. Таким образом, при всех рассмотренных вариантах эстетического отношения к действительности индивид, согласно Киркегору, не яв­ ляется хозяином самому себе. У страстной натуры это выражается в 1 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 120-121. 306 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии прямой зависимости от тех условий, которые дают удовлетворение единственного, но сильного желания. Но и романтик — не кто иной, как раб игры воображения, в которой правит случай и минута. Наслаждаясь этой игрой, он ставит себя в зависимость от обстоя­ тельств, которые вместо него самого определяют его существование. Но непосредственность в том виде, в каком она присутствует в личности романтика, позволяет сделать еще ряд выводов, уточняю­ щих философскую позицию Киркегора. Дело в том, что те чувства и переживания, которыми поглощен Иоанн, уже нельзя напрямую свя­ зать с телесными потребностями человека. А именно так мы поступа­ ли, когда, вслед за Киркегором, разбирались с элементарными случа­ ями эстетического отношения к жизни. Иоанн посвящает свою жизнь погоне за сильными ощущениями, но это непосредственное стремле­ ние не сопоставимо с привязанностью обжоры к еде, а пьяницы к вы­ пивке. Понятно, что человек тем и отличается от животного, что ест, пьет, удовлетворяет другие потребности своего организма не так, как животное, а в особой культурной форме. Свою органическую, а значит материальную потребность в еде человек удовлетворяет с помощью кулинарии, а потребность в тепле удовлетворяет с помощью эстети­ чески оформленных одежды и жилища. Но, встав на такую точку зрения, мы, тем не менее, должны кон­ статировать, что жажда острых любовных ощущений у Иоанна связа­ на не столько с телом, сколько с духом. Вообще, своеобразие эроти­ ки— в сосредоточенности на переживаниях, а не на физиологическом акте. Что касается эротических переживаний Иоанна, которые под­ робно описываются Киркегором в «Дневнике обольстителя», то они неотделимы от жизни духа. «Корделия! Какое чудесное имя! — читаем мы в дневнике Иоанна. — Я сижу дома и упражняюсь, произнося его на всевозможные лады: Корделия, Корделия, моя Корделия, моя воз­ любленная Корделия. Я не могу не улыбнуться при мысли о том, с какой виртуозностью я придам этому имени нужный оттенок в реши­ тельную минуту. Все должно быть тщательно изучено, подготовлено заранее, и предварительные упражнения необходимы»1. Предвкуше­ ние и подготовка к встрече с возлюбленной для Иоанна намного важ­ нее самого общения. Тем не менее, эти сложные, опосредованные фантазией, переживания имеют своей целью наслаждение. И в этом главный парадокс романтической натуры. Киркегор С. Или—или. С. 74. 307 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Кирке гор считал себя мастером в изображении и анализе эроти­ ческого чувства. На это был способен только тот, кто прошел школу романтического искусства. Но для нас важен другой момент. Лич­ ность романтика Иоанна — пример того, что происходит с жизнью духа, когда определяющей силой личности остается наслаждение и в качестве видоизмененной, но телесной силы препятствует ее разви­ тию. Там, где душа посредством наслаждения остается привязанной к частным обстоятельствам и не имеет ведущего принципа, действия духа не дорастают до свободного развития, оборачиваясь произволь­ ной игрой. Эстетика, согласно Кирке гору, ведет страсть, влечение, жажда те­ лесных наслаждений. У его антипода этика дух руководствуется вну­ тренним принципом, полагаемым актом личного выбора. Поэтому эстетик зависим, в то время как этик по-настоящему свободен. Что касается романтической натуры, подобной Иоанну, то она находится как бы между ними. И такого рода видоизмененное подчинение чув­ ственности в работе Гайденко охарактеризовано как «романический эстетизм»1. Творческий порыв духа, как показывает Киркегор, есть мощная сила, присутствующая в романтической личности и способная про­ тивопоставить ее действительности. «Не принадлежа действительно­ му миру,— пишет Вильгельм об Иоанне в первой части «Или — или»,— он, тем не менее, постоянно вращался в нем, но при этом даже в те минуты, когда всецело отдавался ему телом и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по его поверхности»2. Однако смысл это­ го полета духа — в наслаждении, которое способно привязывать к ми­ молетной и внешней стороне дела. Так, отстраняясь от действитель­ ности, романтик остается ее заложником. И, наслаждаясь игрой духа, при всей видимой свободе он — слуга произвола. Даже при написании своего дневника, уточняет Вильгельм, Иоанн получал сложное и многообразное наслаждение. С одной сто­ роны, плодом наслаждения для Иоанна был сам дневник, с другой — то настроение, в котором он велся. «В этом заключалось для него двойное наслаждение,— пишет Вильгельм,— в первом случае он сам отдавался упоению эстетическим, во втором — он эстетически наслаждался своей личностью; в первом — он лично эгоистически наслаждался этой, им же опоэтизированной действительностью, во 1 2 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 118-126. Киркегор С. ИЛИ—или. С. 34. 308 I E.B. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии втором — его личное «я» как бы стушевывалось: наслаждаясь каким-нибудь положением, он смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана на одно наслаждение...»1 Если духовная жизнь романтика проникнута эротическими пере­ живаниями, то другой полюс этой натуры — размышления, которые в душе романтика столь же произвольны. Последнее позволяет Киркегору ставить на одну доску романтического поэта и спекулятивного фи­ лософа, ведь они оба не знают истинной свободы. Не дозрев до лич­ ного выбора, современный философ, считает Киркегор, не вышел за пределы эстетического отношения к жизни. Но вернемся к романтику Иоанну, который, наслаждаясь игрой своего воображения и остроумия, способен запутать не только дру­ гих, но и себя самого. Киркегор в тонкостях описывает ту опасность, которая подстерегает такого человека, который превратил свое су­ ществование в нечто, подобное маскараду. «Никому еще, по твоим словам,— пишет Вильгельм Иоанну,— не удалось познать тебя, твоя откровенность с людьми равносильна каждый раз новому обману... У тебя же все направлено к поддержанию твоей таинственности, и надо сказать правду, твоя маска загадочнее и непроницаемее всех... Нежную пастушку ты томно берешь за руку, разом входя в роль сен­ тиментального пастушка, почтенного духовного пастыря морочишь братским поцелуем и т. д.»2. Однако за маской таинственности, ко­ торую обычно надевает романтик, скрывается пустота. «Сам по себе ты — ничто,— утверждает Вильгельм,— ты существуешь лишь по от­ ношению к другим, является тем, чем тебе нужно быть в этих отношениях»3. Здесь перед нами еще одна характеристика души романтика, ко­ торый не может, а точнее не желает осуществлять подлинный выбор. Дело в том, что маска, которую надевает на себя романтик, согласно Киркегору, является лишь видимостью, внешней оболочкой, имити­ рующей единство личности, собственного Я. На самом деле, уверен он, душа романтика не знает никакой объединяющей силы. Место единой страсти в ней заняли многообразные желания, а в их произ­ вольной игре нет и не может быть внутренней связи, в которой нужда­ ется духовная жизнь. 1 2 1 Киркегор С. Или—или. С. 34. Там же. С. 197. Там же. 309 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Таким образом, романтик способен заблудиться в себе самом. «Но человек, заблудившийся в самом себе, скоро замечает,— читаем мы в первой части «Или — или»,— что попал в какой-то круговорот, из ко­ торого нет выхода; мысли и чувства в нем мешаются и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать себя»1. Правда, его чувства при этом крайне изысканны и сравнимы с «высшим утонченным самосо­ знанием», которое поддерживает такую душу в вечно бодрствующем беспокойном состоянии. Эти метания духа не имеют перспективы, они бессмысленны и бесплодны. Но не стоит видеть в романтике без­ умца. «Нельзя также вполне применить сюда выражение «безумие»,— пишет Вильгельм по поводу Иоанна,— вечно сменяющееся богатое разнообразие мыслей не допускает его душу застыть в неподвижной бесконечности безумия»2. В лице романтика дух еще живет не своей собственной жизнью. Но еще важнее то, что критика Киркегором романтизма, как она представлена в его первой работе «Или — или», по сути является кри­ тикой субъективизма. Субъективизм рождается там, где тело оказ вается мерой для духа. И герой «Или — или» Иоанн — персонифика ция этой жизненной позиции и выражающей ее философии. Киркегор характеризует ситуацию, где дух подчинен внешней ему частной цели, в роли которой выступает наслаждение. И психологически тон­ ко он рисует последствия этого противоречия, когда духовная жизнь лишена своей внутренней связи и основы. Субъективизм в качестве типа личности — это человек с духовными запросами, но без идеалов и принципов. И тогда суррогатом духовной жизни становится беско­ нечная болтовня по всевозможным поводам как способ самолюбова­ ния. «Романтик» в его современном исполнении — это интеллигент, который рассуждает обо всем и вся, занимается самокопанием и лю­ буется собой в этом процессе до бесконечности. Здесь возможно бо­ гатство натуры, но в душе нет того, что именуют «внутренним стер­ жнем». Вариант такой личности нашел свое отражение в образе «пи­ кейных жилетов». Произвол как способ жизни духа у Киркегора — свидетельство его болезни. Эту болезнь духа можно назвать «болезнью роста». Но если Гегелем такого рода болезненные явления в жизни духа рассма­ триваются во всемирно-историческом масштабе, то Кирке гор смо­ трит на эту проблему только изнутри. Исторический и культурный 1 2 Киркегор С. Или—или. С. 37. Там же. 310 I Е.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии контекст в его рассуждениях выступает только фоном, часто враж­ дебным духу. Мир культуры, подобно природе, является у него сугу­ бо внешней инстанцией для духа. Другое дело — трансцендентный миру Бог, с которым индивидуальный дух, согласно Киркегору, спо­ собен вступить в прямое соприкосновение уже в момент экзистен­ циального выбора. На определенном этапе становления личности, считает Киркегор, душа человека обретает самостоятельность относительно тела. И вы­ ражается эта самостоятельность в смене способа детерминации души. Непосредственная связь души и тела разрушается по мере того, как в человеке просыпается дух. Именно жизнь духа, согласно Киркегору, становясь средоточием индивидуальной души, способна возвысить ее над телом. И именно действия духа формируют новый тип взаимоот­ ношений, когда душа из ведомого становится поводырем. Внешняя детерминация души сменяется на ее самодетерминацию. То действие индивидуального духа, которое меняет способ суще­ ствования души, как уже говорилось, Киркегор характеризует как вы­ бор. Но это не просто волевой акт, вьщеляющий одну из множества возможностей. Свое послание Иоанну во второй части «Или — или» асессор Вильгельм начинает с рассуждений о природе выбора. Ведь в своем выборе мы часто руководствуемся чужим указанием. А еще чаще выбираем то, что не способно сыграть решающей роли в нашей последующей жизни. Все эти разновидности выбора важны. И, тем не менее, подлинным выбором, по словам Вильгельма, является только тот, при котором мы выбираем не предмет, а самого себя. Но и здесь индивида подстерегает опасность, поскольку, вступив на путь личного выбора, можно вновь соскользнуть в область чувст­ венности. Эта новая разновидность эстетизма формируется на почве отрицания непосредственного чувства. Если природное существо связано с чувственным удовольствием непосредственно, то человек, который победил чувственность своей волей, способен выбрать ее опять, но теперь уже сознательно. И тогда перед нами демонический эстетизм, основанный на сладости греха. Как показывает Гайденко, этот тип эстетизма подробно анализи­ руется в той части «Или — или», где речь идет о моцартовском «Дон Жуане»1. Именно здесь обнажается природа эротической чувственно­ сти, которая опосредована христианским осуждением наслаждения. 1 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 163. 311 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Чувственное наслаждение, начиная со средних веков, это наслажде­ ние запретным плодом. Это наслаждение, как пишет Гайденко, пре­ жде всего, своим же наслаждением1. И в этом своеобразие демониче­ ского эстетизма, который в усугубленном виде предстает в образе Фа­ уста. Ведь у Фауста тяготение к чувственности опосредовано, кроме христианской морали, еще и рефлексией. На подступах к позиции демонического эстетизма находится им­ ператор Нерон, который в трактовке Киркегора настолько пресыщен удовольствиями, что испытывает их лишь в результате ухищрений. Ведь искусство приносит ему наслаждение лишь на фоне горящего Рима. Не будучи способным подняться до нравственного выбора, Не­ рон использует выбор для изощренных удовольствий, которые сопро­ вождаются у него внутренним трепетом. Вот почему, по мнению Киркегора, так мрачен взор Нерона. Итак, подлинно этический выбор не только меняет способ детер­ минации души, но вводит ее в новую систему координат. Выбор, по­ средством которого мы преодолеваем границу между эстетической и этической сферой,— это не просто выбор, но определенная гарантия того, что наша жизнь уже не подвластна чуственности и минутным порывам. Но что является основой такого существования? Значительное место в характеристике Киркегором сути этической детерминации души занимает долг. Но в борьбе с субъективизмом эстетического толка он не предлагает выбор в пользу общего внутри меня, как это происходит, к примеру, у Канта. Нравственное чувство у Канта той же природы, что и априорные формы чувственности, рас­ судка и разума. А потому даже внутри нас, они общезначимы, в чем и состоит своеобразие трансцендентализма. И как раз это не устраивает в кантовской этике Киркегора. Рассуждая о позиции этика, Киркегор не делает прямых выпадов против Канта. И тем не менее, он очень последовательно характери­ зует долг как нечто сугубо индивидуальное. У Киркегора долг — это, прежде всего, долг перед самим собой. Уже в «Или — или» он делает основанием морали не общее, а частное. «Между тем,— пишет он,— общее ведь и не существует само по себе, а лежит в самом человеке, энергии его сознания, и от человека самого зависит, видеть в частном общее или только частное»2. А в другом месте он уточняет, что суть 1 2 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. С. 165. Киркегор С. Или—или. С. 357. 312 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии долга в том, чтобы «видеть свою жизненную задачу в самом себе» и сознательно брать на себя «вечную ответственность за ее выполнение»1. Киркегор часто повторяет в «Или — или», что человек должен вы­ брать самого себя в абсолютном смысле. И только после этого возврат от этического к эстетическому становится невозможен. Тем самым Киркегор намечает ту стадию в эволюции индивида, которая напря­ мую связана с верой. Но в «Или — или» религиозное еще не отделено от этического. Здесь еще нет и речи об устранении последнего. Вера и долг в «Или — или» еще едины. Ясное сознание долга в «Или — или» уже совпадает с состоянием отчаяния, которое только в своей предельной фазе может дать резуль­ тат. «Я указываю тебе на отчание,— пишет Вильгельм Иоанну,— не как на средство утешения, или состояние, в котором ты должен остаться навсегда, но как на подготовительный душевный акт, требу­ ющий серьезного напряжения и сосредоточения всех сил души»2. Та­ кое состояние, уточняет он далее, должно уничтожить все суетное, лишнее, ненужное и привести к сознанию своего вечного значения. Если сомнение овладевает только сферой мышления, пишет Кир­ кегор, то отчаяние охватывает всего человека и в определенном смы­ сле впервые порождает его личность. Душа эстетика, не устает повто­ рять он, является рабой минуты. Она похожа «на почву, на которой с одинаковым правом на существование произрастают всевозможные травы: его «я» дробится в этом многообразии, и у него нет «я», кото­ рое бы стояло выше всего этого»3. Иначе обстоит дело с душой этика, который уже выбрал свое Я, в противовес миру. Киркегор специально анализирует Писание там, где сказано: что пользы человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит. В данном случае весь мир означает земные блага, которые дороги эстетику. Но, лишившись их, мы не наносим вред своей душе. «Что же тогда такое моя душа?— пишет Киркегор.— Что же такое это вну­ тренняя внутренних моего существа, которое остается невредимым при подобных лишениях»4. Вопрос остается риторическим. Но Кир­ кегор в связи с ним делает важное различение между абсолютным от­ чаянием, которое спасает душу, и житейским отчаянием, которое способно навредить душе. «Если же человек предается обыкновенно1 Киркегор С. ИЛИ—или. С. 302. Там же. С. 250. ' Там же. С. 266. 4 Там же. С. 263. 2 313 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души му, временному, житейскому отчаянию,— отмечает Киркегор,— то он только вредит душе своей; внутренняя внутренних его существа — душа не выходит из горнила отчаяния очищенной и просветленной, а, напротив, как бы цепенеет в нем, грубеет и черствеет. При этом че­ ловек одинаково вредит душе своей — стремится ли он в своем отчая­ нии обрести весь мир и обретает его, или отчаивается потому, что ли­ шился мира,— в обоих случаях он смотрит на себя только как на зем­ ную, конечную величину»1. В указанной привязанности к внешнему миру Киркегор уличает и древнегреческих философов, призывавших к нравственному самосо­ вершенствованию, и христианских мистиков, в отношении которых к Богу он чувствует определенную навязчивость. Для нас, однако, в ра­ боте «Или — или» важно другое, а именно то, каким образом Кирке­ гор характеризует абсолют в качестве сути предельного отчаяния. «Выбирая абсолют,— пишет по этому поводу Киркегор,— я выбираю отчаяние, выбирая отчаяние, я выбираю абсолют, потому что абсо­ лют — это я сам; я сам полагаю начало абсолюту, т. е. сам выражаю собой абсолют, иначе говоря: выбирая абсолют, я выбираю себя; по­ лагая начало абсолюту, я полагаю начало себе»2. Неоднократно повторяя, что я и есть абсолют и что самое кон­ кретное — это моя свобода, Киркегор, конечно, не забывает о Все­ вышнем. Но именно здесь его воззрения начинают характерным образом двоиться. Отчаяние оборачивается блаженством. Свобода обнаруживает себя как подчинение воле Божьей. Соответственно, выбирая самого себя, человек оказывается в лоне Бога. И через эту двойственность как раз и проявляет себя своеобразие религиозности неклассического толка, начало которой полагает Киркегор. Не только у него, но и у Шестова, и даже у Ясперса, в отношениях с Богом доми­ нантой оказывается сам человек. И эта ситуация явным образом пред­ ставлена в трактовке Киркегором подвига, совершенного «рыцарем веры» — библейским Авраамом. Как уже говорилось, феномен веры — главная тема произведения Киркегора «Страх и трепет». И именно здесь идет речь об устранении этического. Если Кант использовал мораль для доказательства бытия Бога, а в итоге загробный мир оказался у него царством нравственно­ сти и потому блаженства, то у Киркегора все наоборот. В результате божественное оказывается у него антиподом морального уже по эту 1 2 Киркегор С. Или—или. С. 263. Там же. С. 256. 314 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии сторону, a точнее, в момент движения от посюстороннего к потусто­ роннему — в акте веры. В «Страхе и трепете» Киркегор сопоставляет трагических героев античности с библейским Авраамом, шагнувшим из сферы этическо­ го в область веры. Киркегор называет его то «отцом веры», то «рыца­ рем веры», имея в виду то, что он первым из людей испытал состоя­ ние максимального отчаяния. Отчаяние Авраама, который должен принести жертву Богу в виде единственного долгожданного сына Исаака, достигает предела. Осознание смертности человека наступа­ ет в момент обряда жертвоприношения с наибольшей силой и ясно­ стью. Но, отрекаясь от самого дорогого в этой жизни во имя Бога, Авраам возвращает себе Исаака. Потому что наивысшее отчаяние, согласно Киркегору, парадоксальным образом совпадает с верой. И тем самым провоцируется повторение. В данном контексте повторение означает, что бывшее становится небывшим вопреки всем земным законам. На традиционном языке это называется чудом. Но Киркегор ищет здесь особый философский смысл. Характеризуя совершенный Авраамом «прыжок в веру», Кир­ кегор пишет, что тот осуществляет сразу два противоположных движе­ ния. «Он делает бесконечное движение самоотречения и отдает Иса­ ака... — отмечает Киркегор,— однако затем он в то же самое мгнове­ ние совершает движение веры. Это и есть его утешение. Он говорит: «Этого не случится, или, если случится, Господь даст мне нового Иса­ ака как раз силой абсурда»1. Это движение навстречу абсурду, без­ условно, парадоксально, и каждый проходит его в одиночку. В «Страхе и трепете* тема единства души уже не интересует Киркегора с той же силой, что в работе «Или — или». На первом плане в «Страхе и трепете» другие проблемы, и прежде всего возможность по­ вторения, причем повторения не природного или социального факта, а человеческого Я и его состояний во всей их уникальности. Но залогом такого повторения оказывается все та же двойственность, которая от­ личает неклассическую религиозность. Ведь Бог как вечное становитс здесь гарантом абсолютности моего временного Я. И спасение, таким образом, оборачивается не бессмертием души в потустороннем мире, а утверждением моего Я здесь и теперь. Киркегор называл себя «коррективом эпохи». Но корректируя хри­ стианскую веру, он вносит в нее тот богоборческий мотив, который чрезКьеркегор С. Страх и трепет. С. 104-105. 315 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души вычайно усилится у Шестова. Вера в трактовке Киркегора вырастает на почве того индивидуализма, который породит и ницшеанский атеизм. И как раз ницшеанство дает ключ к пониманию души в религиозном экзистенциализме в его развитии от Киркегора к Шестову. 3. Ж. Делёз: плоть взамен души Творческие биографии философов выглядят по-разному. Вся си­ стема Гегеля содержится, как известно, уже в его ранней работе «Фе­ номенология духа». Суть воззрений Киркегора представлена в трех работах 1843 года, после чего все только развивается и уточняется. Иначе обстоит дело с Кантом, творчество которого делится на прин­ ципиально разные «докритический» и «критический» периоды. Что касается французского философа XX века Жиля Делёза, то его инте­ ресы перемещались из одной области в другую, и специалисты выде­ ляют от трех до четырех этапов в его творчестве. При этом у Делёза шел процесс уточнения его методологических принципов. И главным в этом движении было выдвижение за пределы философской класси­ ки, а затем и философии вообще. Известно, что Делёз изучал философию в Сорбонне, в частности, под руководством Жана Ипполита. Его первая книга была посвящена творчеству Д. Юма и называлась «Эмпиризм и субъективизм» (1953). Вторым значимым произведением Делёза была книга «Ницше и фи­ лософия» (1962). Кроме того, в 60-е годы в своих работах он анализи­ рует взгляды Платона, Спинозы, Канта, Бергсона. Уже в это время основным пафосом Делёза является противостояние линии Платона и Гегеля с их пониманием идей и идеального. Второй этап в творчестве Делёза обычно связывают с опубликова­ нием его главной работы на основе докторской диссертации. Эта ра­ бота под названием «Повторение и различие» была опубликована в 1969 году, и в ней Делёз предложил свою альтернативу как платониз­ му, так и кантовскому трансцендентализму. Его метод так называемо­ го «трансцендентального эмпиризма», представленный уже в работе о Юме, здесь направлен на переосмысление и демонтаж кантовских априорных схем и понятий. Третий и наиболее самобытный период творчества Делёза начался после его встречи с психоаналитиком Феликсом Гваттари. Именно после этого проблематика работ Делёза смещается в социальную и политическую плоскость. Как раз вместе с Гваттари Делёз издает в 1976 году работу «Ризома. Интродукция», в которой предложено по- 316 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии нятие «ризома», заимствованное из биологии. По-гречески «rhiza» — это «корень». И слово «ризома» в биологии применяют к разветвлен­ ным корням с множеством узлов, в которых нет каких-либо призна­ ков структуры и организации. С подачи Делёза и Гваттари в современном философском мышлении ризома стала символом сингу­ лярности, в противовес регулярности. Это проявление стихии, в про­ тивоположность порядку, на который делали ставку классическая философия и наука. Именно ризома, с этой точки зрения, органична для области духа, в которой должна господствовать не логика, а ассо­ циация как произвольное сцепление образов. Сотрудничество Делёза с Гваттари привело к созданию другой знаменитой работы «Анти-Эдип: капитализм и шизофрения», первая часть которой появилась в 1972 году, а вторая — в 1980-м. Уже поня­ тия «шизофренический дискурс» и бессознательно действующие «ма­ шины желания» показывают, как далеко на этом этапе Делёз уходит не только от классики, но и от неклассического мышления в лице ницшеанства и фрейдизма. А затем интересы Делёза окончательно сдвигаются в область политики и искусства, доказательством чего яв­ ляются его работа о британском художнике Френсисе Бэконе в 1981 году и двухтомник о кино, написанный в 1983—1985 гг. Нас интересует начальный этап в творчестве Делёза, где он еще связан с классической философской мыслью, но уже дает ей свою трактовку. Даже там, где он исследует Юма и Спинозу, Делёз видит значимость их творчества не в том, на что обращают внимание осталь­ ные. И то же самое касается трактовки Делёзом взглядов Ницше и Киркегора. Начнем с того, что история философии, согласно Делёзу, есть не­ кий двойник философии, который предполагает максимально воз­ можное ее изменение. При этом философия, уточняет Делёз, должна выглядеть аналогично коллажу в живописи. И в таком философском коллаже, читаем мы в «Различии и повторении», «можно представить философски бородатого Гегеля, философски безволосого Маркса на том же основании, что и усатую Джоконду»1. Но искусство коллажа — это только средство и прием. Гораздо важнее результат усилий Делёза, в котором философия не только избавляется от классической пробле­ матики, но в конце концов лишается самого философского размышле­ ния, родившегося 2,5 тысячи лет назад в античной Греции. 1 Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 12. 317 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Занимаясь философской классикой, Делёз с самого начала стре­ мится усмотреть «иное в очевидном». «Очевидное» — это существую­ щая философская традиция. А «иное» возникает из стремления уви­ деть в ней то, что авторы скрывали, или то, что они могли сказать в иных условиях. Это выворачивание авторской позиции наизнанку, чтобы увидеть ее нутро и тайные импульсы. Такой способ прочтения классики Делёз определял как положение «посреди читаемого». И надо сказать, что он сам прекрасно осознавал нетрадиционность такого подхода к учениям прошлого. Широко известно следующее определение им своей методы работы с классикой: «Я воображал себе, что за спиною автора делаю ему ребенка, который должен бы быть его ребенком, но в то же время чудовищем. Очень важно, чтобы ребенок был его, поскольку необходимо, чтобы автор в самом деле говорил то, что я его заставлял говорить»1. Нетрадиционность такого обращения с классикой в том, что это одновременно деконструкция и творчество. Несмотря на признавае­ мый им момент насилия, рождающего чудовищ, Делёз часто, вслед за Ницше, сравнивает философствование с танцем, а философа с танцо­ ром. Здесь стоит напомнить, что Киркегор в борьбе с классической философией сравнивал себя с Сократом — автором иронической рефлексии. Субъективные истины Киркегора — продукт такого иро­ нического самоанализа. Но для Делёза, пишущего во второй полови­ не XX века, Киркегор ценен другой стороной своего учения. В его учении Делёз делает ставку именно на «повторение», и последнее у него означает окончательный выход за пределы рефлексии. Гегелевск му логическому движению, считает Делёз, в конечном счете, должно быть противопоставлено не иное понимание движения или иная ло­ гика, & реальное действие. На смену логике, подчеркивает он, должны прийти вибрации, вращения, кружения, танцы и прыжки, которые воздействуют непосредственно. Именно такого рода движения и ха­ рактеризуют, по Делёзу, философа в его творчестве. В небольшой книжке «Ницше», изданной в 1965 году, Делёз прямо заявляет, что творец — это «законодатель жизни, танцор». И тут же без перехода он уточняет, что «вырождение философии начинается с Сократа»2. Настоящими философами, по мнению Делёза, были «досократики», которые выражали существо жизни, представленное в 1 Цит. по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа// Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001. С. 171-172. 1 Цит. по: Там же. С. 27. 318 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии образе Диониса. Что касается Сократа, то он «изобрел метафизику», задав жизни меру и границу. И главное — он сделал мерой жизни «высшие ценности», а именно Божественное, Истинное, Прекрас­ ное, Благое. «В образе Сократа,— пишет Делёз,— на сцену выходит философ, который добровольно и утонченно порабощает себя, при­ чем навека»1. Как именно «вырождалась» философия в классику, порождая «высшие ценности», Делёз подробным образом разбирает в матери­ але 1969 года «Платон и симулякр». Без такого показа, считает он, невозможен проект Ницше, который предлагал «перевернуть плато­ низм вверх ногами». Главный мотив теории идей Платона, закре­ пившей существование «высших ценностей», Делёз обнаруживает в области репрезентации, где различаются идея и образ, оригинал и копия, модель и симулякр. А в платоновской диалектике он предла­ гает видеть не способ деления на роды и виды бытия, а метод отбора по происхождению. «Платонизм, — пишет Делёз,— философская «Одиссея», а платоновская диалектика — это не диалектика проти­ воположностей или противоречия, а диалектика соперничества (amphisbethesis), диалектика соперников и истцов... Глубинный смысл этого метода заключается в принципе отбора по происхожде­ нию и родословной. Он просеивает и сортирует претензии, отличая истинного претендента отложного»2. Указанная селекция, согласно Делёзу, касается, к примеру, душ в диалоге «Федр», где души, созерцавшие Идеи, имеют предпочтение, по сравнению с душами, наполненными низменными намерениями. Предпочтение, указывает Делёз, в таком случае всегда дается тому, кто ближе к истокам, а значит, к оригиналу. На другом краю в этой иерархии стоит симулякр как отдаленное подражание и мираж. В этой системе отбора, считает Делёз, симулякр обнаруживает себя как извращение и отклонение. В нем доминирует не подобие, а несходство. Сравнивая образ идеи и симулякр, Делёз пытается убе­ дить нас в том, что именно Платон закладывает основу основ класси­ ческой философии, в которой всякое подобие есть благо, а несхожесть и отклонение — порок. «Подобие, будучи как внутренним, так и ду­ ховным,— отмечает Делёз,— является мерой любой претензии»*. 1 Цит. по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа. С. 27. Делёз Ж. Платон и симулякр// Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998. С. 226. 3 Там же. С. 229. 1 319 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души И главная претензия философской классики — это претензия на про­ никновение в скрытую сущность оригинала. Характеризуя симулякр, Делёз говорит, что он не имеет своего первообраза или модели, в лучшем случае он модель Другого (l'Autre). Пытаясь оттенить специфику симулякра, он сравнивает Бога и чело­ века, который был сотворен по образу и подобию оригинала. Но, утратив в результате фехопадения подобие с Богом, человек, соглас­ но Делёзу, стал симулякром. В отличие от копирования отношений и пропорций оригинала, си­ муляция в трактовке Делёза связана с безумием и становлением безфаничного. Симулякр не признает равенства и фаницы, он может быть одновременно больше и меньше. «Наложить фаницу на это ста­ новление, упорядочить его в соответствии с Тем же Самым, связать его с подобием, — читаем мы у Делёза,— и сделать это именно с той стороны, которая остается мятежной,— подавить ее настолько глубо­ ко, насколько возможно, заточить в пещеру на дне Океана — такова цель платонизма с его волей обеспечить полную свободу изображе­ ний над симулякрами»1. Как мы видим, из миража и слабого подражания симулякр вдруг превращается в мятежного вестника стихии и хаоса. И достигается та­ кое смещение акцентов не путем аргументации, а чисто литературны­ ми приемами. Это следует подчеркнуть именно в отношении анализа платонизма как одного из наиболее концептуальных у Делёза. Уже здесь он умело подменяет логическую аргументацию художественны­ ми образами. А впоследствии эта метода станет определяющей в его творчестве. Вся классическая философия, согласно Делёзу, стремится утвер­ дить принцип репрезентации во всех областях, распространить его на бесконечно большое и бесконечно малое. Делается это во имя телеологизма, эссенциализма и высшего смысла истории. И тем не менее, пишет Делёз, с определенного момента симулякр заявляет о себе. Происходит это, прежде всего, в искусстве, где он проявляет себя как власть фантазма. В произведениях современного искусства выступа­ ют на поверхность расходящиеся серии, лишенные центра циклы, со­ стояние хаоса и афессия симулякра. Таким образом, мир классики — это мир соразмеренности, подо­ бий и копий, а современный мир означает победу силы симулякра. 1 Делёз Ж. Платон и симулякр . С. 231. 320 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В этом случае подобие становится производным различия. И это, со­ гласно Делёзу, как раз и совпадает с «переворачиванием платонизма». «Таким образом, «перевернуть платонизм вверх ногами»,— пишет он,— связано с возвышением симулякра и утверждением его в своих правах среди копий и изображений. Проблема более не связана с про­ ведением границы между сущностью и видимостью, моделью и копи­ ей. Это различение полностью действует внутри мира репрезентаций. Скорее, она связана с предпринимаемым ниспровержением этого мира — «сумерками богов»1. Приведенный здесь отрывок весьма важен, чтобы понять, как извлекает Делёз «иное» из «очевидного». Ведь сущность и явление только внешне напоминают модель и копию. Но выдать сущностное единство за внешнее сходство — кредо любого эмпирика. Именно такого рода подмена в философском движении, которое Делёз лю­ бит сравнивать с игрой, превращает Платона в первого семиотика, а семиотику — в основу классической философии. И в такой игре и круговерти Делёз умудряется избавиться от главного — проблемы идеального, которая собственно и прославила Платона как величай­ шего философа. Платон у Делёза семиотик, а не идеалист — вот в чем дело. Соот­ ветственно идея у него утрачивает свою специфику — всеобщность. И проблему универсалий, подобно Юму, Локку и Росцелину, Делёз считает иллюзорной и ложной. А в результате платоновская идея в его подаче отличается от вещи не как идеальное от материального и об­ щее от частного, а как одно единичное от другого единичного. Но это лишь один из ключиков к его удивительной «концепции». Термин «концепция» здесь употреблен совсем не случайно. Ведь философское творчество Делёз характеризует как создание «концеп­ тов». «Просто нам тоже пришло время задаться вопросом, что такое философия, — читаем мы в совместной книге Делёза и Гваттари 1991 года. — Мы и раньше все время его ставили, и у нас был на него неизменный ответ: философия — это искусство формировать, изо­ бретать, изготовлять концепты»2. В книге «Что такое философия?» речь идет о важнейших концеп­ тах философии Делёза — сам «концепт», «план имманенции», «кон­ цептуальный персонаж» и др. И первое, что бросается в глаза, — это некий скепсис в отношении симуляции, которой авторы явным обра1 2 Делёз Ж. Платон и симулякр. С. 235. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998. С. 10. 321 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души зом противопоставляют концептуальную деятельность. В работе о Платоне Делёз склонен говорить о симуляции с патетикой, но за чет­ верть века симулякры успели показать себя не с лучшей стороны. «Переживая новые и новые испытания,— пишут авторы во введении к «Что такое философия?»,— философия, казалось, обречена была встречать себе все более нахальных и все более убогих соперников, какие Платону не примерещились бы даже в самом комическом рас­ положении духа. Наконец, до полного позора дело дошло тогда, когда самим словом «концепт» завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама — все коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы\.. Нет событий, кроме презентаций, и нет концептов, кроме товаров, которые можно про­ дать. Этот общий процесс подмены Критики службой быта не обошел стороной и философию. Симулякр, имитация какого-нибудь пакета с лапшой стала настоящим концептом, а презентатор продукта, товара или же художественного произведения стал философом, концепту­ альным персонажем или художником»1. В народе такую ситуацию характеризуют «концептом»: «За что бо­ ролись, на то и напоролись». Делёза явно не устраивают обычные для массового общества подмены, когда торговец и производитель рекла­ мы считают себя философами, а пакет с лапшой воспринимают как свой концептуальный продукт. Но Делёз сам долгие годы настойчиво превращал философию в симулякр, а потому мог бы не удивляться, что в глазах обывателя философия и лапша стали равноценными «продуктами». И тем не менее, попытка хоть как-то возвысить концепты над симулякрами не примиряет Делёза с Платоном и философской класси­ кой. Его отношение к философии остается по сути тем же, и он про­ должает привязывать философа к области единичного. «Универсалии созерцания, а затем Универсалии рефлексии,— читаем мы в «Что та­ кое философия?»,— таковы две иллюзии, через которые уже прошла философия в своих мечтах о господстве над другими дисциплинами (объективный идеализм и субъективный идеализм), и ей доставит ни­ чуть не больше чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин и отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствую­ щими де доставить нам правила для воображаемого господства над рынком и масс-медиа (интерсубъективный идеализм). Творчество 1 Деле'з Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 20. 322 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии всегда единично, и концепт как собственно философское творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип философии состо­ ит в том, что Универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению»1. Здесь перед нами очередная подмена. Ведь из того, что универса­ лии требуют своего объяснения, совсем не следует то, что они фик­ тивны. Но для Делёза, который начал свое философское творчество с Юма, причинно-следственные связи, скорее всего, тоже мало что значат. Главным способом обоснования у него, в противовес философам-классикам, является декларация. А декларацию допол­ няет наглядная агитация, которая в книге о сути философии представ­ лена рисунками2. Мысль Делёза предельно наглядна. Ее можно было бы сравнить с живописью, если бы та имела объем. (Недаром под конец жизни Делёз обращается к исследованию изобразительного искусства.) Она принадлежит, скорее, к области представлений, чем понятий. И на эту особенность философского стиля Делёза без всякой зауми, просто и ясно, указывает переводчик «Что такое философия?» С.Зенкин. Казалось бы, пишет он, слово «концепт» нужно перевести на русский язык как «понятие». Ведь философия — это наука о понятиях, разве не логично? На практике, однако, замечает Зенкин, встает одно пре­ пятствие за другим. Прежде всего, Делёз и Гваттари нигде не связыва­ ют «концепт» с «пониманием». Зато постоянно рифмуют его с терми­ нами «проспект», «аффект» и «перцепт». И это склоняет переводчика к «непереводному» варианту «концепта»3. Дальше — больше, пишет он, поскольку объем «концепта» у Делё­ за и Гваттари иной, чем у «понятия», авторы настаивают на том, что наука не имеет концептов. Но это, конечно, не означает, что у науки нет понятий. Концепт, пишет Зенкин, «очень специфический вид по­ нятий», свойственных философии, а потому для иных сфер мысли авторы используют другие французские термины «notion», «idee». И, наконец, главное: концепты — нечто, скорее, не процессуальное, а пространственное. «Они описываются,— замечает Зенкин,— как не­ что хоть и изменчивое, но принципиальное обозримое: у них есть «составляющие», неправильные внешние очертания, они накладыва1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 16. См. там же. С. 38, 75. 1 См.: Зенкин С. Послесловие переводчика / / Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое фило­ софия? М.; СПб., 1998. С. 281-282. 1 323 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души ются друг на друга, соединяются «мостами». Правда, в каждом кон­ цепте заключено некое мыслительное «событие», часто совершаемое особым «концептуальным персонажем»... но это отнюдь не всегда со­ бытие понимания, «конципирования». Концепты множественны, возникают случайно, взаимодействуют «по соседству» и случайно же реорганизуются появлением новых «соседей»1. Тем не менее, Зенкин подчеркивает, что при всей своей пространственности, в большинст­ ве контекстов концепты выглядят как нетелесные. «Концепты, — заключает он,— что-то вроде кристаллов или самородков смысла — абсолютные пространственные формы»2. И такие же сложности возникают с «планом имманенции» как вместилищем и полем действия концептов. Если русское слово «план» ассоциируется с некой плоскостью, то термин «plan» у Делёза и Гваттари не является плоским, а имеет «переменную кривизну» с «диаграмматическими чертами». Ему присущи «сгибы» (именно так Зен­ кин переводит термин «pli», не удовлетворившись распространенным переводом «складка»). Кроме того, он обладет еще и «толщиной». И в этой толще плана происходят волнообразные деформации с «беско­ нечными скоростями»3. Переводчик проводит параллель между концептами Делёза и бестелесными смыслами-лептонами у античных стоиков. Можно, конечно, еще провести параллель между вибрациями концептов в пространстве имманенции и пространственными перемещениями идей и душ у Платона. И надо сказать, что сам Делёз указывает на эту особенность в платонизме. Но если классическая философия в дальнейшем будет изживать подобный «натурализм» в понимании идей как наследие мифомышления, то Делёз сознательно выдвига­ ет этот момент на первый план. И в этом сказываются фундамен­ тальные предпочтения неклассической философии на этапе пост­ модерна. Хотя аналогия по большому счету не может заменить объяснения, бывают аналогии и аналогии. Что же касается Делёза, то здесь напра­ шивается параллель между «планом имманенции» и той реальностью, которая представлена в философии Юма. Изначальной реальностью, которая открылась скептику Юму, оказались многообразные сочета­ ния единичных впечатлений и идей, которые взялись ниоткуда и 1 2 3 См.: Зенкин С. Послесловие переводчика. С. 281. Там же. С. 282. Там же. С. 282-283. 324 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии представляли только самих себя. И эти «натянутые» и «нелепые» по­ строения сам Юм в сердцах именовал «бредом». Но, скорее всего, построения Юма Делёз воспринял как положи­ тельный опыт. Ведь трансцендентальный эмпиризм Делёза продолжает то, что делал Юм, в двух смыслах. Во-первых, Делёз разрушает все привычные представления о связях, предлагая везде, где было сходст­ во, увидеть различие. А во-вторых, он стирает грань между субъектив­ ным и объективным, выдавая свою конструкцию за единственную ре­ альность, синкретизм которой не предполагает оппозиций объекта и субъекта, бытия и мышления. Различие в трактовке Делёза несовместимо ни с тождеством, ни с подобием. Несовместимо оно также с аналогией и противоположно­ стью. Следуя Юму в ликвидации общего, Делёз даже у различий отни­ мает возможность быть сопоставленными, поскольку это предпола­ гает некий общий стандарт. Именно с этой точки зрения Делёз осу­ ществляет критику Канта в своей работе 1963 года «Критическая философия Канта: учение о способностях». «Критикам» Канта Делёз дает свою собственную критику, обна­ жающую «иное в очевидном». Но при схожем «разрушительном» духе критика у Канта и Делёза — это разная критика. Кант задал но­ вый импульс развитию философской классики. Делёз в своих историко-философских работах надевает даме по имени «классика» на шею петлю, ласково убеждая ее, что это модный шарфик. Полу­ чив мощное классическое образование, Делёз использует его имен­ но как удавку. И в этом он не одинок. Все модернистское и постмо­ дернистское искусство создают не люди с «улицы», а выпускники художественных школ и литературных институтов. Историко-философские работы Делёза интересны именно тем, что удавка в них еще не затянута до конца, а значит клиентка еще жива. И у многих это порождает иллюзию, будто перед нами лишь одна из виртуозных и самобытных интерпретаций «золотого фонда» мировой философии. Именно так представлены работы Делёза о Канте, Спинозе и Бергсоне в их русском издании 2000 года. Но вер­ немся к нашей критике критики Делёзом кантовских «Критик». Одна из основных задач Делёза — рассеять иллюзию под названи­ ем «трансцендентальное единство апперцепции». Трансценденталь­ ную функцию, в отличие от Канта, он видит в том, чтобы обнажить подпочву этого единства, связанную с различием. Душа у Канта, от­ мечает Делёз, «ощущается как неопределенное сверхчувственное 325 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души единство всех способностей»1. Но это единство на деле не просто до­ пускается, «оно подлинно порождается, порождается в разладе»2. Пытаясь и здесь увидеть «иное» в «очевидном», Делёз допускает гене­ зис человеческих способностей. Но это совсем не тот генетический подход, который отличал Фихте. В основании способностей Делёз пытается усмотреть не закономерное, а стихийное. А в самом опыте его, прежде всего, интересует различное и неопределенное, которое связано с апостериорным, а не априорным. «Но рассудок никогда не задает a priori конкретную материю феноменов,— пишет он,— детали реального опыта или частные законы того или иного объекта. Послед­ ние познаются только эмпирически и остаются случайно сложивши­ мися [contingentes] в отношении нашего рассудка»3. Еще более определенно высказывается Делёз в предисловии к английскому изданию книги о Канте в 1984 году. «Но мы видим, что Кант,— пишет он через двадцать лет,— в том возрасте, когда великие писатели редко что могут сказать новое — берется за решение про­ блемы, которая вынужденным образом подведет его к весьма нео­ бычному предприятию: если способности могут, таким образом, вступать в вариабельные отношения, регулируемые, тем не менее, лишь той или иной из них, то отсюда должно следовать, что все вку­ пе они способны вступать в свободные и неуправляемые отношения, когда каждая способность движется к собственному пределу и все-таки демонстрирует возможность некой гармонии с другими способностями...»4 По мнению Делёза, за управляемым у Канта всегда проглядывает неуправляемое, а за согласием — породивший его разлад. И в этом су­ щественная разница восприятия Канта представителями классиче­ ской и неклассической традиции. Если Фихте ищет общий корень у способностей, приписываемых трансцендентальному субъекту, то Делёз, наоборот, сознательно дробит и разобщает их. Фихте усилива­ ет момент единства между чувственностью, рассудком и разумом. Делёз усиливает момент различия между этими способностями. В этом, повторим еще раз, принципиальная разница трансцендента1 Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спи­ ноза. М., 2000. С. 63. 2 Там же. ' Там же. С. 75. 4 Цит. по: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди... / / Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000. С.336. 326 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии лизма Фихте и трансцендентального эмпиризма Делёза, классическо и неклассической трактовки Канта. Везде, где это можно, Делёз пытается заменить предикат «есть» на связку «и». В этом он согласен с теорией паратаксинеского дискурса, в которой преобладает выстраивание в ряды. Суть эмпирической логи­ ки Делёза в том, что это логика множественности. «Каждая множест­ венность,— отмечает Делёз в предисловии к другой работе,— растет с середины подобно стеблю травы или ризоме. Мы постоянно проти­ вопоставляем ризому и дерево как две концепции или даже как два крайне разных способа мышления. Линия вовсе не идет от одной точ­ ки к другой, а проходит между точками, постоянно раздваиваясь и дивергируя»1. Такие множественности, по убеждению Делёза, состав­ лены из становлений без истории, из индивидуаций без субъекта, по­ добно тому как индивидуализируются река, событие, день и час. Но с наибольшим пафосом этот подход провозглашается в работе 1975 года «Ризома. Интродукция»: «Будьте ризомой, а не деревом! Никогда не сажайте! Не сейте, не рвите! Будьте не единством, а множественно­ стью! Рисуйте линии, а не точки! Скорость превращает точку в ли­ нию! Торопитесь, даже стоя на месте... Не будите в себе Всеобщее!»2 Делёз имел скандальную репутацию «провокатора от филосо­ фии». И действительно, выдвинувшись на авансцену философской жизни в середине XIX века, неклассическая философия уже в XX веке в лице Делёза дала наиболее парадоксальный результат. Если Шопен­ гауэр и Кирке гор отрицали классическую философию, то в творчестве Делёза, как уже говорилось, намечен выход за пределы философии вообще. Уже здесь философия превращена в своеобразный философ­ ский театр, в котором запрещено какое-либо размышление. Такой театр должны заполнять движения, которые, как считает Делёз, на­ прямую западают в душу, будучи одновременно душевными движени­ ями. И таким образом стирается грань между внутренним и внешним, субъективным и объективным, мышлением и бытием. «Бесконечное движение двойственно,— читаем мы в «Что такое философия?»,— и между его сторонами — всего лишь сгиб. В таком смысле и говорят, что мыслить и быть — одно и то же. Точнее, движе­ ние — это не только образ мысли, но и материя бытия. Мысль Фалеса, извиваясь ввысь, вовращается в виде воды. Когда мысль Гераклита превращается в polemos, на нее обрушивается огонь... У плана имма1 2 Цит. по: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди... С. 327. Цит. по: Там же. С. 321. 327 J Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души ненции две стороны — Мысль и Природа, Physis и Nous. Поэтому столь многие бесконечные движения заключены одно в другое, сги­ баются одно внутри другого, так что возвратный ход одного мгновен­ но приводит в движение другое и этим грандиозным челноком ткется план имманенции»1. Парадоксальным образом, утверждая различия во всем и вся, Делёз игнорирует существенное для классики различие между бытием и мышлением. Здесь для него как раз важно говорить об одном и том же. И причина такой «непоследовательности» лежит на поверхности. Ведь в лице не только Жиля Делёза, но и всего постмодерна, неклас­ сическая философия пришла к своеобразному итогу, а точнее — вер­ нулась вспять, к истокам, к той ситуации, в которой место филосо­ фии еще занимал миф, а Сократу предшествовали «досократики». Но если у древних греков аналогичное состояние означало начало куль­ туры, то у современных интеллектуалов — это итог сознательного «раскультуривания». И такое «раскультуривание» означает не только упразднение разницы между бытием и мышлением, но и разрушение грани между Истиной и Заблуждением, Добром и Злом, Прекрасным и Безобразным. Настаивая на бесконечном числе больших и малых различий, в постмодерне не признают того фундаментального различия, с кото­ рого началась вся классическая культура и классическая философия. Речь идет о различии материального и идеального. Ведь, не различи материальное и идеальное, нельзя понять их единства, которое есть опосредованное единство. В мире культуры, повторим очередной раз, этим опосредованием является деятельность человека. Но для Делё­ за, как и для Киркегора, любое опосредование — чудовище, напоми­ нающее о Гегеле. А потому Делёзу, безусловно, ближе Фал ее и Герак­ лит. И в этом, нужно отдать должное Киркегору, их симпатии расхо­ дятся. Справедливости ради нужно сказать, что Делёз симпатизировал не только «досократикам», но и Спинозе, у которого он сделал акцент на бесконечном многообразии атрибутов и модусов субстанции. Вторым важным моментом в учении Спинозы Делёз считал тождество души и тела. Здесь Делёза опять не волнует акцент на тождестве, а значит, собственная непоследовательность, а волнует то, что у Спинозы гра­ ница между телом и душой якобы стирается. 1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 52. 328 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Тело у Спинозы — модус протяженности, a душа — модус мышле­ ния. И при этом душа оказывается идеей соответствующего тела. Об этом идет речь у Делёза в работе «Спиноза» 1970 года. Что касается вещи, то она, подчеркивает Делёз, одновременно является телом и душой, вещью и ее идеей. Но при этом он различает идею того, нем мы являемся, которая, согласно Спинозе, принадлежит Богу, и идеи, вы­ ражающие состояния нашего тела. Последние как раз и интересуют Делёза больше всего. Делёза привлекает у Спинозы то, что тот исключает прямое взаи­ модействие между душой и телом, как это было в средневековой фи­ лософии. Но такое взаимодействие исключал и Декарт, полагая, тем не менее, изначальное соответствие между ними, установленное Бо­ гом. В том же направлении мыслил и Лейбниц, который ввел понятие параллелизма состояний души и тела. Спиноза, по мнению Делёза, в этом вопросе идет значительно дальше, предполагая не только изо­ морфизм феноменов тела и феноменов души, но и изономию принци­ пов протяжения и мышления, а также изологию в отношении сути бы­ тия. «Наконец,— пишет он,— есть тождество бытия (изология), состоящее в том, что одна и та же вещь, одна и та же модификация производится в атрибуте мышления под модусом души и в атрибуте протяженности под модусом тела. Отсюда непосредственно вытекают практические следствия: в противоположность традиционной мо­ ральной точке зрения все, что является активным действием в теле, также является активным действием в душе, и все, что является пас­ сивным состоянием души, также является пассивным состоянием тела...»1 При этом Делёз различает эпистемологический и онтологический параллелизм души и тела у Спинозы. Первый заключается в том, что идея в мышлении и ее объект в каком-то ином атрибуте формируют одну и ту же «индивидуальность», а второй состоит в том, что модусы во всех атрибутах формируют одну и ту же модификацию2. А конеч­ ная форма спинозовского параллелизма души и тела у Делёза такова: «Одна и та же модификация выражается одним модусом в каждом атрибуте, причем каждый модус формирует индивидуальность вместе с идеей, которая представляет ее в атрибуте мышления»3. 1 Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спи­ ноза. С. 236. 2 См. там же. С. 237. ' Там же. С. 238. 329 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Оставим историкам философии возможность разбираться в том, как именно Делёз сумел представить «очевидное» у Спинозы в виде «иного». Для нас важнее понять, к каким выводам в конце концов он пришел, характеризуя соотношение души и тела. Эти выводы, вобщем-то, можно предугадать, зная пафос и общий строй его уче­ ния. Но, чтобы не опускаться на уровень деклараций, приведем еще одну цитату. Речь идет о расширенном варианте работы 1970 года, ко­ торый был опубликован в 1981 году. И среди более «зрелых» сужде­ ний этого периода можно найти и такое: «Тело может быть каким угодно; это может быть какое-то животное, тело звуков, души и идеи; оно может быть лингвистическим телом, социальным телом, некой коллективностью. Мы называем долготой тела совокупность отноше­ ний скорости и медленности, движения и покоя между частицами, компонующими его форму с этой точки зрения, то есть, между не оформленными элементами. Мы называем широтой совокупность аф­ фектов, занимающих тело в каждый момент...»1 Мы прерываем на этом месте цитату, потому что и так ясно, на­ сколько продвинулся здесь Делёз в трактовке учения Спинозы как «иного». В данном контексте тело уже почти растворило в себе душу, лишив соответствующую проблему какого-либо смысла2. Однако не стоит думать, что к таким выводам относительно души Делёз пришел в зрелом возрасте или под влиянием Гваттари. Все значительно серь­ езней, поскольку нечто аналогичное можно вычитать уже в «Разли­ чии и повторении» и «Логике смысла», которые писались примерно тогда, когда и первый труд о Спинозе. А потому в представлениях Делёза о душе мы кое-что уточним, опираясь на эти работы. «Одно все-таки несомненно,— пишет Делёз во введении к «Раз­ личию и повторению»,— когда Кьеркегор говорит об античном театре и о современной драме, мы уже в другой стихии, не в стихии рефлек­ сии. Мы открываем мыслителя, живущего проблемой маски, чувству­ ющего внутреннюю пустоту, присущую маске, стремящегося запол­ нить ее, наполнить, пусть и «совершенно различным»...»3. Пустоту 1 Цит. по: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди... С. 346. На то, что Делёз в трактовке монизма Спинозы игноририрует противоположность идеального и материального, указывает современный исследователь творчества Спинозы В.Ойттинен. В этом случае феномен идеального, обнаруженный философской классикой, утрачивает свою специфику. Но, согласно Ойттинену, телесное у Делёза растворяется в бестелесных смыслах. И в этом наши интерпретации позиции Делёза расходятся (см.: Oittinen Vesa. Spinozistische Dialectic: die Spinosa-Lectüre des französischen Strukturalismus und Poststructuralismus. Frankfurt am Main, 1994. P.130). ' Делёз Ж. Различие и повторение. С. 22. 2 330 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии маски Киркегор, по мнению Делёза, спешит заполнить различием конечного и бесконечного, выраженным в действии, движении. Именно здесь Делёз говорит о проблеме движения, непосредственно западающего в душу в виде душевного движения. Тем самым Делёз по сути призывает к своеобразной экстериоризации души. Но если для этого Делёз делает акцент на киркегоровской маске, то у последнего можно обнаружить и другие акценты. Так в ра­ боте «Или — Или» Киркегор характеризует гримасу, которая соответ­ ствует случайной индивидуальности, в противоположность полно­ ценной личности. «Жизненной задачей «серьезного» эстетика,— пи­ шет Киркегор,— является таким образом культивирование своей случайной индивидуальности, во всей ее парадоксальности и непра­ вильности; в результате — гримаса, а не человек»1. Как мы видим, цитата, вмонтированная в философский коллаж, а не взятая в собственном контексте, может быть только средством. И вряд ли Киркегора удовлетворила бы делёзовская трактовка души как маски вместо человеческого Я. Ведь замыслы Киркегора опреде­ лялись пафосом самодостаточности индивидуального субъекта. Не­ классическая философия в целом возникала из поначалу разрознен­ ных и противоречивых попыток спасти неповторимый внутренний мир субъекта от диктата внешних объективных сил. Человеческую индивидуальность в те времена пытались спасти от диктата всеобще­ го, свободу и творчество — от регламентации, чувства — от рассудоч­ ных форм. Но для Делёза философия уже только коллаж и театр. А Киркегор в этом «философском театре» — работник, задача которого потру­ диться над фрагментацией человеческого Я как итогом философского движения. Именно о таком Я и идет речь в итоговой части «Различия и повторения». Там, где обнажается «бездонность», из которой все проистекает, по словам Делёза, нет ни Я, ни субъекта. «Это игра на двух столах,— объясняет он, используя образы Ницше.— И как же не быть трещине на границе, на стыке столов? Как узнать на первом — самотождественное субстанциальное Я, на втором — себе подобный континуальный мыслящий субъект? Исчезло тождество игрока, а также подобие расплачивающегося за последствия и воспользовав­ шегося ими. С одной стороны, лишь разбитое... пустой формой Я. С другой стороны — только пассивный, навсегда распавшийся в пуКиркегор С. Или—или. С. 294. 331 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души стой форме мыслящий субъект. Расколотому небу вторит разбитая Земля»1. Как мы видим, о процессе фрагментации Я, вслед за Ницше, Делёз здесь говорит весьма патетично. Но одно дело полумифологиче­ ская патетика, а другое дело — анально-оральная эстетика, к которой тяготеет исследование человеческого Я в «Логике смысла», появив­ шейся в 1969 году. «Налицо,— пишет здесь Делёз,— переориентация всей мысли и того, что подразумевается под способностью мыслить: больше нет ни глубины, ни высоты. Не счесть насмешек в адрес Платона со стороны Киников и Стоиков. И всегда речь идет о том, чтобы низвергнуть Идеи, показать, что бестелесное пребывает не в вышине, а на поверх­ ности и что оно — не верховная причина, а лишь поверхностный эф­ фект, не Сущность, а событие»2. Мы уже говорили о том, что противоположность материального и идеального Делёз преодолевает в представлении о теле, к которому по сути редуцирована душа. Место идеального и материального заня­ ло «тело». Вместо сущности речь идет о «событии». Место отдельно­ го и всеобщего занимает «сингулярность», а место истины и лжи — «смысл». Но такая картина мира требует не только новых концептов, но и трансформации языка. Все тут, вплоть до языка, выворачивается на­ изнанку. «Глубже всякого дна — поверхность и кожа,— пишет Делёз в «Логике смысла».— Здесь формируется новый тип эзотерического языка, который сам по себе модель и реальность»3. «Эзотерика» бук­ вально означает то, что внутри. В древности эзотерическим знанием называли потаенное знание, недоступное для непосвященных. Но у Делёза все наоборот. И «эзотерическим языком» оказывается язык «поверхности» и «кожи». И не нужно здесь искать потаенного смы­ сла, если все находится сверху, а язык, выражающий поверхность,— сам себе модель и реальность. Естественно, когда человек редуцирован до тела, в котором глав­ ное — это «поверхность», то его жизнь может проявляться лишь в фи­ зиологических актах. И чем необычнее и произвольнее этот акт, тем «содержательнее» кажется философия, что и подтверждает в своих «сериях» Делёз, который, в частности, пишет: «Естественным про1 2 1 Киркегор С. ИЛИ—или. С. 341. Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 161. Там же. С. 172. 332 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии должением оральности, является каннибализм и анальность. В по­ следнем случае частичные объекты — это экскременты, пучащие тело матери так же, как и ребенка. Частицы одного всегда преследуют дру­ гое, и в этой отвратительной смеси, составляющей Страдание грудно­ го ребенка, преследователь и преследуемый — всегда одно и то же. В этой системе рот-анус, пища-экскременты тела проваливаются сами и сталкивают другие тела в некую всеобщую выгребную яму. Мы называем этот мир интроецированных и проецированных, пищева­ рительных и экскрементальных частичных внутренних объектов ми­ ром симулякров»1. Напомним, что «Логика смысла» писалась в 69-м, когда симулякр был еще мил сердцу Делёза. А потому он кладет его в основу своей аналъно-оралъной метафизики. В свое время позитивизм заменил ме тафизику наукой. В свою очередь, экзистенциализм, а за ним постмо­ дернизм, стал отрицать науку как ущербную форму сознания. Но по логике отрицательности, а двойное отрицание есть утверждение, он возвращается к метафизике. Только это уже не классическая метафи­ зика мира, души и Бога, а метафизика экскрементальная. Юм, опира­ ясь сугубо на опыт, тоже создал умозрительный конструкт по поводу идей и впечатлений. Что касается Делёза, то его трансцендентальный эмпиризм оборачивается метафизикой тела, анально-оральных выде­ лений, кожи, гениталий и шизофрении. В основе этой метафизики корни плоти, лишенной идеального. Делёз, как и Юм, не может окончательно выйти за пределы фило­ софии. Он балансирует на ее границе, сохраняя тягу к умозрительно­ сти, но рассуждая не об идеальном, а о трансформациях тела в его от­ сутствии. То тело, с которым имеет дело Делёз,— это отнюдь не при­ родное тело и природный организм, способный жить и радоваться жизни без всяких идеалов. Делёзовское «тело» — это то, что осталось от человека за вычетом идеального. И здесь нельзя удержаться от упо­ минания еще об одном из «концептов» Делёза — заимствованном у Αρτο «теле без органов». Человек тем и отличается от животного, что из его деятельных ор­ ганов нельзя «вычесть» идеальное. Разум и нравственное чувство, эстетический вкус и религиозные устремления — пример таких чело­ веческих «органов», в которых идеальное содержание ничем не заме­ нить. И убрав из них идеальное, мы обязательно получим ампутан1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 224. 333 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души та — «тело без органов», раздираемое «непосредственной» жаждой жизни и физиологическими актами. Делёзовское «тело» — как раз такой ампутант, у которого есть те­ лесные органы, но в них нельзя узнать органы человека. О такого рода ампутированной религиозности по сути и идет речь в работе В. Подороги «Жало в плоть. Физическая экономия веры» в сборнике, посвя­ щенном Киркегору1. Подороге, как и Делёзу, нельзя отказать в остро­ умии и художественной убедительности. Но, «сэкономив» на идеаль­ ном, мы даже в случае с киркегоровским Авраамом получаем нечто, скованное телом в общении с Богом. «Силы внешнего, — замечает Подорога по поводу Авраама,— уничтожают все телесные препятствия для полного выявления ам­ плитуды кричащего тела»2. Указанная амплитуда не предполагает гримас боли, содрогания, звуков крика и пр. Опыт «чистой религиоз­ ности» Авраама, в трактовке Подороги, выражен в особой задержке дыхания, когда вдох и задержка совпадают с погружением в «единст­ венность и уникальность», а выдох образует особое, замкнутое в себе «пространство жизни»3. В данном случае весьма характерно то, что автор не призывает ви­ деть в указанной дыхательной технике всего лишь телесное основание идеального религиозного чувства. Дыхание у него и есть имманент­ ный план веры, смысл которой в том, чтобы «освободить в себе место для Бога», поскольку божественная сила как раз и нисходит на тех, «кто обладает этой пустотой»4. Подорога отмечает, что в преддверии веры человек должен «отпустить от себя все то, что составляет собой независимое и автономное «я»5. И в этом он, конечно, переоценивает устремления Киркегора, который, прежде всего, желал устранения этического. В итоге, согласно Подороге, человек в акте веры предстает перед Богом, лишенным Я и души. «Сила события и длительность его воз­ действия,— пишет он,— осуществляется на косвенных путях (не че­ рез «душу» или «сознание»), понимать его может только тело, стано­ вящееся плотью, т. е. тело, проходящее определенные этапы 1 См.: Подорога В.А. Жало в плоть. Физическая экономия веры / / Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. М., 1994. 2 Там же. С. 39. 3 Там же. С. 41. 4 Там же. С. 42. 5 Там же. 334 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии преобразования»1. Но тело становится плотью, как уже известно, в состоянии, определяемом ныряльщиками как «апноэ». А значит, именно через задержку дыхания тело здесь пытается достичь того, что ортодоксальные христиане, как правило, связывали с усилием души. Еще раз отметим оригинальность и эстетическую привлекатель­ ность трактовки веры у Подороги. Сомнительно, однако, то, что Киркегор мечтал как раз о такой ампутации религиозной веры, редуциро­ ванной до напряжения плоти. Не верится и в то, что, «сэкономив» на движениях души, можно решить поставленную им задачу. Предло­ женный вариант веры, где она не идеальный, а сугубо телесный «ор­ ган», скорее, соответствует «спокойному атеизму» самого Делёза. Хотя последнего интересовала не столько вера, сколько сексуаль­ ность ампутированного индивида без идеальных органов, но с макси­ мально выраженной «поверхностью». Возвращаясь к Делёзу, стоит уточнить, что интерес к проблеме пола вполне органичен для такой методологии. Понятно также, что если нет ни глубины, ни высоты, а есть только «тело», а у него «по­ верхность» и «кожа», то предметом нашего внимания окажутся не только дырки на «поверхности», но и некоторые, скажем так, неров­ ности. Речь, конечно, идет о гениталиях. В результате проблема «тела» с необходимостью переходит у Делёза в проблему сексуальности. Этой проблеме он специально посвящает двадцать восьмую «серию» своей «Логики смысла», хотя эта тема поднимается не только здесь. Зигмунд Фрейд в свое время рассматривал всю человеческую культуру, с одной стороны, как результат «сублимации», а с другой — как нечто «репрессивное» по отношению к проявлениям человече­ ской сексуальности. Понятие «репрессивной культуры» появилось в неомарксизме. Его не было ни у Фрейда, ни у Ницше, ни у Диогена-Циника. Но сама проблема пола и раскрепощения человече­ ской сексуальности у них уже имеется. Уже Диоген прилюдно делал то, что делать считается глубоко постыдным. Но Диоген считал вся­ кий стыд ложным и подавляющим человеческое «естество»: что есте­ ственно, то не позорно. В этом и состоит одно из проявлений того, что называется цинизмом. Но цинизм приобретает для нас отрицательный смысл только тог­ да, когда мы ставим нравственный закон выше «естества». Именно этот закон является естественным для человека. И этим человек отСм.: Подорога В. А. Жало в плоть. Физическая экономия веры. С. 36. 335 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души личается прежде всего от животных, которые стыда не знают. И нату­ рализм, и цинизм оказываются по существу синонимами, потому что «естественный» человек отрицает «духовного» человека, а следова­ тельно, все нормы морали, права, вкуса и т. д. «Как можно осуждать инцест и каннибализм в той области,— пишет в «Логике смысла» Делёз,— где страсти сами являются телами, пронизывающими другие тела, и где каждая отдельная воля является радикальным злом?»1 Здесь стоит уточнить, что в 1961 году, задолго до «Логики смысла», вышла работа Делёза «Лукреций и натурализм», в которой он пред­ ставляет Лукреция и Эпикура как явных предтеч своих теперешних воззрений. У этих мыслителей Делёза привлекает то, что уже здесь, по его мнению, природа — это «сумма, но не единое целое»2. А потому с Эпикура и Лукреция, согласно Делёзу, начинается натурализм и фи­ лософский плюрализм. Мы не будем касаться анализа Делёзом физики Лукреция и Эпикура. Более интересна безусловная поддержка им те­ ории познания Лукреция, в которой, по его мнению, образы тоже яв­ ляются телами, а точнее, симулякрами. И то же самое относится к этике Лукреция, связанной с его ате­ измом. Это мнимая вечность, пишет Делёз в поддержку Лукреция, лежит в основе наших душевных тревог. Но вера в богов и наши му­ чения из-за них — все те же симулякры3. А потому и здесь вечности нужно открыто противопоставить Природу. Первый философ, заяв­ ляет Делёз, был натуралистом. А из натурализма следует, что боги — это религиозный миф, судьба — это физический миф, а Бытие, Еди­ ное и Целое — это миф «ложной философии, всецело пропитанной теологией»4. Еще раз уточним, что так Делёз писал в 1961 году, но вскоре несов­ местимость натурализма с верой в Бога утратила свою актуальность. Зато к 1969 году в свете «сексуальной революции» актуализировалась несовместимость натурализма с моралью. И действительно, если че­ ловек — это тело среди других тел, в том числе и живых тел, то его движение должно подчиняться законам физики и биологии. По сути, на этом основании английский утилитаризм сводил понятие «хоро­ ший» к понятию «полезный» и «целесообразный». Однако тогда вы1 См.: Подорога В. А. Жало в плоть. Физическая экономия веры. С. 162. Делёз Ж. Лукреций и натурализм / / Интенциональность и текстуальность. Фило­ софская мысль Франции XX века. Томск, 1998. С. 242. 3 Там же. С. 249. 4 Там же. С. 250. 2 336 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ходит, что по законам биологии человек должен пожирать других, в том числе себе подобных. Но в том-то и дело, что людей нельзя есть не потому, что они не­ вкусные, или вредные для здоровья, а их нельзя есть потому, что это безнравственно. Мотив тут сугубо идеальный, а не материальный, и п тому, если мы отрицаем идеальное вообще, то мы отрицаем и нравст­ венный мотив, а с ним и нравственный закон — основной закон, ко­ торый управляет человеческим поведением и который радикальным образом отличается от законов физики и биологии. А если такого за­ кона нет, то тогда «все позволено»... Из натурализма и трансцендентального эмпиризма Делёза следу­ ет, что такого закона как раз нет. «Что действительно аморально,— пишет Делёз в «Логике смысла»,— так это употребление этических понятий типа справедливое-несправедливое, заслуга-вина»1. Нет ни заслуги, ни вины, ничего этого нет, есть только «воля к событию». История еще раз повторилась: если древний цинизм явился ре­ зультатом отрицания идеализма Платона, то новейший цинизм Шо­ пенгауэра и Ницше явился отрицанием идеализма Гегеля и Маркса. И Маркс в данном случае идеалист в том изначальном смысле этого слова, который связан с верой в идеалы. Но в философии Делёза как «доктрине симулякра» отрицание идеала доведено до логического конца, которым является похабщина. «Все, что пишется,— ПОХАБ­ ЩИНА»,— читаем мы у Делёза,— (то есть, всякое зафиксированное или начертанное слово разлагается на шумовые, пищеварительные или экскрементальные куски)»2. Не знаешь, как к этому относиться. В свое время различение субъ­ ективного и объективного привело от мифа к Логосу, от мифологии к философии. Слияние объективного и субъективного совершенно не­ избежно приводит обратно к мифу. Но, в отличие от мифологии древ­ ней, наивной и непосредственной, этот миф нарочитый и несущий в себе солидный элемент софистики. Это своего рода философский изыск, что-то вроде редкой породы собачек или однополой любви. Платон и Гегель здесь третируются как слишком обыкновенные и ба­ нальные. Итак, круг, пройденный неклассической философией, привел к такой трактовке человека, когда душа телесна, а для человека не мо­ жет быть никаких идеалов. Сделав ставку на единичное, обязательно 1 2 Делёз Ж. Логика смысла. С. 181. Там же. С. 114. 337 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души утрачиваешь идеальное. И тогда душа вновь редуцируется к телу. Но нельзя завершить разговор, не вернувшись к теме повторения, где на­ шли выражение не только провокации, но и прозрения Делёза. А по­ тому напоследок сосредоточимся на этой теме. Удивительным образом, но в творчестве Кирке гора Делёз выделил именно тему повторения, увязав ее с идеей Вечного Возвращения у Ницше. «Но ничто не зачеркнет чудо их встречи вокруг идеи повто­ рения», — пишет Делёз, имея в виду Киркегора и Ницше. «Слово «повторение» они употребляют не метафорически,— замечает он,— у них, напротив, особая манера воспринимать его дословно и превра­ щать в стиль»1. Здесь стоит сделать еще одно уточнение, связанное с местом Ницше в творчестве Делёза. Мы уже писали о том, что фигуре Ницше была посвящена вторая крупная работа Делёза, изданная в 1962 году. Су­ ществует мнение, что именно после выхода этой книги Ницше стали воспринимать во Франции не только как литератора, но именно как философа. Кроме того, своей монографией Делёз разрушил стереотип экзистенциалистской трактовки творчества Ницше, во многом сло­ жившийся под влиянием А. Камю. После издания этой книги Делёз вместе с М.Фуко организует коллоквиум в Руайомоне, посвященный творчеству Ницше. И резуль­ татом дебатов в Руайомоне становится вторая книга Делёза о Ницше, в которой он уточняет свое понимание этой фигуры в философии. Определяющей темой у Ницше, по мнению Делёза, является Вечное Возвращение. И здесь он ссылается на самого Ницше в «Ессе homo». «Основная концепция этого произведения,— писал Ницше в «Ессе homo» о «Так говорил Заратустра»,— мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута...»2 Делёз видит опасность в толковании Великого возвращения в ми­ фологическом ключе как мирового цикла и круговорота. Тем более что Ницше дает для этого повод. «Все идет, все возвращается,— читаем мы в части третьей «Так говорил Заратустра»,— вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия»3. Именно в качестве мирового цикла чаще всего представляют себе Вечное возвращение у Ницше, и потому Делёз делает акцент на другой его трактовке. В приведенной им подборке текстов Ницше он 1 2 3 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 18. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 743. Там же. С. 158. 338 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии в развернутом виде цитирует другое место из части второй, где Вели­ кое Возвращение предстает как протест против времени и «было» и стремление воли изменить порядок вещей. «Спасти тех, кто миновали, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я», — читаем мы в данном месте у Ницше,— лишь это я назвал бы избавлением»1. Делёз чувствует двойственность идеи Вечного Возвращения у Ницше и потому мнократно повторяет, что она означает победу над временем, когда известных нам законов природы уже нет. «Важно из­ бавить вопрос о Вечном Возвращении,— пишет он в работе «Ницше» 1965 года,— от всякого рода бесполезных и фальшивых тем»2. Фаль­ шивят те, считает Делёз, кто говорят, что Великое Возвращение было известно уже древним. Древние, доказывает он, лишь предчувствовали эту тему, но в уста Заратустры вложена современная нам мысль. Будь Вечное Возвращение замкнутым циклом, добавляет он, что нового и замечательного было бы в этой идее? 0 цикличности Возвращения, согласно Делёзу, Заратустра думает в состоянии болезни. «Больным его делает как раз идея цикла,— пишет он,— мысль о том, что все возвращается, что возвращается То Же Самое, что все к тому же самому и возвращается. В этом случае Вечное Возвра­ щение не что иное, как гипотеза,— гипотеза банальная и страшная»3. И здоровье приходит к Заратустре вместе с переменой в понимании. Ему приносит радость взгляд на Возвращение как на противополож­ ность унылой природной очевидности. Заратустра, наконец, постигает, что «Вечное Возвращение = избирательному Бытию»4. Как мы видим, Делёз спрямляет мысль Ницше и игнорирует тот факт, что тема Вечного Возвращения у того звучит весьма трагично. И в этом смысле трагизм Ницше сопоставим с трагизмом идеи повторения у Киркегора. «Обратно не может воля хотеть; что не может она побе­ дить время и остановить движение времени,— пишет Ницше,— в этом сокровенное горе воли»5. И далее: «Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля к власти,— но как это может случиться с ней? Кто научит ее хотеть обратно?»6 Делёз убеждает читателей в том, что воля к власти — это имманент­ ная сторона самой Природы. И потому Вечное возвращение не означает 1 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 101. Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001. С. 48. ' См. там же. С. 51. 4 Там же. С. 52. 5 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 101. А Там же. С. 102. 2 339 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души победу чего-то другого над Природой. И в этом Делёз радикально расходится с Киркегором и его победой Бога над Природой, хотя и не собирается признавать такого расхождения. Вечное Возвращение Ницше и повторение Киркегора, по сути, «перерабатываются» Делёзом в собственную идею становления. В тексте Делёза, однако, отделить ницшеанское «возвращение» от киркегоровского «повторения» и его собственной идеи «становления» весьма трудно. Но это необходимо для решения нашей задачи. В «философском коллаже» Делёза Вечное Возвращение выглядит как победа внутренней стороны Природы над внешней и будущего над настоящим. В гегелевской диалектике Делёз видит манифеста­ цию реактивных сил бытия как сил отрицания. Именно их выражает гегелевский закон отрицания отрицания и его учение об Абсолюте и Едином. Характеризуя указанную ситуацию в целом, Делёз называет ее «нигилизмом», бросая вызов тем, кто считал и считает нигилистом Ницше. К нигилистам Делёз причисляет не только тех, кто предан «цен­ ностям» свободы и демократии. К ним же относит он нацистов с их проповедью «расы господ». Делёз согласен с тем, что с нацизмом творчество Ницше сблизила его сестра Элизабет Ницше-Ферстер. Что касается самого Фридриха Ницше, то, по мнению Делёза, он сумел выразить идею воли к власти наиболее последовательно, доведя ее до «становления многообразного» и «избирательного бытия». «Становление многообразного», «избирательная мысль» и «из­ бирательное бытие» — таковы главные «концепты», посредством которых Делёз уточняет и разворачивает в работе «Ницше» идею о Вечном Возвращении. «Нужно было дойти до последнего из лю­ дей,— читаем мы в этой работе,— затем, до человека, который хочет гибели ради того, чтобы отрицание, обратившись, наконец, против реактивных сил, стало само по себе действием и перешло на службу высшего утверждения...»1 Именно после этого, в противовес гегелевскому отрицанию отри­ цания, должно восторжествовать ницшеанское утверждение утверж­ дения. А вместе с ним и посредством него восторжествует избиратель­ ный отбор, когда, в противовес Платону, будет утверждаться лишь различное, несхожее и неповторимое. Только различное, доказывает Делёз, активизирует становление, которое есть не только избирательНицше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 43. 340 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ное бытие, но одновременно и различающая избирательная мысль, разбивающая пресловутое Я и его самость. Об избавлении мира от Единого, сущности, повторяемости и зако­ номерности, естественно, идет речь в «Различии и повторении». Но и здесь, соотнося Возвращение с повторением, Делёз представляет их как имманентный срез бытия, в котором утверждает себя различие, но не един­ ство и самость, сила и воля, но не индивидуальность. Всегда акцентируя тему различий, Делёз, тем не менее, сглаживает разницу между Ницше и Киркегором. Как и в ряде других случаев, он настаивает здесь на сходстве, оставляя в тени различие. Но такое различие легко обнаружить, если за­ дать вопрос об источнике изменений, способных обернуть время вспять. У Делёза, как и у Ницше, таким источником, конечно, является природа. Ее «нутро» наполнено различающей жизненной волей и энер­ гией. А потому основа их решения вопроса о повторении — натурализм и атеизм. В свое время Ницше бросил Богу вызов, заявив, что он мертв. Через сто лет в философии Делёза атеизм принял более «спокойные» формы. «Спокойный атеизм,— пишет сам Делёз,— это философия, для которой Бог не есть проблема, несуществование или даже смерть Бога не суть проблемы; напротив — условиях, которые необходимо считать наличными с тем, чтобы выявить настоящие проблемы: иной скромности не бывает. Никогда прежде философия не устраивалась столь основательно в чистом поле имманентности»1. Рассуждая о повторении у Киркегора, Делёз сравнивает его не только с Ницше, но также с эпикурейцами и стоиками2. Но ни разу он не говорит о Киркегоре как о христианском мыслителе. И причина вполне понятна, поскольку в этом случае нужно сказать, что повора­ чивает время вспять у Киркегора не кто иной, как Бог. А далее следует признать, что Бог у Киркегора не какой-то суррогат и производное имманенции, а самая настоящая христианская трансцеденция. Но это не все, поскольку отношения с Богом складывались у Кир­ кегора совсем не так, как у Делёза с имманенцией, а у Ницше — с во­ лей к власти. Повторение у Киркегора — акт Божьей воли. И пафос Киркегора в оценке достойного повторения, еще связан с идеальными мотивами. А повторения достойно в первую очередь человеческое Я, т. е. тот субъект и самость, фрагментированием которого был занят всю жизнь Делёз. 1 2 Цит. по: Фокин A.C. Делёз и Ницше: персонаж философа. С. 176. Делёз Ж. Различие и повторение. С. 19. 341 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души Итак, в который раз Делёз смазывает серьезное различие. И теперь это уже различие между атеистом Ницше и христианином Киркегором. И все потому, что Делёз не видит смысла утверждать бытие идеально­ го. Но, как это часто бывает, то, что изгнали в дверь, протискивается в окно. Если, вслед за Фуко, считать XX век «веком Делёза» — это ставить крест на философии со всем ее идеальным содержанием. Но Делёз не заслуживал бы нашего внимания, если бы не одно его прозрение, связанное как раз с повторением. Через сто с лишним лет после знакомства публики с киркегоровской идеей повторения в своей работе «Различие и повторение» Делёз следующим образом уточняет своеобразие повторения, сравнивая его, в частности, с подобием. Ссылаясь на Киркегора, он характеризует повторение как способность «придавать первому разу «энную силу», в то время как подобие исчерпывается добавлением равноценного. Подобное потому и подобно, пишет Делёз, что может быть замещено эквивалентом. Повторяемое, в противоположность этому, не имеет аналогов. Подобие связано с циклами и равенствами. Повторение же происходит с тем, что не подлежит замене и замещению, а только воспроизводится, возобновляется. «Повторение как действие и точка зрения,— пишет Делёз,— касается особенности, не подлежащей об­ мену, замещению»1. Делёз при этом пользуется категорией особенного, хотя у Кирке­ гора повторение происходит с единичным, индивидуальным. Но речь идет об одном и том же. «Произведение искусства,— приводит при­ мер Делёз,— повторяют как непонятийное особенное — не случайно поэму нужно выучить наизусть»2. Здесь нужно остановиться и сосре­ доточиться. Ведь на примере искусства Делёз, по сути, подтверждает уникальность явлений духа. Гераклит говорил, что в одну реку нельзя войти дважды: так им была выражена мысль об изменчивости окру­ жающего мира. Кратил, как известно довел эту мысль до логического тупика, заявив, что в одну реку нельзя войти и однажды. Но явлениям духа суждено опровергнуть античный релятивизм. Перечитать роман или заново посмотреть любимый фильм — это значит погрузиться в ту же самую, а не похожую, реальность. А это значит, что в один и тот же поток переживаний мы можем войти множество раз. 1 2 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 13. Там же. С. 14. 342 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Искусство, подобно памяти, способно заново воссоздавать непов­ торимое. А потому оно демонстрирует возможность повторения непов­ торимого и служит примером универсальности уникального. По сути, здесь мы имеем дело со спецификой прежде всего духовной культуры, которой нет и не может быть в природе. Особенное как неповторимое, рассчитанное на бесконечное повторение, проявляет себя именно в об­ ласти духа. И убедиться в этом может каждый и на собственном опыте. По сути, именно об этом говорит и Делёз, заявляя, что в произве­ дении искусства мы имеем дело с особенным, которое не подлежит обмену и замещению, и, тем не менее, своей уникальности может придать «энную силу». О том, что идеальное мгновение в искусстве может быть значительнее фактов «реальной» жизни, мы знаем еще от Киркегора. Напомним, как он искал повторения в Германии, посещая, в частности, любимые театральные представления. Киркегор ищет ситуацию, в которой жизнь перестает быть делом мимолетной мину­ ты. Такая диалектика повторения вобщем-то не сложна, заключает в произведении «Повторение» Киркегор. Она сложна, уточним мы, но человеческой душе доступна. И, прежде всего, потому, что человек имеет дело не с первозданной природой, а с миром культуры. Делёз здесь выходит на передний край в анализе диалектики осо­ бенного. Ведь особенное в мире духовной культуры существует за счет того, что индивид воссоздает уникальное творение прошлого своим творческим усилием. И здесь стоит вновь развести сознательные уста­ новки Делёза и те моменты, где он выходит за пределы этих установок. Делёз вошел в историю как теоретик посмодерна. А постмодерн в его теории и практике делает акцент в отношении к прошлому лишь на моменте изменения акцентов, преобразования, а значит различного, единичного и не Того же Самого. Для его сторонников наиболее значи­ мы как раз те факты, где в музыкальном произведении, кинофильме или театральной постановке исходный смысл оказывается трансформирован волей режиссера, актера, исполнителя. И даже там, где постмодернист цитирует, он относится к цитате как к единичному, получающему в ином контексте иное звучание. Соответственно, вся философия Делёза — это утверждение того, что из прошлого мы извлекаем единичное, а уникальность — это никак не То же Самое. Но в указанном нами месте «Различия и повторения» Делёз явно выходит за пределы этого понимания, и, сам того не ожидая, предлагает понять особенное произведение искусства как парадоксаль­ ное единство Того же Самого и Другого. Делёз обращает наше вниман 343 I Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души на то, что реализовать повторение можно только там, где поэма выучена наизусть. А это значит, что своим творческим усилием мы участвуем в повторении лишь на основе, а не вопреки Тому же Самому. Я могу воспринимать книгу также, как раньше, или иначе. Я могу бережно перечитывать («повторять») ее, любуясь неповторимыми оттен­ ками мыслей и чувств, а могу попытаться воссоздать («повторить») ту же тему или подход, а может быть, настроение, в новом произведении или в новой форме. Но в любом случае придать первому разу «энную силу» и возобновить уникальное можно лишь там и потому, что в уни­ кальном уже присутствует момент универсального, а тот, кто творил первый раз, сумел приобщиться к вечности. И в этом удивительном сочетании состоит диалектика особенного как способ бытия культуры. Киркегор видел исток такого рода «повторения» в возможностях Бога, в противоположность природе. Делёз, наоборот, считает источ­ ником «повторения» не трансцеденцию, а имманенцию как оборотную сторону той же природы. Автор этой книги, в отличие от них обоих, уверена в том, что основанием «повторения» является именно мир культуры как результат снятия мира природы. И в феномене повторения проявляет себя собственная мера этого мира. И еще об одной стороне этой проблемы. Там, где Делёз рассуждает о повторении в искусстве, он, по сути, предлагает нам один из ключей к пониманию бессмертия души не в потустороннем, а в этом мире — здесь и сейчас. Пусть в превратной форме, но он пытается разобраться в том, как в культуре достигают бессмертия телесного и вечности конечного. Речь у него идет только об искусстве. Но и за эту крупицу истины Делёзу можно простить все «концепты», «планы имманенции», а может быть, и «шизофренический дискурс». Глава шестая Русская философия о душе и идеале: между классической и неклассической традицией 1. Русская философия и кризис европейской культуры Разговоры о своеобразии русской религиозной философии уже стали общим местом, а для некоторых чем-то вроде «профессии». И тем не менее восторг здесь явно преобладает над трезвым анализом, который необходим хотя бы потому, что это наша духовная история во всех смыслах этого слова. Патриотизм толкает к тому, чтобы усматривать истоки самобыт­ ной русской философии уже в развитии богословской мысли на Руси под влиянием Византии в XI в. Другие связывают начало нашей фи­ лософии с распространением в России немецкой метафизики и идей французского Просвещения уже в XVIII. Однако оригинальной рус­ ская философия, безусловно, стала только в XIX в. И понять, почему произошло так, а не иначе, можно лишь в более широком контексте исторической судьбы России и формирования русского националь­ ного самосознания. Введение в проблему Можно спорить и о характере русской философии, и о сути фило­ софии вообще. Но нельзя не признавать как состоявшийся факт то, что классическая философия — порождение античности и что уже там она обнаружила свою способность, согласно известному выска­ зыванию Гегеля, быть «эпохой, схваченной в мысли». Оценка философии как «служанки богословия» Климентом Алек­ сандрийским имела под собой реальную почву. Имело под собой поч­ ву и определение ее как «царицы наук», когда в XIX в. она способст­ вовала построению единой научной картины мира. То «служанкой», то «царицей» европейская философия становилась в силу своей ис- 345 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... ходной методологической направленности. Но, исследуя и Бога, и природу, эта философия никогда не теряла свой главный ориентир. В потустороннем и посюстороннем мире, в человеке и вне его, в рели­ гии, науке, искусстве она искала то, что именуют духом. Таким обра­ зом, в лице классической философии дух попытался постичь самого себя. И отсюда изначально рефлексивная природа этого знания. Но одно дело исследовать феномен духовного, и другое дело — по­ ставить и исследовать эту проблему адекватным образом. Дух, мнящий себя инобытием естественного или сверхъестественного бытия, — это одно, а дух, осознающий себя как порождение мира культуры, — дру­ гое. И последнее — это не начальный, а поздний этап в развитии евро­ пейской философии, связанный с «открытиями» гуманистов эпохи Возрождения, немецкой классики и даже неокантианства. Великим «открытием» эпохи Возрождения, утверждает В.М. Межуев, стало обнаружение той особой реальности, того особого вида бытия, с которым, собственно, и связана человеческая свобода. «От­ крытие свободы в мире природной и всякой иной необходимости, — пишет он, — и стало причиной обретения культурой в сознании лю­ дей своей территории и границ»1. Именно поэтому, считает Межуев, в эпоху Возрождения зарождается философия культуры. И как раз в ней, по его мнению, кардинальный вопрос о природе человека получает свою адекватную постановку. Итак, философия может осознавать себя и предмет своих раз­ мышлений по-разному. Но наиболее адекватно она выглядит там, где становится самосознанием культуры, т. е. там, где философия пытает­ ся осмыслить не Бога и природу, а человека в мире культуры. Важно, однако, обратить внимание на то, что в концепции Межуева филосо­ фия культуры исторически возникает как самосознание европейской культуры. И выражая самосознание европейцев, идеи философии культуры существенным образом отличаются от научно-теоретиче­ ского знания. Можно знать ислам, отмечает он, и не быть мусульма­ нином. Знает мусульманство, конечно, ученый. И такое безразлич­ но-объективное знание характерно для наук о культуре. Что касается философии культуры и философии в целом, то здесь мы имеем дело со знанием во многом оценочно-нормативным. Как мы видим, философия обретает черты философии культуры в совершенно особой форме, а именно на почве европейской культуры. Межуев В.М. Философия культуры. Эпоха классики. М., 2003. С. 46. 346 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и не класс и чес кой философии И этот процесс, по убеждению Межуева, следует анализировать на фоне формирования так называемой «национальной культуры». Ведь и здесь Европа явилась лидером и первопроходцем. Формирование наций, читаем мы у Межуева, совпадает с «целой духовной революцией в истории культуры»1. И прежде всего нужно обратить внимание на такую предпосылку возникновения наций, как письменность. Письменная культура создается грамотной частью на­ рода. А в процессе формирования наций эти люди становятся нацио­ нальной интеллигенцией как субъектом национальной культуры. И глав­ ная задача такой интеллигенции — не создание, но артикуляция нацио­ нальной идеи, особенно — на переломных этапах истории. Граница между этнической и национальной культурой, писал еще на заре наших реформ Межуев, можно представить как границу меж­ ду «культом» и собственно «культурой». «Если основу первой образу­ ют освященные мифологической символикой нормы и образцы по­ ведения людей, бережно охраняемые и неизменные надличностные «святыни», определяющие собой весь строй и уклад народной жизни, все проявления народного бытия, то национальная культура, как пра­ вило, лишена культового характера, целиком — от мира сего, дело рук человеческих, продукт человеческого, преимущественно индиви­ дуального творчества. Не случайно творцов национальной культу­ ры — интеллигенцию — называют мастерами культуры, видя в них слой людей, несущих главную ответственность за культуру всего об­ щества, за духовное состояние общества»2. Автор этой оригинальной концепции специально подчеркивает то, что о возникновении национальной культуры мы судим по факту рождения национальной литературы. При этом он замечает, что идея национальной идентичности может возникнуть раньше, чем сформи­ ровалась сама нация. «Национальная культура уже есть, — пишет он, — а нации как таковой может не быть. Здесь нация предстает ско­ рее как чисто духовная, идеальная общность, существующая в голо­ вах образованной части общества, как только лишь национальная идея, но не как еще реальная социальная общность людей»3. Вполне понятно, что в данном случае речь идет не только о лите­ раторах, но и о философах, которые способны сыграть существенную 1 Межуев В.М. Философия культуры. Эпоха классики. С. 34. Межуев В.М. Национальная культура и современная цивилизация / / Освобождение духа. М., 1991. С. 266. 3 Там же. С. 267. 2 347 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... роль в осознании и осмыслении национальной идеи. Представлен­ ный выше фрагмент более фундаментальной концепции В.М. Межуева вызывает много вопросов. Среди них, например, вопрос о том, является ли философия культуры самосознанием европейцев, или можно говорить о появлении в XIX в. феномена национальной филосо­ фии, когда интеллигенция, решая особую проблему национальной идентичности, не отделяет ее от решения фундаментальных проблем культуры и истории. А потому национальная философия становится интересна другим. Конечно, в постановке такого вопроса таится опасность парадок­ сального вывода: сколько наций, столько и философий. И тем не ме­ нее рассмотренная выше позиция помогает лучше понять русскую философию. Отечественная философия XIX в., будучи как раз поня­ той как форма самосознания русской культуры, обнаруживает сво главное своеобразие. «Русская мысль в течение XIX в., — писал в свое время H.A. Бер­ дяев, — была более всего занята проблемами философии истории. На построениях философии истории формировалось наше националь­ ное сознание»1. Иначе говоря, именно там, где русские философы ре­ шают фундаментальные вопросы в свете проблемы самоопределения России, они находятся на «территории» самобытной русской мысли. Как известно, нечто определить можно только через «ближайший род». И этим «ближайшим родом» для России вначале была Визан­ тия, а затем — Западная Европа. Понятно, что особую остроту такое самоопределение обрело в связи с реформами Петра I. Но парадокс заключается в том, что европеизация, осуществленная Петром, спро­ воцировала не просто вопрос, каково наше место в Европе. «Итоги» петровской европеизации позволили поставить вопрос, сопоставима ли Россия с Европой вообще2. Здесь нужно отметить еще одно своеобразие русской философии, которая развивалась в XIX в. совсем не так и не там, где развивалась западноевропейская философия. Философия в Западной Европе раз­ вивалась в основном в университетах. И Гегель, как известно, обрел максимальную популярность у немецкой молодежи, будучи не только профессором, но и ректором Берлинского университета. Но в России даже в XIX в. университетская философия не имела серьезных дости­ жений. Приглашенных профессоров-немцев часто изгоняли по подо1 2 Бердяев H.A. Смысл истории. М., 1990. С. 3. См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 348 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии зрению в «ересях». А в последний период николаевского правления философия была запрещена для преподавания в университетах и оставалась только в духовных академиях. В результате философия в России XIX в. получила развитие в основном благодаря людям свободных профессий. Ведь П.Я. Чаада­ ев, И.В. Киреевский, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Л. Шестов и др. были свободными писателями, не повязанными в своих воззре­ ниях казенной службой по ведомству министерства народного про­ свещения. Философы в России XIX в. не преподавали, а занимались литературой. Но и литераторы, в свою очередь, в силу особых обстоя­ тельств русской жизни создавали произведения с философским смы­ слом и подтекстом. И наиболее яркая фигура в этом плане — Ф.М. До­ стоевский, которого на Западе привычно считают наиболее ориги­ нальным русским «философом». Таким образом, главной трибуной для философии в XIX веке, как, кстати, и в советскую «оттепель», были литературные журналы. И по своей направленности философия в России XIX века не столько ака­ демична, сколько публицистична. Но яркая публицистическая форма может даже способствовать анализу. В результате русская философия, как и философия французских просветителей, расположена на гра­ нице с журналистикой и литературой. Уникальность XIX века в мировом философском развитии заклю­ чается в том, что здесь совпали период расцвета философской классики в лице Г.В.Ф. Гегеля и быстрого развития неклассического философст­ вования в лице А. Шопенгауэра, С. Киркегора, а затем Ф. Ницше. По­ нятно, что неклассическая философия возникла не вдруг. Анализ творчества С. Киркегора позволяет увидеть, какую роль сыграл в ста­ новлении его позиции романтизм1. И точно так же не вдруг возникла оригинальная русская философия. «Русская философская мысль, — писал в начале XX века Л.М. Ло­ патин, — с тех пор, как впервые возникли ее первые проблески в XVIII веке и в продолжение очень долгого периода, влачила существо­ вание несчастное и скудное. Ее главным недостатком было полное от­ сутствие оригинальности, — самобытного умозрительного творчества, которое выразилось бы в литературной форме и привело бы к опреде­ ленным и систематическим результатам. Русские философы были только последователями западноевропейских и притом последова1 См.: Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. О миросозерцании Серена Киркегора / / Прорыв к трансцендентному. М., 1997. 349 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... телями второстепенными»1. Л.М. Лопатин, как известно, был русским лейбницианцем. И тем не менее он не отрицал, что именно в XVIII и начале XIX в. шел важнейший процесс формирования русского фило­ софского языка. А в XIX в. в этом языке наполнились специфическим смыслом понятия «цельное знание», «соборность», «всеединство» и др., в которых выразилось своеобразие этой формы философии. Философия И. Киреевского и С. Киркегора и трансформация христианской религиозности Русская философия XIX века интересна тем, что изначально ока­ залась меж двух огней. С одной стороны, она не могла не испытать мощного влияния немецкой классики в лице Канта и Гегеля. Вспом­ ним о Белинском, не знавшем немецкого, «гегельянство» которого сформировалось под воздействием пересказов Гегеля М. Бакуни­ ным. С другой стороны, уже И. Киреевский и славянофилы испы­ тывают влияние немецких романтиков и «позднего» Шеллинга, ко­ торого можно считать предтечей неклассического философствова­ ния. Хотя, отметим тот факт, что С. Киркегор, слушавший лекции Шеллинга в Берлине, не нашел у него прямых ответов на мучавшие его вопросы. Проблема, спровоцировавшая расцвет неклассической филосо­ фии, была более чем реальной. Такой проблемой стал кризис, а имен­ но кризис европейской культуры, когда действительность все больше расходилась с представлением о целостной творческой личности, из которой исходили философы Возрождения, Просвещения, немецкой классики. Нужно заметить, что личная свобода и творчество в класси­ ческой культуре изначально не совпадали с произволом. Даже в про­ цессе самосозидания личность полагала самой себе закон, определяя себя всеобщим, которым со времен античности были идеалы Истины, Добра и Красоты. И все это рушилось, распадалось под ударами индустриальной цивилизации, где стремление к высоким идеалами сменялось трез­ вым расчетом, добро — пользой, красота — удобством. В наши дни такого рода трансформацию принято связывать с феноменом «отчуж­ дения». Но отчуждение человека от природы и от другого человека, отчуждение его от родной культуры, а в итоге — от своей человече­ ской сущности, можно объяснять по-разному. Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. М., 1995. С. 107. 350 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Петр I, отсылавший молодежь в Западную Европу, ценил техни­ ческий и научный прогресс, но те, кто ехал туда набираться ума че­ рез сто лет, обращали внимание на другое. У И. Киреевского, как известно, уважение к западному типу просвещения сменилось пои­ ском цельного знания как антитезой духовному распаду человека. И ход мысли русского философа Киреевского, его реакция на кри­ зис европейской культуры перекликается с тем, что почти в то же время пишет родоначальник экзистенциализма датчанин Киркегор. Киреевский пережил Киркегора всего лишь на год. Но они — не просто современники. Сопоставление их реакции на кризис культу­ ры позволяет увидеть пункты сближения и расхождения русской и европейской философии. Для Киркегора нет ничего страшнее, чем утрата души и распад личности. «Можешь ли ты представить себе что-нибудь ужаснее раз­ вязки, — читаем мы в его работе «Или—или», — когда существо чело­ века распадается на тысячи отдельных частей, подобно рассыпавше­ муся легиону изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое дорогое, самое священное для человека — объединяющую силу личности, свое единое, сущее «я»?»1 Столь же опасным он считает расхождение между философией и жизнью, размежевание истины и красоты. Состояние романтическо­ го искусства, как и спекулятивной философии начала XIX века, не устраивает Киркегора именно в силу их отвлеченности от жизненных проблем индивида. Истина, отмечает он, есть Бог теоретика, подоб­ но тому, как Красота является Богом эстетика. И то же распадение основ жизни фиксирует в западной жизни Ки­ реевский, который пишет, что в ней мы находим сплошные раздвое­ ния, а именно «раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение об­ щества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нрав­ ственного и сердечного состояния...»2. В работе Киркегора «Или—или» объединяющей силой личности, безусловно, является идеал. Но проще всего такой идеал искать не во внутреннем мире, а в мире внешнем. Однако тогда единство лично­ сти оказывается не подлинным, а мнимым, а наша душа оказывается чем-то вроде маски, скрывающей разнородные желания и порывы. Именно так Киркегор характеризует в работе 1843 года «Или — или» 1 2 Киркегор С. Или—или. С. 198. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 290. 351 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... душу романтика, в произвольной игре желаний которого нет и не мо­ жет быть серьезной внутренней связи. Романтик исходит из эстетического отношения к жизни. Но воз­ вышение романтика над материальной жизнью, доказывает Киркегор, сочетается с прямой и непосредственной зависимостью от нее. А поиск универсального синтеза оборачивается раздробленностью души. И иного, считает Киркегор, не может быть там, где тело оказы­ вается мерой для духа. Романтик у Киркегора — это человек с духов­ ными запросами, но без идеалов и принципов. Понятно, что, с точки зрения Киркегора, подлинное объединение сил души происходит не из внешнего мира, а из внутреннего. Под­ линная жизнь индивида, таким образом, это не материальные жела­ ния, а духовные поиски. А потому истинным основанием души Кир­ кегор поначалу признает нравственный долг. Именно долг, подчерки­ вает он, способен возвысить душу над телом. И тогда возникает новый тип взаимоотношений, когда душа из ведомого становится поводы­ рем. Но нравственность — это не только долг, но и выбор. А его выс­ шая форма — выбор своим идеалом Всевышнего. Так нравственный идеал оказывается в «Или—или» Киркегора идеалом религиозным. Итак, разоблачая романтического поэта, ограничившего себя об­ ластью чувств, а также спекулятивного философа, обособившего истину от индивидуальной жизни, Киркегор провозглашает в качест­ ве основания души веру, совпадающую с нравственным долгом. Именно христианская вера в работе «Или—или», а само это название означает выбор между наслаждением и долгом, может спасти совре­ менного человека от разрушения его души. Киркегор не уточняет, о какой конфессии идет речь. Но нам известно о его противостоянии официальной протестантской церкви, которая, по его убеждению, подменяла веру праотцов мещанским суррогатом. Вера как средоточие души и препятствие к ее разрушению — вот тот главный пункт, в котором сходятся С. Киркегор и И. Киреевский. Но конфессиональные различия для последнего чрезвычайно важны. И прежде всего потому, что Киреевский убежден: именно под опекой католичества западное просвещение привело к деградации духа и раз­ дроблению человеческих способностей. Что касается православия, то оно несет в себе спасение человеческой души с помощью святоотече­ ской традиции, «любомудрия Св. Отцов». В статье «О необходимости и возможности новых начал для фи­ лософии», опубликованной посмертно в журнале «Русская беседа», 352 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Киреевский утверждает, что на Западе победил так называемый «внешний человек», в котором разум противостоит вере и добродете­ ли. Иное дело Россия, где сохраняется стремление соединить все силы человека и всю его личность вокруг некоего скрытого ядра, ко­ торое он в традициях святоотеческой литературы именует «внутрен­ ним человеком». В глубине нашей души, подчеркивает Киреевский, есть «живое общее средоточие для всех сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого». А значит, необходимо «поднять разум выше его обыкновенного уровня» и «искать в глубине души того вну­ треннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение разума»1. Киркегор отмечал, что погоня за яркостью чувств, не знающая нравственного долга, способна превратить жизнь в пустое развлече­ ние. И то же самое пишет Киреевский о мышлении, отделенном от сердечного стремления, которое способно стать игрой, «развлечени­ ем для души». И чем «глубже» такое мышление, пишет он, тем легко­ мысленнее делает оно человека2. Итак, одна из главных болезней души, которую фиксируют Кирке­ гор и Киреевский в культуре XIX века, — это ее распыление на отдель­ ные, пусть даже хорошо откультивированные способности. В этом слу­ чае человек, если говорить современным языком, может состояться как профессионал, но он не станет личностью. И Киркегор, и Киреев­ ский уверены в том, что единство души может определяться только ве­ рой, а в ее лице добродетелью. Киреевский тем не менее интересен не только тем, что его учение о «цельном знании» — это поиск выхода из кризиса европейской культуры в христианстве, а точнее в православии. В его воззрениях видна попытка определить через православие саму суть русской куль­ туры и истории. А потому здесь исток религиозного характера всей са­ мобытной русской философии. Здесь стоит отметить, что, только начавшись, формирование рус­ ской нации сразу же обнаружило свои кризисные черты. Ведь реформы Петра были таковы, что, продвигая Россию по пути прогресса, они не столько сплачивали, сколько раскалывали общество. И ценой, запла­ ченной за достижения прогресса, как известно, стало главное противо­ речие русской жизни XIX в. — между европеизированным дворянством 1 2 Киреевский И.В. Соч. Т. I—II. М., 1911. Т. I. С. 250. См. там же. С. 249. 353 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... и патриархальным крестьянством. А в результате национальная общ­ ность с ее изначальными полюсами высокой и патриархальной культу­ ры с самого начала осознавалась как проблема. И в этих условиях пра­ вославие было воспринято значительной частью интеллигенции не только как средоточие индивидуальной души, но и как средоточие души народа, как та субстанциальная связь, которая способна соеди­ нить столь противоречивый общественный организм. Религиозная истина, считал Киреевский, может быть средоточием души индивида и народа в силу своего субстанциального характера, ко­ торый утрачен западной религиозностью и западной моралью. Тем бо­ лее нет смысла искать эту особенность в науке. «Длинный разговор о философии с Ив. Киреевским, — писал в связи с этим Герцен. — Глубо­ кая, сильная, энергическая до фанатизма личность. Наука, по его мне­ нию, — чистый формализм, самое мышление — способность формаль­ ная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность, является в науке только формально и, след., абстрактно, не истинно или бедно истинно»1. Таким образом, религиозная истина, способная спасти нашу душу от деградации не в потустороннем мире, а здесь и сейчас, в от­ личие от истин науки, должна выражать не формально, а субстанци­ ально общее. Более того, у того же Киреевского мы читаем: «Ибо все, что есть существенного в душе человека, вырастает в нем только общественно»2. Данное заключение Киреевский делает в связи с фи­ лософией, способствующей православной вере. Такая философия, по его убеждению, должна развиваться из «взаимно-действия» убеж­ дений тех, кто стремится к единой цели3. Но из приведенных рассуж­ дений можно сделать вывод и о том, что «внутренний человек» дол­ жен полагаться не только на себя самого, но и на нечто внешнее. Иначе говоря, и во внешнем мире, в том числе в социальной жизни, должны быть подлинные и неподлинные формы бытия. И если не­ подлинной формой социальности является западное «гражданское общество», то подлинной формой, согласно Киреевскому, оказыва­ ется утраченная Западом «община». В России, пишет Киреевский, еще сохранилось «преимуществен­ ное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общест­ венного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и ' Герцен A.M. Соч.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 446. Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 323. ·' См. там же. 2 354 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии нравственного»1. А из этого следует, что истинная вера вырастает из гармонии внутреннего и внешнего, которую Киреевский связывает с православием. Соответственно, путь к истинной вере — это не про­ сто углубление в самого себя, а изменение строя жизни. В своих позд­ них работах Киреевский провозглашает не только новый тип филосо­ фии и просвещения, но говорит о православном фундаменте всей си­ стемы культуры. И об этих планах В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» пишет с большим воодушевлением: «Это рож­ дало и рождает некое о ж и д а н и е , можно сказать, пророческое устремление к новому «зону», к эпохальному п е р е с м о т р у в с е й к у л ь т у р ы»2. У Киреевского «общественное» означает именно общинное. Поэ­ тому он искренне выступает за сохранение общины, которая жива, пока жива традиция. Более того, он не видел ничего плохого в кре­ постном праве, когда крестьянин имеет отеческую опеку со стороны помещика. А труд крестьянина позволяет развивать дворянские гне­ зда как центры высокой культуры. Именно в этом контексте и скла­ дывается понятие «соборность», выражающее субстанциальное един­ ство патриархальной семьи, крестьянской общины, церковного при­ хода — всего русского народа. «Соборность» в данном случае — это, безусловно, «собирание», «объединение». Когда мы говорим о «соборности» в его исходном смысле, присутствующем у И.В. Киреевского, но явным образом вы­ раженном A.C. Хомяковым, то здесь предполагается как духовное, так и социальное единение людей. И это вовсе не выдумка русских философов XIX века, а констатация синкретизма патриархальной жизни. Другое дело — отождествление такого синкретизма патриар­ хального бытия с самой сутью православия, которое, по убеждению многих русских философов, превратившись в фундамент всей рус­ ской культуры, способно спасти общество от раскола, а души людей от разрушения. Взаимоотношения русской религиозной философии и Право­ славной церкви — особая тема. В своем исследовании типологиче­ ских черт русской философии П.А. Сапронов утверждает, что не только Киреевский, но и большинство русских религиозных филосо­ фов оказались далеки от позиции церкви. Русская религиозная фило­ софия, по убеждению Сапронова, так и не смогла отдать себе отчета в 1 2 Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 290. Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 5. 355 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... собственном статусе. Она не пошла по пути классической философии и не пошла по пути богословия, отказавшись от неизбежного выбора одной из этих перспектив1. Что касается Ивана Киреевского, то Сапронов пишет: «В нем ро­ мантик и православный христианин не просто уживались, они были сращены, неразрывно и непрерывно переходили один в другого»2. Характеризуя проект русской религиозной философии, Сапронов от­ мечает, что в нем у Киреевского мирно соседствуют святоотеческая традиция и система позднего Шеллинга — отнюдь не православного мыслителя3. И то же самое можно сказать об идее единения и цельно­ сти как центральном пункте в воззрениях Киреевского. Если у Хомя­ кова соборность — это прежде всего единение в Боге, то у Киреевского движущей силой стремления к единству в социальном и в духовном плане оказывается, как отмечает Сапронов, «близкий романтизму исток бытия, который одновременно находится в сокровенном лоне природы и душевной глубине...»4. Иначе говоря, провозглашая осно­ вой души религиозную истину, Киреевский характеризует стоящую за ней реальность как нечто глубинное и таинственное, что значительно ближе к романтику Новалису, чем к святоотеческой традиции. Аргументацию Сапронова можно признать вполне убедительной. Но если все это так и в религиозности Киреевского присутствует яв­ ный романтический момент, его понимание веры и идущая от него традиция в русской философии заслуживает внимания. И прежде всего потому, что при всей ее непоследовательности и специфично­ сти эта линия в русской религиозной философии имела своих антаго­ нистов. Речь идет о таком мыслителе, как Л. Шестов. По сути дела, Киреевский и Шестов — родоначальники двух версий русской рели­ гиозной философии, разница между которыми определяется все тем же различием классической и неклассической философии и культуры в целом. И чтобы прояснить эту разницу, мы должны вновь обратить­ ся к «отцу» экзистенциализма С. Киркегору. Если фиксировать уже не сходство, а различие в позициях Кире­ евского и Киркегора, то нужно сказать, что от романтиков они пошли в разных направлениях. И это выражается, в частности, в том, что 1 См.: Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. СПб., 2000. С. 106. 2 Там же. ' См. там же. С. 105. 4 Там же. С. 94. 356 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вера как средоточие души у Киркегора сугубо индивидуальна, а в ито­ ге и единство души оказывается под вопросом. Противостояние Киркегора «общему» было не легкомысленной бравадой, а осознанной жизненной позицией, в основе которой ле­ жала убежденность: истинным может быть только единичное челове­ ческое бытие как антипод всего общего, природного и социального. Киркегора считают «отцом» экзистенциализма не только потому, что он обозначает единичное субъективное бытие как «экзистенцию», но и противопоставляет его всему общему как неподлинному бытию. И это станет центральным пунктом экзистенциализма. У Киреевского неподлинным является общественность западного типа, основанная на индивидуализме, которой он противопоставляет русскую общину. У Киркегора неподлинной является любая обществен­ ность, которая по своей сути чужда духу. Общественная жизнь, как мы видим, у Киркегора не может быть ни истинной, ни гармоничной. Даже нравственный долг здесь оказывается делом сугубо личным. И такой же предстает в «Или—или» вера, которая есть связь индивида с Богом, ми­ нуя человечество. В ходе такой метаморфозы, когда абсолютом в акте веры оказывается не Господь, а сам верующий, как раз и складывается религиозность неклассического толка, у истоков которой стоит Киркегор. И как раз в этом принципиальное отличие религиозности русского философа Ивана Киреевского и датчанина Киркегора. 2. Л . Шестов: душа за пределами идеального Незадолго до смерти, в 1938 году, Л. Шестов уточнил три источ­ ника, из которых последовательно питалась его мысль. В статье, по­ священной памяти близкого друга Э. Гуссерля, он отмечает, что «пер­ вым учителем» у него был В. Шекспир, от которого он двинулся к философии И. Канта. «Но Кант не мог дать ответы на мои вопро­ сы, — пишет Шестов. — Мои взоры обратились тогда в иную сторо­ ну—к Писанию»1. По неизвестной причине Шестов здесь не указывает еще на одну фигуру — Ф.Ницше, который определяет суть его учения не меньше, чем Писание. А между тем о Ницше идет речь уже в первых ориги­ нальных произведениях Шестова: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» и «Достоевский и Ницше (Фи­ лософия трагедии)». Именно книга о Достоевском и Ницше принесла Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964. С. 304. 357 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Шестову мировую славу. Ее перевели на восемь языков, среди кото­ рых был даже китайский. Наиболее радикально по поводу влияния Ницше на Шестова вы­ сказался его давний друг и вечный оппонент Н. Бердяев. «Ницше был ему ближе Библии, — пишет он о Шестове, — и остается главным влиянием его жизни. Он делает библейскую транскрипцию ницшеан­ ской темы, ницшеанской борьбы с Сократом, с разумом и моралью во имя «жизни»1. «Транскрипция» в переводе с латыни означает «пере­ писывание» или, другими словами, «буквальная передача». Но может ли Библия быть средством передачи атеистических воззрений Ниц­ ше? И какая вера рождается из такого синтеза? К словам Бердяева стоит прислушаться. Он знал, о чем писал. Творческие биографии Бердяева и Шестова схожи. Получив первона­ чальное образование в Киеве, оба затем учились на юридическом фа­ культете, Шестов в Московском, а Бердяев в Киевском университете. Между ними было восемь лет разницы, при этом Шестов и Бердяев прошли один путь от увлечения социально-экономическими идеями до занятий религиозной философией. Если Бердяев в юношеские годы считал себя марксистом, то Шестов не питал особых симпатий к «бледным юношам, читающим Маркса». Другое дело — русская ре­ лигиозная философия, которая на рубеже Х1Х-ХХ веков пережила подъем, охарактеризованный В. Зеньковским в его «Истории русской философии» как «религиозно-философское возрождение». Значительная часть русской интеллигенции, пишет В. Зеньков­ ский в этой работе, была охвачена в те годы «революционнно-мистическим возбуждением», которое как отдаляло, так и сближало этих людей с церковью и церковной традицией. Именно в таких мистиче­ ских настроениях, по мнению Зеньковского, нужно видеть исток ре­ лигиозности Бердяева и Шестова. Но Зеньковский в конце 40-х, когда он писал «Историю русской философии», был не только профессором Богословского православного института в Париже, но одновременно протоиереем отцом Василием. И этим определяется своеобразие его оценок творчества Бердяева и Шестова. Главный критерий тех оценок, которые дает Зеньковский фило­ софским взглядам Бердяева и Шестова, — отношение к секуляризму. И это естественно для иерарха Русской православной церкви, кото­ рой в XX веке был нанесен самый мощный удар за всю историю чело1 Бердяев Н. Лев Шестов и Киркегор / / H.A. Бердяев о русской философии. Сверд­ ловск, 1991. Ч. 2. С. 98. 358 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии вечества со стороны светских властей и атеистической идеологии. Зеньковский оспаривает мнение, согласно которому Николай Бердя­ ев — выразитель православного направления в религиозной мысли. «Бердяева на Западе часто считают представителем «православной философии», — пишет Зеньковский. — В такой форме характеристи­ ка Бердяева совершенно неверна, но, конечно, Бердяев глубоко свя­ зан с Православием, со всей его духовной установкой. К сожалению, однако, Бердяеву остался чужд богатейший мир святоотеческой мыс­ ли, хотя Бердяев одно время и интересовался им. Но, впитав в себя отдельные черты Православия, Бердяев не находил для себя нужным считаться с традицией Церкви...»1 В последней фразе — ключ к тому резкому противопоставлению Шестова Бердяеву, которое мы обнаруживаем в работе Зеньковского. Бердяев, вслед за Д. Мережковским, открыто отказался от историче­ ского христианства, призвав к его обновлению с помощью язычества. В поиске нового религиозного сознания Бердяев пребывал всю жизнь и этим действительно отличался от Шестова, предложившего не идти вперед, а, наоборот, возвратиться к истокам. У Бердяева задача фило­ софии — помочь созданию «неохристианства», соответствующего новой эпохе. Для Шестова назначение философии в возрождении прежней веры, утраченной в погоне за достижениями разума и про­ гресса. И эта разница в ориентирах очень значима для отца Василия Зеньковского. В оценке учения Льва Шестова Зеньковский также предлагает отойти от устоявшихся представлений, согласно которым это учение принадлежит к экзистенциализму. «Кстати отметим, — пишет он в «Истории русской философии», — что сам Шестов (а за ним и неко­ торые его друзья) сближал свои построения с модной ныне «экзи­ стенциальной» философией, но по поводу этого весьма сомнительно­ го «комплимента» Шестову надо сказать, что, за вычетом нескольких мотивов, творчество Шестова уходит совсем в сторону от «экзистен­ циализма» (в обеих его формах — атеистического и религиозного). По существу же Шестов является религиозным мыслителем, он в о в с е не а н т р о п о ц е н т р и ч е н , а т е о ц е н т р и ч е н (как, может быть, никто в русской философии — кроме, конечно, религиозных философов школы Голубинского, вообще нашей «академической» философии)»2. 1 2 Зеньковский В.В. История русской философии. Λ., 1991. Т. 2. Ч. 2. С. 80. Там же. С. 82. 359 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Зеньковский признается в том, что нам очень мало известен рели­ гиозный мир Шестова. И тем не менее для него аксиома — религиоз­ ное целомудрие этого мыслителя. «Мы не знаем достаточно содержа­ ния его верований, — отмечает Зеньковский, — хотя не будет боль­ шой ошибкой сказать, что он принимал и Ветхий и Новый Завет, — во всяком случае у него есть немало высказываний, говорящих о приня­ тии им христианского откровения»1. Зеньковский изо всех сил стре­ мится представить Шестова ортодоксом и в этой роли противопоста­ вить религиозным романтикам начала XX века. Налицо парадоксальное расхождение в оценках творчества этого философа. С одной стороны, мнение Бердяева, согласно которому Шестов — религиозный реформатор, облекающий ницшеанство в библейские формы. С другой стороны, точка зрения Зеньковского, у которого Шестов — религиозный ортодокс, возвращающийся к биб­ лейским основам. Выход один — обратиться к работам самого Льва Шестова. Обратиться к его ранним и поздним работам с тем, чтобы понять, как возможен путь от Ницше к библейской вере. Или учение Шестова — это, в отличие от откровенного реформаторства Бердяе­ ва, скрытый ревизионизм, опасность которого явно недооценил о. Ва­ силий (Зеньковский)? Начнем с одной из последних статей Шестова, в которой он сам указывает на существенные различия между своим пониманием эк­ зистенциальной философии и ее трактовкой у Бердяева. Эта статья, вышедшая в 1938 году, называется «Николай Бердяев. Гнозис и экзи­ стенциальная философия». И уже из названия следует, что корень расхождения между двумя экзистенциалистами в характере высшей истины и в том способе, каким она способна открываться. «Если вы спросите Бердяева, — пишет Шестов, имея в виду основы его уче­ ния, — откуда ему все это известно, он спокойно сошлется вам на гнозис: все это ему известно из опыта, правда, не природного, а "духовного"»2. В одних случаях Бердяев извлекает свои важнейшие идеи из осо­ бого духовного опыта, в других — ссылается на интуицию. Но у раз­ ных людей, продолжает Шестов, опыт разный. И если одному «опы­ ту» противостоит другой «опыт», то кому и на каком основании нуж­ но отдать предпочтение? Такими вопросами Бердяев, к сожалению, 1 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 86. Шестов Л. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия / / Шестов Λ. Сочинения. М., 1995. С. 390. 2 360 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии не интересуется. «И, чтоб положить конец докучным вопрошаниям, — пишет далее Шестов, — он ссылается на то, что излюбленный им опыт свидетельствует о прорыве из иных миров в то время, как всякий другой опыт относится к миру, как он выражается, природно­ му В противоположность Достоевскому, Киргегарду и Ницше (чтобы говорить лишь о современниках), он на вопросах не любит долго за­ держиваться и задерживать своих читателей — он всегда торопится к ответам, которые к нему как бы сами собой приходят»1. Итак, гнозис Бердяев связывает с высшим знанием, прорываю­ щимся из духовного мира. В отличие от знаний о природе высшее ду­ ховное знание подобно благодати, которая снисходит на мудреца, а точнее, на экзистенциального философа. Но где критерий того, что открывшееся знание — экзистенциальная истина? И где гарантия, что именно на меня, а не на моего оппонента снизошла философская благодать? Оставим в стороне ту язвительность, с которой Шестов вскрывает спорные моменты и слабые стороны в позиции своего старого друга. Бердяев отвечал ему тем же. Каждый из них прекрасно видел слабые стороны другого, но обоим явно недоставало самокритики. Речь, одна­ ко, идет не об их полемическом таланте, а о принципиальном различии между этими мыслителями. И оно выражается прежде всего в том, что экзистенциальная истина, по убеждению Шестова, не имеет отноше­ ния к гносису, поскольку открывается человеку в акте веры. «Вера есть источник экзистенциальной философии, — утверждает Шестов в сво­ ей статье о Бердяеве, — и именно постольку, поскольку она дерзает восставать против знания, ставить самое знание под вопрос»2. Рассуждая об особенностях духовного опыта, в котором Бердяеву открывается высшая истина, Шестов замечает, что здесь не он выби­ рает опыт, а скорее «опыт выбирает его»3. А это значит, что экзистен­ циальная истина в трактовке Бердяева не разыскивается философом, но сама открывается ему. Экзистенциальная истина здесь является результатом некоторого озарения, оставаясь при этом знанием и нуж­ даясь в понимании. Сходным образом представляли себе Богопознание гностики вре­ мен раннего христианства. Гностическая ересь в среде христиан за­ ключалась, в частности, в том, что Христос сообщает вначале апосто1 2 3 Шестов А. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия. С. 393. Там же. С. 402. См. там же. С. 393. 361 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... лам, а впоследствии узкому кругу избранных, тайное знание. И этот гностический опыт открывается им в форме озарения. У гностиков результат божественного озарения — именно знание, учение, подобно тому, как это происходит в экзистенциализме Бердяева. Иной предстает экзистенциальная истина у Шестова, которая не есть знание, а нечто другое, что является ответом на акт человеческо­ го отчаяния. Шестов повторяет слова Киркегора: если греческая фи­ лософия начиналась с «удивления», то экзистенциальная философия начинается с отчаяния. Вера у Шестова неотделима от отчаяния, и только в акте безрассудной отчаянной борьбы человек способен про­ рваться к истине. «Вера начинается тогда, — пишет Шестов, — когда по всем очевидностям всякие возможности кончены, когда и опыт и разумение наше без колебаний свидетельствуют, что для человека нет и быть не может никаких надежд»1. И только когда разум погас и силы исчерпаны, вера рождает исти­ ну — не в качестве знания, а в качестве новой реальности. И с этой реальностью имеет дело экзистенциальная философия. «Экзистенци­ альная философия, — подчеркивает Шестов, — есть философия de profundis. Она не вопрошает, не допрашивает, а взывает, обогащ мышление совсем чуждым и непостижимым для философии умозри ной измерением. Она ждет ответа не от нашего разумения, не от ния — а от Бога. От Бога, для которого нет ничего невозможного, ко­ торый держит в своих руках все истины, который властен и над насто­ ящим, и над прошлым, и над будущим»2. De profundis в переводе с латыни — «из глубины». А это значит, что экзистенциализм, по убеждению Шестова, есть философствова­ ние, соответствующее глубинным стремлениям человека. Это фило­ софия, решающая кардинальные вопросы его существования, и именно тогда, когда никакими известными способами они неразре­ шимы. Если же говорить простым языком, то речь идет о вере, способной вернуть человеку безвозвратно утраченное. И при обсуждении этой темы Шестов постоянно обращается к Киркегору как «отцу» экзи­ стенциализма. О его судьбе и творчестве Шестову стало известно лишь в 20-е годы, во многом благодаря Э. Гуссерлю. И, поразившись сходству взглядов, он в дальнейшем стал выступать от их общего име­ ни. «Он раньше никогда не читал его, — пишет в статье «Основная 1 2 Шестов А. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия. С. 402. Там же. С. 402-403. 362 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии идея философии Льва Шестова» Бердяев, — знал лишь понаслышке, и не может быть и речи о влиянии на его мысль Киркегора. Когда он прочел его, то был глубоко взволнован, потрясен близостью Киркего­ ра к основной теме его жизни. И он причислил Киркегора к своим героям»1. В свое время Киркегор, которого Шестов именует Киргегардом, сам отказался от Регины и, как мы помним, всю жизнь желал вернуть утраченное счастье. Исследователи творчества Шестова указывают на его собственную страшную муку, связанную с гибелью сына во время Первой мировой войны. В «Охранной грамоте» Б. Пастернак пишет по поводу своего желания идти на фронт добровольцем: «Меня заклял от­ казаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трез­ вой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом же из боев по возвращении на позиции из этого отпуска»2. Вернуть Киркегору невесту, а Шестову сына по за­ конам природы и общества невозможно. Именно потому оба отчаянно вглядываются не только в «рыцаря веры» Авраама, но и в библейского Иова, которому удалось своей верой свершить невероятное. Согласно Писанию, Бог разрешил сатане испытать Иова, кото­ рый, живя в достатке, был образцом праведности и благочестия. Вна­ чале погибли его стада вместе с пастухами, затем умерли его дети. Не­ винно страдающий Иов не хулил за это Бога. И тогда Бог позволил сатане мучить Иова проказой, не лишая при этом жизни. Именно тут возникает конфликт между верой Иова в божественную справедли­ вость и его знанием о собственной невиновности. Жена советует ему встать на путь разочарования в справедливости Бога. «Похули Бога и умри», — говорит она. Друзья требуют от Иова признаться в собст­ венной виновности, за которую ему и ниспосланы все напасти. А му­ дрец Элиу предлагает воспринимать страдание не в качестве кары, а как средство духовного пробуждения. Известно, что Иов не отказался от Бога и не признал своей винов­ ности. В конце концов Яхве указал на его правоту. К Иову вернулось богатство, родились новые дети. А сам он стал символом смиренного терпения и бескорыстной веры, хотя сатана первоначально и предпо1 Бердяев Н. Основная идея философии Льва Шестова / / H.A. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 2. С. 104. 2 Цит. по: Ерофеев В. Одна, но пламенная страсть Льва Шестова / / Лев Шестов. Избранные сочинения. М., 1993. С. 34. 363 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... лагал, что благочестие Иова — лишь благодарность за процветание. То, что Иов — символ смирения и бескорыстия в отношениях с Богом нужно подчеркнуть особо. Дело в том, что как раз здесь начинается своеобразие в трактовке книги Иова Шестовым. И важно определить истоки этой новой трактовки. «Быть может, самое раздражающее и самое вызывающее, а вместе с тем наиболее влекущее и пленительное из того, что писал Киргегард, — отмечает Шестов, — мы находим в его размышлениях о книге Иова. ...Он просит Иова— и надеется, что Иов не отвергнет его просьбы — принять его под свое покровительство. Он хоть не имел так много, как Иов, и потерял только свою возлюбленную, но это было все, чем он жил, как у сказочного бедного юноши, влюбленного в царскую дочь, его любовь была содержанием всей его жизни»1. «По­ кровительство Иова» в данном случае означает возможность вернуть утраченное. Но вернуть вопреки законам земного мира силой чуда, доступного Богу. И это возвращение навеки утраченного есть та самая истинная реальность, которой, согласно Шестову, занята экзистенци­ альная философия. Основной вопрос любой философии, и в этом он солидарен с Бер­ дяевым, Шестов видит в том, как возможна свобода. Но умозритель­ ная философия всегда стремилась понять свободу. А разум, изначаль­ но сориентированный на поиск общего и неизменного, предлагал относиться к свободе как к выбору в пределах действия необходимо­ сти. В низведении свободы к необходимости, согласно Шестову, со­ стоит порок всей классической философии, начало которой он видит в учении Сократа, и даже ранее — в учении Анаксимандра. Бердяев, по убеждению Шестова, находится в пределах мыслительной тради­ ции от Сократа до Гегеля. А это значит, что его знание о свободе не­ истинно, а его экзистенциальная философия неподлинна, поскольку даже не доходит до существа дела. Подлинно экзистенциальный смысл появляется в философии лишь там, считает Шестов, где речь идет о свободе как преодолении необходимости. А ее высшее и адекватное выражение — превращение бывшего в небывшее, то есть изменение прошлого. Таким образом, воз­ никает реальность, которая невозможна с точки зрения разума и зем­ ных законов. И экзистенциальная философия не познает, а способст­ вует этой реальной свободе. Шестов Л. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия. С. 403. 364 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Шестов много раз повторяет слова Киркегора об его отказе от спе­ кулятивного философа Гегеля в пользу «частного мыслителя» Иова, о котором у Киркегора речь впервые заходит в «Повторении». Тема «повторения», согласно Шестову, как раз и является темой чудесного возвращения безвозвратно утраченного. Но при этом он задает новый угол зрения, который объединяет его и Киркегора во взгляде на биб­ лейского Иова. В 1933—1934 годах Шестов пишет большую работу «Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)». И уже само название свидетельствует о том, что Иов здесь отнюдь не обра­ зец смирения и покорности Богу. «Глас вопиющего в пустыне» — это дикие вопли отчаяния, которые издает Иов, сидя на пепле и скребя черепками струпья на своем теле, в ответ на аргументы друзей, объ­ ясняющих ему закономерность божьей кары. «Друзья Иова в речах, обращенных к валявшемуся на навозе замученному старцу, оказыва­ ются не менее просвещенными, чем греческие философы, — пишет Шестов в указанной книге. — Если формулировать кратко их длин­ ные речи, все сведется к тому, что говорил обыкновенно Сократ, или, если довериться Эпиктету, что сказал Зевс Хризиппу: раз нель­ зя преодолеть, стало быть — и людям, и богам — должно принять. И наоборот, если захотеть в коротких словах передать ответ Иова друзьям, — то получается, что на свете нет такой силы, которая при­ нудила бы его «принять» то, что с ним произошло, как должное и окончательное»1. Шестов уверен, что благодаря «новому зрению» ему с Киркегором открылся изначальный смысл библейской веры. Суть любой веры — безотчетная преданность, несовместимая с корыстью и расчетом. И в поведении Иова, каким его изображает Шестов, нет ни фана расчета. Но уверенный в своей невиновности Иов пребывает у Шестова не в смирении, а в отчаянии. Он не покорно терпит, а отчаянно сопротив­ ляется постигшей его участи. И таким образом вера Иова в трактовке Шестова из смиренной и терпеливой преданности превращается в требовательный протест. Обратим внимание на то, что из состояния ужаса и отчаяния, в котором пребывает Иов у Шестова, вырастает протест, неотделимый от жажды «повторения». В отличие от Киркегора Шестов всегда вы­ ражался эмоционально, но предельно ясно. И в криках вопиющего в 1 С. 45. Шестов А. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). 365 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... пустыне Шестову слышится не только отчаянная вера в Бога, но и отчаянная уверенность в себе. «Иов говорит: если бы мою скорбь и мои страдания положили на весы, то они были бы тяжелее песка мор­ ского. Даже Киргегард не решается повторить эти слова. Что сказал бы Сократ, если бы ему довелось такое услышать? Может ли «мысля­ щий» человек так говорить?»1 Шестов уверен в том, что крайние страдания освобождают чело­ века от власти разума, морали и культуры в целом. Он часто использу­ ет выражение Киркегора о «выпадении из общего». «Общее» — это в трактовке Шестова как раз те законы логики и морали, из которых исходят друзья Иова, требуя от него признания своей вины. Но ужасы жизни уже вырвали Иова из общества. Он остался один на один со своей болью и богом. И только его отчаянный эгоизм может обер­ нуться «повторением». Крики вопиющего в пустыне — это никак не голос смиренного Иова. Те, кто читал ранние работы Шестова, без труда услышат в этих воплях голос «подпольного человека». Но вера Иова, как и со­ стояние «подпольного человека» — полная загадка без Ницше, твор­ чество которого отразило глубинные процессы в культуре XIX и XX веков. Здесь стоит опять вспомнить статью Шестова, в которой он указал на главные авторитеты и вехи своей философской биографии. В этом перечне нет не только Ницше, но и Киркегора. Но если Киркегор, по словам В. Ерофеева, оказался своеобразным двойником Шестова, то «встреча с Ницше была встречей ученика с учителем»2.0 значении этих двух фигур для творчества Шестова можно судить и по его собствен­ ным замечаниям. Так, в 1929 году Шестов пишет, что «Ницше много значительнее, чем Киргегард», и это несмотря на очень высокие оцен­ ки в отношении его со стороны немцев3. Этим подтверждается то фун­ даментальное воздействие, которое оказало на Шестова ницшеанство. Но чтобы не оставаться на уровне деклараций, уточним процесс транс­ формации взглядов Шестова под влиянием Ницше. Трагизм человеческой жизни — исходный пункт и главный мотив всего творчества Льва Шестова. Уже в начале своей творческой био1 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). С 44. 2 Ерофеев В. Одна, но пламенная страсть Льва Шестова. С. 34. ' См.: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пу­ стыне). С. 240. 366 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии графии Шестов заявляет о непримиримом отношении к жизни, ко­ торая наполнена «ужасами» и в которой бесконечно нафомождаются страдания. Молодого литератора Шестова преследует образ кирпича, который «сорвался с домового карниза, падает на землю — и уродует человека»1. В этом образе — зависимость судьбы человека от нелепого случая. Причем если одни воспринимают власть случая над челове­ ком со смиренным отчаянием, другие — с тихим недоумением, то Шестов непримирим. «...Со случаем жить нельзя», — пишет он в са­ мой первой книге, посвященной Шекспиру2. Но если случай преодолеть нельзя, то он должен быть оправдан. Именно этим занимается Шестов в книге «Шекспир и его критик Брандес». Трагедии Шекспира помогают Шестову понять смысл и значение человеческого страдания в мировом устройстве. Как для молодого принца датского Гамлета, так и для 80-летнего короля Лира, считает он, страдания стали очищающей силой. До появления призрака отца Гамлет, согласно Шестову, не обладал какими-либо нравственными достоинствами. То же самое он говорит о короле Лире, который до всех напастей любил охотиться, грозно всех окри­ кивал и гнал от себя лучших людей. И только в результате трагиче­ ских событий Лир приходит к осознанию того, что искренняя лю­ бовь Корделии выше всех прежних радостей. Сравнив состояние духа у героев Шекспира до и после трагедии, Шестов делает вывод о возвышающей силе страданий. «В «Короле Лире», — отмечает Ше­ стов, — Шекспир возвещает великий закон осмысленности явлений нравственного мира: случая нет, если трагедия Лира не оказалась случаем»3. Взгляды Шестова уже здесь являются «философией трагедии». В центре его внимания — страдания и ужасы жизни. Но в их оценке Шестов пока еще находится в фаницах классической философии и культуры. Обращаясь к Шекспиру, Шестов пытается выстроить не­ кую космодицею, суть которой в том, что трагический случай, способ­ ствующий возвышению личности, уже не является случаем. Понятно, что этим не оправдать всех трагедий, происходящих с людьми. И потому торжество Шестова по поводу победы над случаем здесь, конечно, преждевременно. Тем не менее эта ранняя работа очень интересна для реконструкции его философской биофафии. 1 Шестов А. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1911. Т. 1. С. 14. Там же. С. 283. ' Там же. С. 245. 2 367 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Ведь в работе «Шекспир и его критик Брандес» Шестов еще близок к стоикам с их известным тезисом об оправданности страданий челове­ ка космической гармонией. У страданий существует высший нравст­ венный смысл! Но от этого пафоса не остается и следа в двух следую­ щих работах Шестова, впервые подписанных известным нам псевдо­ нимом. И такого рода перелом мог произойти только под влиянием Ф. Ницше. Вспомним, что своим вторым учителем Шестов признал И. Кан­ та. Но в работах «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Филосо­ фия и проповедь)» и «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)», после которых Шестов стал широко известен, нет ничего кантиан­ ского. Наоборот, в этих произведениях Шестов порывает с классиче­ ской традицией, связанной с именами Платона, Спинозы, Канта и Гегеля. Кант — дуалист, и в своем учении исходит из противостояния мира в качестве непознаваемого ноумена трансцендентальному субъ­ екту. Но при этом законы разума и нормы морали, как и культура в целом, у Канта находятся на стороне субъекта. Главная проблема кан­ тианства — откуда происходит объективная сторона субъективных действий человека. Вывод Канта в том, что все законы, правила и идеалы, которыми руководствуется человек, априорны, то есть доопытны, а значит, врождены каждому из нас. Признать любой закон, принцип и идеал враждебной силой — как раз и значит выйти за пределы философской классики. У Канта зако­ ны логики неотделимы от процесса познания, а моральные нормы от свободных поступков человека. Что касается Шестова, то уже в 1897 году он начинает свой поход против идеалов Истины и Добра как наиболее ярких выразителей «общего», противостоящего отдельному человеку. Поначалу Шестов искал средство, способное примирить страдаю­ щего индивида с миром. В работе «Шекспир и его критик Брандес» этим средством оказалась нравственность. И в подобном решении многие усмотрели влияние Л. Толстого. Но после встречи с Ницше нравственные добродетели, как и сам Толстой, становятся главными оппонентами Шестова. Самые сильные страницы в указанных рабо­ тах Шестова, как и у самого Ницше, связаны с критикой лицемерной морали сострадания, сводящегося к проповедям и бессильным сло­ вам. «Сострадать человеку, — пишет Шестов, — значит признать, что больше ему ничем нельзя помочь. Но отчего не сказать этого откры­ то, отчего не повторить вслед за Ницше: у безнадежно больного не 368 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии должно желать быть врачом? Ради каких целей утаивается истина? Для Ницше ясно, что «добрые» сострадают несчастным лишь затем, чтобы не думать об их судьбе, чтоб не искать, чтоб не бороться...»1 Шестов подчеркивает, что добро — это синоним человеческого бессилия. И его назначение в том, чтобы дать опору для жизни по­ средственному человеку. Проповедь сострадания, считает Шестов, оберегает людей от серьезных переживаний. Сострадание — это сур­ рогат страдания. А философский идеализм выступает союзником этики сострадания, предлагая вместо решения реальных проблем свои метафизические построения. «Априорный человек» Канта — это посредственность, для удобства которой создаются философские тео­ рии о категорическом императиве и о Боге как Абсолютном Добре. В работе о Толстом и Ницше Шестов так характеризует учение ве­ ликого идеалиста Канта: «Пред ним стояло неоконченное здание ме­ тафизики, и его задача состояла лишь в том, чтоб, не изменяя раз за­ думанного и наполовину выполненного плана, докончить начатое. И явились категорический императив, постулат свободы воли и т. д. Все эти роковые для нас вопросы имели для Канта лишь значение строительного материала. У него были незаделанные места в здании, а ему нужны были метафизические затычки: он не задумывался над тем, насколько то или иное решение близко к действительности, а смотрел лишь, в каком соответствии находится оно с критикой чи­ стого разума — подтверждает ли оно ее или нарушает архитектониче­ скую гармонию логического построения»2. Эта большая цитата приведена нами для того, чтобы стало видно, как яркий образ и литературный прием на каждом шагу заменяет Шестову серьезную аргументацию. Но в этом заключена не просто слабость, а урок, усвоенный им у учителя Ф. Ницше. Логике оба осоз­ нанно противопоставляют художественный образ, способный пробу­ дить переживание. В этом своеобразие «философии трагедии», в про­ тивоположность метафизике и умозрительной философии вообще. Что касается религиозной позиции Шестова, то в этот период он еще не противопоставляет христианской проповеди веру, рожденную отчаянием одиночки. Рассуждая о бесплодности морали сострада­ ния, Шестов, по сути, оставляет страдающего индивида один на один 1 Достоевский и Ницше (Философия трагедии)// ШестовΛ. Избранные произведения. М., 1993. С. 312. 2 Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь) / / Шестов Л. Избранные произведения. М., 1993. С. 71. 369 J Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... со своими муками. Более того, критика лицемерной морали означает у него констатацию того, что человек может полагаться только на са­ мого себя. С одной стороны, мир с его лицемерной религиозностью и моралью, а с другой — страдающий индивид. Вслед за Ницше Шестов становится на позиции крайнего индивидуализма. Протест против ли­ цемерной морали у того и другого оборачивается протестом против морали вообще, а борьба с несправедливым миром оказывается борь­ бой против самой справедливости. Действенная мораль, по убеждению Ницше и Шестова, просто невозможна. А значит, имеет смысл лишь борьба за самого себя. И для этого необходимо покинуть тесные рамки культуры. Жизненная пер­ спектива, как и истинная свобода, возможна лишь на пути противо­ стояния традиционной западной морали и религиозности, миру куль­ туры в целом. Иначе говоря, нужно оказаться «по ту сторону добра и зла». Обратим внимание на то, что жизненные перспективы страдаю­ щего индивида Шестов здесь не связывает со спасением души в его традиционно-христианском духе. Весь пафос Шестова — в доказа­ тельстве того, что страдающий индивид выпадает из известной нам системы координат, а поэтому имеет право на крайние формы эгоиз­ ма. В этом свете он и разбирает творчество графа Льва Толстого, про­ тивопоставляя ему творчество Ф. Достоевского. «Все действующие лица «Анны Карениной», — пишет Шестов в работе «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и про­ поведь)», — разделены на две категории. Одни следуют правилу, пра­ вилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимо­ сти своих действий, подпадают более или менее жестокому наказанию»1. Согласно Шестову, если бы Анна смогла пережить по­ зор и отстояла свое право на счастье, то у графа Толстого исчезла бы точка опоры и духовное равновесие. Перед Толстым была альтернати­ ва: Анна или он сам. И великий писатель пожертвовал счастьем от­ дельного человека, считает Шестов, во имя правила и закона. «Гр. Тол­ стой отлично чувствует, — подчеркивает он, — что это за муж для Анны — Каренин; как никто, он описывает весь ужас положения да­ ровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами бра­ ка к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательныДобро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 50-51. 370 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ми, священными, ибо в существовании обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии»1. По сути дела, Толстой жизненному эгоизму противопоставляет самоотречение. Но таким образом, утверждает Шестов, он совершает насилие над самим собой. Все свои великие произведения, считает он, Толстой писал не для других, а для себя. «Вся та огромная внут­ ренняя работа, которая понадобилась для создания «Анны Карени­ ной» или «Войны и мира», была вызвана назревшей до крайней сте­ пени потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и найти для себя — хоть на время — проч­ ную основу»2. Те сомнения, от которых пытается освободиться Тол­ стой, убивая Анну Каренину, вызваны идущим из глубины стремле­ нием жить в соответствии со своими личными желаниями и потреб­ ностями, а не согласно требованиям закона и предписаниям морали. В «Анне Карениной» неестественные, фальшивые нормы куль­ туры пытаются одержать победу над живой жизнью. Но их власть над человеком, замечает Шестов, даже в этом романе Толстого отно­ сительна. Тем более это касается романа «Война и мир». Анализируя эпилог «Войны и мира», Шестов пишет: «Здоровый инстинкт дол­ жен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись уче­ нием о долге и добродетели, проглядит жизнь, не отстоит вовремя своих прав, тот «пустоцвет». Таков вывод, сделанный графом Тол­ стым из того опыта, который был у него в эпоху создания «Войны и мира». В этом произведении, в котором автор подводит итог своей 40-летней жизни, добродетель an sich, чистое служение долгу, по­ корность судьбе, неумение постоять за себя — прямо вменяются че­ ловеку в вину»3. Приведенный нами вывод Шестов делает на основе разговора Наташи Ростовой и княжны Марьи, в котором идет речь о Соне. «Соня — пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, — пишет Шестов, — несмотря на то, что она вся — преданность, вся — самоот­ вержение. Эти качества в глазах гр. Толстого не качества, ради них — не стоит жить; кто ими обладает — тот лишь похож на человека, но не человек»4. И далее Шестов отмечает: «Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной, произносится приговор, — над первой за то, 1 2 ' 4 Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 50. Там же. С. 54. Там же. С. 52. Там же. 371 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... что она не преступила правила, над второй — зато, что она преступи­ ла правило»1. Приведенные рассуждения и оценки Шестова очень важны для прояснения его позиции. Обратим внимание на то, что Соня из «Вой­ ны и мира», по словам Шестова, «лишь похожа на человека, но не че­ ловек». Другое дело — Наташа Ростова и княжна Марья, которые могут умиляться повествованиям странников и нищих, могут читать священ­ ные книги, но для них добродетель — лишь внешняя сторона или, как выражается Шестов, «поэзия существования». Они стараются «быть хорошими», но по сути своей не таковы. В решительную минуту обе героини романа, как считает Шестов, умеют «взять от жизни счастье». И именно этот жизненный эгоизм делает каждую из них человеком, в отличие от Сони, искренне следующей добродетели. Итак, эпилог «Войны и мира», если согласиться с Шестовым, до­ казывает, что жизнь в соответствии с моральным законом не может быть настоящей жизнью. Мораль не органична человеческой сути. Настоящий человек лишь надевает маску добродетели, в отличие от сострадательных выродков, вроде толстовской Сони. Но позвольте, где же те ужасы и неимоверные страдания, которые вытолкнули Наташу и княжну Марью за пределы морали? О них в данном случае не говорится ни слова. Наоборот, у Шестова в отноше­ нии Наташи речь идет о «здоровом инстинкте», а не о болезненном поиске выхода из тупика. Означает ли это, что «по ту сторону добра и зла» человек не оказывается в результате страданий, а изначально на­ ходится в силу здорового инстинкта? Вспомним, что философия Шестова— это «философия траге­ дии». И право преступить закон Анна Каренина обрела в результате страданий, переносимых ею в браке с Карениным. Но образ Наташи Ростовой обнажает другой, скрытый смысл «философии трагедии» Шестова. Сопоставляя образы Карениной и Ростовой, Шестов, по сути, впервые заявляет, что противостояние Добру и Истине изна­ чально присуще человеку. Впоследствии Шестов уделит множество страниц объяснению того, как страдания Ницше спровоцировали его отказ от морали и мира культуры в целом. И несмотря на это, образ человека у Шестова двоится. Эгоизм то присущ ему изначально, то является результатом неимоверных страданий. Аналогичная двойст­ венность — в его понимании сути человеческого существования, ко1 Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 52. 372 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии торое то с самого начала болезненно трагично, то в нем, наоборот, изначально царствует здоровая стихия жизни. И надо сказать, что анализ творчества Достоевского не уменьшает, а усиливает эту двой­ ственность позиции Льва Шестова. Сравнивая Толстого с Достоевским, Шестов сопоставляет два взгляда на свободу. Для Толстого в его зрелые годы истинно классиче­ ское понимание свободы связано с ограничением себя в пользу дру­ гого, будь то человек, народ или Бог. И в этом, по его представлениям, смысл подлинной религиозности и морали. Иной вектор, согласно Шестову, был в духовной эволюции Достоевского. Опыт каторги, считает он, помог Достоевскому открыть противоположный смысл свободы. В обстоятельствах тюрьмы, каторги, когда человек опуска­ ется в «последние глубины», ему открывается, что свобода — не само­ отречение, а произвол. А в самоотречении — смерть свободы. Толстой и Ницше были антиподами, но оба видели в Достоевском великого учителя человечества. При этом, как считает Шестов, высо­ ко ценили противоположные моменты его творчества. «Ницше близ­ ки были подпольные рассуждения первой части «Преступления и на­ казания», — пишет Шестов. — Он сам, с тех пор как заболел безна­ дежно, мог видеть мир и людей только из своего подполья и размышлениями о силе заменять настоящую силу. Он простил охотно Достоевскому вторую часть — наказание за первую — преступление. Гр. Толстой — обратно: за вторую часть — простил первую»1. Поворотный момент в духовной биографии Достоевского Шестов относит к моменту создания «Записок из подполья». Но прежде, чем говорить о феномене «подпольного человека», уточним важный пункт во взглядах Шестова, связанный с amor fati, что означает «лю­ бовь к необходимости». Завершая книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)», он пишет об отношении Ницше к жизненной стихии, которую нет смысла ненавидеть и тем более обличать. «Нужно выбирать между ролью «нравственного» об­ личителя, имеющего против себя весь мир, всю жизнь, — отмечает Шестов, — и любовью к судьбе, к необходимости, т. е. к жизни, какой она является на самом деле, какой она была от века, какой она будет всегда. И Ницше не может колебаться. Он оставляет бессильные меч­ тания, чтобы перейти на сторону своего прежнего врага — жизни, права которой он чувствует законными»2. ' Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 80. Там же. С. 146. 2 373 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Напомним, что и для самого Шестова, когда тот писал «Шекспир и его критик Брандес», природа, с ее случайностями и закономерно­ стями, была самым страшным врагом. Но в книге о Толстом и Ницше он примиряется с природой, оставаясь врагом культуры. Шестов со­ гласен с тем, что Соня — пустоцвет, поскольку живет согласно искус­ ственным нормам морали. В противоположность ей Наташа и княж­ на Марья живут полноценной естественной жизнью. Ведь они руко­ водствуются эгоистическими целями, отгораживаясь от чужого горя общей фразой и маской сострадания. И такая «философия обыденно­ сти» представляет собой неявную предпосылку «философии траге­ дии» Шестова. Но все дело в том, что с природной точки зрения наши страдания и не страдания вовсе. Ведь если один в жизненной борьбе победил, а дру­ гой оказался повержен, то его муки соответствуют естественному ходу событий. И в этом смысле они равноценны тихим радостям Наташи Ростовой. «Мир — сам по себе, человек сам по себе, как случайно вы­ брошенная на поверхность океана щепка, — пишет Шестов. — Нет та­ кой высшей силы, нет связи между движением вод океана и нуждами этой щепки. И если сама природа так мало заботится о том, чтобы ох­ ранять от погибели и крушения свои творения, если смерть, разруше­ ние, уничтожение оказываются безразличными явлениями в массе других безразличных явлений, если — более того — сама природа поль­ зуется для своих целей убийством и разрушением, то что дает нам право возводить в закон «добро», т. е. отрицание насилия?»1 Почему систематически практикуемую природой жестокость, спрашивает Шестов, мы в отношении человека воспринимаем как противоестественную и незаконную? «Грому — можно убивать, а че­ ловеку — нельзя, — продолжает он. — Засухе можно обрекать на го­ лод огромный край, а человека мы называем безбожным, если он не подаст хлеба голодному! Должно ли быть такое противоречие? Не яв­ ляется ли оно доказательством, что мы, поклоняясь противному при­ роде закону, идем по ложному пути и что в этом — тайна бессилия «добра», что добродетелям так и полагается ходить в лохмотьях, ибо они служат жалкому и бесполезному делу?»2 Но тогда, вслед за Ницше, «возлюбив» природную необходи­ мость, Шестов должен, последовательности ради, отказаться от са­ мих понятий «страдание» и «отчаяние», «добро» и «зло». И глав1 2 Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 147. Там же. 374 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ное — он должен отказаться от своей «философии трагедии», в кото­ рой задана классическая система координат и оценок. Он должен отказаться от «философии трагедии», в которой уже присутствует идеал в качестве точки отсчета, в пользу той самой «философии обыденности», «философии обыденной жизни», где нет места ни идеалам, ни идеальному. Однако Шестов этого не делает. И тем са­ мым более последовательному Фридриху Ницше он предпочитает непоследовательного Артура Шопенгауэра, у которого место Бога впервые заняла животная жажда самоутверждения. Но в своей «фи­ лософии жизни» Шопенгауэр так и не смог избавиться от мораль­ ной системы координат, от осуждения страдания, от «вселенского пессимизма» и потому придумал в борьбе с пессимизмом грандиоз­ ный проект самоубийства Мировой Воли. Осознание трагичности человеческой жизни, как мы видим, про­ тиворечит amor fati и представлению о человеке как естественной ча­ сти природы. Но противоречивость в воззрениях Шестова нарастает, когда он переходит к феномену «подпольного человека», который из опыта «униженного и оскорбленного» сделал самые крайние выводы. Шестов отмечает, что, осознав ложь жизни в соответствии с идеалами «высокого» и «прекрасного», этот человек пришел в ужас и нашел силы порвать с собственным прошлым. И Шестов, вслед за Достоев­ ским, предлагает нам выслушать этого уединенного человека. «Нуж­ но выслушать человека таким, каков он есть, — пишет он. — Отпу­ стим ему заранее все его грехи — пусть лишь говорит правду. Может быть — кто знает? — может быть, в этой правде, столь отвратительной на первый взгляд, есть нечто много лучшее, чем прелесть самой пыш­ ной лжи?»1 Правда, которую сообщает нам о себе «подпольный человек», и вправду отвратительна. Эта исповедь мизантропа, и даже более того. Обращаясь к Лизе, он произносит фразу, которая теперь широко из­ вестна: «Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить». И это означает эгоцентризм, дальше которого уже идти просто неку­ да. Ведь «подпольный человек» противопоставляет себя не только культуре, но и природе. «Законы природы», по замечанию «подполь­ ного человека», постоянно и больше всего обижали его. А потому он отрекается от мира, от всего мироздания. Но важно понять, что при этом остается на стороне индивида? Достоевский и Ницше (Философия трагедии). С. 199. 375 I Глава шестая, русская философия о душе и идеале... Эгоцентризм доводит мысль о человеке как мере всех вещей до ее логического предела. Человеческое Я здесь мера самого себя, и никто и ничто ему в этом не указ. Характерно, что такая позиция получает многообразные обоснования именно в XIX веке. Это время становле­ ния психологии и психопатологии, после чего наступает их бурное развитие. У нас уже шла речь о книге историка культуры Л.М. Баткина о ста­ новлении творческой индивидуальности в эпоху Возрождения, где он отмечает, что именно в XIX веке жизнь и смерть человека начинает потрясать не своей повторяемостью, а уникальностью. Но у осозна­ ния неповторимости человеческого Я есть свои грани. И поначалу, замечает Баткин, единственность и неповторимость Я позволительна лишь «гению» или «демону», что демонстрирует вся романтическая поэзия, и лермонтовский «Демон» в частности. Но проходит время и, достигая зенита, идея уникальности личности обнаруживает другую сторону. «А может быть, любое Я — вселенная?» — цитирует Баткин писателя Ю. Олешу1. И по сути, обозначает те рамки и то направле­ ние, в котором движется Достоевский, исследуя этот феномен. Родион Раскольников решается на убийство, чтобы проверить, а точнее подтвердить, свою исключительность. Ведь как раз романти­ ческая исключительность, или, другими словами, неординарность, возвышает его над общим правилом. В противоположность ему «под­ польный человек» ординарен. И по причине своей обыкновенности противопоставляет правилам и всему миру не гордыню, а бытовую потребность. Протест здесь соответствует масштабам личности. И в центре пустой «вселенной», именуемой «подпольным человеком», стоит стакан горячего чаю. Подчеркнем, что в книге о Достоевском и Ницше Шестов заявля­ ет об эгоистической природе человека более определенно, чем в кни­ ге о Ницше и Толстом. Все герои трагедий, о которых повествует До­ стоевский, по убеждению Шестова, — «эгоисты». И каждый из них по поводу своего несчастья зовет к ответу мироздание. Ведь не только «подпольный человек», но и Иван Карамазов в последнем романе До­ стоевского прямо заявляет: «Я мира не принимаю». Иван Карамазов, как и его отец, «эгоист до мозга костей». И потому, хотя и получил серьезное образование, не желает, пишет Шестов, поступиться своей личностью, растворяя ее в природе или высшей идее. См.: Достоевский и Ницше (Философия трагедии). С. 25-26. 376 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии В каждом герое Достоевского, отмечает Шестов, живет «подполь­ ный человек». «Соответственно этому все безобразное, отвратитель­ ное, трудное, мучительное, словом, все проблематичное в жизни на­ ходит себе страстного и талантливейшего выразителя в Достоевском»1. Но в этом всего лишь часть правды, потому что «подпольный чело­ век», как подчеркивает Шестов уже в разговоре о Ницше, таится в каждом из нас. Ссылаясь на произведение Ницше «Человеческое, слишком человеческое», он сравнивает эгоизм со «змеиным жалом», которое существует всегда, но заявляет о себе лишь в определенных обстоятельствах. Пока обстоятельства складывались благоприятно, пишет Шестов, мог ли кто-нибудь заподозрить в кротком и мягком профессоре Фридрихе Ницше «змеиное жало» — «ту крайнюю форму эгоизма, которая привела подпольного человека к дилемме: сущест­ вовать ли миру или пить чай ему, подпольному герою?»2 И могли ктонибудь, глядя на его преданное служение науке и искусству, продол­ жает Шестов, предположить, что наступит момент, «когда волею су­ деб пред Ницше предстанет уже не теоретически, а практически вопрос — что сохранить, воспетые ли им чудеса человеческой культу­ ры или его одинокую случайную жизнь...»3. В выраженной здесь антитезе личность вновь противопоставлена культуре. Но как раз масштаб личности Ницше позволяет взглянуть на его трагедию с другой стороны. Неповторимая личность профессо­ ра Ницше — порождение не природы, а культуры XIX века. И именно в ней — культуре XIX века — причина того, что, попав в беду, Ницше не нашел в ней для себя опоры. На разгадку этой тайны указывает сам Ницше. В предисловии к статье о Вагнере он пишет о самом себе: «Я, так же, как и Вагнер, сын нашего времени, decadent. Только я понял это и боролся с этим, философ во мне боролся с этим»4. Декадентство, как известно, — упадок. Ценой упадка в одном че­ ловечество до сих пор достигало прорыва в другом. И этот закон «пре­ дыстории» человечества заявил о себе уже в Древней Греции, где рас­ цвет духовной культуры совпал с кризисом полисной организации. Что касается личности как неповторимого Я, то уже во времена Ниц­ ше эта идея превратилась в позу и в таком виде стала атрибутом совре­ менной культуры. Ницше был воспитан на классической культуре. 1 Достоевский и Ницше (Философия трагедии). С. 252-253. Там же. С. 273. ' Там же. 4 См. там же. С. 121. 2 377 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Но даже она в ситуации, именуемой «отчуждением», начинает отго­ раживать людей друг от друга. Превратившись из формы общения в способ разделения людей, культура умирает, приходит в упадок, т. е. становится той позой и внешней манерой, которую отвергает Ницше. И он отрицает декадентскую культуру тем сильнее, чем отчаяннее ну­ ждается в общении и содействии со стороны других людей. К сожалению, Ницше нашел чисто декадентский выход из своей трагической ситуации. Он был декадентом, и им остался. Его протест против кризиса культуры — это отражение, а не преодоление сущест­ вующего положения дел. Ведь Сверхчеловек — это декадентская па­ родия на неповторимое человеческое Я, где суррогатом его идеально­ го содержания является сугубо телесная мощь и телесное здоровье. И общение с себе подобными здесь низведено до той мизантропии и жажды самоутверждения за счет другого, которая встречается на ка­ ждом шагу в отчужденной культуре до и после Ницше. Но характерно, что ту ненависть к культуре, которая рождается у Ницше в болезненной борьбе с самим собой, Лев Шестов принимает за чистую монету. И хотя ему свойственны углубленные экскурсы в историю вопроса, везде он видит то, что хочет видеть. А потому куль­ турно-историческому объяснению феномена Ницше Шестов после­ довательно противопоставляет объяснение антропологическое. Точ­ нее говоря, никакого другого объяснения ницшеанства для него про­ сто не существует. В раскулыуривании человека — основной пафос «философии трагедии» Шестова. И он сохраняется там, где в книге о Достоевском и Ницше начинают прорисовываться контуры следую­ щего этапа его эволюции — «философии абсурда». В конце книги о Толстом и Ницше, Шестов, как мы помним, уточняет понятие «любви к необходимости». И приводит в связи с этим дневниковую запись Ницше за 1888 год: «Моя формула челове­ ческого величия заключается в словах amor fati: не желать изменять ни одного факта в прошедшем, в будущем, вечно...»1 Именно здесь, в этом пункте, и начинается расхождение Шестова с Ницше, который не желает менять однажды происшедшего. В противоположность ему, уже в работе о Достоевском и Ницше, Шестов заводит разговор о превращении бывшего в небывшее, т. е. об упразднении силой чуда трагических обстоятельств. И на долгие годы это становится его «идеей фикс». Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь). С. 145-146. 378 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Данная тема в работе «Достоевский и Ницше (Философия траге­ дии)» еще звучит в полголоса. Так, Раскольников, по убеждению Шестова, ищет надежду лишь в сказании о воскресении Лазаря, иг­ норируя и Нагорную проповедь, и притчу о фарисее и мытаре, — все то, что перенесено из Евангелия в современную этику. Уже на катор­ ге, утверждает Шестов, Раскольникова волнует лишь воскресение Ла­ заря, знаменующее великую силу творящего чудеса. И еще загадоч­ ные слова: «претерпевший до конца спасется»1. Но тема чуда приобретает свойственное только ему, Шестову, зву­ чание, когда он акцентирует внимание на словах из Евангелия: «бла­ женны нищие духом». Здесь намечаются контуры той мистической морали, которая была предложена им впоследствии. «Раскольников судил правильно, — пишет Шестов, — точно существуют две морали, одна для обыкновенных, другая для необыкновенных людей, или, употребляя более резкую, но зато более выразительную терминоло­ гию Ницше — мораль рабов и мораль господ»2. Но господином чело­ века делает, подчеркивает Шестов, не характер, а ситуация, в которой просыпается присущая каждому жажда жизни — эгоизм. И именно это «возвышающее свойство» превращает раба в господина. Шестов определяет эгоизм именно так — «возвышающее свойст­ во». «Это значит, — пишет он, оканчивая работу о Ницше и Достоев­ ском, — что Ницше, решается видеть в своем «эгоизме», который он когда-то называл «змеиным жалом» и которого так боялся, уже не по­ зорящее, а возвышающее свойство»3. Таким образом, именно эгоизм превращает «подпольного человека» из посредственности в «высшую натуру». Более того, в мистической морали он становится той огром­ ной силой, которая способна творить чудеса. Вот что пишет Шестов об области новой морали: «Сколько ни хлопочи Кант и Милль, здесь — подпольные люди в этом уже перестали сомневаться — их царство, царство каприза, неопределенности и бесконечного множе­ ства совершенно неизведанных, новых возможностей. Здесь совер­ шаются чудеса воочию: здесь то, что было силой, сегодня становится бессилием, здесь тот, кто вчера еще был первым, сегодня становится последним, здесь горы сдвигаются, здесь пред каторжниками склоня­ ются «святые», здесь гений уступает посредственности...»4 1 См.: Достоевский и Ницше (Философия трагедии). С. 244-245. Там же. С. 307. ' См. там же. С. 318. 4 См. там же. С. 305-306. 2 379 I Глава шестая, русская философия о душе и идеале... Итак, уже в «философии трагедии» Шестова заложены основы его «философии абсурда». А в «подпольном человеке» проглядывают чер­ ты «вопиющего в пустыне», который и вправду добился «повторе­ ния». Иов Шестова остался один на один с Богом. И его вера достигла цели. Но остается не ясно, была преодолена необходимость силой Бога или эгоистической силой человека? И почему Бог ответил Иову, если стихия Бога, как утверждает Шестов, — это стихия божественно­ го каприза! Именно жажду жизни и самоутверждения Шестов кладет в основу библейской веры. И она же предстает у него в роли Божьей воли. Эго­ истическая свобода человека, утверждает Шестов еще в книге о До­ стоевском и Ницше, близка божественной стихии. А мир, подчинен­ ный законам, по его убеждению и так же, как у гностиков, — резуль­ тат грехопадения, т. е. дьявольское создание. Как мы видим, тема Бога и его присутствия в мире находится на периферии первых работ Шестова, лейтмотив которых— учение Ницше. Взгляды Шестова органичны «философии жизни». А разго­ вор о Боге возникает там, где Шестов хочет сказать: атеист Ницше ближе Всевышнему, чем лицемерные проповедники добра и состра­ дания. Вера для Шестова в эти годы — желаемое, а не действитель­ ное. О ней он говорит как о благодати, посещающей в наши дни не­ многих. И в свете этих надежд и поисков особый смысл обретают от­ дельные высказывания и намеки Льва Шестова. Так, в разговоре о своем «предтече» Достоевском Шестов говорит о Н. Михайловском, который почувствовал в великом русском писа­ теле «"жестокого" человека», сторонника темной силы, искони счи­ тавшейся всеми враждебной»1. Шестов не называет Сатану по имени, но уточняет, что Михайловский не угадал всей опасности этого врага. «Не мог он думать двадцать лет тому назад, — пишет Шестов, имея в виду ницшеанство, — что подпольным идеям суждено вскоре возро­ диться вновь и предъявить свои права не робко и боязливо, не под прикрытием привычных, примиряющих шаблонных фраз, а смело и свободно, в предчувствии несомненной победы»2. Не нам судить, кто — Бог или Сатана — победил в конце концов в сердце Шестова, определив его трактовку библейской веры. Но ясно то, что такая вера была и есть — антипод любых идеалов. У этой «веры», несмотря на все симпатии к Шестову со стороны протоиерея 1 2 См.: Достоевский и Ницше (Философия трагедии). С. 243. См. там же. 380 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Зеньковского, нет ничего общего ни с православной соборностью, ни с библейским смирением. Но главное, что Бог Шестова, признаю­ щий только веру «нищих духом», сам не есть Дух. Более того, Бог у Шестова не имеет отношения к вечности. И здесь Шестов, безуслов­ но, превосходит своего единомышленника Киркегора. В статье «Лев Шестов и Киркегор» Николай Бердяев замечает, что Шестов — враг вечности, поскольку она от змия. «Ну а как же быть с вечной жизнью конкретных живых существ, — задается он вопро­ сом, — вечной жизнью Иова, Сократа, несчастного Ницше, и не­ счастного Киркегора, и самого Л. Шестова?»1 При отсутствии вечно­ сти смыслом действий Бога становится исполнение человеческих желаний, преодоление земных несчастий, и не более. «Бог есть воз­ вращение любимого сына Исаака Аврааму, — пишет Бердяев, — во­ лов и детей Иову, возвращение здоровья Ницше, Регины Олсен Киркегору. Бог есть то, что бедный юноша, мечтавший о принцессе, по­ лучил принцессу, чтобы подпольный человек «пил чай»...»2. И тогда мы в порочном круге. Бесконечные возможности Бога служат лишь тому, чтобы разрешать конечные проблемы земной жизни. При этом ему неподвластно самое ужасное несчастье человека — смерть, кото­ рой оканчивается любая жизнь... Бердяеву ясно, что такого рода парадоксы возникают из несовме­ стимости Библии с ницшеанством, из невозможности дать библей­ скую транскрипцию «философии жизни». Заметим, что, стремясь к обновлению христианства, Бердяев попадает в ту же ловушку. Его учение — это иная попытка соединить ницшеанство с христианст­ вом. Потому-то Бердяев и Шестов так хорошо подмечали недостатки друг друга. Согласимся с Бердяевым и в том, что из Библии Шестов всегда брал то, что было нужно для его темы. «Он не библейский человек, — утверждает Бердяев по поводу Шестова, — он человек конца XIX и начала XX века»3. С помощью Шестова трудно проникнуть в суть Библии, добавим мы, зато значительно легче понять эволюцию не­ классической философии. И потому результат, достигнутый Шесто­ вым в ниспровержении идеалов, отрицательный, но все же результат. Устами Шестова говорит парадоксальная религиозность человека XX века. 1 2 3 Бердяев H.A. Основная идея философии Льва Шестова. Ч. 2. С. 99. Там же. С. 100. Там же. С. 98. 381 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... 3. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души Учение С.Л. Франка не было всего лишь развитием в новых усло­ виях философии всеединства B.C. Соловьёва. «По силе философ­ ского зрения, — пишет В.В. Зеньковский, — Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, — не только среди близких ему по идеям»1. Не будем столь категорич­ ными. И тем не менее позиция Франка действительно уточняет и высвечивает тенденции развития русской религиозной философии в целом. Будучи субъективно честным мыслителем, Франк, подобно дру­ гим философам Серебряного века, идет по пути неклассического фи­ лософствования о Боге и душе, который не преодолевает, а по сути усугубляет кризис религиозного сознания, когда теизм с необходимо­ стью прорастает атеизмом. Понятие души и контуры новой метафизики В июле 1917 года в Петрограде вышла в свет книга С. Франка «Душа человека». В ситуации, когда, казалось бы, не до науки вооб­ ще, автор обсуждал причины изменения предмета психологического знания. Мы стоим не перед фактом смены одних учений о душе дру­ гими, писал он в предисловии, а перед фактом совершенного устра­ нения учений о душе и замены их учением о закономерностях «ду­ шевных явлений». По сути, речь шла о победе позитивной науки над старой «метафизикой». И на фоне национальной катастрофы в этой победе просматривалось более масштабное явление кризиса всей классической культуры. Голос, поданный Франком в пользу новой «философской психо­ логии», был голосом в пользу спасения и обновления метафизики, а в ее лице — философии в целом. Но такая заявка предполагает умение решать методологические задачи, разграничивая науку и философию, философию и богословие, богословие и собственно мистический опыт. И Франк, безусловно, способен демонстрировать такого рода методологическую культуру. «Душа человека» начинается с обозначения противоположных тенденций в психологии начала XX века. И главная из них — подмена Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 158. 382 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии психологии разновидностью физиологии со свойственной ей экспе­ риментальной направленностью. В стремлении эмпирической пси­ хологии разложить духовную жизнь на элементарные составляющие реакций, ощущений, эмоций и пр. Франк видит бессмысленную и бесплодную редукцию человеческой души. Но другой опасной тенденцией, как это ни странно, Франк счита­ ет сознательное отрицание науки, подмену объективной истины о духе поэтическим вдохновением, религиозной верой, моральной проповедью. Наиболее явно такая тенденция была выражена в работе «Смысл творчества» H.A. Бердяева, вышедшей в 1916 году. Особо Франк выделяет теософские и оккультные учения, которые в методологическом ключе являются «наивной фальсификацией нау­ ки» посредством сумбурного смешения ее с религией и мистикой. А в итоге подобного смешения объективных наблюдений с субъективной фантастикой и мистикой, пишет Франк, область духа воспринимает­ ся как «что-то видимое, осязаемое, материальное, над чем можно производить внешние эксперименты, что можно даже взвешивать и фотографировать... » '. Указанная позиция в «Душе человека» определяется как «супер­ натуралистический материализм», антиподом которого следует при­ знать спиритуализм, когда душа, как бестелесная субстанция, извне воздействует на наше тело. Но Франк сознательно дистанцируется как от материализма, так и от идеализма в любой его разновидности. Собственную позицию он обозначает вне оппозиции телесного и бес­ телесного. И на этом пути за отдельными проявлениями душевной жизни, которые могут быть четко определены и измерены, он стре­ мится обнаружить душу как некое целостное единство, которое также доступно объективному анализу. Опаснее всего было бы, вслед за «всеразрушающим Кантом», счи­ тает Франк, представлять душу как нечто «трансцендентное», а значит непознаваемое. «Из того, что им была разрушена бесплодная и скучная схоластика так называемой «рациональной психологии» вольфовской школы, — замечает он, — еще не следует ведь, что им заранее опро­ вергнуты все иные возможности психологии как учения о душе»2. Если Кант бросил вызов традиционной метафизике с позиций трансцендентализма, то Франк принимает этот вызов от имени новой метафизики и представляет ее как философское учение, которое од1 2 Франк С. А. Реальность и человек. М., 1997. С. 11. Там же. С. 15. 383 I Глава шестая, русская философия о душе и идеале... новременно есть «своеобразная наука», отличная от математики и точного естествознания. «Метафизика», «онтология», «философская психология» в данном случае относятся к одному и тому же. Согласно Франку, здесь мы имеем дело с истинной философией или филосо­ фией «истинного бытия», которая находится между областью рели­ гии, искусства и пр., с одной стороны, и областью, где господствует «позитивистически-рационалистическое понимание науки» — с дру­ гой. В методологическом плане она особым образом сочетает логику и интуицию. И это сочетание, считает Франк, позволяет постигать объективную суть субъективного мира человека. Как мы видим, Франк различает два сочетания рационального и иррационального — в теософии и философии. Первая сочетает науку и мистику, причем внешне и сумбурно. Вторая сочетает логику с ин­ туицией, достигая нового качества теоретического знания. Понятие души у Франка — это результат именно такой философской интуи­ ции. И предтечей подобного самоочевидного знания нельзя признать ни интеллектуальную интуицию рационалиста, ни чувственную ин­ туицию эмпирика. Но откуда все-таки происходит идеальное как сре­ доточие человеческой души? И почему лишь человеку присуще стремление к истине, добру и красоте, т. е. совершенству? Вокруг указанной проблемы, как известно, так или иначе враща­ лась вся классическая философия. И ответов на вопрос об истоках идеального в душе человека в философской классике можно вычле­ нить по большому счету три. Идеальное в нас от Бога, из природы или связано с миром культуры. Первый ответ дала религиозная филосо­ фия, где идеальное не от мира сего, а значит, душа есть идеальный антипод нашего материального тела. Второй ответ связан с филосо­ фией, тяготеющей к естественным наукам, где идеальное производно от природных возможностей тела, и тогда способность к духовному самообузданию предстает как родовое, а значит, «естественное» каче­ ство человека. И наконец, третий случай, когда идеальное оказывает­ ся диалектическим «снятием» материального, и тогда душа — особая стратегия в поведении тела сообразно универсальным основаниям культуры, что и дает человеку шанс преодолевать свою конечность. Что касается Франка, то в своем стремлении к отождествлению про­ тивоположностей он предлагает особое решение, не сводимое ни к одной из классических «версий». И в этом, безусловно, сказывается то, что учение Франка формируется под влиянием неклассического философствования. 384 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Справедливости ради нужно сказать, что в работе «Душа челове­ ка» предмет философской психологии Франк определяет как «общее логическое уяснение идеальной природы и строения душевного мира и его идеального же отношения к другим областям»1. Душевный мир, открывающийся в самопознании, он отличает от миропознания и Богопознания. Миропознанием, с его точки зрения, являются науки о при­ роде. Богопознание направлено на автономное идеальное бытие как сферу истины, добра и красоты и их высший источник или «первоединство». Эту сферу, по мнению Франка, исследуют религиозная философия, высшая онтология, которую он отождествляет с «первой философией», а также логика, этика и эстетика. Что касается само­ познания, то здесь нам открывается нечто промежуточное между сферами природной и божественной. Человек, с одной стороны, вхо­ дит в состав природы, подчеркивает Франк, а с другой — является «экраном» для проявления идеальных содержаний. Но в нем эти две сферы не просто пересекаются, а образуют промежуточную реаль­ ность. И эта реальность как раз и является предметом философской психологии. Франк, как мы видим, акцентирует внимание на идеальной сути души, но, отстаивая права метафизики, наполняет ее понятия иным смыслом. И в этом плане, подчеркивает П.П. Гайденко, поиски Фран­ ка предваряют тот поворот в философии, который будет осуществлен в XX веке М. Шелером, М. Хайдеггером, Н. Гартманом и др.2 С. Франк, безусловно, религиозный философ, но его религиоз­ ность не имеет отношения к ортодоксальному христианству, к право­ славию в частности. Русская философия самобытна как раз в своей религиозной окрашенности. Но ее своеобразие состоит также в том, что уже у первого поколения русских религиозных философов, в част­ ности у И. Киреевского, она не соответствует позиции русской право­ славной церкви3. Указанное несоответствие уже у Киреевского есть следствие мощного воздействия со стороны немецкого романтизма и позднего Шеллинга. Но значимость влияния неклассического фило­ софствования на русскую мысль становится наиболее явной у фило­ софов Серебряного века. 1 2 Франк С. А. Реальность и человек. С. 29. См.: Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 245. 1 См. подробнее об этом: Сапронов П. А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. Гл.IV, V. 385 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Неклассическая философия — не только антипод философской классики. В целом она является антагонистом всей классической культуры, включая ортодоксальное христианство. И русская религи­ озная философия — характерный пример не только трансформации, но и деформации основ христианства, когда под воздействием неклас­ сического философствования изнутри религиозной веры пробивают­ ся ростки атеизма. С. Франк, несомненно, был хорошо знаком с историей филосо­ фией. В его работах мы встречаем ссылки на Платона и неоплатони­ ков, Аристотеля и аристотеликов, философов Нового времени и не­ мецкую классику, а также немецких мистиков от Мейстера Экхарта до Я. Бёме и Р. Рильке. Изучая на рубеже XIX—XX вв. философию в Берлинском университете, он составил себе представление о дости­ жениях современников, о чем свидетельствуют его многочисленные ссылки на А. Бергсона, а также Ф. Брентано, Э. Гуссерля, У. Джемса, Ф. Ницше и даже 3. Фрейда. Характерно, что сам Франк в качестве вполне осознанного при­ знавал влияние на его построения со стороны Плотина, Николая Кузанского и немецких мистиков. Не будучи учеником или последова­ телем Владимира Соловьёва, влияние его воззрений на свое учение он считал, скорее всего, «бессознательным»1. Не углубляясь в вопрос о том, насколько сознательным оказалось воздействие на Франка со стороны ряда представителей неклассического философствования, констатируем, что оно дало свои плоды. А в результате религиозность Франка обрела характер живого парадокса. В 1946 году в Лондоне Франк издает книгу «God in us», в кото­ рой пытается навести мосты между своей метафизикой и христи­ анством. И тем не менее, как пишет В.В. Зеньковский, Франк сто­ ит только «на пороге храма». Ведь, среди прочего, он не согласен считать Богочеловеком одного Христа. «Так понятие богочеловечества, имеющее в христианстве смысл лишь на о с н о в е Боговоплощения, — пишет Зеньковский, — превращается у Франка (как у Соловьёва и у всех защитников метафизики всеединства) в общее понятие метафизики»2. Иначе говоря, Франк признает бо­ гочеловеком каждого из нас. Более того, на этом пути нам не пре­ пятствуют, а способствуют страсти. 1 2 См.: Франк С. А. Реальность и человек. С. 208. Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 171. 386 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Душа человека между монизмом и дуализмом Тот методологический принцип, который лежит в основе уче­ ния С. Франка, был назван монодуализмом. И в определенном смы­ сле это явилось новым словом в решении философских проблем, проблемы души в частности. Понятно, что в последнем случае речь идет об основе единства души. Является такой основой чувство или разум, естество или сверхъестественное, уникальное или общее? Гегелевская диалектика в определенном смысле является и фо­ ном, и ключом к монодуализму Франка, суть которого состоит в то­ ждестве противоположностей. Тем не менее разница здесь сущест­ венная, поскольку у Гегеля тождество всегда опосредствовано, и та­ ким опосредствованием является деятельность субстанции-субъекта. Своеобразие монодуализма Франка — в непосредственном тождестве противоположностей, но это такое непосредственное тождество, при котором существенным остается и различие. Как таковое возможно, мы и попытаемся показать далее. Уже в первой значительной работе 1915 года «Предмет знания», на основе которой им была защищена магистерская диссертация, Франк различает наличное бытие, к которому применимы законы традиционной логики, и истинную суть бытия как область «мета­ логического единства», т. е. «совпадения противоположностей»1. Следуя не за Кантом и Гегелем, а скорее за поздним Шеллингом, он не считает диалектику тоже логикой — «трансцендентальной» или «диалектической». У Франка анализ диалектических противо­ положностей оказывается вне- или металогическим. Причем если в «Предмете знания» такой анализ сориентирован на теорию по­ знания, то вскоре он становится анализом антропологическим и психологическим. Последовательно реализуя принцип монодуа­ лизма, Франк должен признать тождество, или, как писали тогда, «тожество» указанных срезов — наличного множественного бытия и истинного бытия. И как раз душа человека оказывается в системе Франка главной точкой совпадения истинного божественного бы­ тия и окружающего нас материального мира. Надо сказать, что в «Душе человека» указанная методология получила дополнительную неклассическую окраску, связанную прежде всего с именем А. Бергсона. И эта связь между учением Бергсона и основополагающими идеями «Души человека» призна­ ем.: Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 278. 387 J Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... валась самим автором книги. Движение от хаоса к порядку и от стихии чувств к свободе воли и единству разума — принципиаль­ ный пункт классической философии. И как раз в этом пункте Франк не соглашается с классикой. Именно хаос, стихия, бездна чувств составляют, по его убеждению, основное содержание ду­ шевной жизни. И если эта стихия сдерживается и укрощается раз­ умной волей, считает он, то сила, противостоящая стихии, на деле оказывается принадлежащей ей самой. Даже борьба между свобод­ ной волей и своеволием выглядит в «Душе человека» не как укро­ щение низшего высшим, а скорее как противоборство двух разно­ видностей «хочу»1. Вслед за Бергсоном Франк характеризует разумные действия человека как нечто механическое, определяя их в качестве внешне­ го «инстинкта приличия». «Под тонким слоем затвердевших форм рассудочной «культурной жизни», — пишет он, — тлеет часто неза­ метный, но неустанно действующий жар великих страстей — тем­ ных и светлых, который и в жизни личности, и в жизни целых на­ родов при благоприятных условиях ежемгновенно может перейти во всепожирающее пламя»2. То, что именуют «принципами поведе­ ния», замечает Франк, оказывается, как правило, только «льсти­ выми названиями», поскольку даже самому высокому, вплоть до служения Богу, соучаствует «слепая стихия страсти». Полемизируя в явной и скрытой форме с немецкой классикой, Франк настаивает на первенстве чистого переживания по отноше­ нию к сознанию. Выступая против «спиритуализации» душевной жизни, он смещает акценты в традиционном понимании человече­ ского Я как субъекта сознания и самосознания. У Франка человече­ ское Я рождается до всякой рефлексии и до сознания в результате «уплотнения» чувственной стихии и «сгущения» первичного хаоса переживаний. Глядя на человеческое Я с непривычной для классики позиции, Франк видит в нем не центр упорядоченности, а сгусток стихии и утверждает, что в предшествующем Я состоянии душевной жизни еще не расчленены субъект и объект, сознание и бытие. Указанное исходное состояние Франк характеризует как «конец клубка», который мы распутали, и «верховье реки», до которого мы дошли. Одними из первых у этих истоков, по его мнению, побыва­ ли индусские мыслители, выразившие непосредственное, «немое» 1 2 См.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 42. Там же. 388 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии и «слепое», бытие-переживание посредством образов «брахмана» и «атмана». Среди современных исследователей он указывает, в част­ ности, на Н. Гартмана и 3. Фрейда, которые, по его мнению, в по­ нятии «бессознательное» (Unbewussten) также выразили природу «чистого переживания», предшествующего предметному сознанию и самосознанию1. Более того, в начале XX века Франк по-своему предваряет позицию М. Фуко, когда полагает, что исходное состоя­ ние душевной жизни совпадает со стихией безумия2. В свое время Гегель характеризовал «бытие» как одно из наибо­ лее абстрактных понятий, из которого нельзя извлечь то, чего в нем нет. Богатство доступных мысли опосредствовании между субъектом и объектом, сознанием и предметным миром в гегелев­ ской диалектике полагается процессом самопознания Абсолютного Духа. Но субъект этого движения, согласно Гегелю, с начала до конца именно Дух в качестве Понятия. И в этом коренное отличие Гегеля от Франка. То, что Франк иногда определяет исходное со­ стояние бытия как «сознание-переживание», не должно сбивать нас с толку. В выделенном им «немом» тождестве сознания и пере­ живания доминирует именно переживание. Не стоит восприни­ мать всерьез и его указание на то, что «мы условились» считать переживание «особым типом сознания»3. В данном случае слово «сознание» всего лишь маска, которую Франк периодически наде­ вает на иррациональную стихию, исходя из требований своего мо­ нодуализма. Жить, уверенно утверждает Франк, важнее и первее, чем созна­ вать. «Это утверждение, — читаем мы далее в «Душе человека», — лишь высказывает в самой общей и основной форме то убеждение в первичности иррационального в человеческой жизни, которое есть, быть может, главное завоевание современного понимания че­ ловеческой жизни (в психологии и обществоведении), добытое в борьбе против рационализма и спиритуализма прежнего времени»4. Обвинения философской классики в умозрительности как отрыве мысли от жизни к началу XX века стали общим местом. Но предста­ вители так называемой «философии жизни» противопоставляют умозрительной теории «живую жизнь» в том неясном и двойственном 1 2 ' 4 См.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 71. См. там же. С. 108. См. там же. С. 72. См. там же. С. 61. 389 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... виде, где нет разницы между жизнью природной и человеческой. У Ницше, к примеру, жизнь предстает то сугубо материальным жиз­ ненным порывом, то специфическим бытием человека, которое не­ возможно без идеального момента. Та же двойственность присутствует и у Франка. И эта двойствен­ ность даже усугубляется его религиозными убеждениями. Ведь, с од­ ной стороны, Франк согласен с Бергсоном в том, что касается «пер­ вичности иррационального» в человеческой жизни. Ас другой сторо­ ны, он признает влияние на свое учение со стороны Платона и неоплатоников, а значит, признает Бога идеальным началом души и Высшим Благом. Многократно ссылаясь на преимущества позиции Бергсона, Франк тем не менее вынужден указать, что тот неправомерно отож­ дествляет свободу с «жизненным порывом»1. В начале работы «Душа человека» он сам пишет о стихии чувств как субстрате человеческой жизни и свободы. Однако к концу той же работы Франк делает акцент на высшем идеально-разумном уровне души, где свобода предстает как самопреодоление в свете божественной Истины, Добра и Красоты. Если автор «Души человека» поначалу выглядит как сторонник монизма в духе Бергсона, то затем в его воззрениях обнаруживается явный дуализм. Ведь основаниями души он признает и сверхъестест­ венный абсолют, и естественную жизненную стихию. Такой дуализм у Франка есть следствие сочетания классической и неклассической парадигмы. И в этой своей противоречивости позиция Франка — ха­ рактерный пример внутреннего конфликта всей русской религиозной философии. Суть души у Франка также раздваивается на противоположности. С одной стороны, перед нами идеальное в виде «луча идеального све­ та, образующего субстанциальную основу самого бытия души»2. С другой стороны, перед нами материальное в форме душевной сти­ хии. Указание на материальность души здесь не является натяжкой, поскольку сам Франк проводит параллель между бесформенной и не­ определенной душевной жизнью и «первой материей» Аристотеля3. Оригинальность Франка состоит в том, что, характеризуя душев­ ную жизнь как «живое слитное становление», он акцентирует внима­ ние на форме этого потока. И речь здесь идет, конечно, не о внешней 1 См.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 198 (прим.). Там же. С. 128. ' См. там же. С. 90. 2 390 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии предметной форме, a о форме процессуальной. Уточняя ее характер, Франк вновь призывает на помощь Аристотеля с его понятием энте­ лехии как «действующей формы»1. При этом Франк считает, что орга­ низующим моментом души является не время, а нечто невременное. В этом он видит свое радикальное уточнение и усовершенствование Бергсона. Если тела существуют во времени, а божественное бытие вечно и сверхвременно, то душевный поток, находясь между тем и другим, согласно Франку, обладает особой невременной формой, ко­ торую он отождествляет с «единством» души. Остановись Франк на дуализме противоположных источников, питающих душу, его позиция была бы не так интересна. Но от дуализ­ ма Франк продвигается к монодуализму, с которым связаны самые необычные его идеи. Если классический дуализм выглядит как при­ знание двух противоположных начал в нашей душе, то монодуализм Франка — это утверждение тождества таких начал. Иначе говоря, разбираясь с человеческой душой, Франк приходит к тому, что мате­ риальное и идеальное, естественное и сверхъестественное в ней сов­ падают. Самый простой способ отождествить указанные противополож­ ности — это объявить, что одно содержит в себе другое: жизненная стихия изначально чревата духом, хаос — порядком, а материаль­ ное — идеальным. Такой методологический ход не нов в философии. Что касается монодуализма Франка, то одну противоположность он объявляет потенцией другой противоположности. Жизненную сти­ хию Франк объявляет потенциальным духом, естественное — потен­ циальным сверхъестественным, и здесь он вновь берет себе в союзни­ ки Аристотеля. Но обратим внимание на то, что в приводимых самим Аристоте­ лем примерах растительная способность и треугольник отдельными являются в действительности, а всеобщими — только в возможно­ сти2. Именно так Аристотель, сталкиваясь с реальным противоречи­ ем, дает ему формальное рассудочное разрешение по принципу «в од­ ном отношении А, в другом — не-А». И тот же способ разрешения противоречий мы обнаруживаем у Франка, у которого временное оказывается потенциальным сверхвременным, иррациональное — потенциальной рациональностью, переживание — потенциальным сознанием, стихия — потенциальным абсолютом. 1 2 См.: Франк С. А. Реальность и человек. С. 118. См.: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 400. 391 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Поток душевной жизни в свете такого потенцирования есть про­ цесс некоторого самопроявления. И этот процесс у Франка выгля­ дит как гегелевская диалектика наоборот. Если у Гегеля дух полагает себя вовне, то у Франка душевная жизнь в качестве внутреннего бы­ тия погружается в саму себя и как раз в этих глубинах обнаруживает Бога. Здесь стоит обозначить своеобразие решения Франком психофи­ зической проблемы, которое несовместимо ни с параллелизмом ду­ шевных и телесных явлений в духе Декарта, ни с тем, что тело может извне причинять душевную жизнь, как это полагают естествоиспыта­ тели. По мнению Франка, к душе применимо идущее от Лейбница понятие монады, которая извне есть нечто конечное и связанное с те­ лом, а изнутри оказывается бесконечностью, сродни вечному и бес­ конечному Богу1. Как мы видим, в таком решении психофизической проблемы представлена сама суть монодуализма Франка. Провозглашая тожде­ ство конечного и бесконечного в душе человека, он не может допу­ стить полного совпадения указанных противоположностей. Поэтому одна и та же душа оказывается у Франка извне (актуально?) конеч­ ной, а изнутри (потенциально?) бесконечной. Но это не все, посколь­ ку, согласно монодуализму Франка, путь к Богу в душе человека явля­ ется одновременно движением вверх и движением вниз. Главная тема творчества Франка — доказательство того, что имма­ нентное есть трансцендентное. А это означает, что Бога мы должны искать не вовне, а в своем Я. На первый взгляд тот же путь самопозна­ ния предлагал Сократ. Но это лишь на первый взгляд, поскольку у Франка движение к Богу опять же выглядит как тождество противо­ положностей. С одной стороны, как и в классической традиции, путь к Богу он характеризует в виде возвышения и просветления души. Но, с другой стороны, он настаивает на том, что путь к Богу связан со сгущением стихии и погружением в подземелье индивидуальных пе­ реживаний. «Внутренний как бы подземный мир наших пережива­ ний, — пишет он, — не есть подземная тюрьма, в которой мы отреза­ ны от внешнего мира. Именно потому, что этот подземный мир есть не какой-то ограниченный, замкнутый снизу колодезь, а имеет бес­ конечную глубину, в нем как бы открываются ходы, соединяющие его изнутри с другими подземными кельями, и эти коридоры сходятся на См.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 203. 392 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии некоторой глубине в обширном, свободном пространстве, из которо­ го весь светлый Божий мир виден лучше и глубже, чем с поверхности или из маленького отверстия, соединяющего с ним нашу единичную подземную келью»1. Кому как, но в этих рассуждениях Франка явно слышен голос «подпольного человека». Именно «подпольный человек» и Родион Раскольников превратили Достоевского в выдающегося «русского философа», напрямую определившего умонастроения Ф. Ницше, Л. Шестова, С. Франка и косвенно — всей философствующей интел­ лигенции XIX—XX вв. Но одно дело — обозначить «неизмеримую без­ дну» души как инстанцию, сопоставимую со всей остальной действи­ тельностью, и даже превосходящую ее, и другое дело — в этой слепой стихии страсти и самоутверждения увидеть единственный путь к Богу как единству Истины, Добра и Красоты. Достоевский в изображении противоречий души руководствовался художественной интуицией, Франк — принципом монодуализма. А в итоге Достоевский создает гениальные образы, вроде знаменитого «Миру не стоять, а мне чаю пить!». Что касается Франка, то именно здесь он попадает в ловушку, созданную собственной методологией. Следуя монодуализму, он вы­ нужден рождать десятки и сотни слов, которыми пытается опосредо­ вать абстрактные противоположности в рамках предложенного им искусственного тождества. Именно словами, потоками слов пытается Франк удержать противоположности от их полного слияния. Но ситуацию вряд ли могут спасти слова о том, что они являются «двумя разнородными, идущими в разных направлениях отпрысками или разветвлениями все же единого и потому однородного ствола, вырастающего из единой формообразующей энтелехии «души», как семени сложно­ го и взаимно противоборствующего богатства организма душевной жизни»2. Более того, Франк способен вдруг заявить, что «глубочайшее един­ ство разнородного» есть «невыразимая тайна», которая «может быть лишь художественно выявлена, но не логически вскрыта»3. Но тогда почему не прав Бердяев, подменяющий объективную истину поэтиче­ ским вдохновением? И чего тогда стоят обличения самим Франком тех, кто путает философию с искусством? 1 2 3 См.: Франк С. А. Реальность и человек. С. 169. Там же. С. 134. См. там же. 393 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... Там, где Семен Франк настаивает на интимном единстве хаоса и Бога, он наименее убедителен. Только Лев Шестов, скорее всего, мог признать убедительным рассуждение о метафизичности животного страха, который внутренне един с трансцендентной первоосновой бытия1. Бог в духе Платона и Плотина не может прорасти сквозь жиз­ ненный хаос страстей. Остается, правда, шанс внедрить стихию в лоно самого Бога. И Франк, как свидетельствуют его дальнейшие по­ иски, пошел по этому пути. Причем и здесь его аргументы проясняют общую эволюцию отечественной религиозной философии. Бог между Непостижимым и Абсурдом В работе «Непостижимое», написанной на немецком языке, а за­ тем изданной в 1939 году на русском, Франк указывает на связь поня­ тия Бога как Творца и Вседержителя мира, из которого традиционно исходит метафизика, с древними представлениями о ремесленнике и строителе, хозяине и самодержце. Такому «прозаичному, рассудочно­ му, обмирщенному» образа Всевышнего и его творения он противо­ поставляет понятие Бога как Непостижимого2. Франк осознает отличие такой постановки вопроса от общепри­ нятой. Осознает он и напрашивающуюся параллель между «непости­ жимым» и «непознаваемым» в духе И. Канта. А поэтому Франк уточ­ няет, что кантовская «Ding an sich» непостижима только для разума. Что касается первоединства мира, то оно непостижимо не только для разума, но и «по существу». И тем не менее, считает Франк, оно не скрыто от человека окончательно, а может быть обнаружено внеразумным способом. Указанный способ осмысления, согласно Франку, не есть мысль, а скорее обнажение тайного смысла. И этим скрытым для разума смы­ слом обладает бытие как целое, в противоположность выделяемым рассудком фрагментам бытия. Бытие как целое, утверждает Франк, от­ крывается не рассудку и разуму, а непосредственному созерцанию, ми­ стической интуиции. Но сам Франк не столько молчаливо созерцает, сколько уточняет и определяет. Собственные рассуждения о трансра­ циональности, трансфинитивности и трансфинитности бытия он не хочет относить к порождениям рассудка и не может отнести к области непосредственной интуиции. А в результате указанную пограничную См.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 158. Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 189. 394 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии форму знания он именует, вслед за Николаем Кузанским, в качестве «docta ignorantia», т. е. «умудренного» или «ведающего неведения». «Ведающее неведение» Кузанского — это и есть метод Франка, который обретает у него вид монодуализма. Более того, подлинным выражением «ведающего неведения» Франк считает обнаруженные Кантом антиномии. Но, в отличие от Канта, Франк видит в них не демонстрацию границ применения чистого разума, а обнаружение сути бытия в адекватной ему форме парадокса. Таким образом, «веда­ ющее неведение» предстает в учении Франка в форме антиномистического монодуализма, когда мы как бы витаем между и над противоре­ чащими друг другу суждениями. И в таком виде оно выглядит альтер­ нативой апофатическому богословию. «Ведающее неведение» Кузанского-Франка, по существу, есть попытка представить в виде знания то, во что обычно верят. Среди прочего, Франк пишет, что «ведающее неведение» есть диалектика, которая «в форме рациональности» пытается «преодолеть односто­ ронность всего рационального»1. И решение этой парадоксальной за­ дачи дает свои парадоксальные плоды. Не только интуитивно, но и посредством «ведающего неведения» мы открываем Бога как Непостижимое. При этом к нему, как выясня­ ется, неприменимо не только определение Творца и Вседержителя, но и Высшего Блага в духе Платона. Если у последнего Бог как вер­ шина в иерархии идей противостоит изменчивому миру, то, согласно Франку, Бог пребывает не вне мира, а по сути, в нем самом в качестве потенции изменчивого бытия. Позиция Франка постоянно уточняется. И потому в «Непостижи­ мом» он толкует потенцию не так, как в «Душе человека». В 1917 году потенциальность понималась им в духе Аристотеля. В 1939-м она уже близка, как подчеркивает П. Элен, пониманию «posset» (у самого Франка на с. 266. «potest» или «posse ipsum») Николаем Кузанским2. Но Франк опять же интересен тем, что толкует потенциальность в духе Кузанского на неклассический манер. А в итоге «posset» Кузан­ ского превращается у него в иррациональную «мочь», которой в не­ мецком языке, как уточняет сам автор, соответствует слово «das Kön­ nen». Франк, подобно Гегелю или Хайдеггеру, склонен вырабатывать свою философскую терминологию. Однако суть дела здесь, конечно, 1 2 С. 63. Франк С. А. Сочинения. С. 236. См.: Элен П. Философия «мы» у С.Л. Франка// Вопросы философии. 2000. № 2. 395 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... в ином понимании потенциальности, которая, согласно Франку, есть «выхождение за пределы себя самого, «переливание через край», воз­ никновение доселе не бывшего, т. е. творчество...»1. Как мы видим, первоединство мира у Франка открывается «веда­ ющему неведению» не просто как целое, но как становящееся целое. И в этом единстве вечного и временного для Франка важнее не веч­ ное, а временное, не неизменное, а изменчивое, без которого невоз­ можно сотворение нового. Бог для Франка прежде всего не абсолют и высшее идеальное бытие, а творческое начало мира. Но парадоксаль­ ность этой позиции в том, что на Бога тем самым переносятся черты бренного мира. В свое время представители катафатического богословия судили о Боге по наличию совершенств в его творении. Пантеисты Возрожде­ ния и Нового времени, объявляя Природу субстанцией, по сути воз­ вышали ее до уровня Бога. Что касается Франка, то он идет в проти­ воположном направлении, когда уже Бог принимает на себя черты становления, временности и даже стихийности, присущих миру. Ведь потенциальная «мочь» Бога у Франка сродни «жизненному порыву» А. Бергсона. В «Непостижимом» Франка творческая активность Бога действи­ тельно непохожа на разумные действия человека — ремесленника и строителя, хозяина и самодержца. Если в древних верованиях портрет Бога часто писали с человека, то верующий интеллигент XX века склонен считать прообразом Создателя нечто, подобное зверю. Бог у Франка творит вовсе не свободно и разумно. А в итоге, как пишет Франк, мир рождается «из темного — и притом не только для нас, но и в самом себе темного — лона потенциальности...»2. В лоно Бога, та­ ким образом, внедряется временность и неопределенность, бесфор­ менность и хаотичность — все то, что в работе 1917 года относилось к основаниям души, но никак не к Всевышнему. С. Франк характеризовал рождение мира как нечто среднее между христианским творением и неоплатонической эманацией, что, кста­ ти, показалось Зеньковскому странным и нелогичным3. Тем не менее Франк в данном случае вполне логичен, следуя в своих построениях Николаю Кузанскому. Если в традиционной христианской доктрине речь идет о «сотворении» мира, то у неоплатоников мир «истекает» из 1 Франк С.Л. Сочинения. С. 247. Там же. С. 250. ' Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 168-169. 2 396 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Бога. В отличие от тех и других Кузанский говорит о «развертывании» Бога в мир, пользуясь терминами «complicatio-explicatio». В его уче­ нии Бог есть свернутый мир, а мир — развернутый Бог. И Франк уточ­ няет эту трактовку возникновения мира, утверждая, что сила развер­ тывания Бога в мир есть иррациональная и стихийная «мочь». Другое дело, что такая трактовка взаимоотношений Бога и мира противоре­ чит сути христианства. Как верно подмечает П.П. Гайденко, связь Бога с миром в христианстве опосредованы свободной волей Творца и человека1. У Франка таким опосредованием оказывается игра сти­ хии. И здесь пролегает существенная грань между классическим и не­ классическим типом религиозности. Если в «Душе человека» Франк смотрит на Бога глазами Платона, то в «Непостижимом» мы встречаем удивительные страницы, где Платон «корректируется» в свете Плотина, а Плотин — в свете Бёме. И тогда божественная мощь предстает как «динамическая сила не­ определенности и бесформенности, бурление хаоса, то, что Яков Бёме называет «Ungrund», или «вожделением», и в чем он усматрива­ ет последнюю первозданную глубину реальности...»2. Понятие «Ungrund» многое объясняет в том, чем была религиоз­ ная философия Серебряного века. Ведь Ungrund Бёме — это, по сути, отказ от классического понимания Бога как субстанции мира, а зна­ чит, отказ признать субстанцию причиной самое себя. Ungrund Бёме есть как раз то «безосновное», а значит, беспричинное начало мира, из которого, как из «Шинели» Гоголя, вышла вся неклассическая фило­ софия XIX-XX вв.3 Первая работа А. Шопенгауэра отнюдь не случайно называлась «О четверояком корне закона достаточного основания». Критика за­ кона достаточного основания у Шопенгауэра, как впоследствии у Франка, совпадает с размышлениями о таком истоке бытия, к кото­ рому неприменимы понятия «причина» и «основа», «субстанция» и «всеобщее», но подходят характеристики «бездны», «жажды» и «по­ рыва». И тот же Шопенгауэр отмечает по поводу провозглашенной им «воли к жизни», что «все злое, совершаемое или когда-нибудь со1 См.: Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. С. 283. Франк С.Л. Сочинения. С. 253. ' Истоки неклассического философствования, конечно, нельзя искать только у Я. Бёме. О том, как шло разложение представления о Боге в качестве субстанции и Высшего Блага в волюнтативной теологии Средневековья см.: Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура// Три подхода к изучению культуры. М., 1997. 2 397 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... вершавшееся в мире, вытекает из той воли, которая составляет и его сущность...»1. Шопенгауэр здесь наиболее последователен, поскольку злой и слепой жаждой жизни он заменяет Бога-Творца мира, а не пытается сопрягать одно с другим, как это делают религиозные мыслители Франк, Бердяев и Шестов. Характерно и то, что с уничтожением (подавлением) воли к жизни, а значит, и зла в этом мире, согласно Шопенгауэру, исчезает и сам мир, оставляя после себя «пустое ничто»2. В отличие от Шопенгауэра Бердяев видит в Ungrund единство вожделения и ничто. У Бердяева Ungrund есть, по сути, «желание ни­ что стать чем-то»3. Речь, таким образом, идет не о Боге, сотворившем мир из Ничего, а о Ничто, сотворившем самого Бога. И в этом без­ начальном творческом акте, каким его представляет Бердяев, П.П. Гайденко усматривает «люцеферическую свободу». По существу, это значит, пишет она, приписать Сатане тот акт миротворения, кото­ рый по праву принадлежит Другому4. Тот же мотив ш/-архии присутствует в размышлениях об Ungrund у С. Франка. Но в противоположность Бердяеву он помещает Ungr­ und внутрь самого Бога. В работе «Непостижимое», где Франк впер­ вые различает Бога и Божество (Святыню), речь идет не о гармонии, а о «расколотости» и «надтреснутости» исходного единства бытия. Уже здесь в свете своего монодуализма Франк провозглашает не толь­ ко совпадение причины и следствия, реального и идеального, но и бытия с небытием5. С одной стороны, Божество, по Франку, есть та безличная «вечная творческая активность», которая оказывается своеобразным «не» самого Бога. С другой стороны, он вынужден при­ знать, что указанное творческое «нутро» бытия «имеет бесконечную, безмерную, а потому и безусловно недоступную и темную для нас глу­ бину и что в этой глубине в каком-то смысле возможно безусловно все — в том числе и логически-метафизически немыслимое»6. По сути дела, монодуалистическая методология Франка здесь предполагает признание противоречивого тождества Бога и Дьявола. 1 Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 1. С. 333. См. там же. С. 378. ' Бердяев H.A. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. Париж, 1947. С. 100. 4 Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. С. 318. 5 См.: Франк С.А. Сочинения. С. 448-449. 6 См. там же. С. 534. 2 398 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии И Франк указывает, что аналогичный мотив присутствует в построе­ ниях Бёме, где скрытый первоисточник зла таится в глубинах самого Бога1. Тем не менее признавая, что зло рождается из Бога, Франк утверждает, что, будучи в Боге, оно перестает быть таковым. Зло ро­ ждается, пишет он, из «нарушения» и «повреждения» самого неиспо­ ведимого существа бытия2. Постичь суть такого «онтологического извращения», по Франку, никак невозможно. Тем не менее, считает он, человек способен преодолеть мировое зло, приняв на себя вину всего бытия и претерпевая страдания. Отвергая рациональную теодицею, Франк, таким образом, пред­ лагает собственный вариант «иррациональной» теодицеи, в которой человек оказывается без вины виноватым. В свете Ungrund, внедрен­ ного в лоно Бога, Дьявол предстает у Франка вечным спутником Бога. И в соответствии с «логикой» Непостижимого, местом битвы с этим «мнимым Абсолютом» становятся именно души людей. Как мы видим, Абсолют предстает у Франка как чреватый «абсо­ лютным» недостатком, дефектом и ущербностью, поскольку именно так Франк именует мировое зло3. И для защиты такого «надтреснуто­ го» Абсолюта ему приходится, чем дальше, тем больше, опираться на силу Абсурда. В своем неприятии зла Франк вынужден сближать сво­ его Бога как Непостижимое с шестовским Абсурдом, в котором также проступают дьявольские черты. «Перед нами действительно Бог неведомый, — пишет об образе Бога у Шестова П.А. Сапронов, — и уже потому целиком не отдели­ мый от демонизма и хаоса»4. Но по-настоящему демонические черты проглядывают в Боге там, где Шестов выставляет его в роли обман­ щика. «Кто из христиан не знает, — продолжает Сапронов, — что Бог есть Истина, а обманщик — диавол. Опять-таки не в том дело, что Шестов хотел бы усвоить своему Богу какую-то демоническую и, тем более, сатанинскую злокозненность. Но полная оторванность Бога от человека, отсутствие всякой связи между Богом и человеком в словах Шестова присутствует сполна»5. И Франк, объявляющий Бога Непостижимым, и Шестов, опреде­ ляющий Создателя в качестве Абсурда, воспринимают его прежде 1 2 3 А 5 См.: Франк С.А. Сочинения. С. 545. Там же. С. 546-547. Там же. С. 536. Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. С. 331. Там же. 399 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... всего как источник немыслимого и невероятного. Если обычные люди видят в Боге Высшее Благо, Истину, Добро и Любовь, то у Франка с Шестовым вера в Бога означает надежду на то, что коренным образом отличается от человека, пребывая «по ту сторону» законов природы и норм морали. Незадолго до кончины в книге «Реальность и человек» Франк честно признался в том, что его учение неприемлемо и для философ­ ствующих атеистов, и для сторонников «традиционного церковного учения», не принимающих свободного философского размышления о Боге1. Проблема, однако, состоит не только в том, возможно ли превратить учение Франка в философскую традицию. Более важен вопрос о том, указывает ли это учение путь преодоления кризиса сов­ ременной культуры. Или же оно является лишь одной из его манифе­ стаций. 4. Проблема воплощения идеала у Ф. Достоевского и К. Леонтьева Никто, кроме Ф. Достоевского, так не живописал человеческую низость в русской литературе. И он же поднимается до высот класси­ ческой трагедии, хотя его «герои» не столько действуют, сколько го­ ворят. Гегель афористически замечал, что заштопанный чулок лучше, чем разорванный, но нельзя сказать то же о сознании. Достоевский не стремится каким-то дешевым способом «заштопать» саморазо­ рванное сознание и душу своих «героев». Даже примиряясь с соци­ альным злом внешне, они не примиряются с ним внутренне. Иначе говоря, в душе человеческой могут быть силы, чтобы воплотить идеал каким-то другим путем. Достоевский начинал как социалист. При этом его идеалом был страдающий Христос. Можно ли воспринимать Достоевского как «христианского социалиста»? Обычно считают, что разочарование в воплощении идеала в реальной жизни и истории явилась у Достоевско­ го следствием личной судьбы, участия в социалистическом движении и последовавшей за этим каторгой. «Обыкновенно люди, — писал Ше­ стов, — считают поверженных кумиров все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевский же не то что сжег — он втоптал в грязь все, чему когда-то поклонялся»2. Шестов изображает дело так, что До­ стоевский полностью разочаровался в общественных идеалах молодоСм.: Франк С.Л. Реальность и человек. С. 209. Шестов Л. Избранные сочинения. М.: Ренессанс, 1993. С. 175. 400 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии сти и занял в жизни и творчестве позицию частного индивида. У Шестова выходит, что разочарование в социалистическом идеале привело Достоевского к антиидеалу «подпольного человека». В этом, как из­ вестно, он видел скрытую суть романов Достоевского. Трактовка идеала Достоевским, безусловно, противостоит идеа­ лам Шиллера и движения Бури и Натиска: «Лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Достоевский считает, что борьба со Злом путем насилия увеличивает Зло в мире. И тем не менее вера в Христа не означает у него отказа от идеала спра­ ведливости. «Я социалист, — писал о себе Достоевский, — но переме­ нил идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет»1. Здесь точно указан момент, когда начался у него духовный перелом, — «с эшафо­ та». На каторге этот перелом продолжался и углублялся. В одной из ранних тетрадей середины 70-х годов есть и такие слова Достоевско­ го, адресованные A.C. Суворину: «Но я нисколько не изменил идеа­ лов моих и верю — но лишь не в коммуну, а в Царство Божие. Вам меня не понять, а потому я не объясняюсь точнее, но знайте, что я все-таки «либеральнее вас» и даже гораздо»2. Каким же видел Царство Божие Достоевский? Указанную особенность убеждений Достоевского по-своему по­ нял К. Леонтьев. В известной статье «О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике» Леонтьев резко кри­ тикует еретический, «розовый оттенок» христианства Достоевского, указывая на его надежду осуществить гармонию уже здесь, на земле. «Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем бо­ лее ему должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то ка­ кая нужда нам заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непо­ нятных нам поколений?»3 К. Леонтьев, по существу, упрекает Достоевского в отходе от орто­ доксальной церковности и в уступке классическому европейскому гуманизму. «В речи г. Достоевского Христос, по-видимому по крайней мере, до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы счита­ ем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, то есть с самы­ ми существенными положениями и безусловными требованиями пра1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Λ.: Наука. Т. 26. С. 185. Там же. Т. 24. С. 106-107. ·' Леонтьев К.Н. О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празд­ нике// Властитель дум. Ф.М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века. СПб.: Художественная литература, 1997. С. 80. 2 401 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... вославного учения, приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и "гармонии"»1. Леонтьева явно не устраивает то, что каждый может заслужить спасения, и то, что спасение у Достоевского как-то связано с всеоб­ щим братством людей здесь на земле. Достоевского и Леонтьева род­ нит презрение к европейскому мещанству и личному материальному благу как смыслу жизни, что находит свое воплощение в образе «под­ польного человека». Но, по Достоевскому, радикальное отрицание проблем современного человека, который достоин только лишь по­ гибели, как раз смыкает христиан с примитивными атеистами. В по­ следней записной тетради он так формулирует свою позицию: «...(Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой иде есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удоб­ ная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойно, но в одно свое пузо.)»2. Достоевский желает добра именно этому земному человеку, ему же он желает спасения, а значит, в Царстве Божьем он видит этих же людей в новом качестве. И при такой постановке вопроса Достоев­ ский оказывается не столько либералом, сколько гуманистом в широ­ ком классическом смысле этого слова. Из размышлений об этом, скорее всего, и рождается у Достоевского интерес к вопросу о тысяче­ летнем Царстве Божьем на земле под названием Millennium. И в том, кто достоит Царства Божия как всеобщего братства и гармонии, До­ стоевский достаточно радикален. Он записывает в тетради 1875— 1876 годов: «Я не хочу мыслить и жить иначе как с верою, что все наши девяносто миллионов русских, или сколько их тогда будет, бу­ дут образованны и развиты, очеловечены и счастливы... С условием 10-й лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации. Я верую в полное царство Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно будет... Но хоть и трудно предугадать, а значки в темной ночи до­ гадок все же можно наметить хоть мысленно, я и в значки верю»3. Как мы видим, радикализм Достоевского в этом вопросе подобен радика­ лизму Алеши Карамазова. 1 Леонтьев К.Н. О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празд­ нике. С. 95. 1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. С. 51. -' Там же. Т. 24. С. 127. 402 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и не класс и чес кой философии По сути, переосмысливая христианские принципы в духе пусть абстрактного, но демократизма, Достоевский формулирует понима­ ние хода истории. «...Самовольное, совершенно сознательное и ни­ кем не принуждаемое самопожертвование всего себя в пользу всех...» — таков у него идеал всех людей. Собственно, это состояние Достоевский и определяет как Millennium, где закон «я» полностью совпадает с законом «всех». Кроме того, индивид должен сохранить в вечности свою свободу, считает Достоевский, и право на такую свобо­ ду сохраняют даже те, кто уже принесен в жертву истории. В мартовском выпуске «Дневника писателя» 1877 года есть глава «Похороны "общечеловека"», где описаны похороны старого докто­ ра-немца, протестанта, который долгие годы бескорыстного труда от­ дал горожанам, особенно беднякам, и сам умер почти нищим. Об этом «единичном случае» Достоевский узнал из письма своей корре­ спондентки. «Но без единичных случаев не осуществишь и общих прав, — заключает он. — Этот общий человек хоть и единичный слу­ чай, а соединил же над гробом своим весь город. Эти русские бабы и бедные еврейки целовали его ноги в фобу вместе, теснились около него вместе, плакали вместе. Пятьдесят восемь лет служения челове­ честву в этом городе, пятьдесят восемь лет неустанной любви соеди­ нили всех хоть раз над фобом его в общем восторге и в общих слезах... Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассудки: капля точит камень, а вот эти-то «общие человеки» побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным слу­ чаем и наконец вовсе исчезнут»1. Достоевский недаром называет в «Дневнике писателя» старого доктора «общим человеком». Такие «об­ щие человеки», по его мнению, как раз и несут в своей душе ростки того, что воплотит Millennium. Но выступая в защиту классического идеала, Достоевский пред­ лагает переустраивать не жизнь, а души людей. Для Достоевского классический идеал Добра и Справедливости, безусловно, значитель­ нее теперешней действительности. И потому он не социалист, пред­ лагающий переустраивать социальные условия жизни. Но призывая к спасению через духовное перерождение, Достоевский не может ми­ риться с несправедливостями этой жизни. Нужно терпеть ради спа­ сения души, но терпеть несправедливости нету сил. Терзания Алеши и Ивана Карамазовых очень близки самому Достоевскому. И в этом Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. С. 92. 403 I Глава шестая. Русская философия о душе и идеале... едва ли не главное противоречие позиции Достоевского и всей хри­ стианской философии. Достоевский и Леонтьев расходятся в толковании Царства Божия и путей воплощения христианского идеала - спасения души. Суть спора, как мы видим, касается вопроса, насколько отлична будущая вечная жизнь праведников от теперешней нашей жизни. Ведь одно дело, если вечная жизнь, даруемая праведникам, не имеет ничего об­ щего с нашей земной жизнью. И другое дело, если вечная жизнь — это воплощение идеала, к которому мы стремимся уже сейчас. Со­ гласно Леонтьеву, у будущего вечного существа с нынешним челове­ ком ничего общего не будет. Но у Достоевского вечное существо — не антипод, а идеальное воплощение человека нынешнего. А потому нуж­ но не ждать и молиться о скорейшем наступлении «конца света», а пробуждать в душах людей нравственные, идеальные начала. Исто­ рия, согласно Достоевскому, должна прекратиться, чтобы человек во­ плотил лучшее в себе. В итоге это будет вечный человек, подобный Христу, а никак не ангел, о котором мечтал К. Леонтьев. И это будет абсолютное братством людей, как Millennium. Так богословский спор о Царстве Божием обнаруживает демократизм христианских воззре­ ний Достоевского в отличие от ортодоксального консерватизма К. Леонтьева. Глава седьмая Об идеальном, сознании, душе (новые повороты проблемы) 1. Чем богата массовая душа Первый экзистенциалист Серен Кьеркегор был «не как все», по существу, вел затворнический образ жизни и считал жизнь обывате­ лей лицемерным прозябанием. Да, Кьеркегор был вполне обеспе­ чен: отец, торговец чулками, оставил ему приличное состояние. И тем не менее то, что принято считать преуспеванием и жизнен­ ным успехом, несовместимо с его представлением о смысле жизни. «Был ли апостол Павел государственным служащим? — пишет в дневнике Кьеркегор. — Нет. Имел ли он выгодную работу? Нет. За­ рабатывал ли он большие деньги? Нет. Был ли он женат и произво­ дил ли на свет детей? Нет. Но ведь тогда выходит, что Павел не был серьезным человеком!»1 Этот парадоксальный вывод датчанина Кьеркегора через 150 лет получил новое звучание, поскольку в глазах современной молодежи апостол Павел был, безусловно, «лузером». Но, с другой стороны, было бы наивным клеймить молодых прагматиков, противопостав­ ляя их поведению мученичество первых христиан. В основании убеж­ денности современников в том, что материальное богатство и соци­ альный статус определяют «качество жизни», лежит ход европейской, а теперь мировой истории. В этом контексте образование также осо­ знается как средство обретения материального богатства и высокого социального положения. То, о чем пишет Кьеркегор, суть культурной ситуации, которая стала нормой в современной России. Но ее нельзя мерить одной мер­ кой. Здесь сплелись многие тенденции развития «цивилизованного общества», которым не год-два и даже не двадцать лет. Россия, как это бывало и раньше, способна многое доводить до крайности, до гроте­ ска. Но корни сложившейся ситуации уходят в XX и даже в XIX век, когда достигло расцвета так называемое «буржуазное общество», коЦит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде. С. 201. 405 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... торое в то же время является «массовым обществом» со свойственной ему «массовой культурой». В книге «Идея культуры» В.М. Межуев пишет, что философия яв­ ляется «самосознанием человека в свободе», политической и духов­ ной. А потому расцвет философии приходится на две эпохи — антич­ ность и Новое время, отмеченные переходом от тиранических режи­ мов к демократии и гражданскому обществу1. Отметим, однако, что демократия демократии рознь. И античная демократия, как власть народа, постоянно срывалась в охлократию как власть толпы, за что демократию и не одобряли Сократ и Платон. Абстрактное восхваление демократии как цели развития — атри­ бут любого общественного преобразования XX-XXI вв. Другое дело, чем оборачивается такого рода преобразования. Речь идет не о злом умысле и амбициях политиков, что, конечно, имеет место, а о проти­ воречивости самого демократического устройства, что нагляднее все­ го проявилось в «гражданском обществе» наших дней. Если философия, искусство, вся культура Возрождения проник­ нута богоборческими мотивами, возвеличиванием человека с его творческой мощью, то Новое время — это возвышение и уравнивание людей прежде всего в политических правах. Недаром В.М. Межуев подчеркивает два аспекта свободы в гражданском обществе — поли­ тическую и духовную. А предпосылка духовной свободы — всеобщее образование, в связи с чем стоит напомнить, что уже в 1763 г. в Прус­ сии указом Фридриха Великого был принят закон об обязательном образовании, а в 1852 году Массачусетс стал первым из американских штатов, который ввел закон об обязательном образовании в его со­ временной форме. Понятна аристократическая реакция на уравнивание граждан в доступе к благам цивилизации. Но почему H.A. Бердяев уже в XX веке заговорил о возврате к «новому средневековью» для спасения высо­ кой культуры? Почему в период между двумя мировыми войнами X. Ортега-и-Гассет пишет известную книгу «Восстание масс», где не­ гативно оценивает не античный охлос, а «массу» как характерное яв­ ление своего времени. Три начала сделали возможным эту новую реальность, пишет он: либеральная демократия, экспериментальная наука и современная промышленность. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, а унаСм.: Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006. С. 18. 406 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии следовано от двух предыдущих столетий. Но важно вникнуть в ее не­ умолимые следствия. Либеральная демократия, отмечает автор «Восстания масс», была результатом титанических усилий людей, объединенных целями, убе­ ждениями и идеалами. Но плодами этих достижений теперь пользует­ ся «массовый человек» с «массовой душой», главная черта которого — заурядность. Никогда еще рядовой человек, продолжает Ортега-иГассет, не утолял с таким размахом свои житейские запросы. И, будучи «потребителем» достижений цивилизации, он переносит на себя их достоинства. Напомним, что эта книга была написана в первой половине XX века, когда еще не сложились стандарты общества «всеобщего потребления». Но в преддверии этой реальности испанский фило­ соф говорит о таких психологических чертах «массового человека», как беспрепятственный рост жизненных запросов и безудержная экспансия собственной натуры1. Понятно, что такова психология не всех, но большинства в современном обществе и формируется она самим промышленным производством, на которое как на величай­ шее благо указывает Оргета-и-Гассет. Если средневековый мастер создавал свои произведения для немногих, то промышленность ΧΧ-ΧΧΙ вв. рассчитана как раз на массу, культивируя у этой массы соответствующие потребности, без которых ее постигнет крах. Здесь перед нами та же противоречивая ситуация, как с уже упомянутой демократией. В борьбе за достоинства мы плодим недостатки. Демо­ кратизация бытовой культуры оборачивается потребительством, а свобода — индивидуализмом. Странной и нелепой кажется сегодня борьба советских времен против мещанства. Но послушаем врага советской власти Д. Мереж­ ковского, который сходится с великим русским демократом Герце­ ном в противостоянии меркантилизму, культивируемом буржуазным обществом. «Мещанство победит и должно победить, — пишет Гер­ цен в 1864 г. в статье "Концы и начала". — Да, любезный друг, пора придти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации»2. Мещанин происходит от польского mieszczanin, что буквально значит «горожанин». Мещанин, гражданин и горожанин — изначаль­ но имеют оно содержание. Но в XIX веке у слова «мещанин» появился 1 2 См.: Ортега-и-Гассет X. Восстание масс: Сборник статей. М., 2002. С. 57. Интеллигенция-Власть-Народ. М.: Наука, 1992. С. 81. 407 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... определенный этический смысл, который имеют в виду Герцен и Ме­ режковский. Мещане — не просто те, кто живет и работает в городе и пользуется благами цивилизации. Вспомним, как рвались в советские времена из деревни в город, где было водоснабжение с электричест­ вом, магазины и кинотеатры. Мещанин, скорее, тот, кто сосредото­ чил внимание на самих вещах. И это не просто стремление к нала­ женному быту. Не предосудительно желание хорошо жить. Но уже Герцен, наблюдая европейских обывателей, констатирует, что жела­ ние «хорошо жить» стало у них смыслом этой самой жизни. А сегодня «безудержная экспансия натуры» мещанина проявляет себя через ос­ воение «современной» техники и модных «трендов», вплоть до спосо­ бов общения, которое создает впечатление полноты жизни и разви­ тия индивида на фоне его заурядности. Еще более резко характеризует сложившуюся ситуацию Ортега-иГассет, когда говорит о современной «тирании пошлости». Специфика нашего времени, пишет он, состоит в том, что посредственность, по­ лагая себя незаурядной, «провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право»1. А итогом является абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего — его истоки, включая развитие способностей. Пошлость мещанского сознания не только и не столько в непри­ стойностях, хотя и это сегодня в большой моде. Пошлость проявляет­ ся в агрессивном отрицании духовной стороны жизни или ее скепти­ ческом принижении в пользу полноты телесной жизни и материаль­ ного благополучия. Пошляком в свое время называли того, для кого любовь лишь физиологические отношения между полами. Но пош­ лость еще и уверенность в том, что все на свете можно купить, вопрос только в цене, что деньги не пахнут и учиться нужно для того, чтобы хорошо зарабатывать. А для чего же еще? Многие скажут, что так устроена теперешняя жизнь, и будут правы. Но кто-то идет против течения, считая неподлинным то, что большин­ ством воспринимается как норма. Так было не только у Кьеркегора. Так было и у ныне забытого Максима Горького, который впоследствии писал: «Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Ког­ да в душе его все разложено прилично — душа мещанина спокойна»2. Удобство — цель такой жизни. Терпеть неудобство ради иных целей — 1 1 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс: Сборник статей. С. 68. Горький М. Заметки о мещанстве / / Горький М. Собр. соч.: В 16 т. Т. 16. С. 207. 408 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии глупость. Временное неудобство как развлечение или спорт — другое дело. Массовая культура через СМИ создают шаблонный обезличен­ ный типаж «успешного индивидуалиста», который воспринимается миллиардами людей по всему миру. Но Горький, который сам писал под псевдонимом, считал неподлинной ситуацию, когда в центр мира, сознательно или бессознательно, ставится индивид с его эгои­ стической потребностью. Мещанин, пишет Горький, «способен воз­ вести свою зубную боль на степень мирового события»1. Аналогич­ ный образ у Ф.М. Достоевского. «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» — задает риторический вопрос герой «Записок из под­ полья»: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»2. Бытовая потребность как центр мироздания — яркий образ писа­ телей и публицистов на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв. Понятно, что не все так однозначно, люди сложней и противоречивей, что сумел выразить, в частности, Достоевский. Но речь здесь идет об определяющей тен­ денции. О тех новых тенденциях «массового общества», о которых в XIX в. писали не только Герцен и Достоевский. По-своему восставал против засилья «последнего человека» Ф.Ницше. Ницшеанство эпа­ тировало добропорядочных обывателей рубежа веков. Но не забудем, что пафос учения Ницше — это протест против приземленности чело­ веческого существования. Противоречивый образ Сверхчеловека он про­ тивопоставляет здравомыслию большинства современников, которым незнакомы творческие порывы и возвышенные стремления. Нас становится все больше, теснота рождает неудобство и взаим­ ное неприятие. Но причина не только в скученности. Равный завиду­ ет и даже ненавидит равного, способного достичь большего и полу­ чить больше. Это отношение к другому Фридрих Ницше, а потом Макс Шелер называли французским словом «ресентимент», для ко­ торого, как отмечал Шелер, нет эквивалента в немецком языке, кро­ ме слова Groll — «злоба». Но это не просто злоба, но удивительная смесь гордости и унижения, которую умел описать только Достоев­ ский. Ф. Ницше считал, что это чувство всегда было присуще слабым, у которых ощущение собственной неполноценности рождает нена­ висть к сильному, к Сверхчеловеку. Но ресентимент имеет социаль­ ную природу. Он существовал не всегда и возникает там, где человек 1 2 С. 498. Горький М. Заметки о мещанстве. С. 208. Достоевский Ф.М. Записки из подполья// Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 19 т. Т. 2. 409 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... уже осознал себя равным другому. Это чувство не испытывают к дру­ гому по сословию, расе и пр. Там испытывают иные чувства. Ресентимент, подобный смердяковскому, — это бессильная злоба и зависть к тому, кто равен тебе и одновременно непреодолимо неравен. Ведь ла­ кей Смердяков — незаконорожденный сын Федора Карамазова, ко­ торый осознает свое равенство и одновременно неравенство с Ива­ ном, Митей, Алешей, а потому ненавидит их особой ненавистью. Ресентимент— порождение эпохи, провозгласившей равенство в неравных условиях. Поэтому рост общественного богатства не ликвиди­ рует этих чувств и настроения, которые часто проявляются во взрывах внешне немотивированной агрессии. Но стремление к равенству в ме­ щанской среде тоже противоречиво, поскольку, завидуя более богатому соседу, мещанин хочет всех и вся уравнять, а, с другой стороны, боится равенства, потому что он это понимает так, что у него тоже убудет. Что касается современной интеллигенции, то явный или скрытый скепсис в отношении всего «высокого» — всякого рода альтруизма, ге­ роизма, стремления к истине и справедливости, здесь вполне сочетает­ ся с суррогатными формами духовности. И прежде всего это опять же подмена духовного качества техническим умением. Чтобы стать специалистом, тоже нужно учиться. Но профессиональное занятие ум­ ственной деятельностью не предполагает приверженности идеалам Истины, Добра и Красоты. Тем более что те, кто объявляет себя носи­ телями «высших идеалов», вполне могут оказаться болтунами и пошля­ ками. Универсальное развитие и всесторонняя образованность, таким образом, сменяется узким профессионализмом. Если эпоха Возрожде­ ния нуждалась в интеллигенте как творческой индивидуальности, то в XX веке востребован тот, которого принято называть «интеллектуа­ лом», т. е. компетентным в определенной области специалистом. На одном полюсе здесь, к примеру, Интернет как великое изобре­ тение человечества, а на другом — социальные сети, которые сегодня стали пространством массового общения обывателей. На одном по­ люсе символическая фигура Стива Джобса, а на другом — создатель «Фейсбука» Марк Цукерберг, история которого воссоздана в фильме Д. Финчера «Социальная сеть». В статье «Пустой нашего времени» А. Архангельский пишет: «"Настоящий человек", как его понимала культура, закончился. Человеком в рамках этой культуры считался тот, кто стремился стать больше себя и хотел, чтобы его за это уважа­ ли. Это "сверхценностное поведение" было мотивом не менее силь­ ным, чем желание пищи и сна, и, как утверждал Фукуяма, двигало 410 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии историю вперед. Сегодня и такой человек, и такое поведение неэф­ фективно и попросту не нужно, что и подтверждает история Марка Цукерберга, основателя Facebook, которому посвящен фильм "Соци­ альная сеть"»1. Нельзя сомневаться в креативности Марка, но «феномен Цукер­ берга» в том, пишет Архангельский, что это «человек будущего без ДУШИ». История создания «Фейсбука» показывает, что наш герой не то чтобы смеется, но в принципе не понимает, что имеют в виду, когда говорят «дружба», «честь» или «любовь». Это все равно как если бы трехмерное изображение упрекало двухмерное в том, что, мол, ты ка­ кое-то плоское. И в этой пустоте «имени Цукерберга», констатирует журналист, придется нам как-то жить2. Корни этой ситуации опять же уходят в XIX век. Евгений Базаров был «Цукербергом» своей эпохи. К концу XIX в. это стало умонастро­ ением в среде научно-технической интеллигенции. А сегодня рассу­ дочность интеллигентов, создающих передовые средства к жизни, и здравый смысл массы, их потребляющей, стали «трендом» массового общества. И такого рода суррогат богатства личности в глазах тех же людей не недостаток, а достоинство. Одной из причин суррогатности духовной жизни XX века Ортегаи-Гассет считал систему образования. Ведь в школе, которой так гор­ дились в XIX веке, позднее уже занимались не воспитанием души, а обучением навыкам и технике современного существования. В рабо­ те «Дегуманизация искусства» он пишет: «Детей обучали тому, как наиболее интенсивно прожить свою жизнь, но не воспитывали готов­ ности к осуществлению великих исторических задач; им насильно прививали гордость достижениями цивилизации и навыки управле­ ния современной техникой, но забыли о воспитании духа. Поэтому нашего современника и не интересуют духовные ценности»3. Компьютерная грамотность и знание языков в наши дни все чаще оказывается не предпосылкой культурного развития, а опять же сур­ рогатом, в данном случае образованности. Не существует обществен­ ных проблем, по поводу которых не высказывались бы банальности и произвольные суждения, выдаваемые нынче за оригинальность. 1 2 3 http://vz.ru/columns/2011/1/20/46235 l.html Там же. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. М., 1991. С. 79. 411 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... Но прежде всего это касается политики и философии. «Что сказали бы о том человеке, который, собираясь заняться математикой, — пи­ сал в свое время Герцен, — потребовал бы вперед ясного изложения дифференцирования и интегрирования, и притом на его собственном языке? В специальных науках редко услышите такие вопросы: страх показаться невеждой держит в узде. В философии дело другое: тут ни­ кто не женируется (не стесняется)! Предметы все знакомые — ум, разум, идея и проч. У всякого есть палата ума, разума и не одна, а мно­ го идей»1. Отсутствие серьезной гуманитарной подготовки на фоне успехов естественных наук закономерно рождает мнение о том, что смысл жизни — борьба за существование, суть общения в обмене инфор­ мацией, а душа весит шесть граммов. Такого рода «общее мнение» в пространстве массовой культуры — заменитель идеи, знания и убеж­ дения. Даже дипломированный специалист в отсутствие универсально­ го образования и общей культуры будет декларировать вам подоб­ ные «взгляды» от имени современной науки, зачастую в самой аг­ рессивной форме. «Раз навсегда освящает он, — пишет по данному поводу Ортега-и-Гассет, — ту мешанину прописных истин, несвяз­ ных мыслей и просто словесного мусора, что скопилась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека»2. В сложившихся условиях мышление заменяется говорением, а манипулирование терминологией повсеместно осознается как твор­ чество. Герцен отмечал, что дилетанты всегда искали легких путей в науке и жаждали быстрого успеха. Сегодня востребованы диссерта­ ции, где философией оказывается софистика, способная при отсут­ ствии содержания впечатлять «языковой игрой». В свою очередь, это востребовано педагогической практикой, где азами.цивилизо­ ванности в условиях инфляции слова оказывается умение много го­ ворить. Один из итогов борьбы за демократию — убежденность каждого в том, что у него есть право голоса. Его точка зрения должна быть учте­ на и нигде не забыта. Но в духовной культуре это дает еще один не­ ожиданный результат, оборачиваясь релятивизмом, когда в науке, философии, искусстве идет борьба с «репрессивностью» канонов. ' 2 Герцен А.И. Соч.: В 2 т. М., 1985. Т. I. С. 92. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс: Сборник статей. С. 67. 412 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии У каждого свое мнение, свой вкус, своя истина, в общем, все относи­ тельно. О том, что «все относительно», заявляют как о чем-то нетри­ виальном, не подозревая, что эта мысль просто носится в воздухе. Такая «вкусовщина», замечал Герцен более ста лет назад, также связана с вопиющим эгоизмом. «К философии приступают с своей маленькой философией; в этой маленькой домашней, ручной фило­ софии удовлетворены все мечты, все прихоти эгоистического вообра­ жения. Как же не рассердиться, когда в философии-науке все эти мечты бледнеют перед разумным реализмом ее!»1 Последние слова Герцена замечательны тем, что характеризуют нашу сегодняшнюю ситуацию в гуманитарном образовании, где отсутствие знаний и по­ нимания «философии-науки» выдают за свою точку зрения, собст­ венное мнение по данному вопросу. Всеобщая грамотность позволяет каждому судить, решать, выносить приговор. В связи с этим не могу не привести пример из собственной практики. Студентка, которая не смогла сказать что-либо связное о Людвиге Фейербахе, тут же заяви­ ла, что у нее есть собственное мнение и мы в данном случае расходим­ ся во взглядах. И действительно, знание и незнание, ум и глупость — разве это не разные взгляды на мир? Современник Ортеги-и-Гассета писатель Герман Гессе характе­ ризовал ситуацию первой половины XX века как «фельетонную эпо­ ху», которая, как мы видим, не завершилась в наши дни. При всех условностях и особенностях жанра «Игры в бисер» в романе про­ сматривается та же идея, что и в «Восстании масс». Характеризуя «реформацию духовной жизни», начавшуюся в XX веке, Гессе отсы­ лает нас к мнению героя романа некоего Цигенхальса о том, что это была «мещанская» и приверженная глубокому индивидуализму эпо­ ха. Соглашаясь с Ницше в том, что уже в конце XIX века стал явным кризис культуры и западной цивилизации в целом, Цигенхальс кон­ статирует унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравствен­ ности, безверие народов, фальшь искусства. И на этом фоне добровольной капитуляции духа «пищей» боль­ шинства стали фельетоны, в которых журналисты бепрерывно «бол­ тали» о тысячах разных предметов. В ходу были многочисленные опросы, иронизирует герой романа Гессе, когда «маститых химиков или виртуозов фортепианной игры заставляли высказываться о по­ литике, любимых актеров, танцовщиков, гимнастов, летчиков или 1 Герцен А.И. Соч.: В 2 т. T. I.C.91. 413 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... даже поэтов — о преимуществах и недостатках холостой жизни, о предполагаемых причинах финансовых кризисов и так далее»1. После каждого происшествия, скандала и события в жизни из­ вестных людей, о чем люди узнавали тотчас же, читатели получали «уйму анекдотического, исторического, психологического, эротиче­ ского и всякого прочего материала по данному поводу; над любым происшествием разливалось море писанины, и доставка, сортировка и изложение всех этих сведений непременно носили печать наспех и безответственно изготовленного товара широкого потребления»2. Поставщики этой чепухи принадлежали не только к редакциям газет, но порой слыли писателями-художниками, принадлежали к ученому сословию, были известными преподавателями высшей шко­ лы. Мы поражаемся, замечает Цигенхальс в «Игре в бисер», не столь­ ко тому, что находились люди, ежедневно проглатывавшие это чтиво, «сколько тому, что авторы с именем, положением и хорошим образо­ ванием помогали «обслуживать» этот гигантский спрос на ничтож­ ную занимательность»3. Что касается науки, то в просветительских целях «бандиты ду­ ховного поприща», читаем мы у Гессе, предлагали обывателям, еще цеплявшимся за лишенное прежнего смысла «образование», нечто вроде «благородного фельетона», в котором «какое-то количество модных интеллектуальных словечек перетряхивалось, как играль­ ные кости в стакане, и каждый радовался, если одно из них с грехом пополам узнавал. Люди слушали доклады о писателях, чьих произ­ ведений они никогда не читали и не собирались читать, смотрели картинки, попутно показываемые с помощью проекционного фона­ ря, и так же, как при чтении газетного фельетона, пробирались че­ рез море отдельных сведений, лишенных смысла в своей отрывоч­ ности и разрозненности»4. Характерным примером деморализации духа, по мнению Гессе, стала мода на кроссворды, когда «тысячи людей, в большинстве сво­ ем выполнявших тяжелую работу и живших тяжелой жизнью, скло­ нялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, запол­ няя пробелы по определенным правилам»5. 1 2 3 4 5 Гессе Г. Степной волк. Игра в бисер. Паломничество в страну Востока. М., 2004. С. 174. Там же. Там же. Там же. С. 175. Там же. 414 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Прошло почти столетие, но узнаваемо все, о чем пишет Гессе. Хотя вместо газет речь уже идет о системе СМИ, включая Интернет, а вместо проекционного фонаря при чтении бессмысленных докладов используют виртуальные презентации. Поостережемся видеть только комичную или сумасшедшую сторону этого занятия, пишет Гессе, и воздержимся от насмешек над ним. То, что Гессе называет «фельетон­ ной эпохой», формировалось перед Первой мировой войной, когда О. Шпенглер писал «Закат Европы». Люди уже чувствовали себя без­ защитными перед смертью, болью, голодом. «Фельетонная эпоха» — в определенном смысле попытка заслониться от страха перед буду­ щим, когда нет веры в завтрашний день. Сегодня ситуация изменилась, и в фельетонном мире живет не перепуганный, а преуспевающий обыватель, включая «сильных мира сего», которые могут не решать кроссворды, но смысл жизни у них все тот же. Парадокс этой действительности еще и в том, что люди, получившие свой кусок, хотят еще большего. Но даже те, кто получает достаточно средств к жизни, от жизни получает не так уж много. «Массовый человек» разгадывает кроссвор­ ды, смотрит развлекательные передачи и даже ищет острых ощуще­ ний, потому что на серьезные вещи после трудовой рутины нет ду­ шевных сил. В свое время Ф.М. Достоевский ответил юному Д. Мережковскому: «Чтобы хорошо писать, — страдать нужно, страдать!» И речь, конечно, шла о страдании, которое сродни состраданию — социальному чувству, которое отличает только людей. Чтобы его в себе взрастить, необходи­ ма душевная работа. Но сегодня страдание у большинства ассоцииру­ ется не с душевной, а физической болью. Так устроено современное общество, в системе координат которого и Сократ, и апостол Павел, по сути, «лузеры». И нужен, конечно, мощ­ ный социальный сдвиг, а не стенания, чтобы изменить эту логику. 2. От искусственного интеллекта к искусственной душе Метафизика — это попытка ума подняться над умом. Томас Карлейль Трансгуманизм, который претендует из интеллектуального на­ правления превратиться в общественное движение, позиционирует себя как выход из антропологического кризиса, остро переживаемого 415 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... человечеством. Речь идет об исчерпании возможностей нашего орга­ нического тела, хотя противники этой идеи указывают не на физио­ логические, а на социальные истоки проблемы. По мнению против­ ника Технологии НБИК В.А. Кутырева, посягательство на наше тело спровоцировано обществом сверхпотребления, где человек лишь средство роста производства, а потому технический прогресс служит превращению нас в бессмертных потребителей материальных «рай­ ских благ» с бесконечно возрастающими потребностями1. Смущают, однако, настойчивые отсылки в статье Кутырева «Вре­ мя Mortido» к Священному Писанию, согласно которому, как считает автор, сам Господь сотворил человека в тленной материальной обо­ лочке, удовлетворенно отметив: «Это хорошо»2. Но, как известно, «ветхими» Адам и Ева стали в результате грехопадения, что уже два тысячелетия христиане воспринимают как «кризис» и стремятся вер­ нуть человечество к тому совершенному вечному облику, в котором первый человек и был создан. Иначе говоря, стремления избавиться от смертного тела в пользу совершенства не новы для человечества. И само христианство возник­ ло в ситуации духовного кризиса, превратившись затем в мощное «общественное движение». Понятно, что стремление преодолеть сла­ бую телесную оболочку людей наполнялось различным содержанием. В ситуации кризиса классической культуры родилось ницшеанство, где вполне телесный Сверхчеловек уничтожает слабого «последнего человека». К каким катастрофическим результатам привело это стремление к совершенству у нацистов, нет смысла говорить. На та­ ком фоне склонность к демонизации трансгуманизма так же непро­ дуктивна, как и стремление поскорее избавиться от теперешнего тела человека по причине явных преимуществ, возможно, неорганическо­ го тела постчеловека. По большому счету речь здесь идет о потенциальных возможно­ стях науки и техники, на которые, собственно, и делают ставку в Тех­ нологии НБИК. То, что благодаря развитию техники человек менял облик мира, не меняя собственного биологического облика, — давнее открытие человечества. В отличие от других организмов он усиливал, совершенствовал и умножал свои способности за счет неорганиче­ ских технических средств и даже других организмов. Лошадь и авто­ мобиль как усиление наших ног, очки, микроскоп и телескоп как уси1 2 См.: КутьфёвВ.А. Время Mortido// Вопросы философии. 2011. С. 19-21. Там же. С. 24. 416 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ление глаз. Примеров столько, сколько достижений техногенной ци­ вилизации, которая стала «неорганическим телом» человека. Сущность труда как деятельности, преобразующей мир, и спо­ соб жизнедеятельности человека — отдельная тема. В ситуации с Технологией НБИК важно то, что с помощью техники человек со­ вершенствовал не только свои «съемные» органы, превращавшие его в универсальное существо, но и компенсировал недостатки ор­ ганического тела. И в этом смысле сказочную Бабу-ягу костяную ногу можно считать одним из примеров такого рода. От протезиро­ вания внешних органов цивилизованное человечество, как извест­ но, перешло к протезированию органов внутренних. Ни один из противников трансгуманизма, скорее всего, не откажется от пер­ спективы подобного успешного вмешательства в свой организм. Но существуют ли такие границы протезирования нашего организма, преступив которые можно утратить то, что сегодня принято назы­ вать человеческой «идентичностью»? Двигаясь противоположными путями, ученые упираются в одну и ту же проблему различия между человеческим и сверх- или нечелове­ ческим, а шире — в вопрос о сущности человека. Создатели искусст­ венного интеллекта надеются усовершенствовать машину до уровня человека, а те, кто с помощи технологий совершенствуют наше тело, наоборот, превращают человека в того, кого сейчас именуют кибор­ гом. Но где та грань, переходя которую машина становится челове­ ком, а человек машиной? Если нанотехнологии и имитация живой ткани сделают воз­ можным замену человеческого мозга, сохранит ли человек при этом свою индивидуальность, личность? Ведь, в конце концов, за­ чем мне бессмертие тела, если это буду уже не я? Если личность — производное телесной организации, то, меняя тело, мы ее утрачи­ ваем. Если личность — производное общения с себе подобными, не только современниками, но и предками через мир культуры, то можно предположить, что иное существование скажется на духов­ ном самочувствии, но это будет мое самосознание и самочувствие при помощи «отремонтированного» мозга как средства, но не сути моей души. Прогресс в «ремонте» человеческого тела — факт нашей жизни, и будет продолжаться, несмотря на любые заклинания. Сомнителен и мораторий на развитие робототехники. Люди подменили машинами свои физические усилия, затем передали им функцию управления та- 417 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... кими работающими системами. Теперь на повестке дня кооперация с машинами в создании нового, т. е. в творчестве. Но возможно ли в итоге порабощение человека «умной» машиной? Киборг — не робот, поскольку он обрел свою личность как чело­ век, и вопрос состоит в том, где и когда он может ее утратить. У робо­ тотехники другая задача — как обрести искусственному созданию са­ мостоятельность и качества, аналогичные человеческим. Можно ли вдохнуть душу в эту штуковину иначе, чем это происходит у людей, т. е. через программирование, а не через воспитание, образование, предметное общение? Первая волна мифотворчества по поводу машины, превосходя­ щей человека, а потому способной его подчинить, пришлась на сере­ дину XX в. и связана с созданием ЭВМ. Хотя этот страх возник уже в индустриальную эру, где технический прогресс стал враждебен лю­ дям, жившим ручным трудом. Отсюда отношение луддитов к машин­ ной технике. Новая волна подобных страхов поднимается сегодня в связи с успехами в робототехнике, где компьютер исполняет роль искусственного мозга у робота, или андроида. У мифологии такого рода была своя эволюция. Мифы первой вол­ ны касались прежде всего моделирования человеческого интеллекта и создания машинного сверхинтеллекта. В центре мифов нашего вре­ мени, как уже говорилось, создание искусственного существа, дейст­ вующего аналогично человеку в качестве субъекта. И впервые эта коллизия предстала зримо в «Терминаторе» Д. Кэмерона, который превратил расплывчатые образы роботов середины XX века во впе­ чатляющий образ искусственного Сверхчеловека, наделенного вна­ чале «злой», а потом «доброй» душой. Есть мнение, что меньше всего питают иллюзии по поводу воз­ можностей современного «искусственного интеллекта» те, кто его программируют. Нынешний программист видит разницу между собой как творческим субъектом и машиной, действующей согласно его же программе. «Нельзя не заметить, что даже самая изощренная и эф­ фектная программа, умело имитирующая человеческую интеллекту­ альную деятельность, для человека, понимающего механизмы ее рабо­ ты, теряет всю видимость "разумности"»1, — утверждал Ю. Петрунин на семинаре «Философско-методологические проблемы искусствен1 Петрунин Ю.Ю. Искусственный интеллект как феномен современной культуры. См.: http://iph.ras.ru/uplfile/ai/petrunin.pdf 418 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ного интеллекта» в 2011 году. Так мыслит или не мыслит «умная» ма­ шина? Абстрактный ответ на этот вопрос антиномичен: машина способ­ на и не способна мыслить. А преодоление этой антиномии там, где мы смотрим на мышление в его исторической перспективе — приме­ нительно к человечеству и конкретной личности. И по большому сче­ ту речь идет о различии между рассудком и разумом. Мыслит ли в одноименной сказке «набитый дурак»? И доступно ли такое мышление «умной» машине? Первое проявление глупости здесь буквальное понимание слов. Второе и главное проявление глу­ пости — действие по шаблону. Как известно, мать советует дураку сказать тем, кто молотит горох: «Таскать вам не перетаскать!» И он честно повторяет эту формулу людям, несущим покойника. Известно определение искусственного интеллекта как «быстро­ действующего идиота», поскольку, как и дурак из сказки, он не спосо­ бен принимать собственные решения. Машина способна на перебор уже имеющихся вариантов, но не на синтез нового способа действий. Но если у дурака есть шанс в дальнейшем набраться ума, то этого не смогла сделать машина, пройдя путь от ЭВМ до современной ком­ пьютерной техники. И то же с формальной однозначностью терминов и команд, в от­ личие от многозначности естественного языка. Выбор значения сло­ ва у человека определяется ситуацией, которая всегда конкретна. Но эта ситуация находится по ту сторону мышления машины, в пред­ метной жизни человека, где есть цели и средства их достижения. По­ становка цели и выбор необходимых средств и есть самостоятельное решение человека. Задача энтузиастов «машинного мышления» в наши дни, пишет С.Н. Бычков, — создание «искусственного интеллекта», решающего хотя бы часть задач неалгоритмического характера, с которыми еже­ дневно справляется естественный интеллект. Но в основе решения любой задачи у человека лежит умение «отбрасывать значительную часть наличных знаний и концентрировать внимание только на тех из них, которые действительно имеют отношение к интересующей зада­ че», что и является «необходимой предпосылкой успешной деятель­ ности человеческого интеллекта»1. Иначе говоря, «самообучающая1 Бычков С.Н. Естественный и искусственный интеллект: Проблемная лекция. М., 1995. С. 26. 419 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... ся» машина должна суметь сгенерировать новый алгоритм своих дей­ ствий. Но как такое возможно? Отрицательный ответ на этот вопрос связан с самим устройством искусственного интеллекта, «мышление» которого состоит в работе с формализованным знанием. Именно таковы фактические сведения и алгоритмы в ЭВМ, безразличные к своему содержательному прообра­ зу. И если удастся найти другие предметы, удовлетворяющие тем же связям, то тогда одними и теми же знаками будут представлены сразу две разные предметные области. При этом все преобразования зна­ ний будут определяться исключительно знаковой формой закодиро­ ванных фактов. Так устроен «машинный интеллект», в котором на «очную ставку» с проблемой должны быть выставлены все наличные знания. Сужение предметной области поиска и, наоборот, привлечение сведений из дру­ гих областей, позволяющее успешно решить задачу, у человека опреде­ ляется конкретной содержательной целью поиска. Иначе говоря, целе­ вая обусловленность поиска у людей принципиально неалгоритмична. А превратившись в алгоритм, такое действие перестает быть самостоя­ тельным и поисковым. Оно уже не будет решением задачи. Таким образом, заключает Бычков, для создания эффективно действующих интеллектуальных систем необходимо научиться вос­ производить искусственно целенаправленный отбор наличных сведе­ ний в соответствии с предъявляемой задачей. Но в силу принципи­ альной неразрешимости этой задачи такого рода выбор машина оставляет за человеком, который руководствуется целями, сформули­ рованными за пределами области «машинного мышления». Критика возможностей искусственного интеллекта, предлагаемая Бычковым, интересна именно тем, что рождена взглядом не извне, а изнутри логики создания «умных» машин. Но те же вещи, уже от име­ ни естественного интеллекта, утверждает психолог В.П. Зинченко, который пишет, что получение нетривиальных результатов в интел­ лектуальной деятельности человека возможно только благодаря ее свободе. «Наличие свободы в выборе и полагании целей с неизбежно­ стью влечет за собой свободу в выборе средств и способов достижения результата. Отсутствие какого-либо из этих компонентов или его жесткая фиксация трансформируют умственную деятельность в не­ что иное, например, в искусственный интеллект»1. 1 Зинченко В.П. Искусственный интеллект и парадоксы психологии / / Будущее искусственного интеллекта. М м 1991. С. 191. 420 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии От самостоятельного выбора до свободы творчества дистанция ог­ ромного размера. Но машина не способна сделать даже первый шаг в этом направлении, хотя прекрасно обрабатывает уже готовое знание, следуя заданным правилам. Современные машины мыслят, но это лишь репродуктивная составляющая ума, которую человеку удобно передать машине. Создание удобного для пользователя «дружественного интерфей­ са», в которые облачаются «умные компьютерные программы», пи­ шет Бычков, можно только приветствовать, но это не приближает к цели, которая вдохновляла многих пионеров искусственного интел­ лекта созданию таких интеллектуальных систем, которые могли снять с человека хотя бы часть его творческих забот, связанных не с копиро­ ванием старого, а с созданием действительно нового, доселе не суще­ ствовавшего в совокупной человеческой культуре. А может быть, это не так уж и необходимо, и лучше оставить машине — «машинное», а человеку — «человеческое»?1 Компьютерам, читаем мы в этой рабо­ те, лучше все же оставаться помощниками людей в их разнообразных делах. Стремление же поменять местами машину и человека было лишь мечтой на заре компьютерной эры. Тем не менее современные успехи в робототехнике, как уже гово­ рилось, провоцируют новые надежды создать не только творчески мыслящую машину, но существо, которое, вооруженное компьютер­ ным мозгом, будет действовать и поступать, аналогично человеку. Но тогда к искусственному существу должен быть применим крите­ рий не только целевой, но и идеальной детерминации, в чем, собст­ венно, и проявляет себя человеческая душа. Надо сказать, когда дурак обижается на мать, будто она его непра­ вильно учит, в этом есть доля правды. Ведь мать не помогает ему по­ нять смысл слов и применить принцип действия к конкретной ситуа­ ции. Не только решение теоретических задач, но прежде всего прак­ тическое поведение человека должно быть осмысленным. А смысл поступков в конечном счете определяется идеалами. Именно идеаль­ ная мотивация поведения человека есть выражение высшей формы разума, который Кант именовал «практическим» и ставил выше «тео­ ретического». И в то же время не нужно быть андроидом, чтобы ока­ заться бездушным существом. 1 Bledsoe W.W. I Had a Dream: AAAI Presidential Address. 19 August 1985// AI Magazine. 1986. V. 7. № 1. P. 57-61. 421 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... Специалистов в робототехнике интересуют внешние проявления души, представленные в нашей мимике и пантомимике. Но при соб­ людении всех правил приличия люди довольно легко замечают искус­ ственность в поведении себе подобных. Задолго до андроидов в языке существовали выражения «искусственная улыбка», «неестественное поведение» «бездушный поступок» применительно к интеллектуаль­ но развитым людям. Даже при наличии интеллекта можно не иметь совести. Но каким образом она определяет наши поступки? Легальный поступок у Канта тем и отличается от морального, что первый определяется правилами и принятыми нормами, а второй — категорическим императивом, который не поддается программиро­ ванию, поскольку каждый раз представлен в особом поступке. Душа как идеальное начало в поведении человека означает целеполагание особого рода, выраженное в императиве: человек — всегда цель и ни­ когда — средство. Для Канта, как и для Сократа, важно, чтобы добро было результатом личного выбора. Но этот выбор, как любое целепо­ лагание, требует в каждом случае своих средств. Идеал милосердия един, но действовать милосердно можно по-разному, например, от­ бирать наркотики и, наоборот, давать их, как это делают при смер­ тельных болезнях. И такого рода жизненные ориентиры возникают не только при целенаправленном воспитании и образовании, но в самом простран­ стве культуры, где формируется личность. И в этом плане благодаря искусству, которое Л.С. Выготский определял как «общественную технологию чувств», у людей появляется не только художественный вкус, но умение сочувствовать и сопереживать. Искусство — концент­ рированный опыт «практического» разума, который нет возможно­ сти сымитировать, а потому творцы андроидов склонны считать его балластом на фоне научного решения всех проблем. Уже в период формирования мифа об «умной» машине, в споре «физиков» и «лириков», проявилась тенденция не только сужать ин­ теллект до формальных рассудочных операций, но и выводить за пре­ делы разума мораль и искусство. Если в классической философии, начиная с Сократа, нравственность предстает как выражение высше­ го разума, то для постчеловека, будь он киборгом или андроидом, в силу неформализуемости нравственных коллизий, она оказывается излишней. Рассудочный человек, конечно, откажет героям и гениям в нали­ чии ума, поскольку для рассудка отказ от материально-телесных 422 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии благ — проявление глупости. Разницу между добром и злом с этой точки зрения, лучше просчитывать, исходя не из принципов, а из пользы. Процветание собственного тела выше, чем благо для всех, справедливость и равенство только предпосылка улучшения личной жизни. И другой в соответствии с такой логикой вполне может стать средством. В этом свете стремление постгуманистов к телесному бессмертию постчеловека выглядит как противоположное и христианскому, и со­ кратовскому. Наука в таком виде выступает как антипод классической философии, которая видит в человеческой душе идеальную силу, про­ тивоположную телу. Речь идет об обуздании телесного эгоизма в ин­ тересах общего блага, представленного идеалом. Идеальная мотива­ ция — способ оценки себя с позиции другого, социального целого, вечности. Но искусственная душа у постгуманистов должна служить иным целям, а потому, лишенная идеальной детерминации, будучи производным компьютерного мозга, она по сути своей материальна. Репродуктивный момент присутствует в нашей деятельности, и в этом смысле любой человек немного машина, но только в опреде­ ленных социальных обстоятельствах машиноподобная рутина ста­ новится сутью деятельности большинства, а творчество — привиле­ гией немногих. И не просто технический, но социальный прогресс должен расставить все по местам, отдав «умной» машине интеллек­ туальную рутину. Войны людей и роботов и порабощение в будущем первых вторы­ ми, конечно, миф, но вовсе не миф возможность порабощения одних людей другими при помощи робототехники. Об этой исторической диалектике в связи с проблемой искусственного интеллекта еще в 60-х годах прошлого века писал Э.В. Ильенков. Разоблачая миф о Машине-злодее, Машине-демоне, Машине — враге человечества, он подчеркивал, что вовсе не Машина сама по себе превращает одного Человека в Раба, воспитанного в голодной дисциплине, а другого — в Жадного Хама, продавшего свое человеческое достоинство за радости комфорта и мещанства1. «Человек, имея дело с машиной, в действи­ тельности имеет дело с другим человеком, с ее создателем и хозяи­ ном, и Машина — только посредник между людьми. Проблема «Че­ ловек — Машина», если покопаться в ней чуть поглубже, оказывается на поверку проблемой отношения Человека к Человеку, или, как выСм.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. С. 32. 423 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... разился бы философ старой закалки, проблемой отношения Человека к самому себе, хотя отношения и не прямого, а «опосредствованного» через Машину»1. Вопрос об «умных» машинах потому так мифологизирован, что мы только в начале пути, и сами создатели роботов, подобно Хироши Ишигуро, еще не видят ясно перспектив использования их созданий в мире культуры2. Роль и место этих устройств будет определяться жизнью. И жаль, если это удивительное орудие человека в очередной раз превратят в оружие. Тогда войны будущего будут не с лишенными души андроидами, а с лишенными души людьми. 3. Д. Сёрл: старое и новое в понятии сознания «Философия сознания» в его современной трактовке — это нечто заведомо широкое и методологически размытое. В отличие от мони­ стически выдержанных направлений прошлого за такой «философи­ ей сознания» скрывается только проблематика. Именно она, как предполагается, должна определять направленность нашей мысли. Но старое, изгнанное в дверь, как известно, возвращается в окно. И это происходит с самыми оригинальными философами нашей эпо­ хи. В условиях философского плюрализма все так же, как и раньше. Чем радикальнее размежевание с наследием прошлого, тем прими­ тивнее то, что выдают за новацию. Философия уже давно не «царица наук». Истину о человеке и со­ знании она открывает не посредством умозрения, а на основе кон­ кретных фактов. И здесь со второй половины XX в. вне конкуренции оказываются нейрофизиологи и специалисты по компьютерной тех­ нике. Именно они, а не писатели или психологи выступают в роли «инженеров» человеческих душ. В Североамериканских Штатах с ними могут состязаться, наверное, только психотерапевты. Но лишь тогда, когда стоят на твердой почве конкретной науки. Завершая преамбулу, стоит отметить мощь американского промоушена. Ведь в условиях массовой культуры недостаточно дать фило­ софу слово. Его популярность нужно сделать. Если выражаться еще грубее, нужно сделать его аудиторию. И в прежние времена короля играла свита. Но у информационного общества здесь особые возмож­ ности. А потому, читая книгу Д. Сёрла «Открывая сознание заново»3, 1 2 3 См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. С. 30-31. http://www.youtube.com/watch?v=UQ5mVucsXsw Сёрл А- Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. 424 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии я воспринимала ее не просто как философский текст, выражающий позицию, реплику в споре, личность автора. Для меня это прежде все­ го факт массовой культуры, констатирующий состояние «популяр­ ной» философии сегодня. Когда-то И.-Г. Фихте написал работу с характерным названием «Ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущно­ сти новейшей философии. Попытка принудить читателей к понима­ нию». Через полвека после издания этой работы в СССР мне при­ шлось разрезать в научной библиотеке страницы ее единственного экземпляра, оказавшись первым читателем1. И вчера, и сегодня Фих­ те не способен выдержать конкуренцию с философами, равными Д. Сёрлу, которыми зачитывается западная публика. И это загадка, достойная рассмотрения, наряду с тайной сознания... *** В обстоятельной статье Д.И. Дубровского2, посвященной «откры­ тиям» Д. Сёрла, уже высказывалось недоумение по поводу самоопре­ деления его философской позиции. Занимаясь философией сознания, Сёрл уверен в бесперспективности анализа этой проблемы в традици­ онной для философской классики системе координат: идеализм — материализм, монизм — дуализм. Современные исследования мозга, пишет он, дают простое решение проблемы сознания и тела. И адек­ ватное название такого решения — «биологический натурализм»3. Д. Сёрл здесь предельно честен, поскольку его «биологический натурализм» как раз и означает, что сознание есть результат совершен­ ствования мозга в процессе эволюции природы. А если так, то нейро­ физиологам и карты в руки. Но при таком откровенно позитивист­ ском настрое в решении проблемы человека Сёрл искренне надеется, что нейрофизиологи смогут открыть в сплетениях нейронов «неэлиминируемую субъективность», а именно интенциональность, способ­ ность радоваться и страдать, склонность размышлять о самом себе и природе сознания. Атеист Сёрл верит в такого рода эмерджентные «состояния» ней­ ронов как его антиподы в Бога. Он без конца повторяет, что созна1 См.: Фихте И.-Г. Ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущ­ ности новейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию. М.: Соцэкгиз, 1937. 2 Дубровский Д.И. Новое открытие сознания?// Вопросы философии. 2003. № 7. я См.: Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 24. 425 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... ние — это нечто, что не редуцируется к физическому, и также настой­ чиво утверждает, что сознание тождественно ему Указанные проти­ воречия удачно подмечены Дубровским1. Как и то, что в отчаянной борьбе с редукционизмом Сёрл договаривается до того, что сознание есть «нередуцируемо субъективный физический компонент как ком­ понент физической реальности»2. Для Сёрла нет ничего страшнее двух вещей: мысли в отрыве от тела (дуализм) и тела, лишенного мысли, чувства, т. е. субъективности (материализм). И он не знает другого средства спасения, как «во­ гнать» наши мысли и чувства в саму структуру мозга, превратив их в «качественно новые» отношения между нейронами. Соединенные Штаты Америки — великая страна, для которой ин­ тересна прежде всего собственная история и где история филосо­ фии — это то, что декларировалось в аналитической традиции пять­ десят лет назад. В качестве классического наследия в книге Сёрла представлены работы Л. Витгенштейна и П. Фейерабенда, X. Патнэм и «раннего» Р. Рорти. Занимаясь «философией сознания», он ссыла­ ется лишь на книги англоязычных авторов, сочиненные в XX веке. Среди всемирно известных европейцев его внимания заслужили лишь М. Фуко и 3. Фрейд, который написал самую «старую» книгу в библиографии Сёрла 1915 года. Подобного рода ставка на «современность» во всех вопросах про­ истекает все оттуда же — из особенностей массовой культуры. И если технический прогресс считать безусловным эталоном, то и в филосо­ фии учения живших сто-двести лет назад — подобие антиквариата, не заслуживающее специального цитирования. Понятно, что и здесь могут быть специалисты — любители «философского» антиквариата. Что касается Сёрла, то для него в прошлом наиболее значим лишь Декарт, но лишь как символ ужасающего дуализма. Наверное, именно отставание в научно-техническом прогрессе позволяет нам лучше видеть, что «новое» Сёрла — это забытое «ста­ рое». И как это часто бывает, оригинал может оказаться лучше ко­ пии. Что касается истории с Сёрлом, она удивительно напоминает то, что случилось почти двести лет назад с немцем Л. Фейербахом, который настаивал на том, что «в мозговом акте как высочайшем акте, деятельность произвольная, субъективная, духовная и дея­ тельность непроизвольная, объективная, материальная тождествен1 2 См.: Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? С. 95. Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 125, 426 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ны, неразличимы»1. Но до конца, считал он, тайну отношения духа и материи сможет открыть лишь медицина будущего. Подобно Сёрлу с его борьбой против «элиминативного материа­ лизма», Фейербах питал отвращение к популярным в середине XIX века К. Фохту, Л. Бюхнеру и Я. Молешотту, которые, вслед за французом П.Ж.Ж. Кабанисом, верили, что мысль выделяется моз­ гом, как желчь печенью, а моча почками. Известно, что Фейербах лично выступил с критикой физиолога Молешотта. А чтобы отмеже­ ваться от такого вульгарного материализма, он предпочитал именовать свои взгляды «реальным гуманизмом». Но проводя эту историческую параллель, нельзя забывать, что меж­ ду «реальным гуманизмом» Фейербаха и «биологическим натурализ­ мом» Сёрла есть важное различие. Ведь Сёрл с его «новым» решением проблемы ментального и физического — плоть от плоти той традиции позитивизма, в рамках которой искореняли такие «мнимости», как «душа», «дух», «идеальное» — все то, что вполне «реально» для Фейер­ баха. «Духовные» качества человека у Фейербаха существенно отлича­ ются от той «субъективности», за которую воюет Сёрл. «Субъектив­ ность» у Сёрла выражается прежде всего в интенциональности наших мыслей и в противоположном по смыслу осознании собственного Я, которое он, будучи изначально лингвистом, именует «точкой зрения первого лица». Все это у Сёрла сродни «ментальным состояниям» жи­ вотных. И на аргументации в пользу последнего стоит остановиться подробнее, поскольку по ней можно судить не столько об эволюции, сколько о деградации философии в условиях научного прогресса. «Рассмотрим следующий пример, — пишет Сёрл. — Я совершен­ но убежден, что моя собака так же, как и другие высшие животные, обладает ментальными состояниями, подобными визуальному опыту, переживаниям боли, ощущениям жажды и голода, холода и тепла. Итак, почему же я столь убежден в этом? ...Не только потому, что со­ бака ведет себя так, что это согласуется с наличием сознательных ментальных состояний, но также потому, что я способен видеть отно­ сительное сходство каузального базиса поведения в собачьей физио­ логии с моим. ...Например, я могу видеть, что это собачьи уши; это ее кожа, это ее глаза, что если вы ущипнете кожу, то поведение будет соответствовать пощипыванию кожи, если же вы закричите ей в ухо, то получите поведение, соответствующее тому, когда кричат в уши»2. 1 2 Фейербах А. Сочинения. Μ.; Λ., 1926. Т. 1. С. 13. Там же. С. 84. 427 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... Такого сознания, утверждает далее Сёрл, нет у многих других су­ ществ. «У меня нет ни малейшей идеи, — со всей серьезностью пишет он, — относительно того, сознательны ли блохи, кузнечики, крабы или черви. Мне представляется, что я могу с полным основанием оставить такие вопросы нейрофизиологам»1. Указанная «аргументация» направлена против бихевиоризма. Но суть не в этом, а в том, что приведенные рассуждения Сёрла — это пример того современного стиля философствования, который ориен­ тирован на здравый смысл. Предположим, Молли поссорилась с Дол­ ли, читаем мы в пособиях по практической психологии для амери­ канских домохозяек. Рассмотрим поведение Джона, пишет Сёрл, где «убеждение Джона в том, что пойдет дождь, проявится в поведении закрывания окон, только если мы примем ту дополнительную гипо­ тезу, что Джон не желает, чтобы дождевая вода попала в окна, а также что Джон убежден, что открытые окна пропускают воду»2. Д.И. Дубровский определяет особенности такой «философии» как «журнализм». Соглашаясь с этим, добавлю, что суть такого «жур­ нализма» в подмене мысли наглядным примером. В России во време­ на В.Г. Белинского журналистика заменяла философию, принуждая читающую публику мыслить. Сегодня ситуация сменилась на проти­ воположную, и американская философия ориентирует читателя на визуальные образы, привычные для эпохи телевидения и Интернета. Читателю предлагают довольствоваться визуальной картинкой, заме­ няющей работу воображения. А последняя, если верить Канту и Фих­ те, как раз и составляет корень всех наших способностей. Фихте принято именовать «субъективным идеалистом». В свою очередь, он выступал против кантовского «дуализма», когда в качест­ ве ноуменов постулируются и «вещь в себе», и «трансцендентальный субъект». Но «умный» идеализм всегда был перспективнее естествен­ но-научного материализма, в трех соснах которого, несмотря на все размежевания и различения, плутает Сёрл. Преддверие естественно-научного материализма можно найти уже у Аристотеля, который впервые стал рассматривать душу как эн­ телехию тела. Но тот же Аристотель был вынужден признать душу человека, в отличие от растения и животного, причастной вечному Богу, а не бренному телу. И прежде всего потому, что в мышлении че­ ловека он видел не просто интенциональность как обращенность к 1 2 Фейербах Л. Сочинения. Т. 1. С. 85. Там же. С. 52. 428 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии миру и рефлексию как обращенность на себя, свои чувства и мысль. Мыслить, согласно Аристотелю, это не просто сопоставлять и рассчи­ тывать, что доступно в определенной мере и высшим животным. Мыслить — это постигать внутреннюю, или, как затем скажут, суб­ станциальную форму вещи. Таким образом, ум, в отличие от чувства, способен постигать общее. Но для знания общего и вечного, считает Аристотель, в теле отдельного человека органов нет. Этой способно­ стью может обладать лишь бестелесный ум. В том, что такая постановка вопроса отнюдь не банальна, свиде­ тельствует история аристотелизма, да и всей классической филосо­ фии. И даже материалист Фейербах, утверждавший, что способность мыслить — это родовое качество человека, понимал ее во всей «клас­ сической» полноте. Птичка, по Фейербаху, в соответствии с тем, что дано ей природой, поет и клюет зерна, лев рычит и рвет антилопу, а человек мыслит, трудится и испытывает к ближнему возвышенное ре­ лигиозное чувство. Ироничная форма изложения здесь не меняет сути фейербахиан­ ской трактовки родовой сущности человека. И тем не менее, в отли­ чие от выдающегося современного философа Сёрла, Фейербах даже в чувствах человека видит фундаментальное отличие от того, что мы наблюдаем у животных. «У человека нет обоняния охотничьей соба­ ки, — пишет он в работе «Основные положения философии будуще­ го», — нет обоняния ворона; но именно потому, что его обоняние рас­ пространяется на все запахи, оно свободнее, оно безразличнее к спе­ циальным запахам. Где чувство возвышается над пределами чего-либо специального и над своей связанностью с потребностью, там оно воз­ вышается до самостоятельного теоретического смысла и достоинст­ ва... Даже низшие чувства — обоняние и вкус — возвышаются в чело­ веке до духовных, до научных актов»1. Таким образом, своеобразие человеческого чувства, согласно Фейербаху, в том, что человек всегда не только видит и слышит, но и понимает воспринятое. Отсюда его способность проникать в основы мира глубже, чем это может сделать животное, хотя физические воз­ можности органов чувств у человека, как правило, слабее. Мысль о чувствах человека в качестве «чувств-теоретиков» он заимствует у Геге­ ля. Но это еще не все, поскольку универсальность человеческих чувств Фейербах связывает и со способностью видеть красоту формы и гармоФейербах А. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 201. 429 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... нию цвета. Только человек, по его мнению, способен к незаинтересо­ ванному созерцанию того, что не представляет для него практического интереса. Фейербах постулирует в качестве некой «родовой сущности» все духовное богатство человеческого существа. И эта полнота чувств и универсальность мыслей отождествляется им с мозговым процессом так же, как и у нашего современника Сёрла. Сравнение философской позиции Сёрла с Фейербахом продуктивно как раз потому, что «мен­ тальное», которое в классической философии именовалось «духом» и «душой», у последнего еще не редуцировано до той степени, когда отождествление его с «физическим», т. е. телом, нашим организмом воспринимается как вполне возможное и даже естественное. Духов­ ное богатство человека явно не вмещается в то «ложе» из мозговых процессов, которое заготовил ему Фейербах. И потому предложенное им решение проблемы души и тела (ментального и физического) не нашло в XIX веке широкой поддержки. Здесь стоит уточнить, что Л. Фейербах — переходная фигура. Од­ ной ногой он стоит на почве классической, прежде всего немецкой классической философии, а другой — уже на почве неклассического философствования. Недаром, не примирившись с Гегелем, он к кон­ цу жизни испытывал живой интерес к воззрениям А. Шопенгауэра. Таким образом, Фейербах предлагает тождество мысли и мозга в преддверии неклассической философии, а Сёрл — почти через двести лет, когда неклассическая философия завершает свой путь. Можно, конечно, вести спор о том, есть ли будущее у неклассиче­ ского философствования. Можно спорить о том, принадлежит ли фи­ гура Сёрла, как и весь философский позитивизм, к неклассической философии XIX-XX вв., или с него начинается новая эпоха в разви­ тии этой формы знания. Несомненно, однако, то, что Сёрл, подобно А. Шопенгауэру, С. Киркегору, Ф. Ницше и другим столпам неклас­ сической философии, отрицает роль классического наследия в иссле­ довании человека и сознания. А потому он считает возможными лишь три варианта соотношения ментального и физического. Ментальное существует отдельно от физического (дуализм). Ментальное — то же самое физическое (материализм). Ментальное — нефизическое со­ стояние физического, совпадающее с эмерджентными отношениями в мозговых процессах (позиция самого Сёрла). Но именно потому, что для Сёрла классическое наследие — сплошной антиквариат, он не видит в прошлом принципиально иных 430 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии подходов к той же проблеме, когда, к примеру, ментальное оказывает­ ся производным не от отношений между нейронами, а от отношения человека к миру. Ведь в качестве физического в этой ситуации может фигурировать не только мозг, но и мир вокруг мыслящего субъекта. И тогда ментальное можно трактовать в свете отношения одного фи­ зического к другому физическому. Однако разобраться с природой ментального в свете действий мыслящего существа с немыслящей природой Сёрлу мешают не только предпочтения, но и предубежде­ ния. Судя по тексту «Открывая сознание заново», настоящей манией для Сёрла стала борьба с бихевиоризмом, для которого ментальные феномены не столь существенный момент во взаимосвязи стимульного воздействия и внешнего поведения организма. В конце концов ментальное, считают бихевиористы, можно рассматривать как некую предрасположенность к определенному поведению. Порок бихевио­ ризма Сёрл усматривает в том, что человек здесь не субъект, а доволь­ но сложный объект. И тот же порок Сёрл усматривает в различных версиях функционализма, популярность которых возрастает вместе с успехами компьютерных технологий. «Любая система вообще, вне зависимости от того, из чего она сде­ лана, — излагает Сёрл суть функционализма, — могла бы обладать ментальными состояниями, если только предполагается, что у нее правильные каузальные отношения между внешними воздействиями на нее, ее внутренним функционированием и поведением на выходе»1. Современная «когнитивная наука», которая с 50-х годов XX в. стала изучать мышление в свете совершенствования информационных си­ стем, по понятным причинам отождествляет ментальное с компью­ терными программами. А в результате субъективные черты сознания опять оказываются несущественными. И даже там, где в свете силь­ ной версии «искусственного интеллекта» полагают возможным со­ здать компьютерный аналог человека, он воспринимается как некий «безличный» разум, достоинство которого в том, что творчество здесь избавлено от субъективных «помех». Таким образом, у Сёрла два главных врага — бихевиоризм и ког­ нитивная наука. И в обоих случаях ментальное оказывается связан­ ным с функционированием некой системы, а в результате ментальное с необходимостью утрачивает свою субъективную природу, или, как Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 58. 431 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... пишет Сёрл, свои специфические qualia. Как мы уже знаем, «спасе­ ние» специфических свойств ментального Сёрл видит в том, чтобы связать их не с тем, как действует система, а с тем, из чего она состоит. Иными словами, разочаровавшись в современных версиях функцио­ нализма, Сёрл противопоставляет им физикализм. Одна крайность по­ рождает другую. В итоге субъектом, наряду с животными, человек становится не благодаря способу жизни, а благодаря структурам моз­ га. Именно там, в глубинах мозга, согласно Сёрлу, зародилось мен­ тальное в процессе биологической эволюции. И потому интенциональность и рефлексия свойственны мозгу самому по себе, вне и поми­ мо поведенческих актов. Последнее Сёрл «обосновывает» опять же на уровне современной визуальной культуры с помощью «мысленного эксперимента». Во­ образите, пишет он, что отчаянные доктора, избавляя вас от слепоты, заменили силиконовыми чипами весь ваш мозг. Теперь, когда вы тря­ сете головой, то слышите дребезжание чипов. Возможно, что ваша ментальная жизнь не изменится. А возможно, что силиконовый мозг будет руководить зрением и поведением, но это уже будет не ваш мозг и не ваше тело. «Вы, к примеру, обнаруживаете, что когда доктора проверяют ваше зрение, — пишет Сёрл, — вы слышите, как они гово­ рят: "Мы показываем красный объект напротив вас; скажите нам, по­ жалуйста, что вы видите". Вам хочется закричать: "Я же ничего не вижу. Я совершенно ослеп". Однако вы слышите, как ваш голос гово­ рит так, будто он совершенно не поддается вашему контролю: "Перед собой я вижу красный объект"»1. Этот «ужастик» сам Сёрл характеризует как эмпирически невоз­ можный, но тем не менее логически и концептуально правомерный, поскольку способен доказать, что вы можете быть «в конечном счете ментально мертвы», хотя «ваше внешне наблюдаемое поведение оста­ ется тем же самым»2. Оставим на совести автора рассуждения о том, что внешне наблю­ даемое поведение киборга и живого человека «то же самое», хотя не только врачи, но и обычные люди видят, когда кто-то из нас «не в себе». И чем же «хочется закричать» киборгу, когда он уже «сам не свой», лишившись собственных мозгов? Подобных «иллюстраций» в книге Сёрла «Открывая сознание за­ ново» много. Но суть дела, конечно, не в этой экстравагантной мане1 2 Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 78. Там же. С. 79. 432 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ре обоснования. Ведь если Сёрл утверждает, что специфика сознания выражается в его интенциональности, то вопрос вопросов — действи­ тельно ли она определяется структурой мозга? И как выглядит серьез­ ная альтернативная точка зрения? Здесь мы вновь должны обратиться к XIX веку. И альтернативу воззрениям американского философа Сёрла в этом случае составят взгляды русского физиолога и психолога И.М. Сеченова. Парадок­ сально именно то, что натурализму в воззрениях философа, будет про­ тивопоставлена позиция физиолога, который посредством реальных, а не мысленных экспериментов подтвердил догадки философов о де­ ятельном внеполагании психического образа субъектом. Если ментальное у Сёрла есть нечто, лишь обращенное вовне, то психический образ, согласно Сеченову, именно внеположен. И воз­ можность такого способа бытия психического, с его точки зрения, таится уже в рефлексах простейших живых существ. Описывая в ра­ боте «Рефлексы головного мозга» опыты с обезглавленными лягуш­ ками, Сеченов доказывает, что уже рефлекторное движение лягушки ориентировано вовне, отражая изменения внешней среды1. То же самое Сеченов обнаружил в так называемом «темном мы­ шечном чувстве», возникающем при сокращении и вытяжении мыш­ цы. Исследуя мышцы человека, он доказывал, что уже «рабочее дви­ жение» отнесено к внешнему предмету. Хоть и в смутной форме, но оно выражает пространственные отношения, подобно тому, как это происходит с чувством тяжести переносимого груза. Именно отсюда, из действий живого организма в окружающей среде, а не из структур мозга Сеченов выводил своеобразие психиче­ ских образов. Если американский бихевиоризм формировался на почве позитивистских воззрений на человека, то Сеченов считал сво­ им учителем немца Г. Гельмгольца, а тот связывал свое учение о пси­ хофизиологическом механизме ощущений с «трансцендентальной эстетикой» И. Канта. Соотношение взглядов Канта и Гельмгольца, Гельмгольца и Сече­ нова — особая тема. Здесь же важно отметить, что психический образ Сеченов не считал отпечатком в материальном субстрате мозга или органов чувств. Сеченов интересен именно тем, что эксперименталь­ но доказывает: ощущения возникают и упорядочиваются не внутри, а вне субъекта — системой его внешних действий. Копию с предмета, 1 См.: Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга / / Сеченов И.М. Избр. филос. и психол. произв. М., 1947. С. 99-101. 433 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... по его убеждению, снимает движение органа чувств по поверхности предмета. Именно оно воспроизводит форму внешнего предмета в своей траектории. Уточняя эту идею на материале зрения, Сеченов говорит о своеобразном зрительном «ощупывании» внешнего пред­ мета, а сам орган зрения называет «щупалом»1. Но особенность тако­ го ощупывания заключается в том, что движение воспроизводит фор­ му внешнего предмета именно там, где находится сам предмет, т. е. в пространстве окружающего мира2. И надо сказать, что аналогичная идея высказывалась еще Евклидом, который отмечал, что зрение осу­ ществляется с помощью лучей, исходящих из глаз и как бы ощупыва­ ющих предмет подобно тому, как слепой познает форму предметов, ощупывая их руками и палкой. Как мы видим, идея «вынесения» психического образа в про­ странство внешнего мира действием субъекта отнюдь не нова. Из дея­ тельной природы психики исходили и материалистически мыслящий физиолог Сеченов, и субъективный идеалист И.-Г. Фихте. И также не нова критика «встраивания» психического в структуры мозга. Почти двести лет назад К. Маркс писал о том, что образ мышки кошка фор­ мирует вовне, а не внутри себя, и потому она вцепляется именно в мышку, а не в собственные глаза. Если бессознательная деятельность воображения, считал Фихте, лежит в основе формирования образов налично данного, т. е. воспри­ ятия, то сознательное «конструирование в фантазии» — основа мыш­ ления. Даже при чтении газеты, отмечал он, «нам приходится посред­ ством... фантазии набрасывать себе картину рассказанного события... конструировать его, для того чтобы действительно понять его...»3. А потому он настаивал на культивировании у детей умения фантази­ ровать, а не «бегло рассуждать». Как раз посредством предметного действия как субстанции пси­ хического объяснялась адекватность психических образов в совет­ ской психологии восприятия, связанной с именами А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко, A.B. Запорожца, А.Д. Логвиненко, Ю.Б. Гиппенрейтер и др. В работе «О путях исследования восприятия» А.Н. Леонтьев, в частности, писал, что, регулируя с помощью мышц глаза отражение 1 См.: Сеченов И.М. Участие органов чувств в работе рук у зрячего и слепого// Избр. филос. и психол. произв. С. 555. 2 Там же. С. 395. ' Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сути но­ вейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию. М., 1993. С. 105. 434 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии световых лучей на сетчатке, человек осуществляет нечто, действи­ тельно подобное ощупыванию. Только в данном случае «ощупывает­ ся» предмет, недосягаемый для осязания. Причем зрение ощущает тела далеко за пределами человека не только за счет возможностей мозга и рецепторной системы, но и опираясь на такое внешнее орга­ низму природное явление, как световые лучи. «Устройство», состоя­ щее из мозга, сетчатки и световых лучей, и составляет особый зри­ тельный орган субъекта, меняющий при необходимости свою длину и форму1. И на фоне всех этих поисков прошлого и настоящего Сёрл про­ должает бродить меж двух сосен — дуализма и вульгарного материа­ лизма, утверждая, что альтернативой им может быть только его «био­ логический натурализм», когда ощущения, чувства и мысли сосредо­ точены в структурах мозга. Здравый смысл, пишет он, подсказывает нам, что боль в ноге находится в области ноги. Но он, согласно Сёрлу, в данном случае ошибается. «В буквальном смысле слова, — настаи­ вает он, — боль в ноге находится в физическом пространства мозга»2. Ведь мозг формирует образ тела, а боль, отмечает Сёрл, подобно лю­ бому телесному ощущению, есть часть образа тела. Итак, согласно здравому смыслу боль в ноге указывает на то, что нужно лечить ноги. По мнению специалистов, обследовать нужно еще и позвоночник. Если же верить Сёрлу, то любые боли прежде всего указывают на то, что происходит в голове. Перефразируя Маркса, можно сказать: если бы чувство боли не локализовалось в больной ноге, руке, животе и т. д., то мы бы всегда хватались за голо­ ву. Но, таким образом, чувство боли утратило бы свой смысл. Ведь подобно осязанию, зрению и другим чувствам боль информирует нас об объективном положении дел. В данном случае о положении дел в организме. Сёрл считает себя противником когнитивной науки. Он на дух не переносит бихевиоризм. Но тем не менее он воспроизводит методо­ логические ошибки, которыми страдают его противники. И главная из них — недооценка своеобразия той поисковой активности, в которую «встроены» психические образы у живых существ. Физикализм Сёрла — следствие того, что он не видит предпосылок для формирования психического образа на почве функционирования и реагирования. 1 См.: Леонтьев А.Н. О путях исследования восприятия// Восприятие и деятельность. М., 1976. С. 19. 2 Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 76. 435 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... Функция машины и реакция организма и вправду не являются дейст­ виями субъекта, поскольку в них нет того опережающего «избыточно­ го» действия, которое отличает поведение сложно организованных живых существ. Американские бихевиористы в данном случае сыграли провока­ ционную роль, внедрив в массовое сознание представление о поведе­ нии как всего лишь реакции на внешнее воздействие. Сёрл, как и боль­ шинство обывателей, проглотил «наживку». И прежде всего потому, что позитивистскую «версию» поведения зримо подтверждает само массовое общество, где главное — успешно среагировать на предло­ жения и требования социальной системы. Но с точки зрения классической философии и культуры такое «функционирование» человека в системе — признак отчуждения, когда он и без чипов в мозгу «сам не свой», т. е. живет неподлинной жизнью. Ведь сущность человека — свобода и творчество, а не функ­ ционирование в системе. А свободу и творчество классика считала атрибутами человека как субъекта. Итак, с точки зрения «классического» подхода к феномену психи­ ческого оно совершенствуется как момент поисковой активности жи­ вого существа. И как раз потому, что адекватный образ предмета — опасности или добычи — способствует выживанию, этот образ фор­ мируется не в мозгу, а при помощи мозга, а также при помощи нервной системы, рецепторов и даже световых лучей, позволяющих зрению выстраивать образ именно там, где находится предмет, а не наши ней­ роны. Как известно, в психологии восприятия XX в. речь шла о синте­ тическом образе мира у высших животных и человека, когда зрение, слух, осязание и пр. кооперируют свои усилия. В результате этого субъективный образ оказывается значительно достовернее, а значит, объективнее отражает мир. Но даже такой психический образ нельзя отождествлять с ментальным, как это запросто делает Сёрл. То, что ментальное не стоит отождествлять с психическим, подчеркивает Д.И. Дубровский в своей статье о Сёрле, предлагая различать «два типа субъективной реальности — человеческий и животный»1. Вся человеческая «субъективность», по Сёрлу, сосредоточена в мозгах, его структуре или морфологии. Что касается поведения, то тут Сёрл следует штампам того же бихевиоризма, смазывая разницу межДубровскийД.И. Новое открытие сознания? С. 105. 436 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии ду животным и человеком. Таким образом, Сёрлово представление о человеке, по сути, формируется на почве двойной редукции. Во-пер­ вых, это сведение психического к физическому, а во-вторых, мен­ тального к психическому. И вследствие такой двойной редукции мен­ тальное оказывается у Сёрла крайне аморфным понятием, которым охватываются и дворовая моська, и Эйнштейн. У обоих мозг ориен­ тирован вовне, в мозге есть ощущение боли, а на поверхности кожа, глаза и уши. На протяжении почти всей книги у Сёрла мыслят только те жи­ вотные, у которых есть кожа, глаза и уши1. Но в IX главе, посвящен­ ной критике компьютерного разума, мыслящее существо вдруг ока­ зывается «гомункулом»2. Доказать, что мышление доступно собаке, но недоступно компьютеру, — в этом, может, и состоит смысл «нового открытия сознания»? В указанном пункте взгляды Сёрла и его критика Дубровского расходятся наиболее существенным образом. Сёрл, допуская мышле­ ние у «человекоподобной» собаки, обосновывает этот факт ее внеш­ ним сходством с человеком. Дубровский, допуская «человеческое» мышление у будущих суперкомпьютеров и существ на других плане­ тах, исходит из возможности совершать одинаковые действия разны­ ми системами3. На языке когнитивной науки эти позиции получили название «изоморфизм» и «изофункционализм». И здесь перед нами опять ди­ лемма, рожденная на почве естественно-научного материализма. На­ личие мышления гарантируется или одинаковой организацией мысля­ щего субъекта (изоморфизм), или той же функцией, которая возможна у морфологически разных систем (изофункционализм). Классическая философия в данном случае не предлагает аргу­ менты в чью-то пользу, но меняет саму постановку вопроса. «Старое» философское понятие сознания, в отличие от двух «новых» естест­ веннонаучных, основано на том, что в субъекта человека превраща­ ет свободная деятельность, позволяющая постигать основы бытия и переустраивать мир. Человеческое мышление тем и отличается от психики животного, что это не образ налично данного, а понятие как знание сути, породившей эту наличность. Но как мы постигаем эту суть? 1 2 3 См.: Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 84. См. там же. С. 197-198. См.: Дубровский Д.И. Новое открытие сознания? С. 106. 437 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... Уже Сократ пытался доказать, что знание сути, и прежде всего о самих себе, мы получаем не путем обобщения фактов (или перебора вариантов). В платоновском диалоге «Лахет» он легко дает определе­ ние скорости как «способности многого достичь за короткий срок», но застревает на понятии добродетели в виде храбрости1. И то же са­ мое происходит при анализе многих других важных понятий, которые мы не просто узнаем, а открываем и осваиваем в совместной деятель­ ности с себе подобными. У Сократа способность мыслить совпадает со способностью разумно действовать. Но разумный поступок невозможен как действие по ша­ блону. В отличие от столпов когнитивизма народные сказки об уме и глупости указывают на суть ума в его основе и истоках, а не в том отчуж­ денном виде, в каком он представлен в «мышлении» современного уче­ ного. Современный ученый в условиях профессионального разделения труда уверен, что ум состоит в действиях индукции и дедукции, и пото­ му будет двигаться в рассуждениях от частного к общему и от частного к частному. Но в реальных жизненных ситуациях умные люди двигаются как раз наоборот — от общего принципа к конкретному решению. И раз этим способом не может овладеть дурак, подменяя разумный выбор известным ему шаблоном. Таким образом, умение мыслить в его исходном классическом по­ нимании — это умение применять общий принцип к частной ситуа И такой способ действия предполагает ситуацию свободного выбора. Но и овладеть этой способностью нельзя иначе, чем в реальной чело­ веческой жизни, в живом общении. И общение оборачивается разви­ тием ума не в процессе болтовни ни о чем, а в совместном реальном деле. Чтобы быть лучше понятой в среде «профессионалов», я могу определить предлагаемую позицию как «изопраксиологизм». Суть ее в том, что наличие мышления гарантируется не одинаковой орга­ низацией тела и мозга или неким абстрактным «функционировани­ ем» мыслительного аппарата. Мышление есть момент совместного культурного бытия людей, т. е. наших реальных дел, нравственного выбора, художественного творчества и всего остального, что еще не­ давно именовалось «практикой» в самом широком смысле этого слова. А потому по-настоящему мыслить может только человек, жи­ вущий человеческой жизнью. Все же остальное — имитация, под1 Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 282. 438 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии делка или, как пишет Сёрл, «антропоморфизация». Но такой подход к делу, естественно, не снимает с повестки дня вопрос о том, так чем же на самом деле заняты машины и где реальный предел их возмож­ ностей? В основе человеческого мышления, как уже говорилось, лежит знание общего в виде идеи, принципа, идеала. Но если умение мы­ слить состоит в применение общего к частной ситуации, то важ­ нейший вопрос — откуда у нас берется знание общего. Природой общих понятий и занималась веками классическая философия. Тот же спор об универсалиях в Средние века и учение о «врожденных идеях» в Новое время — не периферия, а сердцевина философско­ го знания. Более двух тысяч лет духовное в человеке связывали с Демиургом, Богом-Творцом мира, Абсолютным Духом. Философский идеализм в его классической форме вполне осознанно постулировал умение че­ ловека мыслить универсально. А в результате главная дилемма фило­ софской классики существенным образом отличалась от того, что предлагают сегодня защитники и противники когнитивизма. В клас­ сической философии речь идет не о том, связано ментальное со структурой или с функцией мыслящего тела. Для философской клас­ сики вопрос о природе духа (т. е. ментального) — это вопрос о том, дан он Богом или произведен Природой. И даже там, где философы склонялись к тому, чтобы выводить умение мыслить и знание общего из возможностей нашего тела как произведения природы, камнем преткновения оставалась диалектика общего и частного, вечного и временного. Ведь уже Аристотель сумел показать, что знание общего нельзя извлечь из чувственного опыта, доступного отдельным телес­ ным существам. Тем не менее именно в аристотелизме, а точнее, в той его версии, которую мы находим в философии Возрождения, было предложено такое объяснение универсальности ума и разумной души человека, без которого заявленный выше «изопраксиологизм» — пустая декла­ рация. О достижении универсальности человеком через воссоздание формы любого другого тела, вслед за Гермесом Триждывеличайшим, говорил гуманист Пико делла Мирандола. Но в учении аристотелика Возрождения П. Помпонацци речь идет о том, что воссоздаются фор­ мы других тел не бестелесным умом, а действиями самого человече­ ского тела. Тело человека, утверждает он, является единственным те­ лом в универсуме, которое пытается воспроизводить в своих действи- 439 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... ях природу других тел. Но при этом ум человека не может быть помещен «в какой-либо части тела, но лишь во всем теле, взятом в целом»1. В итоге Помпонацци приходит к выводу, что «орудием» мышления является все тело человека. Понятно, что человек не смог бы открывать истину, т. е. не внеш­ ний вид, а сущность других тел, если бы не преобразовывал их. Вы­ членяя существенные связи практически, он получил возможность осмыслить их теоретически. А создавая из преобразованной природы свое второе «неорганическое тело», люди смогли актуально преодо­ леть свою телесную ограниченность и конечность. Изложенные выше идеи являются предтечей так называемого культурно-исторического подхода к проблеме человека. В рамках культурно-исторического подхода мышление человека — это произ­ ведение не Бога или Природы, а Культуры. Но мир культуры с этой точки зрения — это не продолжение, а диалектическое снятие при­ родного бытия. Именно из такого «преодоления» природных зако­ нов, когда они действуют уже в новых культурных условиях, создан­ ных человеком, и рождается феномен идеального, без которого не понять того, что действительно делает компьютер. Компьютер — одно из современных орудий, относящихся к «не­ органическому телу» человека. Но переработка информации, кото­ рую он производит, имеет предысторию в естественной природе. О том, что предпосылка информационных процессов — свойство отражения, лежащего в основании материи, писали еще в советском диамате2. Предпосылкой информационных процессов можно счи­ тать и появление самоорганизующихся систем, т. е. зарождение жизни на Земле, которая стала возможна благодаря молекулам ДНК. Но ДНК — нечто подобное материальной матрице и одновременно катализатор репликации, т. е. строительства клеток. Таким образом, «сообщение» и «управление» здесь еще не отделились от собственно производства материального тела. Импульсы, которые перемеща­ ются по нервам, уже выполняют нечто, подобное сигнальной функ­ ции. Но и сигнальные действия высших животных нельзя назвать пе­ редачей информации в собственном смысле, поскольку животное «сообщает» с помощью собственного организма и о биологически значимых вещах, в то время как человек — обо всем на свете. И в этой 1 Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души», «О причинах естественных явле­ ний». М., 1990. С. 79. 2 См.: Урсул А.Д. Отражение и информация. М., 1973. 440 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии автономии информации от передающей системы — один из ее глав­ ных признаков. Предпосылки и формирование информационных систем можно понять лишь в свете принципа историзма. Но среди сторонников и противников когнитивизма не появился свой Дарвин. Поэтому уже после «открытий» советского диамата по поводу эволюции отраже­ ния, организации, управления и информации у ученых можно встре­ тить самые удивительные представления о том, что же было рань­ ше — жизнь или компьютер. К примеру, доктор химических наук СВ. Варфоломеев прилюдно и всерьез высказал предположение о том, что жизнь на Земле мог породить «естественный» компьютер, возникший в условиях внеземной сверхпроводимости1. Если животное «информирует» с помощью собственного организ­ ма и продуктов его жизнедеятельности, то человек впервые стал ис­ пользовать для передачи опыта предметы внешней природы. Но та­ кое возможно лишь там, где окружающая природа — мое «неоргани­ ческое тело». И как раз эта особенность способа трансляции человеческого опыта стала решающим аргументом у сторонников изофункционализма. Радикальным аргументом сторонников изофункционализма в пользу «мышления» машины является то, что в качестве цифрового компьютера можно использовать любой регулярный процесс. В книге Сёрла «Открывая сознание заново» приводятся доводы П.Н. Джонсона-Лэирда в пользу того, что аналог цифрового компьютера может быть сооружен из костяшек и прутков, а также из водопроводных труб, если из них капает вода2. Сёрл приводит примеры З.В. Пилишина, предлагающего делать компьютеры из клюющей стаи голубей, и Н. Блока, полагающего, что тот же принцип можно реализовать с по­ мощью кошек, мышек и кусочков сыра3. Сёрл остроумно заявляет о том, что для передачи сообщений по­ средством таких систем нам может не хватить голубей и кошек. Тем не менее кодировать и передавать нужные человеку сведения можно са­ мыми разными способами. Другое дело, насколько эффективен будет такой компьютер? В споре Сёрла с Джонсон-Л эирдом, Блоком, Пилишиным и др. по большому счету «оба неправы». Ведь проблема не в том, каково 1 2 3 См.: Гордон А. Диалоги. М., 2003. С. 46-48. См.: Сёрл Д. Открывая сознание заново. С. 191. Там же. С. 192. 441 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... будет «устройство» компьютера, а в том, кому и что будут «сообщать» такие действия. Кошки и голуби сами по себе не «организуются» в компьютер. За их спиной всегда стоит человек, использующий их движения как средство. Есть существенная разница между матросом, передающим информацию с помощью флажков, и голубями, переда­ ющими нечто поеданием зерен. Первый понимает, что делает, а по­ следние — нет. Вот где главный аргумент против концепции «сильно­ го искусственного интеллекта». В конце концов, посылать сообще­ ния можно, захлопывая форточку с определенной периодичностью. Но ни форточка, ни голуби, ни компьютер не мыслят, хотя их дейст­ вия могут быть внешне разумно организованы. Все они средства в ру­ ках человека, который является единственным известным нам мы­ слящим субъектом. Мышление невозможно без способности понимать смыслы сооб­ щений. А понять смысл — это создать деятельный идеальный образ на основе знакового сообщения. Такой деятельный образ — знание, а сообщение — только его необходимая материальная основа. И до дея­ тельного «перевода» таких сообщений в идеальный образ мышления нет нигде — ни в процессоре, ни в мозгу профессора. Решать проблему «искусственного интеллекта» нельзя вне соот­ ношения материального и идеального. Тем более что, несмотря на скорость «работы» и огромную «память», компьютеры до сих пор не обрели ни мышления, ни души. В Сети уже представлен весь опыт человечества — философия, наука и искусство. Но компьютер, «вла­ дея» всем этим, не только не сравнялся с человеком, наоборот, чело­ век стал мерить себя компьютерной меркой. Суть указанного парадокса в том, что появление информацион­ ных систем — это не только результат технического прогресса. Это изобретение возникло в русле приспособления самого человека к функционированию техники. В индустриальном обществе наиболее «эффективно» то знание, которое обрело анонимную и абстрактную форму. И информация — это и есть то, что остается от человеческих знаний и опыта за вычетом их идеального смысла. Информация — это уже формализованное сообщение, содержание которого потому и можно высчитывать в мегабайтах. И в таком виде оно доступно для «переработки» машине. Иначе говоря, в основе использования персональных компьюте­ ров лежат два разнонаправленных процесса: редуцирование знаково­ го сообщения, например стихотворения, до состояния информации и 442 I Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии продуцирование на его основе идеального образа. Без редуцирования сообщение нельзя передать по электрическим цепям. Без продуциро­ вания сообщение не может стать фактом нашего сознания. Но то и другое возможно только в мире культуры, где человек не только по­ знает мир, транслирует свой опыт, но и способен трансформировать этот опыт в анонимную, количественную информацию. Что касается своеобразия теперешнего момента, то современный человек радостно меряет себя и мир «информационной» меркой, освобождая тем самым свои мысли и поступки от идеального содер­ жания. Информационный миф стал «новым словом» отчужденного состояния культуры. Ведь там, где, подобно Сёрлу, провозглашают, что «животные мыслят», мышление уже редуцировано до «переработ­ ки информации». Будучи лингвистом, Сёрл решает проблему языка не в свете материального знака и идеального значения, а на почве нейрофизиологии и когнитивной науки. И это рождает не гордость, а разочарование. 4. Загорский эксперимент и иллюзия врожденности таланта Именно на земле Сергиева Посада, где находится главный мона­ стырь Русской православной церкви, писал в свое время Ю. Пущаев, сошлись в 60-70 гг. XX в. «в парадоксальной схватке-сотрудничестве одновременно Церковь, философия и науки психология и педагогика»1, выясняя происхождение мышления и таланта, всех человеческих спо­ собностей. Речь идет о знаменитом Загорском эксперименте, в резуль­ тате которого четыре выпускника интерната для слепоглухонемых де­ тей поступили и окончили психологический факультет МГУ. В трак­ товке Пущаева, автора цикла статей об истории и теории Загорского эксперимента, в нем выразилась некая «метафизика» советской эпо­ хи, которая культивировала идею социальной сущности человека. Пробуждается или формируется человеческая душа, способности, та­ ланты? Педагог А.И. Мещеряков и философ Э.В. Ильенков на приме­ ре развития способностей у слепоглухонемых детей «эксперименталь­ но» доказывали прижизненное формирование-развитие человече­ ской личности через вовлечение индивида в социальную деятельность и общение. Такой эксперимент, считал Ильенков, позволяет выде­ лить в «очеловечивании» индивида самое главное, разоблачая массу 1 ПущаевЮ.В. История и теория Загорского эксперимента. Ч. 1. Начало// Вопросы философии. 2013. № 3. С. 132. 443 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... иллюзий, заблуждений и аберраций, лежащих в основе ложных идеа­ листических концепций психического развития1. *** Понятно, что за такой постановкой вопроса стояли серьезные фи­ лософские споры и разногласия, прежде всего связанные с так назы­ ваемой теорией среды и идеей интериоризации. Чем интериоризация в свете Загорского эксперимента отличается от усвоения внешнего алгоритма? И где здесь истоки человеческой свободы? В духе банальной «теории среды» обычно толкуют мысль Ильен­ кова: «Все человеческое в человеке, т. е. все то, что специфически отли­ чает человека от животного — представляет собою на 100% — не на 90 и даже не 99 — результат социального развития человеческого об­ щества, и любая способность индивида есть индивидуально осу­ ществляемая функция социального, а не естественно-природного организма, хотя, разумеется, и осуществляемая всегда естественноприродными, биологически-врожденными органами человеческого тела, в частности — мозгом»2. Понятно, что в такой трактовке Ильенкова перед нами все та же постановка вопроса о «данности» человеку его способностей, когда они даны человеку не Всевышним и не Природой, а обществом. От­ личие здесь в том, что человеческие способности не даны нам сразу и в полном объеме, а формируются постепенно. Но своеобразие талан­ та каждого здесь также задано извне, определяется состоянием обще­ ства. И в этом грубый социологизм методологически сходится с гру­ бым натурализмом и грубым спиритуализмом в решении данной про­ блемы3. Дан ли нам талант Всевышним или он от природы, предполагает­ ся его врожденность. Я могу талант развивать, но он дан мне в своей differentia specifica от рождения, т. е. не может быть сформирован. Для большинства безусловна художественная одаренность, менее убеж­ денно говорят об одаренности в области наук, часто рассуждают о пе­ дагогической одаренности и даже о врожденности нравственных ка­ честв. 1 См.: ИльенковЭ.В. Откуда берется VM?// Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 33. 2 Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. М.; Воронеж, 2002. С. 75. 3 Именно так, по большому счету, интерпретирует позицию Ильенкова Ю. Пущаев, оценивая ее с позиций православия. 444 J Ε.В. Мареева. Проблема души в классической и неклассической философии Но одно дело, когда во врожденности талантов убежден обыва­ тель, другое дело, когда наука берется обосновывать эту точку зрения в пользу определенной педагогической практики. Когда Э.В. Ильен­ ков выступал против сегрегации в сфере образования, речь шла о практике «выявления» талантов в раннем возрасте и последующем культивировании этих талантов в школах «для одаренных». Ну а если таланты не даны? Если они формируются? Тогда «посредственное» образование для всех не просто зароет чей-то талант в землю, оно из­ начально не создает условий для развития талантов у многих. Во многих случаях, утверждая, что становление человеческих спо­ собностей есть результат «вращивания» внешних предметных дейст­ вий во внутренний план личности, который таким переходом, собст­ венно, и формируется, мы упускаем едва ли не главное в идее интериоризации, идущей к Ильенкову от Выготского. Обычно именно через «овнутрение» социальных функций объясняют рождение нашей субъективности, т. е. тех сторон психической жизни, которые и дела­ ют человека существом свободным. Но почему интериоризация, по­ нятая как усвоение норм и функций социального целого, делает меня субъектом? Сама возможность проводить параллель между Ильенковым и Гельвецием, те претензии, которые предъявлял к нему и А.Н. Леонть­ еву психолог С.Л. Рубинштейн, происходят из отождествления фор­ мирования нашей личности, человеческих способностей и талантов, с процессом интериоризации. Но Ильенков — это не «Гельвеций се­ годня», и именно потому, что интериоризация здесь понята как «вращивание» того, что уже обрело свою самостоятельность, самость и субъективность. Причем этим пространством становления индивида как самостоятельно действующего субъекта, а значит, пространством формирования Я, является не любая, а совместно-разделенная дея­ тельность со взрослым, учителем и наставником. Чтобы понять при­ роду человеческой субъективности, мы должны в своем анализе дви­ гаться не извне вовнутрь, а как раз наоборот. «Вращивается» то само­ стоятельное действие, которое впервые возникает в пространстве сотрудничества как «интерпсихическая форма поведения», если гово­ рить на языке современной психологии. Важно иметь в виду, что субъектом индивид становится не только в ответ на целесообразную логику дела, не только там, где он ставит себе цели и осуществляет их в труде, но именно там и потому, что это дело ему не сделать в одиночку. Парадоксальным образом, но субъек- 445 I Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе... том человек становится благодаря не любой, но ущербной деятель­ ности, которая может состояться за счет совместных усилий. Формирование психики ребенка, у Выготского и Ильенкова, про­ исходит в общении по поводу жизненно важных дел, в которых ребе­ нок нуждается в помощи. По аналогии с гегелевской характеристи­ кой «хитрости разума», которая провоцирует природу на ответные «целесообразные» действия, можно сказать, что и самостоятельность ребенка должна быть спровоцирована. К ней невозможно принудить. Она возникает только в поддержку и в ответ. И в этом смысле челове­ ческая самостоятельность, а значит человек как субъект, рождается там, где естественное желание и активность спонтанно