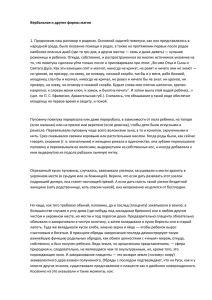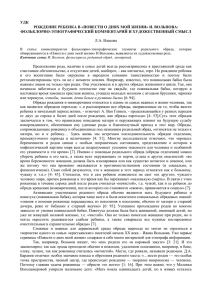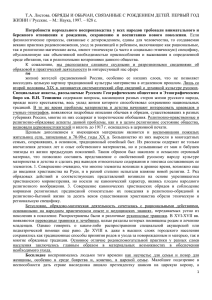Реинкарнационный круг. О трехчастности родинного цикла
advertisement

Реинкарнационный круг. О трехчастности родинного цикла 1. Есть одна русская сказка, которая начинается так: «Худое житье было старику со старухою! Век они прожили, а детей не нажили; смолоду еще перебивались так-сяк; состарились оба, напиться подать некому, и тужат, и плачут… Плохо без детей, нет без них ни радости, ни счастья; жизнь прошла напрасно, коли не дал Бог детей в молодых летах на утеху, в старости на подмогу, а по смерти на помин души…» Думается, немало сказок с похожим зачином можно найти в фольклоре разных народов. Повсякому разворачиваются сюжеты и складываются судьбы героев, но у сказок, как правило, бывает счастливый конец: «…обвенчались они и стали себе жить-поживать, добра наживать». Если же посмотреть, как все происходило в жизни, то после свадьбы молодых целый год чествовали как новобрачных. Но если через год в новой семье не слышался крик младенца и не звали на крестины, то свадьбу старались не вспоминать. Бездетность воспринималась не просто как беда, но и как наказание — «за грехи, видно, Бог детей не дает…» В детях человек видел не только продолжение своего рода, но продолжение жизни вообще. «В разговорной речи Древней Руси „род“ — рождение, порождение», а не одно лишь обозначение родства (ведь до сих пор существует выражение род человеческий) или семьи (отсюда и родители, и родственники), т. е. «род» воспринимался как «процесс, действие», как «поколения, сменяющиеся во времени»: от отца к сыну, через сына к внуку… Таким образом, существование человека в этом мире, в мире «живых», виделось всего лишь одним из звеньев в цепи приходящих и уходящих поколений. Но это давало ощущение связи со всеми теми, кто уже ушел и кто мог вернуться вновь в любом облике, в том числе и в лице собственного потомка: «Перед смертью старик говорил внучке, чтобы она росла, выходила замуж, а он родится от нее…» Именно поэтому могилы («домовины») предков так естественно соседствовали с жилищами живых — они составляли единую сакральную общину. Мир «мертвых» и мир «живых», как мы уже говорили, не просто сосуществовали, они сопроникались, становились единым целым, в котором прошлое, настоящее и будущее оказывались «как бы в единой плоскости» и активно взаимодействовали, более того, взаимообмен между мирами происходил постоянно. Выходит, что время и в самом деле, согласно определению А. Я. Гуревича, являет собой «солидарность человеческих поколений, сменяющихся и возвращающихся, подобно временам года». Вера в переселение душ, в возможность последующих рождений — эта архаическая связь в традиционном сознании очень устойчива: в сущности, каждый младенец есть возвращенный в мир «живых» покойник. Не эта ли мысль просматривается в народной поговорке «Человек рождается на смерть, умирает — на жизнь»? 2. «Родины» — так на Руси называли весь комплекс обрядов, связанных с вхождением человека в мир. Для всех восточных славян этот комплекс был трехчастным: — первую часть составляли обряды, сопровождавшие появление ребенка на свет; — вторую — обряды адаптационные, символизировавшие его принятие в семью и общину; — третью — очистительные обряды, так как ритуальная «нечистота» пришедшего в «этот» мир распространялась не только на родившую его, но и на всех тех, кто оказался причастен к этому событию. Весь цикл длился пять-семь дней. Главными действующими лицами были: новорожденный, роженица, повитуха, отец, крестные родители. Период, когда женщина еще носит ребенка и готовится к его появлению на свет, полон всяких суеверий и различных примет. Во-первых, старались скрыть беременность от посторонних: от чужих и особенно от людей, имеющих репутацию «худых» (т. е. злых, плохих), а также от девиц и старых дев, которые могли испортить (сглазить). Само слово «роды» нередко табуировалось (причем даже в общении с теми, кому, казалось бы, сам Бог велел знать): «приглашая повитуху, не произносят слово роды», «…чтобы не случилось через это самое чего-нибудь <нежелательного>…»; «говорили, что маме родной знать, что дочка рожает, не положено. Если мать знает, то роды будут тяжелые». Последнее ограничение, судя по всему, восходит к архаичным нормам традиционного этикета, которые предусматривали элементы избегания матерью взрослой дочери. Вообще, чем меньше людей будет знать о беременности, тем меньше женщине придется мучиться в родах: «Наговора боялись. Кто-нибудь узнает и позавидует. Женщина <и> не разродится…»; «если меньше будут судить, легче будет родить». Иногда прямо так и считали: сколько человек знает, столько часов роженице и предстоит мучиться. Это распространенное представление переносилось, как правило, и на домашних животных: корове ли предстоит телиться или кошке котиться — все едино, лучше, чтобы об этом знало как можно меньше народу. Кстати, и причину того, что беременность и время родов скрывали от девиц, нередко мотивировали тем же: «Если о родах девушки узнают, они тяжелыми будут». Причем «каждый девичий волос знать будет», и значит «за каждый волос несчастная мучиться будет». Обычай держать в секрете время родин был хорошо знаком не только всем восточным славянам, но и многим «соседствующим» с ними народам. Так, например, именно этот мотив звучит в карельском заговоре на легкие роды: «Луне известно, солнцу известно, а люди пусть не знают, не ведают…» Во-вторых, стремились узнать, кто родится: мальчик или девочка. Важность такого знания вполне понятна: хорошо, если будет мальчик, так как он — продолжатель рода, ему брать в свои руки и родовой промысел, и хозяйство. А на девочку смотрели как на «гостью» и «разорительницу»: она уйдет в чужой род, да еще и с приданым. Понятно, что корни такого представления следует искать в патриархальной организации общества. Но хоть бы и девочка — все лучше, чем остаться совсем без детей. 3. Существовало множество примет, по которым пытались определить пол будущего ребенка. Например, по самой будущей матери: по изменениям во внешности (если подурнела — значит будет девочка, ведь известно, что «дочка у матери красу берет»); по самочувствию (если первые месяцы «легко ходит» — беременна мальчиком); по форме живота (круглый и широкий — девочка будет, а если «огурчиком», т. е. узкий и высокий, — значит родится мальчик); по ее поведению (смущается при вопросе «кого родишь?» — девочку родит; опирается, когда встает, на правую руку — мальчик будет (согласно известной бинарной оппозиции: правый/левый, в которой «правое» соответствует мужскому и счастливому, а «левое» — женскому и несчастливому) и т. д. Свидетельство того, что упомянутая оппозиция активно функционировала до недавнего времени, а также пример четкого разделения мужского и женского можно отыскать в книге предсказаний Мартына Задеки, очень распространенного источника подобного рода информации в России конца XVIII — середины XIX века (именно этой книгой для расшифровки своего сна пользуется Татьяна в «Евгении Онегине»). «Что женщина беременна мальчиком, — читаем там, — сие признается из того, когда она чувствует, что плод (ребенок)… лежит больше к правой стороне, и она с удовольствием ест… суровую пищу, охотно слушает о военных делах или, сидя, протягивает правую ногу больше левой…» Таких примет, на самом деле, было известно очень много, но большинство из них выстраивалось по аналогии как раз на упомянутых оппозициях правый/левый и мужской/женский, например: у последнего родившегося в семье ребенка — мальчика — волосы сзади на шейке образуют «косичку», но коса — девичья прическа, значит следующей должна родиться девочка и т. д. Были и довольно экзотические приемы определения пола будущего ребенка, такой, например, как «спрос» медведя: беременная отправлялась на близлежащую ярмарку, где наверняка можно было найти сергача с дрессированным зверем, и просила разрешения дать из своих рук мишке хлеба с медом и водкой. Если он зарычит — родится девочка, если примет молча (вариант: замычит) — мальчик. Если такое гадание пугало, можно было найти и менее опасный способ: разбить оплодотворенное куриное яйцо до того, как проклюнется цыпленок: какого пола окажется цыпленок, того же пола жди ребенка. Сама беременная могла попытаться повлиять на пол будущего ребенка, чтобы был «нужный»: она брала «напрокат» рубаху женщины, которая рожала только мальчиков, и носила ее во все время беременности; семья активно принималась дружить с теми семьями, у кого все дети — мальчики и т. д. 4. Беременную, конечно, оберегали от самых тяжелых работ, но все равно женщина чуть не до последнего момента работала и в поле, и в доме, ухаживала за скотиной. Поэтому нередко случалось так, что повитуху звали, когда роды уже начались или даже по их окончании. К тому времени роженица сама или с чьей-либо помощью находит место, где станет рожать. Место родов — особое место, сакральное, в этом пространстве собственно и совершается «переход». Необходимо отметить, что «переходят» в родинах двое: это и ребенок, который выходит в этот мир из «иного» мира, и роженица, которая «отправляется» за ребенком, «приводит» его в этот мир (не напрасно в некоторых местах бытовало характерное выражение, обозначающее беременность, — «сходить по душу») и обретает при этом свой новый статус. Место родов в таком случае трактуется как место встречи роженицы и ребенка. У русских, как у многих других народов, был обычай рожать в нежилых помещениях (в бане, клети, хлеву), который был связан с представлениями об особой открытости таких мест как контактных зон, а также о «нечистоте» рождающегося и рожающей. Готовность к «переходу» маркировалась также тем, что роженица перед родами просила прощения у окружающего мира, «как перед смертью»: «… <она> „прощается“ со своими семейными, обращаясь сначала к свекру, потом к свекрови, затем к остальным членам семьи». Надо сказать, что «мир» в этом акте освобождения от земных привязок мог выходить за рамки семейного пространства и разрастаться чуть ли не до вселенских масштабов, например, есть описание: «При начале родовых схваток роженица выходит на порог дома и, обращаясь к востоку, говорит: „Прасти, красная солнышка“, затем, повернувшись на запад: „Прасти, темная нощь. Адну душу прасти, другую на свет пусти“» (запись Т. Ю. Власкиной, Ростовская обл.). Роды ощущались как прохождение «смертного состояния» (сравни с известным представлением, что «после родов женщина шесть недель одной ногой в могиле стоит»; вариант: «после родов женщина десять дней в гробу лежит»). В сущности, ситуация родов воспринималась как Божье прощение роженицы — «Бог простит» (=разрешение от бремени). Сам глагол «разрешиться» отчетливо указывает на распад, разрушение тела роженицы, освобождение ее от «последних знаков ее принадлежности к сфере культуры» (т. е. «своего» мира, пространства). В материальной сфере это проявлялось в том, что пришедшая на зов повитуха снимала с нее обувь, верхнюю одежду (включая пояс и даже крест), расплетала косы, растягивала, а то и надрывала ворот рубахи, расстегивала все застежки, развязывала все узелки… А в вербальной сфере, кроме того, находил выражение и элемент «подстегивания», активизации движения — повитуха заходила в дом (или в баню), выкрикивая: «Отпирайте, отпирайте! Отперли, отперли. Запрягайте, запрягайте! Поезжайте, поезжайте! Поехали, поехали!» (это чтоб роженице скорее разрешиться от бремени). 5. К началу родов, как уже говорилось, женщина уходила в нежилое помещение или же, если она оставалась в доме, все домашние (дети, девки и прочие) из него выгонялись. Напомним, что в таком случае дом требовал обязательного очищения, так как в ритуальном отношении становился «нечистым». Требование «покинуть помещение» распространялось и на мужа роженицы. Это требование вообще было широко распространено у многих народов, так как по древним представлениям физическая связь между отцом и ребенком признавалась только после рождения. Для чего проводились специальные обряды признания, усыновления и т. п., но об этом чуть позже. А пока выдворенный из дому отец должен был заняться своим ремеслом, чтобы родившийся сын продолжил в будущем его дело. Повивальная бабка, или повитуха (от глагола повивать — «пеленать»), — очень важное лицо. В отношении народа к повивальным бабкам значительную роль играла вера в магическую связь между ними и повитыми ими детьми. Далеко не каждая женщина могла стать повитухой, так как не каждую признавали достойной. Молодые женщины и тем более девушки (не говоря уже о мужчинах) на эту роль категорически не подходили. Это должна быть непременно пожилая женщина, «у нее не должно быть уже месячных очищений», и «детей сама не <должна уже> носить». В некоторых местах считалось, что «бабить», или «повивать», не могли «мужние жены», а только вдовы. Причем вдоветь бабка должна была «чисто» — других мужчин после мужа не знать. Если муж у повитухи был, то она «должна быть безупречного поведения и отнюдь не замеченная в неверности мужу» (а лучше все же, чтобы была «не живущая с мужем»). В принципе можно говорить о довольно четко выраженной нежелательности половой жизни для женщин, которые «бабят». При этом от повитухи требовалось, чтобы она была знакома не понаслышке с различными сторонами семейного быта, а также чтобы была «счастлива в своем семействе», т. е. чтобы сама она благополучно родила и вырастила собственных детей. К этим основным требованиям добавлялись еще многочисленные правила и запреты, на первый взгляд, не очень значительные, однако их неисполнение легко могло привести к потере доверия односельчан и навсегда погубить репутацию повитухи. В качестве примера можно привести случай, который упоминается в материалах Т. А. Листовой, произошедший в начале прошлого века в Калужской губернии. Там среди женщин старшего поколения, а особенно среди бабящих было принято «понедельничать», т. е. не есть в понедельник скоромного, чтобы при повивании «рука была легче». Одна повитуха, долгое время практиковавшая во всей округе, забывшись, съела на людях в понедельник скоромного и «…через то ее никто не стал приглашать, так что она совсем лишилась практики». Наконец, отчасти объясняя то, что повитуха большинство своих действий сопровождала заговорами и особыми приговорками, в народном быту нередко подчеркивалось: «повитухи — женщины набожные», совершающие все, благословясь, с молитвой, с божьим словом, с божьим именем. Во многих областях именно с приходом повитухи родственники роженицы «подходили под божницу» и вместе с ней молились о скором и благополучном разрешении. Как правило, и сами повитухи подчеркивают свою, скорее, посредническую роль в родовспоможении, указывая на поступление основной помощи от Бога, Богородицы и святых: «Не я хожу, не я лечу, Сам Господь летел, Крылышками болохал, У аржаницы (имя рек) Темные врата растворял…»; или: «На море Окияне, на острове Буяне, у реки Иордана, стоит Никитий на злых духов Победитель и Иоанн Креститель. Воду из реки Святой черпают, повитухам раздают и приказывают: „Сбрызните и напойте этой водой родильницу и младенчика, некрещеного, но от крещеной порожденного“…» Эти мотивы, говорящие о том, что деятельность повитух санкционирована и всячески поддерживается высокими небесными покровителями, нашли даже легендарное выражение: «Што роженицам помогать, так это сам Господь указал: родила Божья Матушка от Святого Духа, а бабушка Соломонида при ей была и в муках ей помогала, потому и на иконах она на втором месте около Богородицы, и молитву ей читаешь: „Помяни, Господи, царя Давида и бабушку Соломониду…“ Так-то. Самим Господом Богом указано, чтобы нам, бабушкам, роженицам помогать, потому что только скотина сама себя ослабляет, а хрещеному человеку этого делать никак не можно» (запись легенды Т. А. Листовой, Орловская обл.). 6. В случае трудных родов, как это было принято у всех европейских народов, считалось необходимым раскрыть все, что закрыто: развязывали все находящиеся поблизости узлы (на поясах, платках, из кос выплетались ленты и т. д.), открывали все замки, снимались все запоры, распахивали все двери, окна, ставни, расстегивали одежду. Чтобы облегчить и ускорить тяжелые роды, на порог и углы дома сыпали соль, зажигали венчальные свечи. В особо тяжелых случаях посылали кого-нибудь в церковь к священнику и просили открыть «царские врата», а то и провести общий молебен. Подобные действия, по сути дела, должны расцениваться как оглашение, информирование всех о происходящем, т. е. происходит снятие вербального табу, а также снятие всех материальных и нематериальных границ. Случалось, что по требованию повитухи, чтобы помочь роженице разродиться, звали мужа. Вообще традиционным был негативный взгляд не только на участие, но даже на присутствие мужа при родах. Во многих местах считалось, что появление «мужского» в таком очень «женском» действе, каким, безусловно, являются роды, может только навредить, усилив муки роженицы: «…иные бабки говорят, вроде не надо мужчину пускать, трудно будет». С другой стороны, есть немало зафиксированных свидетельств того, что присутствие мужа оказывается полезным и даже нужным. Польза может выражаться в его активной и не очень активной задействованности: в случае тяжелых родов, например, мужа клали ничком на пол, а роженица должна была переступать через него; муж мог поддерживать роженицу во время ее хождения по помещению (существует даже свидетельство, когда муж носил рожающую жену вокруг стола на руках); или роженица при последних потугах садилась к мужу на колени, опираясь на него спиной, и т. д. Кроме того, в «приведении мужа на роды» женщины видели укрепление семейно-брачной связи: мужа звали, чтобы «на муку посмотрел» и (как в следствие этого) «чтоб жалел (=любил) больше». Повитухи наделяли такие действия кувадической семантикой и ставили в единый ряд с другими обрядовыми элементами: «Спали вместе и рожать должны вместе». Упоминание про кувадическую семантику требует хотя бы нескольких слов о самой куваде и об отголосках в обсуждаемых нами обрядах древних представлений, когда физическая связь между отцом и детьми признается уже после рождения ребенка. По сути дела, именно это явление принято называть кувадой (фр. faire la cauvade, что, в сущности, означает, высиживание <яиц>). С. А. Токарев говорил о куваде как об исключительно символическом акте, закрепляющем права отца на ребенка. В подтверждение сказанному он приводил древнеримский обычай класть новорожденного на порог перед отцом: поднимет — отцовство подтверждено, не поднимет — демонстрация отказа. Забегая вперед, отметим: у русских, белорусов, болгар, литовцев и многих других народов строго соблюдается обряд передачи окрещенного ребенка на пороге дома отцу, до сих пор существует специальный обряд «освятить дитя через порог», в котором четко прослеживается совмещение двух целей: юридического признания («усыновления») ребенка отцом и признание (приобщение) его к «своим», через предъявление его духам предков. Порог всегда расценивался как место наиболее близкое домашним (=семейным, родовым) духам. В «Первобытной культуре» Э. Б. Тайлора в подтверждение сказанному читаем: «…остатки кувады — остатки обычая демонстрации отцом его причастности к рождению ребенка, возникшего, скорее всего, в эпоху перехода от материнского счета родства к отцовскому». В широком смысле слова куваду можно определить и «как кодекс ограничений и запрещений (табу) для отца, начиная с зачатия и рождения ребенка и кончая известным сроком после его появления на свет». Известно, например, что у караибов Южной Америки (Бразилия, Антильские о-ва) мать вскоре после рождения ребенка принимается за повседневные женские дела, а отец тем временем «начинает охать, ложится в постель, и его навещают как больного; в продолжение месяца он выдерживает диету…» Одним словом, у многих народов мира, в том числе в восточнославянской и, у´же, в русской традиции, кувада — это прежде всего распространенное представление, будто родовые муки жены можно перенести на мужа. Таким образом подчеркивалась связь между отцом и ребенком — отец уподоблялся матери, «выполнял ее роль», «разделял» с ней ее родовые муки… В некоторых уездах Смоленской губернии, например, практиковался обычай, когда во время родов жены муж, улегшись на лавку, устроившись на крыльце (или даже забравшись на крышу хаты — это уже в Белоруссии), стонал и охал. Причем его соответствующим образом наряжали: на нем была женская рубаха, понева, на голове повязан платок и т. д. Объясняли, что это он так старается для рождения сына. Кстати, свое «выступление» муж мог предварить заявлением жене, что-де я за тебя «постогну», чтобы и мне было этой боли немножко. И это, безусловно, свидетельствовало о том, что человек вполне отдавал себе отчет в смысле происходящего. А в Ельцинском уезде (запись В. Н. Добровольского, конец XIX в.) этот обычай обрел такую форму: «к гениталиям мужа, лежащего на полатях, привязывали длинную нить, свободный конец которой свисал к лавке, на которой лежала роженица; когда она начинала стонать от боли, сидевшая рядом повитуха дергала нитку, и это вызывало невольные стоны мужа…» В некоторых местах, особенно в Белоруссии, было распространено представление, что как раз во власти повитух было перенести на мужа родовые муки жены, причем считалось, что роженица и в самом деле перестает во время схваток испытывать какие бы то ни было болевые ощущения. Так, например, рассказывали, что вблизи деревни Глубокая (Полесье) на всю округу была известна бабка, которая с помощью молитвы делала так, чтобы «болел» муж: «мужик падает, на коленях ползает, а жена родила и смеется: ей не больно, мужику больно…» (перевод, запись текста Г. И. Кабаковой). Есть свидетельства того, что один из последних случаев, когда муж обязался «взять на себя» родовые муки жены, был зафиксирован в 30-е годы XX века на Украине. Во время свадьбы, когда молодые входили в родительский дом молодого, акт обязательства был оформлен довольно-таки оригинальным способом: жених на пороге трижды перекувырнулся через свою молодую жену. К пережиточным формам кувады может быть отнесен, по мнению некоторых исследователей, и повсеместно соблюдаемый в России обычай, согласно которому ни отец, ни мать новорожденного не могут присутствовать при его крещении.