В. Б. Касевич ЕЩЕ О ЯЗЫКОВОЙ НОРМЕ
advertisement
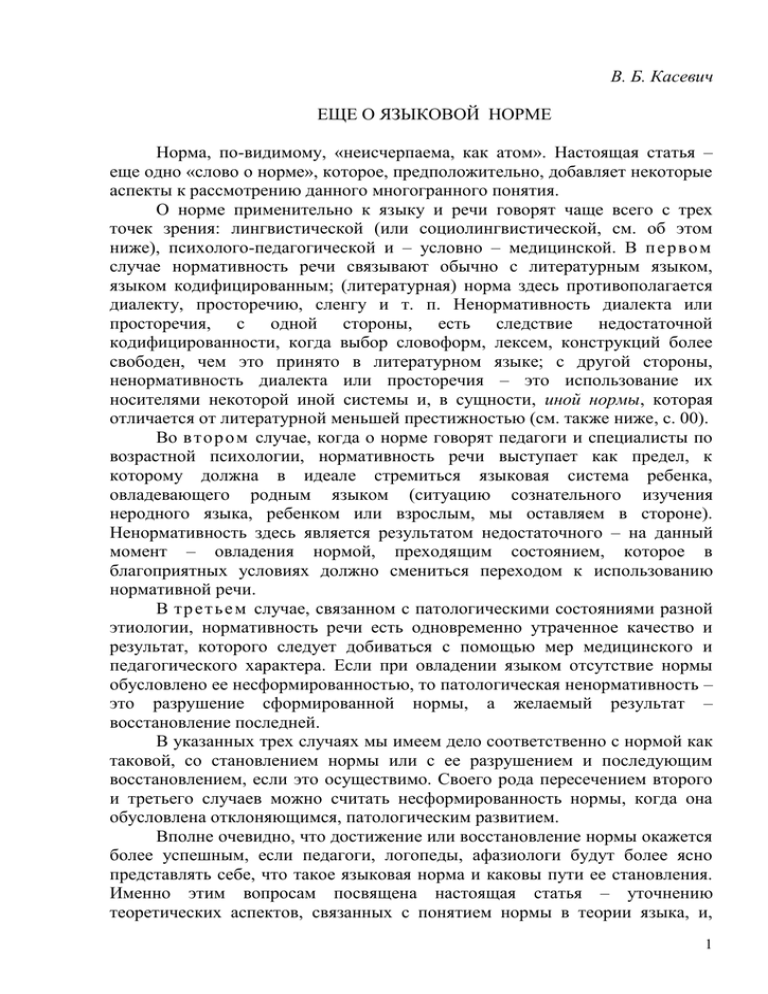
В. Б. Касевич ЕЩЕ О ЯЗЫКОВОЙ НОРМЕ Норма, по-видимому, «неисчерпаема, как атом». Настоящая статья – еще одно «слово о норме», которое, предположительно, добавляет некоторые аспекты к рассмотрению данного многогранного понятия. О норме применительно к языку и речи говорят чаще всего с трех точек зрения: лингвистической (или социолингвистической, см. об этом ниже), психолого-педагогической и – условно – медицинской. В п е р во м случае нормативность речи связывают обычно с литературным языком, языком кодифицированным; (литературная) норма здесь противополагается диалекту, просторечию, сленгу и т. п. Ненормативность диалекта или просторечия, с одной стороны, есть следствие недостаточной кодифицированности, когда выбор словоформ, лексем, конструкций более свободен, чем это принято в литературном языке; с другой стороны, ненормативность диалекта или просторечия – это использование их носителями некоторой иной системы и, в сущности, иной нормы, которая отличается от литературной меньшей престижностью (см. также ниже, с. 00). Во в то р о м случае, когда о норме говорят педагоги и специалисты по возрастной психологии, нормативность речи выступает как предел, к которому должна в идеале стремиться языковая система ребенка, овладевающего родным языком (ситуацию сознательного изучения неродного языка, ребенком или взрослым, мы оставляем в стороне). Ненормативность здесь является результатом недостаточного – на данный момент – овладения нормой, преходящим состоянием, которое в благоприятных условиях должно смениться переходом к использованию нормативной речи. В тр е т ье м случае, связанном с патологическими состояниями разной этиологии, нормативность речи есть одновременно утраченное качество и результат, которого следует добиваться с помощью мер медицинского и педагогического характера. Если при овладении языком отсутствие нормы обусловлено ее несформированностью, то патологическая ненормативность – это разрушение сформированной нормы, а желаемый результат – восстановление последней. В указанных трех случаях мы имеем дело соответственно с нормой как таковой, со становлением нормы или с ее разрушением и последующим восстановлением, если это осуществимо. Своего рода пересечением второго и третьего случаев можно считать несформированность нормы, когда она обусловлена отклоняющимся, патологическим развитием. Вполне очевидно, что достижение или восстановление нормы окажется более успешным, если педагоги, логопеды, афазиологи будут более ясно представлять себе, что такое языковая норма и каковы пути ее становления. Именно этим вопросам посвящена настоящая статья – уточнению теоретических аспектов, связанных с понятием нормы в теории языка, и, 1 одновременно, рассмотрению некоторых следствий прикладного характера, вытекающих из того или иного подхода к понятию нормы. Следует оговориться, что статья не претендует на освещение существующих в литературе точек зрения. Литература, связанная с проблемами нормы, практически необъятна, и в небольшую статью достаточно общего характера нет ни возможности, ни, пожалуй, необходимости включать обзорную часть. Поэтому ссылки на имеющиеся публикации будут сведены к минимуму; они не отражают ни удельного веса тех или иных концепций, ни даже теоретических симпатий или антипатий автора. О разных подходах к понятию «норма» Норма применительно к языку как системе есть прежде всего социолингвистическая категория – такая характеристика системы и входящих в нее единиц, которая определяется не только, даже не столько, собственно языковыми закономерностями, сколько оценочными и вкусовыми в своей основе факторами социального порядка. Сначала, однако, полезно напомнить, что сам вопрос о норме, нормативности возникает тогда, когда есть конкурирующие варианты; если, например, падежная форма данного существительного каждым человеком и всеми членами языкового коллектива используется во всех случаях как единственно возможный вариант (механические ошибки не в счет), то отсутствие выбора снимает и проблему нормативности такой формы. Если же одни носители языка говорят, скажем, щупальца (мн. ч. им. п.), а другие – щупальцы (или, реже, один и тот же человек попеременно использует оба варианта), то возникает необходимость выбора – определения, какой из вариантов является нормативным, а какой – нет. В сравнительно редких случаях нормативными и, следовательно, социолингвистически равноправными, могут быть признаны два варианта (классический пример – допустимость творóг и твóрог в русском литературном произношении). Коль скоро норма связана по преимуществу с оценкой, следует явно сознавать эту ее субъективность. Нужно говорить, произносить именно так, а не как-нибудь иначе, потому что в противном случае носитель языка выведет себя за рамки социально приемлемых стереотипов, что отрицательно скажется на уровне его социальной адаптации. Довольно широко распространено наивное, в общем, убеждение, согласно которому языковые нормы носят вполне объективный характер – примерно такой же, как законы физики или химии; считается соответственно, что нормы можно «открыть» применением научных методов и это объективное знание использовать в практических целях. В действительности объективный характер носит система языка как таковая, включая присущую ей вариативность. Лингвист действительно «открывает» эту систему с использованием всего арсенала методов языкознания, тем самым «открывая» и те флюктуации, колебания, которые в 2 этой системе – подвижной, не окостеневшей – с неизбежностью присутствуют. Отбор среди вариантов тех из них, которые могут и должны быть признаны нормативными, – задача уже социолингвиста, а не «чистого» лингвиста.1 Лингвист, однако, не совсем остаётся в стороне при реализации указанной задачи. Дело в том, что варианты по крайней мере в части случаев отличаются по степени их соответствия некоторым тенденциям развития, объективно присущим данному языку. Когда из ряда реально существующих вариантов указывают на один как предпочтительный, то одновременно как бы предписывают языку линию его развития. Ведь новое в языке появляется не из вакуума, а чаще всего путем утверждения каких-то признаков, единиц, которые на предыдущем этапе функционировали в качестве факультативных, контекстных или каких-либо иных вариантов. Поэтому отбор варианта на роль нормативного оправдан тогда, когда это оказывается в согласии с линией развития данного фрагмента языковой системы. Например, для русских существительных определенного класса типично образование множественного числа посредством окончания -а при одновременном переносе ударения с основы на окончание, что можно видеть на примерах наподобие профессор – профессорá, повар – поварá, кучер – кучерá. Реально наблюдаемая тенденция может служить свидетельством того, что и формы шоферá, слесаря́, малярá и т.п., ныне просторечные, имеют шанс стать нормативными; более определенные заключения едва ли правомерны. К тому же следует учитывать, что тенденция развития языка далеко не всегда очевидна, особенно когда речь идет о конкретных фонемах, лексемах, словоформах, конструкциях. Так, в русском языке мягкие заднеязычные согласные в фонологически независимой позиции, т.е. не перед гласными переднего ряда, встречаются крайне редко, главным образом в малоупотребимых заимствованиях, ср. гяур, Гянджа, Кяхта, Хярм, и лишь в нескольких исконных словоформах, тоже низкочастотных, ср. ткёт, берегя. Однако было бы поспешным утверждать, что наличие в системе мягких заднеязычных противоречит тенденции развития русской фонологии. Ситуация более сложна. Палатализация, приводящая к образованию мягких согласных, и веляризация – противонаправленные процессы, что имеет и физиологические, и акустические основания (на разъяснении этого останавливаться не будем). Поэтому заднеязычные (велярные) согласные в наибольшей степени «сопротивляются» необусловленному смягчению, отсюда и малая употребимость в русском языке заднеязычных мягких в Вообще говоря, «цеховые» деления на собственно лингвистику, социолингвистику, психолингвистику и т.п. имеют смысл не более, чем разграничения «внутри» лингвистики, выделяющие, скажем, фонологию, морфологию, синтаксис и т.п.: «большая» лингвистика объемлет всё. Но приходится считаться с реально существующим разделением труда, специализацией (в результате чего представители разных «цехов» подчас, увы, перестают понимать друг друга). 1 3 независимой позиции, их низкая функциональная нагрузка. То, что в русском языке фонологическая палатализация все-таки распространяется на заднеязычные согласные, пусть и со сниженной функциональной нагрузкой, указывает на фундаментальную роль признака «твердость/мягкость» для русского консонантизма, когда этот признак стремится к безысключительному охвату всей системы согласных. В любом случае возможности лингвистики в деле формирования нормы не стоит переоценивать. Лингвисты не могут влиять на язык, хотя и могут – в определенной степени – влиять на носителей языка: через школу, театр, кино, средства массовой коммуникации. Влияние это должно быть, однако, достаточно тактичным – в целом примерно таким, каким описывал «обратное воздействие» искусства на действительность В. В. Розанов, привлекая в качестве примера А. С. Пушкина: «…В его (Пушкина. – В. К.) поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего уторопляющего или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она не мешает жизни…» (Розанов 1990: 227). Основная, исходная задача социолингвиста при решении вопросов, связанных с кодификацией языка, заключается, мы полагаем, в удачном определении эталонно-референтной группы носителей языка. Это носители языка, речь которых признается эталонной, образцовой; соответственно, при возникновении вопроса типа «какой из вариантов языковой единицы Х следует признать нормативным?» обычный ответ будет: «тот, который используют члены эталонной группы»; этот ответ и дается социолингвистом. Иначе говоря, социолингвисты выступают в качестве своего рода арбитров, которые изучают «дело» и выносят вердикт, используя по существу закон прецедента (а также, разумеется, собственные лингвистические знания о языковой системе и тенденциях ее развития, о чем говорилось выше). Эталонная группа, которая «поставляет» прецеденты, в условиях цивилизации современного типа состоит из людей, профессиональная деятельность которых как раз и является источником становления, развития нормы и ее распространения, т.е. писателей, артистов, журналистов, дикторов. Социолингвисты, специалисты по языковой норме исследуют эталонную речь и на этом фундаменте строят свои рекомендации. Следует, конечно, оговориться, что тексты, полученные от членов эталонной группы, практически не бывают однородными: между разными членами группы и даже между разными речениями одного и того же ее представителя вполне обычны расхождения. Последнее слово в таких случаях принадлежит специалисту-лингвисту (социолингвисту), который выносит решение на основании своих профессиональных знаний, а отчасти и интуиции. Ситуация, если угодно, напоминает религиозную, когда слово 4 высших сил доходит до мирян, как правило, в интерпретации священнослужителя, жреца…2 Откровенно субъективный подход к категории языковой нормы не должен смущать. Дело в том, что ему реально нечего противопоставить – да и в принципе, как уже отмечалось, обсуждаемое понятие нормы субъективно. Социолингвистическая (и, шире, социальная) норма прескриптивна, а прескрипция, предписание всегда несет элемент субъективности, произвола, даже когда отражают объективные потребности и тенденции. Неверным было бы и недооценивать значение социолингвистической нормы из-за субъективности ее природы. Основная функция языка – коммуникативная и, казалось бы, способ реализации тех или иных языковых единиц важен лишь постольку, поскольку он обеспечивает (или не обеспечивает) реализацию указанной функции. Однако человек – существо аксиологическое, склонное к оценочным характеристикам практически всех ситуаций, с которыми он имеет дело. Оценочное отношение распространяется, естественно, и на язык; «речевой портрет» человека всегда считался его важнейшей характеристикой. Релевантность, значимость языковой нормы особенно очевидна и потому, что она выступает одним из элементов социальной оценки: престижность речевого типа, «речевого портрета» человека, как правило, положительно скоррелирована с престижностью его социального статуса. Отсюда и естественность обрисованного выше подхода: от социального статуса к языковой норме. Имеется, однако, и другое понимание нормы, что нередко, кстати, вносит немалую путаницу в обсуждение соответствующей проблематики. Мы имеем в виду норму дескриптивную, или статистическую. «Норма», «нормально» говорят в ситуациях, когда речь идет о чем-то типичном – т.е. статистически преобладающем. В собственно лингвистическое (т.е. не социолингвистическое) описание языка и речевой деятельности несомненно входит и информация о статистическом распределении реально используемых вариантов. Например, описывая функционирование глагольных конструкций русского языка, автор грамматики укажет вероятно, что глагол надевать используется незначительным числом говорящих, 2 Ср.: «Поскольку… функция (определения того, что в речи считать правильным, а что – неправильным. – В.К.), не выполняемая современной стилистикой или выполняемая лишь частично единичными лингвистами, занятыми вопросами “культуры речи”, необходима не только для развития науки, но и для функционирования языка в обществе, то она выполнняется художественной литературой, вернее – некоторой группой писателей, которые становятся своего рода жрецами, хранителями понятия языковой нормы, и книги которых повсеместно признаются собранием правильно построенных, образцовых фраз» (Ревзин 1966: 5). Как следует из сказанного выше, аналог жреческой функции корректнее усматривать всё же в деятельности (социо)лингвистов. 5 гораздо чаще на его месте отмечается глагол одевать (что-л.); желательны и точные количественные оценки 3 . В этом смысле – с точки зрения статистического преобладания – такие высказывания, как одень пальто, принадлежат области нормы. Нормы дескриптивной, описательной – но не прескриптивной. И эти «две нормы», точнее нормы «в разных смыслах»,4 не будут совпадать до тех пор, пока использование одевать вместо надевать не распространится на эталонную группу – если, разумеется, это вообще когданибудь произойдет (употребление одевать в значении надевать отмечалось в качестве типичной ошибки уже в позапрошлом веке). К дескриптивной норме ближе всего и норма в том понимании, которое используется в логопедии, афазиологии, в дефектологии и медицине: норма здесь противополагается патологии, т.е. трактуется как отсутствие отклонений, нарушений, расстройств. Но избранный стандарт, относительно которого, скорее всего, соответствующие отклонения фиксируются, носит статистический характер (и в силу этого, кстати, может быть подвижным, изменяясь с распределением соответствующих параметров в пространстве социума). В связи с этим можно говорить об особом – третьем – типе понимания нормы; назовем такую норму «индивидуальной». Индивидуальная норма дескриптивна, но в то же время она описывается относительно нормы прескриптивной. Это типичные реализации тех или иных языковых единиц в речи индивидуума, однако взятые «в пределе» – как максимально доступное для него в силу тех или иных причин – приближение к прескриптивной кодифицированной норме. Особенно существенно понятие индивидуальной нормы для восстановительного обучения. Логопеду необходимо выяснить адаптивные потенции обучаемого и добиваться максимального развития именно тех поддающихся коррекции и усовершенствованию умений, навыков, которые будут способствовать коммуникативной, т.е. социальной, (ре)абилитации. Например, уделяя повышенное внимание интонационной выразительности речи, можно заметно повысить ее воспринимаемость для Такая информация – элемент собственно лингвистического описания, а не социолингвистического постольку, поскольку здесь мы имеем дело с фиксированием объективного состояния языковой системы и параметров текста (речи) вне вопроса о социальной «привязке» тех или иных вариантов. 4 Иллюстрацией разного понимания нормы может служить эпизод, упоминаемый в биографии Б. Шоу. Когда врач-офтальмолог сказал Шоу, что его зрение «абсолютно нормально», Шоу уточнил: «Т.е. как у всех людей?». На что услышал: «Что Вы, мистер Шоу! Нормальное зрение бывает у очень немногих». Ясно, что Шоу отнес высказывание врача к области дескриптивной нормы, в то время как сам врач имел в виду норму прескриптивную. На этом примере можно также видеть, что соотношение объективности/субъективности в суждениях о норме может варьировать в зависимости от «предметной» области. 3 6 окружающих даже в условиях достаточно тяжелых расстройств, когда существенно нарушена артикуляция гласных и согласных, наблюдаются многочисленные литеральные парафазии и т.п. (см. также ниже). Наконец, можно выделить еще одно, четвертое, понимание нормы – менее важное, периферийное, но, тем не менее, тоже реальное. Выше говорилось, что норма, понимаемая социолингвистически, т.е. прескриптивная, отражает предпочтение вариантов, которые отличаются большей престижностью. Полезно учитывать, однако, что «официальная» престижность есть, вообще говоря, один из аспектов социальной идентификации – отнесение индивидуума к той или иной общности. С этой точки зрения выбор варианта языковой единицы может служить для того, чтобы отличать «своих» от «чужих», вне зависимости от положения «своих» в общепризнанной социальной иерархии. В воспоминаниях об акад. И. П. Бардине, металлурге, начинавшем как производственник, упоминается, что в ответ на вопрос о том, как он произносит киломéтр или килóметр, Бардин ответил примерно так: «Это смотря где. Если на заседании Президиума Академии Наук, то киломéтр – иначе акад. В. В. Виноградов морщиться будет. А если на заводе, то килóметр – иначе скажут, что зазнался, мол, Бардин». Это и есть типичный случай выбора варианта, служащего для самоотождествления говорящего с социальной общностью, принадлежность к которой ощущается как субъективно ценная, вообще или в данный момент. Выбирается тот вариант, который свойствен локальной норме соответствующей общности. Такую норму можно было бы назвать «нормашиболет». 5 Вполне понятно, что норма-шиболет носит ярко выраженный социолингвистический характер. Важно отметить, что из понимания дескриптивной нормы как статистической не следует, что для прескриптивной нормы статистические характеристики незначимы. Учитывая подвижность прескриптивной нормы, типичные несовершенства в «использовании» языка его носителями, нужно признать, что предписанные нормой реализации языковых единиц, как правило, не выступают как абсолютно однозначные. Иначе говоря, соответствие норме – это чаще всего не констатация типа «для нормативного русского произношения длительность ударного гласного в данном контексте Слово шиболет (шибболет), букв. «колос» или «ручей», проникло в европейские языки из древнееврейского благодаря Ветхому Завету: «И перехватили Галаадитяне переправу через Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: «скажи шибболет», а он говорил «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взявши его, заклали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи» (Суд.,12:5-6). Ср. в отрывках из Х главы «Евгения Онегина»: Авось, о Шиболет народный, Тебе б я оду посвятил, Но стихоплет высокородный Меня уже предупредил. 5 7 должна превышать длительность первого безударного в 1.2 раза», а то же самое с существенным добавлением: «с вероятностью, равной 0.85».6 Механизм нормы Выше говорилось о «языковой норме», но не разъяснялось, в каком отношении понятие нормы находится к членам классической триады «язык– речь–речевая деятельность». Ставя этот вопрос, мы фактически от анализа функциональных типов нормы переходим к обсуждению самого механизма; последний, надо сказать, мало зависит от типа – прескриптивной нормы, дескриптивной или нормышиболет. Самым общим образом принцип этого механизма можно описать так. Языковые признаки и правила определяют абстрактные характеристики соответствующих единиц, а нормирующие (реализующие норму) признаки и правила конкретизируют языковые, устанавливая пределы их варьирования. Например, с точки зрения языковой системы русского языка важно различение (противопоставление) мягких и твердых согласных. Это – абстрактно-фонологический дифференциальный признак, присущий системе. Ему соответствуют определенные корреляты, т.е. фонетические (акустикоартикуляторные) характеристики, реализующие мягкость и твердость в конкретных согласных звуках. В частности, мягкое т, т.е. /t'/, в современном русском языке произносится аффрицированно – близко к мягкому ц (фонемы /c'/ в русском языке, как известно, нет). И сам факт аффрицированности [ts'], и мера этой аффрицированности – которая может быть в принципе большей или меньшей – относится к области нормы. Другой пример, также из сферы фонетики. В русском языке (и во многих других), один из слогов слова выступает как выделенный – ударный. Позиция ударного слога – абстрактно-фонологический, системный признак слова. К системной характеристике относится и средство выделенности ударного слога; в качестве такового в русском языке используется преимущественно длительность. Норма же определяет, в каких пределах применительно к заданному может колебаться временнóе соотношение ударного слога с безударным/безударными (равно как и выраженность спектральных и иных качественных различий у ударных/безударных). Пример с ударением демонстрирует и еще одну разновидность действия механизма нормы. Сама позиция ударения может зависеть от различных факторов: состава фонем, действительного для экспонента словоформы – например, в русском языке гласная о, если отвлечься от немногих исключений, всегда ударна; от состава морфем – например, в Оба численных показателя здесь произвольны. Обширный материал, проанализированный с точки зрения статистического подхода к норме, содержится в работах Е.В.Ерофеевой (см. Ерофеева 2005 и др.). 6 8 существительных на -ин(а), образованных от прилагательных, ударение падает на окончание, ср. толщина; возможности различения слов единственно за счет смены позиции ударения, ср. традиционные примеры наподобие мукá – му́ка; наконец, от самого по себе языкового узуса – т. е. нормы: например, с точки зрения системы безразлично, каким будет ударение в словоформе звонит (ср. своди́ть – свόдит, коси́ть – кόсит траву, но коси́ть – коси́т глазом), и только лишь прескриптивная норма предписывает произносить звони́́т, отвергая вариант звόнит.7 Иначе говоря, норма диктует выбор вариантов – реально используемых или потенциально возможных, – когда системе относительно «всё равно», какой из них будет реализован. Механизм нормы во всех случаях связан с ограничением степеней свободы при переходе от «топологических», абстрактно-инвариантных признаков и правил системы к их «метрическим» речевым вариантам, обладающим качественно-количественной определенностью, что осуществляется в процессе речевой деятельности. Норма, следовательно, – самостоятельная категория, не сводимая к членам триады «язык–речь– речевая деятельность». Можно сказать, что норма – один из механизмов, связывающих язык и речь в процессе речевой деятельности. В то же время с двумя основными сторонами речевой деятельности – порождением и восприятием речи – норма связана не вполне одинаково. Для говорящего норма устанавливает границы, в пределах которых он может варьировать реализации фонем, лексем, словоформ, конструкций, правил, входящих в языковую систему. (В частности, от нормы зависит, в какой степени говорящий «имеет право» экономить усилия, прибегая к редукции того или иного типа.) Выход за пределы, очерченные нормой, ставит коммуникацию под угрозу срыва (крайний случай), а как минимум – наносит ущерб коммуникации и/или престижу говорящего. Для слушающего соблюдение нормы говорящим – это отсутствие помех для адекватного восприятия, в конечном счете для понимания речи. Идеальный случай – ситуация, когда характеристики речи говорящего вообще не выступают для слушающего в качестве самостоятельных признаков вне, если воспользоваться понятием Н. А. Бернштейна, фоновых уровней и механизмов; тогда слушающий без ненужных затруднений обращается непосредственно к смысловой стороне речи. 8 С этой точки Строго говоря, последние два случая не могут быть противопоставлены абсолютно: не существует закономерностей фонологической системы, которые запрещали бы реализацию обоих слов, мукá – му́ка, с одинаковым ударением; наличие му́ка наряду с мукá – «словарная случайность», слияние этих слов приведет лишь к возрастанию в языке числа омонимов (в то время как невозможность безударного о – почти абсолютный системно обусловленный запрет). 8 В сущности, дело заключается в том, что при восприятии нормативной речи слушающему не приходится прибегать к нестандартным 7 9 зрения для нормы важно не наличие каких-либо особенностей в оформлении речи, а их отсутствие, и норма выступает как отрицательная характеристика (ср. выше). Реально «средний» говорящий на родном языке достаточно часто нарушает, как уже отмечалось, языковые нормы. Вероятность нарушения возрастает с повышением уровня, наиболее распространены синтаксические и лексические ошибки. В фонетике различают орфоэпические ошибки – замены фонем, нарушения правил их сочетаемости, несоблюдение места ударения, использование «не тех» интонаций – и орфофонические – замены аллофонов, ненормативная реализация иных фонологических единиц. Недопущение орфофонических ошибок, вопреки распространенному мнению, не менее важно, нежели соблюдение орфоэпических правил: если нарушение последних, заменяя, например, фонему, приводит к появлению в речи реально не существующей, но, обычно, потенциально возможной единицы (слόва), то орфофоническая ошибка может вообще выводить высказывание за пределы возможного в данном языке. Говорящий на родном языке не волен игнорировать нормы, хотя, как сказано, невольные погрешности практически неизбежны. Говорящий, в частности, не в состоянии «отказаться» от реализации интегральных признаков фонемы, ограничившись дифференциальными. Например, для русских сонантов (м, н, л, р, их мягкие аналоги, й) с фонологической точки зрения звонкость несущественна, они не входят в оппозицию по дифференциальному признаку «звонкость/глухость». Однако говорящий не может произносить их «никакими» - ни звонкими, ни глухими, сонанты реализуются как звонкие, кроме некоторых позиций, где закономерно происходит оглушение; мера участия голоса и здесь определяется нормой. В отличие от этого, для слушающего может быть достаточным наличие признака (его коррелята), ответственного за отождествление/различие, например, данной фонемы, т.е. признака дифференциального. Скажем, ненормативное отсутствие оглушения сонанта в слове наподобие мётл, скорее всего не повлияет на адекватность восприятия (и даже не будет замечено), хотя звонкость здесь есть основания трактовать как орфофоническую ошибку.9 стратегиям восприятия (распознавания). Мы отвлекаемся от обсуждения тех характеристик речи, которые несут информацию об индивидуальности говорящего, а также связаны с выполнением эстетической функции. 9 В принципе надо также учитывать, что степень «пагубности» ошибки зависит и от направления вносимого ею изменения: ошибка, ведущая к большей степени дифференциации, меньше сказывается на адекватности восприятия, нежели ошибка с противоположным эффектом. Неодинакова и роль немаркированного значения признака (например, глухости, твердости) по сравнению с маркированным (звонкости, мягкости); это сказывается, заметим, и при усвоении второго языка, когда от твердого ш к мягкому 10 Иначе говоря, во-первых, разные орфофонические ошибки имеют разный эффект (и это важно учитывать при восстановительном обучении), а во-вторых, категория нормы относительно больше связана с порождением речи, чем с восприятием. Становление и разрушение нормы Становление нормы имеет место прежде всего при естественном усвоении языка и в этих условиях фактически тождественно данному процессу. Мы рассматриваем лишь некоторые из наиболее важных проблем. Как известно, сам термин «усвоение языка» далеко не всеми специалистами признается вполне правомерным. Дело в том, что под усвоением – в особенности в некоторых «крайних» редакциях наподобие ортодоксально бихевиористской – нередко понимают собственно имитационный процесс по типу приобретения условных рефлексов, который организован соответственно обычным подкреплением, положительным и отрицательным, поступающим от среды (окружения). Такой подход и отвергает прежде всего различные версии нативизма, т.е. концепции, исходящей из представлений о врожденности языковых знаний. Нативизм настаивает на том, что языковые структуры – часть информации, которой человек владеет от рождения, наследственно. Разумеется, сторонники теории нативизма не утверждают, что генетически передается владение конкретным языком. Имеется в виду, что в геном входит информация об универсальных признаках и структурах, правилах, действительных для любого естественного языка (считают, что именно этот универсальный компонент и составляет сущностное ядро всех языков, а различия между ними носят более или менее поверхностный, внешний характер). Язык, как считают нативисты, не усваивается, а «созревает» с развитием ребенка в онтогенезе – примерно так же, как появляются у ребенка те или иные умения, например, способность к прямохождению, с созреванием в онтогенезе определенных структур. Языковой (речевой) среде с этой точки зрения отводится лишь роль своего рода катализатора, необходимого для становления процесса, но не образца для подражания, не источника имитируемого материала (Хомский 1972; Chomsky 1975; Chomsky 1976). Одновременно принимается обычно, что язык не следует рассматривать в качестве традиционного «наследника» эмоциональных и сигнальных вокализаций, известных уже у животных; это доказывают, в частности, с помощью данных, свидетельствующих, что все вокализации животных, в том числе обезьян, связаны с функционированием лимбической системы мозга и не имеют никакого отношения к новой коре. Постулируется соответственно, что появление языка в филогенезе невозможно объяснить перейти легче, чем от мягкого ч к твердому (хотя оба равно отсутствуют в русской фонетике). 11 как результат эволюционного развития и что необходимо предположить эффект некоего «скачка», который вызвал к жизни появление языка (и вероятно, человека как такового), ср. Hansen 1985. Существуют и достаточно разработанные системы аргументации, подвергающие сомнению концепции нативизма, защищающие идею возникновения языка в филогенезе с позиций неодарвинизма /7/, а применительно к онтогенезу признающие решающую роль речевого окружения как источника информации, необходимой для формирования языкового механизма ребенка (см. об этом: Language learning…1980; Dialogues… 1983). Специальный анализ известных на сегодня концепций не может быть предпринят в рамках настоящей статьи. Отметим лишь, что желательно избегать крайностей как «слишком последовательного» нативизма, так и сугубо эмпирического подхода. Уже сам факт уникальности языковой способности человека 10 недвусмысленно говорит о том, что человека действительно выделяет наличие некоторых генетически обусловленных (неврологических) структур, без которых овладение языком невозможно. Достаточно ясно также, что целый ряд важнейших параметров языка определяется уже конструкцией мозга человека и типом его функционирования (Глезер 1995). Остаются вопросы: что является врожденным – способность к усвоению языка или же непосредственно знание языка (его базисных структур)? Если речь должна идти о самом знании, каково соотношение врожденного и приобретаемого постнатально компонентов в естественных языках? Последнее прямо связано с проблемой соотношения универсального и специфического в языках мира. Едва ли ответы на означенные вопросы могут быть получены с помощью одних лишь абстрактно-теоретических рассуждений. Здесь необходим кропотливый анализ, во многом основанный на экспериментальных данных. В то же время очевидно, что от ответов зависит очень многое в выборе стратегий практической деятельности, в особенности связанной с восстановительным обучением. Много внимания в литературе уделяется стадиям, этапам в овладении языком. Достаточно распространены представления, согласно которым этот процесс развивается в восходящем направлении – от фонетики к синтаксису, сначала простому, затем усложненному. Считается, что ребенок начинает с овладения фонологической системой языка, со «звуков». Реальные процессы, по-видимому, существенно отличаются от этой схемы. Преобладающее направление в процессах становления языка – нисходящее, со ступенчатым развертыванием системы из ее первичного ядра, мало дифференцированного и структурированного, и достижением богатой Мы оставляем в стороне вопрос о релевантности данных, связанных с попытками обучить начаткам языка животных (шимпанзе), см. об этом особенно (Wolpert 1990), полагая, что наличие этих данных не колеблет тезис об уникальности человека с указанной точки зрения. 10 12 архитектоники, отвечающей практически неограниченным коммуникативным и когнитивным возможностям. Очень кратко и огрубленно эти процессы можно описать следующим образом (Касевич 2006). В ранние периоды гуления и лепета, наступающие независимо от языковой среды, реализуется зачаточная протосистема, которая обеспечивает возможности элементарного контакта и самовыражения (эмоционального). Лепетная речь, отрабатывая универсальный репертуар артикуляций и их необходимые связи с акустическими характеристиками за счет обратных афферентаций, служит одновременно фундаментом для возникновения ритмических и интонационных структур. Иначе говоря, ребенок начинает с оперирования «просодическими словами» и «просодическими фразами», сегментным субстратом которых служат фонологически неспецифицированные структуры, обычно слагающиеся из итерированных открытых слогов. С использованием просодики, уже соответствующей, частично, нормам данного языка, и сегментных (слоговых) средств, еще в основе своих универсальных, не соотносящихся с конкретно-языковой фонологией, коммуникативные возможности ребенка заметно расширяются. Следующий шаг в развертывании системы состоит, вероятно, в расподоблении слогов в составе цепочек, которые служат субстратом «просодических слогов», – т.е. в сочетании разных слогов, уже тем самым фонологически индивидуализированных; слоги при этом приобретают статус первичных элементов – единиц сегментной фонологии языка. Они выступают как монолитные образования, фонологически не членимые на согласный и гласный. С возникновением в речи двусложных единиц, составленных из разных слогов, а также слогов закрытых, примерно совпадает и период голофраз – однословных высказываний, единственное слово которых обладает ритмической и интонационной определенностью, налагаются же просодические структуры на структуры слоговые, где, как сказано, слог функционирует в качестве основной – и фактически единственной – единицы сегментной фонологии. С семантической точки зрения голофраза, вероятно, в типичном случае отвечает реме, тогда как тема восстанавливается из контекста (точнее, из ситуации). Фонемы в составе слога «вычленяются» как самостоятельные элементарные единицы, образующие собственную систему, на более позднем этапе, когда повышающиеся коммуникативные потребности приводят к использованию более или менее сложных грамматических средств: необходимость обращения к грамматическим правилам, связанным с оперированием морфологическими показателями, приводит к наложению морфемной структуры на не совпадающую с ней слоговую, за счет чего последняя и разлагается (при сохранении слога как одной из важных оперативных единиц речевой деятельности – и речепорождения, и речевосприятия). Система фонем в итоге стабилизируется лишь к 7-8 годам. 13 Таким образом, на каждом этапе ребенок оперирует относительно целостной языковой системой со своими единицами и правилами. Движение к норме – это усложнение системы, дифференциация единиц и правил. В то же время при развитии и усложнении системы сохраняется возможность обращения к, так сказать, «онтогенетически древним» единицам, структурам, правилам, 11 которые могут обеспечить оперативное решение коммуникативных задач в неблагоприятных условиях, условиях, требующих относительно простых реакций и не связанных с большим риском отрицательных последствий при ошибке, и т.п. Например, весьма типичны стратегии, при использовании которых слушающий ограничивается оценкой интонационных и акцентных характеристик (коротких) высказываний с ситуативно и контекстно предсказуемой семантикой, не прибегая к анализу сегментных средств для их идентификации. В известном смысле такая поведенческая реакция возвращает слушающего к ранним этапам овладения языком, хотя в ситуации данного типа носитель языка прибегает к своему знанию словаря, грамматики, а также ко всему богатству фоновых знаний, что недоступно для ребенка. Владение информацией обо всех разных типах речевой деятельности – разных в том числе и по времени становления в онтогенезе – представляется чрезвычайно важным с точки зрения проблем обучения, особенно применительно к патологии речи. Реальное сосуществование в языковой системе механизмов, одновременно отличающихся функционально и «по происхождению», позволяет осознанно ставить задачи системной компенсации – переключения на использование одного механизма, интактного, при дефиците функций другого, который в норме выступает по отношению к первому как дополнительный или альтернативный. Так, уместно целенаправленное развитие стратегий, связанных с анализом просодической информации, при некоторых слуховых агнозиях и других расстройствах, вызывающих трудности в обращении к информации о гласных и согласных. Разумеется, «стопроцентный» компенсационный результат здесь не может быть гарантирован (как обострившийся слух не заменяет нарушенное зрение), но немаловажно и решение частных задач, повышающих адаптивные потенции больного. Методика восстановительного обучения вообще нуждается в тщательно разработанной теоретической базе, для создания которой необходимо объединение усилий афазиологов, психологов, неврологов, нейрофизиологов, лингвистов и других специалистов. Норма и эталон Не раз обсуждалась проблема соотношения нормы и образцовых художественных текстов. Художественность, литературность – это по В типичном случае эти структуры и правила являются одновременно и «филогенетически древними». 11 14 определению отклонение от норм. Как всякое произведение искусства – в широком смысле, т.е. включая и литературу – художественный текст невоспроизводим, а, следовательно, не может базироваться на норме, которая как раз воспроизводимость и предполагает. Если это так, то как пишут Дюбуа и др., «в школе… придется приводить их (литературные образцы. – В.К.) в качестве примеров, которым не надо следовать». Хотя, с другой стороны, «художественные тексты не без основания рассматриваются как образцы правильной речи, правильной с точки зрения нормативной грамматики: писатели лучше, чем кто бы то ни было, знают языковой материал, они чувствуют его, как скульптор чувствует мрамор. И когда Тодоров настаивает на том, что “стилистические эффекты существуют лишь постольку, поскольку они противопоставлены норме, принятому употреблению”, тут же следует добавить, что то, что вызывает эти эффекты, отражает в равной степени и отклонение и норму» (Дюбуа и др. 1986: 51). Чтобы разрешить этот парадокс, следует учитывать несколько аспектов. П е р в ы й связан с тем, что, как утверждают те же Дюбуа и др., существует механизм автокоррекции. Когда носитель языка сталкивается с отклонением, то, основываясь на знании языка, контекста, избыточности текста, а также на энциклопедических знаниях, он снимает отклонение, приводит текст к нормальному виду – отвечающему норме, плюс к этому фиксируя каким-то образом эффект отклонения. Проиллюстрировать можно на примере метафоры. Метафора ведь тоже отклонение. «Так не говорят». Если говорят, то это уже не метафора и вообще не художественный текст. Например, фотографии господ с бристольскими воротничками (из произведений позднего В.Катаева). Так не говорят про воротнички, это «отклонение» от нормы. Чтобы декодировать это сообщение, надо знать, что существует бристольский картон, что в конце 19 – начале 20 в. носили сорочки с жесткими – как из картона – воротничками, с загнутыми краями, что, наконец, сами фотографии в это время наклеивались на картон (и зачастую на картонном паспарту изображались загнутые уголки). Вот все это и представлено «компрессированно» в метафоре – и снимается (автокорректируется); происходит нечто, напоминающее разделение модуса и диктума или пресуппозиции и ассерции. Второй аспект связан с тем, что у Делёза (1998) различается как повторение и общность. Повторение предполагает процесс, когда ничего нельзя заменить. Общность – когда что-то заменить можно, оставляя некоторое ядро, суть и т.п. Отклонение от нормы в интересующем нас случае – это сохранение сущности при отказе от повторения. Сущность определяется правилами языка, которые регламентируют не все, оставляя достаточный простор для индивидуального творчества. Можно говорить о своего рода трехуровневой системе. В основе – система языка, создающая некоторый веер возможностей, далее – норма (система норм) как ограничитель этих возможностей и, наконец, индивидуальные отклонения от 15 нормы, к которым одновременно «прилагаются» программы автокоррекции, ибо иначе наступит «срыв связи». И третий аспект связан с динаимическим характером восприятия текста и с возможностями самообучения реципиента текста. Основываясь на уже упоминавшихся факторах (избыточность, энциклопедические знания и проч.), реципиент текста не только производит автокоррекцию, но, в определенных случаях, усваивает отклонения от нормы в качестве новой нормы. Этот процесс сродни добавлению нового слова в словарь. Здесь проявляется «демиургическая» роль писателя – автора классического или, по крайней мере, влиятельного текста. Если содержащиеся в тексте отклонения, новации принимаются социумом (а никакой гарантии здесь, конечно, нет), то писатель вносит свой вклад в развитие языка, добавляя новые элементы нормы. То, что было не-нормой, становится нормой. В итоге мы получаем, что реально нет противоречия между образцовостью классического и близкого к нему текста и тем, что образцовым он во многом оказывается за счет отклонений от этой самой образцовости. Важно признать также, что для произведений искусства само понятие образцовости, совершенства иное, нежели для других текстов. Литературнохудожественные тексты (если, конечно, это подлинная литература, подлинное искусство) несовершенны структурно и совершенны функционально. Они несовершенны структурно, ибо нарушают принятые для данного языка нормы. Но как раз благодаря этому повышается непредсказуемость текста, понижается избыточность – создаются возможности для оказания художественного воздействия. Именно поэтому они совершенны функционально – потому что их функция как раз и состоит в том, чтобы оказывать эмоционально-эстетическое воздействие, что было бы невозможно, если бы они уныло следовали принятым нормам. Литература Глезер В. Д. Зрение и мышление. М., 1985. Делёз Ж. Логика смысла. Екатеринбург, 1998. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. М., 1986. Ерофеева Е.В. Вероятностные структуры идиомов. Пермь, 2005. Касевич В.Б. Труды по языкознанию. В 2-х т.: Т. 1. СПб., 2006. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: (Проблемы языкового изменения) // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. Ревзин И.И. Отмеченные фразы, алгебра фрагментов, стилистика: К лингвистическому обоснованию теории моделей языка // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966. Розанов В. В. Несовместимые контрасты бытия: Литературноэстетические работы разных лет. М., 1990. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. 16 Chomsky N. Problems of Knowledge and Freedom. Bungay (Suffolk), 1975. Chomsky N. Reflections on Language. New York, 1976. Dialogues on the Psychology of Language and Thought: Conversations with Noam Chomsky, Charles Osgood, Jean Piaget, Ulric Neisser and Marcel Kinsbourne / Ed. R. W. Rieber. New York; London, 1983. Hansen O. Biological Linguistics. Copenhagen, 1985. Language Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky / Ed. M. Piatelli-Palmarini. Camb. (Mass.), 1980. Lieberman Ph. The Biology and Evolution of Language. Camb. (Mass.); London, 1984. Wolpert S. Study Reveals that Chimps Can Learn, Create Grammatical Rules // UCLA Today. 1990. Vol.11, № 5. 17