Название: Плоть Автор: fandom OE 2013 Бета: fandom OE 2013
advertisement
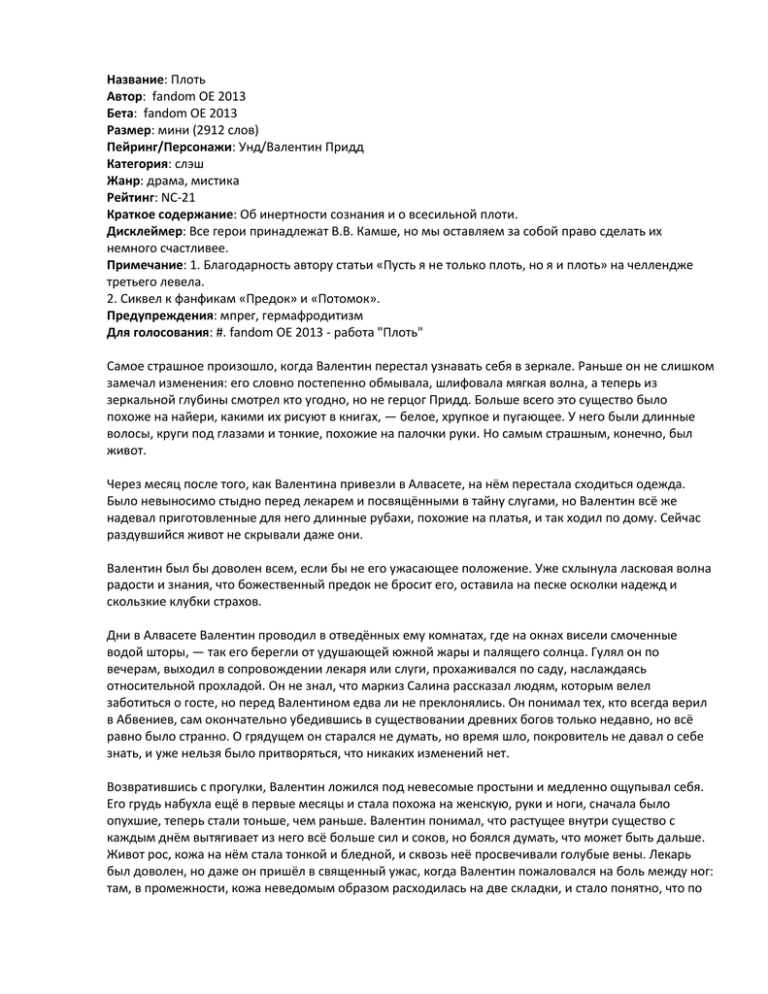
Название: Плоть Автор: fandom OE 2013 Бета: fandom OE 2013 Размер: мини (2912 слов) Пейринг/Персонажи: Унд/Валентин Придд Категория: слэш Жанр: драма, мистика Рейтинг: NC-21 Краткое содержание: Об инертности сознания и о всесильной плоти. Дисклеймер: Все герои принадлежат В.В. Камше, но мы оставляем за собой право сделать их немного счастливее. Примечание: 1. Благодарность автору статьи «Пусть я не только плоть, но я и плоть» на челлендже третьего левела. 2. Сиквел к фанфикам «Предок» и «Потомок». Предупреждения: мпрег, гермафродитизм Для голосования: #. fandom OE 2013 - работа "Плоть" Самое страшное произошло, когда Валентин перестал узнавать себя в зеркале. Раньше он не слишком замечал изменения: его словно постепенно обмывала, шлифовала мягкая волна, а теперь из зеркальной глубины смотрел кто угодно, но не герцог Придд. Больше всего это существо было похоже на найери, какими их рисуют в книгах, — белое, хрупкое и пугающее. У него были длинные волосы, круги под глазами и тонкие, похожие на палочки руки. Но самым страшным, конечно, был живот. Через месяц после того, как Валентина привезли в Алвасете, на нём перестала сходиться одежда. Было невыносимо стыдно перед лекарем и посвящёнными в тайну слугами, но Валентин всё же надевал приготовленные для него длинные рубахи, похожие на платья, и так ходил по дому. Сейчас раздувшийся живот не скрывали даже они. Валентин был бы доволен всем, если бы не его ужасающее положение. Уже схлынула ласковая волна радости и знания, что божественный предок не бросит его, оставила на песке осколки надежд и скользкие клубки страхов. Дни в Алвасете Валентин проводил в отведённых ему комнатах, где на окнах висели смоченные водой шторы, — так его берегли от удушающей южной жары и палящего солнца. Гулял он по вечерам, выходил в сопровождении лекаря или слуги, прохаживался по саду, наслаждаясь относительной прохладой. Он не знал, что маркиз Салина рассказал людям, которым велел заботиться о госте, но перед Валентином едва ли не преклонялись. Он понимал тех, кто всегда верил в Абвениев, сам окончательно убедившись в существовании древних богов только недавно, но всё равно было странно. О грядущем он старался не думать, но время шло, покровитель не давал о себе знать, и уже нельзя было притворяться, что никаких изменений нет. Возвратившись с прогулки, Валентин ложился под невесомые простыни и медленно ощупывал себя. Его грудь набухла ещё в первые месяцы и стала похожа на женскую, руки и ноги, сначала было опухшие, теперь стали тоньше, чем раньше. Валентин понимал, что растущее внутри существо с каждым днём вытягивает из него всё больше сил и соков, но боялся думать, что может быть дальше. Живот рос, кожа на нём стала тонкой и бледной, и сквозь неё просвечивали голубые вены. Лекарь был доволен, но даже он пришёл в священный ужас, когда Валентин пожаловался на боль между ног: там, в промежности, кожа неведомым образом расходилась на две складки, и стало понятно, что по воле Унда рождение его потомка произойдёт естественным путём. Настолько естественным, насколько оно вообще могло таким быть. За эти месяцы Валентин так и не научился называть живущее в нём существо ребёнком, даже про себя так и думал — «существо». Он ведь не знал до конца, произведёт ли на свет нечто, хотя бы отдалённо похожее на человеческое дитя. Женщины любят своих детей, какими бы они ни родились, но он не был женщиной и не обязан был любить то, что заняло место в его теле. Валентин отдавал себе отчёт и в том, что и мужчиной не является тоже. Его безобразное изуродованное тело было пародией на человека или порождением больного воображения. И Валентин мог сколько угодно лгать лекарю, что прекрасно себя чувствует и полностью владеет собой, сколько угодно притворяться разумным, сдержанным и хладнокровным, — на самом деле в последние месяцы им владели только чувства, только его собственная плоть. Именно плоть, вдруг ставшая чужой, диктовала ему, кем быть и как поступать. Им владел голод — и он с жадностью поедал то, что ему приносили, и просил добавки. Слуги спешили угодить ему, некоторые поглядывали с умилением, но Валентину было всё равно. Ночами он просыпался от голода, и тогда всем его существом владело единственное желание — насытиться. Часто ему приходилось переживать мучительные приступы похоти; он кое-как прятал под рубашкой или покрывалом стоящий член и спешил уйти, спрятаться в комнате. Ласкать себя было неудобно, и он тёрся о постель, чтобы получить кратковременную передышку. Сначала в такие минуты он боялся, что сейчас войдёт лекарь или кто-то из слуг, но потом перестал. Вскоре он уже мечтал о близости, с затаённым стыдом представлял, как Унд приходит снова и берёт его, — и меньше всего Валентин думал о ласковом шёпоте волн и нежных прикосновениях. Его плоть жаждала грубого проникновения и сильных движений, чтобы заходилось сердце и было горячо в низу живота. Он не должен был такого хотеть, избраннику самого Абвения не пристало осквернять себя животными желаниями, но он не мог побороть зов плоти и спустя некоторое время согласился бы даже снова отдаться скользкому чудовищу, только бы испытать удовольствие. Иногда, когда становилось совсем страшно, Валентин тихо звал своего покровителя, не очень надеясь, что тот откликнется. Боги живут по другим законам, может, Унд уже забыл про своих потомков? Или хочет прийти, только чтобы посмотреть, кого произведёт на свет его избранник, — младенца или чудовище. И неизвестно, кто покажется ему желаннее… Порой Валентин представлял, как из его тела, шевеля щупальцами, выбирается детёныш спрута, и тогда к горлу подступала тошнота, и он ещё долго избегал касаться себя. Его постоянно преследовал страх. То ему казалось, что он не сможет вытолкнуть из себя подросшее существо и умрёт, ведь и женщины умирают в родах, что уж говорить о нём, — его тело наверняка окажется неспособно дать жизнь неведомому созданию. То его одолевали мысли, что он родит не того, кого следует, и навлечёт на себя гнев Унда. Или он думал, что останется жить, но изменится так, что уже никогда не сможет стать прежним. Глядя в зеркало, он находил новые подтверждения своим догадкам: с каждым днём он становился всё больше похож на женщину. Он не мог свернуться клубком, чтобы спрятаться от своих страхов, поэтому просто подолгу лежал в темноте и смотрел в щель в занавешенном окне. Ему хотелось бы узнать, чем закончилась война и живы ли те, кто заботился о нём. В глубине души он не верил, что смерти нет, и думал, что все живущие рано или поздно уйдут навсегда. Это только боги могут жить вечно, а что взять с него, чьи кости хрупки, а разум ограничен настолько, что даже не сразу принял случившееся чудо? Скоро Валентин смирился с мыслями о собственной смерти; он почти не сомневался, что умрёт в родах, и только мысленно разговаривал с братьями, надеясь, что хоть что-то из его слов непостижимым образом дойдёт до них. Он по-прежнему оставался вежлив с лекарем, улыбался слугам, с охотой выходил на прогулки и неловко ковылял по садовым дорожкам, но сам был уже не здесь. Его плоть пока что жила — но скоро должна была стать прахом. Собрав остатки сил, он написал записку, в которой просил похоронить его в море, и спрятал в ящике стола. После его смерти здесь наверняка будут прибираться и найдут её. А всё же жаль, что он не получил ни одного письма, — наверняка генерал Ариго и командор Райнштайнер писали ему. Может быть, Валентину просто не отдавали письма, чтобы не тревожить? Какая глупая забота о том, у чьей постели каждую ночь встают ужасы из морских глубин, кто носит в себе чудовище и постепенно становится чудовищем сам! Впрочем, не всё ли равно, что творится теперь в столице и в Талиге? Если вернулся Унд, не значит ли это, что вернулись и остальные Абвении, что так или иначе они явились своим потомкам? В случае если это так, Валентин больше не должен думать о том, как спасти хоть что-то в столице, об этом позаботятся другие. А его дело — жить здесь и ждать своего срока. Срок уже должен был скоро настать, лекарь неусыпно дежурил в соседней комнате; Валентин лежал на постели, отлучаясь только по необходимости. Прогулки закончились, — слишком тяжело ему было спускаться по лестнице, — и теперь он только бессмысленно проводил последние дни своего существования, не в силах ни читать сам, ни даже слушать чтение вслух. Он убеждал себя в том, что великий предок знает, что делает, и если ему угодно, чтобы Валентин умер, так и случится, а если нет, то он останется жить. От него ничего не зависело, и оставалось только лежать и прислушиваться к своему телу. Голод, к счастью, больше не мучил его, но похоть становилась всё сильнее. Каждую ночь Валентин просыпался в испачканной семенем рубашке, и то и дело перед его мысленным взором вставало обнажённое тело прародителя; он представлял их соитие, торопливо ласкал себя и содрогался в судорогах. Его плоть хотела именно этого, и выше его сил было сдерживаться. Иногда Валентин ощущал, как существо толкается у него внутри, это было неприятно, и, чтобы успокоить его, он обхватывал живот руками и думал о бескрайнем море. Почему-то ему казалось, что порождению Унда это будет приятнее всего. Однажды он понял, что срок вот-вот настанет, но ничего не сказал лекарю, просто лежал в постели и смотрел, как заходит солнце, зная, что больше никогда этого не увидит. Даже попросил отдёрнуть шторы и с сожалением провожал взглядом ярко-алое светило. Настала ночь, всё стихло и погасло, лекарь отправился спать, а Валентин лежал в темноте и, положив руку на живот, прислушивался к едва ощутимым движениям существа внутри. Он знал, что должен встретить смерть мужественно и хотя бы так не изменить до конца своему данному природой полу, но почему-то при мысли о неизбежной гибели перехватывало горло и выступали слёзы. Около полуночи Валентин откинул покрывало и с трудом поднялся с кровати. Он не стал зажигать свечу, чтобы никого не разбудить и чтобы не увидеть случайно своё отражение, поэтому в зеркальной темноте прошла просто смутная белая тень. Лекарь спал, и шаги Валентина, который шёл босиком, не разбудили его. Валентин миновал короткий коридор и стал спускаться по лестнице, одной рукой держась за перила, а другой поддерживая живот и стараясь не обращать внимания на болезненное возбуждение. Он давно не был у моря, которое лизало песок прямо у подножия замка, ведь кто угодно мог проходить по берегу и увидеть его. Но теперь было можно. Ночь встретила его душным солёным воздухом и почти полным безветрием. К запаху соли примешивался аромат каких-то цветов, и Валентин с наслаждением вдыхал его, медленно сходя по дорожке к морю. Ни разу не споткнувшись, он прошёл по песку к самой кромке беспокойной воды и неловко сел. Было тепло, песок приятно щекотал босые ноги, и Валентин постарался забыть о том, что ему скоро предстоит. Очнулся он только тогда, когда услышал позади себя шаги. Ему не хотелось оборачиваться, но в последние часы своей жизни он не имел больше права трусливо съёживаться и потому взглянул на того, кто подошёл. Унд смотрел на него сверху вниз, уперев руки в бока, и в его взгляде не было прежней ласки. Так долго Валентин ждал, что предок снова придёт к нему, — и вот это случилось, но он не чувствовал радости, только усталость и опустошение. Унд пришёл слишком поздно, и сейчас нужно было просто сказать ему об этом, но он отчего-то не мог, лишившись дара речи в тот самый миг, когда натолкнулся на взгляд, жадно ощупывающий его безобразно расплывшуюся фигуру. Валентин решил попробовать ещё раз, облизал пересохшие губы. — Мой господин… — начал он и опомниться не успел, как Унд присел перед ним и одним толчком опрокинул на спину, задрав ему рубаху. Приподнявшись, Валентин смотрел на его склонённую голову, на то, как он трогает его живот, приникает к нему ухом. От прикосновений было тепло и немного щекотно, хоть они и не были нежными. Он уже думал о другом, дрожал, предчувствуя и желая, — и из последних сил гнал от себя мысли о близости. Унд выпрямился, мотнул головой, откидывая волосы за спину, и взглянул на Валентина: — Разве ты не знал, что он чувствует твой страх? Валентин замер; он раньше не придавал значения этому знанию, воспринимая существо как нечто чуждое. — Мой господин, — начал он снова, тщательно подбирая слова и зная в то же время, что это бесполезно, — вы не появлялись, и я подумал, что больше вас не увижу. Приняв это утверждение за истину, я также предположил, что… Унд оттянул его торчащий член и отпустил, прислушиваясь к шлепку, с которым он ударился о живот. У Валентина перехватило дыхание, тело отозвалось на прикосновение совершенно непристойным образом. — Простите… я… — прошептал он, — я… видимо, неправильно вас понял… Палец Унда скользнул ниже, между его расставленных ног, нащупал мокрую щель, и Валентин едва смог сдержать стон. Существо зашевелилось внутри, словно чувствуя присутствие рядом своего божественного отца. — Уже ничего не исправить, — равнодушно произнёс Унд, и Валентину наконец стало страшно. Прародитель задумчиво гладил живот, в котором долгие месяцы вызревало его семя, прислушивался к чему-то и молчал. Валентин отдал бы всё на свете, только бы сейчас вокруг воздвиглись стены воды: ему казалось, что в своей родной стихии ему будет легче, хоть он и понимал, что Унд — сам стихия и сейчас он безжалостен. — Мой господин, — снова попытался он, — если бы вы объяснили мне, что я должен делать… В нашем мире уже не верят в чудеса, и я полагал, что мне грозит опасность. К тому же, так как вы один раз уже покидали этот мир, из этого вытекало заключение, что… Два пальца резко вонзились в его тело, заставив замолчать; Валентин дёрнулся, опрокинувшись на песок, и развёл ноги. Он понимал, что это всего лишь плоть, что дух должен быть сильнее её, но ничего не мог с собой поделать. Унд устроился между его бёдер и направил в него член; стало больно, но ненадолго. Превратиться в женщину было обидно до слёз, и хуже всего оказалось то, что Валентину на самом деле нравилось происходящее. Он метался, мотал головой, захватывал горсти песка, который высыпался у него между пальцев, — с каждым толчком всё меньше был собой. Возбуждение стало невыносимым; Валентин застонал и излился, в эту секунду любя весь мир и забыв о своей беде. Унд ещё несколько томительных мгновений мучил его, и вскоре Валентин почувствовал в себе его семя. Существо сильно толкалось внутри, видимо, зная, что скоро выберется на свет. Хотелось просто лежать и ни о чём не думать, притвориться, что никого рядом нет, и не заметить собственной смерти. Валентин очнулся от нового прикосновения: Унд снова гладил его живот, и от этой ласки становилось печально. — Ты боишься? — Боюсь, — признался Валентин и попытался сесть. — Ты поймёшь потом. — Унд улыбнулся ему — почти так же, как тогда, когда они виделись в последний раз. Почти ласково. Валентин хотел спросить, что именно он поймёт, и не стал. Если потом — это значит, он не умрёт. Или просто нет смерти, а всё живое становится прахом, сливается с водой, последним дыханием растворяется в ветре? Конечно, какая может быть смерть для того, кто знает всё обо всём? И почему стать ничем и всем сразу — это плохо? Валентин поднял голову к звёздному небу и решил, что если настоящее бессмертие таково, то он согласен. Унд наблюдал за ним, несомненно зная его мысли, и улыбался, снова становясь почти прежним, почти знакомым. Помня о том, что смерти нет, Валентин попытался приласкаться, хотя не слишком хорошо понимал, как это делается. Тело не слушалось, было тяжёлым и неповоротливым, но он всё равно смог дотянуться до Унда — коснулся его щеки, с удивлением погладил волосы и наконец поцеловал прохладное плечо, благодаря за случившееся. Унд смотрел ему в глаза, и от тяжёлого и предвкушающего взгляда у Валентина словно оборвалось что-то внутри. Рубашка намокла быстро; Валентин, понимая, что ему не спастись от неотвратимости происходящего, просто прижался к Унду и сидел так, пока не пришла боль. Он мужественно держался, сцепив зубы, шумно дышал, переживая всё новые и новые муки, но, когда луна стала опускаться к горизонту, начал кричать. Валентин выдержал насилие и столкновение с ожившими сказками, выдержал больше полугода в совершенно неестественном для мужчины состоянии, выдержал бесконечный страх за себя и близких, — но несколько часов разрывающей его и так истерзанное тело боли он выдержать был не в силах. И вскоре от него осталось только бьющееся на песке тело, кусок плоти, у которого нет сознания, нет чувства собственного достоинства, нет памяти и имени. Он ещё что-то видел: блеск луны на поверхности моря, белые стены замка вдалеке, но не в силах был осознать, что значит увиденное. Тело Валентина окончательно поработило его, зажило по своим законам, и ему самому больше не осталось в нём места. И вот тогда он ушёл, спасся от боли, освободился от всего, что с ним творилось, — и внезапно обнаружил себя в прохладной воде. Она сразу ласково смыла всё, и Валентин был готов раствориться в шумном море, навсегда нырнуть в тёмные глубины. Если это и есть смерть, то она прекрасна. Он плескался в воде, забыв, где берег, забыв, что умер, забыв, что когда-то жил. Волны накатывали на него, словно играли, опрокидывали на спину, и он чувствовал себя защищённым от всех бедствий мира. Его выбросило на берег, и он мягко упал на песок, разгорячённый игрой, смеющийся, но смех вдруг оборвался. Унд по-прежнему сидел на берегу, только повернувшись спиной, но он был не один. Позади него мешком лежало чьё-то обнажённое тело, и Валентин с тошнотворным ощущением понял, что это тело — его собственное. Он подошёл к нему медленно, даже с какой-то брезгливостью. У тела была бледная кожа, крепко закрытые посиневшими веками глаза и непривычно плоский живот. Валентин осмотрел его и вдруг испугался. Вокруг явственно виден изрытый в мучительных приступах боли песок, но существа, которое должно было родиться, нигде нет. Впрочем, с чего бы теперь Валентину волноваться о нём? Теперь он освободился от своего бремени и можно больше о нём не думать, никогда. Что-то заставило его подойти ближе, заглянуть Унду через плечо. Вот куда подевалась его перепачканная, изорванная, ни на что больше не годная рубашка — стала крохотным, едва копошащимся свёртком на руках у всесильного божества. Унд словно почувствовал его приближение — откинул край рубашки, показывая красное личико. Валентин склонился ниже, забыв, что умер и что ему не должно быть интересно. На него взглянули прозрачные серые глаза — его собственные, и он отшатнулся, с горечью признавая свою ошибку. Не существо — обычный ребёнок, человеческий. — Не обычный, — промолвил Унд, не поднимая головы, — но всем об этом знать не следует. Валентин кивнул. — А теперь выбирай. Валентин непонимающе посмотрел на него, потом обернулся на лежащее на песке тело. Просто плоть, — как и то, что Унд держит на руках. Плоть, как и всё, что живёт и дышит на этом свете. Унд улыбнулся снова, и лицо его как будто расплылось у Валентина перед глазами. Спустя много времени, когда он разлепил веки и обнаружил, что за окном царит жаркий южный день, из колыбельки рядом с кроватью раздался детский плач. Валентин потянулся на звук, ещё не совсем осознавая, что делает. Плоть? Так пусть будет плоть — не больше и не меньше. Название: Насилие Автор: fandom OE 2013 Бета: fandom OE 2013 Размер: мини (3051 слово) Пейринг/Персонажи: Лионель Савиньяк/Леонард Манрик, Рокэ Алва Категория: слэш Жанр: хёрт/комфорт, ангст Рейтинг: NC-17 Краткое содержание: Манрик попался Савиньяку под горячую руку. Да и не только руку. Дисклеймер: Все герои принадлежат В. В. Камше, но мы оставляем за собой право сделать их немного счастливее. Примечание/Предупреждения: сомнительное согласие, связывание. Для голосования: #. fandom OE 2013 - работа "Насилие" Погода была преотвратной. Пригревало солнце, цвела сирень, по небу плыли пушистые облака, и всё в столице, кроме Леонарда Манрика, радовалось жизни. Конечно, им-то не нужно было ехать на поклон к Первому маршалу и униженно просить взять с собой на войну! Манрик стиснул зубы и направил лошадь прямо на разлёгшегося посреди мостовой бездомного пса. Но лошадь не испытывала ни раздражения, ни глухой злобы, с которой глядел на мир её хозяин, и перешагнула через псину, не отдавив ей даже хвост. Разворачиваться было глупо, и Манрик сделал вид, что вообще не заметил нахальную собаку. Слева уже виднелись украшенные воронами ворота, и, как это часто бывало в минуты волнения, взгляд цеплялся за сущие мелочи: выбитый из мостовой камень, покачивающийся на крыше особняка флюгер… Его впустили по первому же стуку. Гордо подняв голову, Манрик прошествовал в дом. — Соберано нет дома, но он должен быть с минуты на минуту, — поклонился слуга с угрюмым неподвижным лицом. — Изволите подождать в кабинете? Манрик кивнул. Снова и снова он продумывал, что скажет маршалу. Что не хочет сидеть в столице, а послужить своей стране — дело не только славное, но и выгодное. Нет, конечно, про выгоду он не обмолвится ни словом. Хотя Алва и так догадается, он же всегда всех видит насквозь… Слуга проводил его в кабинет, с поклоном открыл дверь. Манрик не без трепета шагнул в обиталище Алвы, да так и замер, не до конца сняв перчатку с правой руки. В кресле за письменным столом непринуждённо развалился Лионель Савиньяк, который задумчиво изучал на свет бокал светлого вина. Перед ним лежал кинжал без ножен. — Не ожидал вас здесь встретить, — процедил Манрик, уверившись, что Савиньяк его заметил. — Добрый день, генерал, — поздоровался тот. — Не поверите, но взаимно. Позвольте поинтересоваться, что вас сюда привело? В его словах Манрику почудилась насмешка и едва ли не открытая враждебность. Впрочем, что ещё было от него ждать? — Не знаю, как вы, а я собираюсь на войну, — ответствовал он и прищурился. Обычно презрительный прищур действовал отменно, но только не сейчас. — Похвально, — произнёс Савиньяк. — Однако, как видите, хозяина нет дома. — В таком случае я зайду позже. И Манрик развернулся к двери. Никакого желания коротать время с Савиньяком у него не было. Тот наверняка начнёт издеваться, за куртуазными словами пряча бесконечные шпильки, Манрик вспылит, дело окончится дуэлью, и на войну он не поедет, потому что будет отлёживаться дома и залечивать раны. — Постойте! Сзади раздался шум отодвигаемого кресла. Манрик обернулся, почувствовав руку у себя на плече. — Я слушаю вас, граф, — произнёс он. Стряхнуть руку мешала только вежливость. — Разве вы не хотите выпить, пока мы ждём Росио? — улыбаясь, спросил Савиньяк. Манрик начал подозревать, что ошибся и перед ним Эмиль, такой открытой была улыбка. Наверняка братья опять поменялись одеждой и дурачат окружающих. Но вот они могут себе такое позволить, а генералу Манрику некогда принимать участие в шутках. — Простите, нет, — сдержанно ответил он. Глаза у Савиньяка — Эмилем он был или Лионелем — казались сумасшедшими: зрачок закрывал радужку почти целиком и взгляд то и дело бегал по сторонам. — А вы, мне кажется, уже слишком много выпили, — добавил Манрик и взялся за ручку двери. — Разве? И его горла коснулась сталь. *** — Отпустите меня! — потребовал Манрик. Вместо ответа Савиньяк развернул его и вжал спиной в дверь. — Вы так невежливы… — задумчиво сказал он, расцарапывая ему кожу на горле. — Мне придётся вас проучить. Звать на помощь и позориться перед слугами? Ну уж нет. — Уберите кинжал, — потребовал Манрик. — Вы пьяны! Улыбаясь, Савиньяк расстёгивал ему ворот мундира. Манрик попытался оттолкнуть его, едва не напоролся на кинжал и затих. — Выпил немного, — бормотал Савиньяк. — А тут вы. Сами напросились! Манрику очень не хотелось знать, на что именно он напросился. Зря на гербе Савиньяков был олень — хищник подошёл бы им куда больше. Но Манрик не собирался стоять и ждать, пока его окончательно сделают жертвой. Однако удар вышел слабым из-за неудобной позы, и после минутной возни Манрик с ужасом понял, что уступает. Выхватить шпагу он не мог, отнять у пьяного Савиньяка кинжал — тоже. На руках алели глубокие порезы, мрачный кабинет так и кружил перед глазами, дверь теперь была далеко, а лицо Савиньяка близко. — Сдаётесь? — прошептал он, прижав Манрика к столу. Хоть бы поскорее вернулся Алва! Будет стыдно, но всё же лучше, чем если разнимать их станут кэналлийские слуги. Кинжал упирался остриём в горло, обезумевший Савиньяк шумно втягивал носом воздух, довольно жмурился. — Отпустите! Если попробовать ударить ещё, кинжал точно соскользнёт… Значит, нужно улучить момент. И дёрнул же Леворукий поехать к Алве! Как на нём оказался расстёгнут мундир, он не понял сам. Савиньяк задрал его рубашку, и в эту чудовищную минуту Манрик понял, что именно было не так: пьяный не может двигаться с такой лёгкостью. А если Савиньяк не пьян, то он или безумен, или пользуется своей безнаказанностью. Манрика прошиб холодный пот. А что, если это всё ловушка? Если он вошёл в дом Алвы, но никогда из него не выйдет, и Савиньяку об этом известно? — Нет! — взвыл Манрик. Смерти он боялся и лишний раз старался не думать о том, что однажды умрёт. Но он не знал, что всё кончится проклятым солнечным утром! Он не помнил за собой вины, достойной смерти, и оттого было ещё страшнее. — Не делайте этого! — взмолился он. Савиньяк расстегнул его перевязь, и шпага с глухим стуком упала на пол. Манрик наткнулся на предвкушающий взгляд и закрыл глаза. *** Спальня была смежной с кабинетом комнатой, и Манрик проклял это обстоятельство. Внутри у него словно всё замёрзло от страха. Он никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, а ощущение кинжала у горла лишало последних сил. — Господин граф, — начал он, — если вы не в состоянии себя контролировать, то хотя бы не впутывайте в свои дела меня! — Тихо, — велел Савиньяк, и голос его был страшен. — Раздевайся. — Что… — Раздевайся, — повторил Лионель и для верности оцарапал его горло ещё раз. Манрик не думал ни секунды. Ранее он полагал, что дворянская честь значит для него слишком многое и он вполне способен пожертвовать жизнью ради её спасения. Так его учили, об этом он читал в книгах. В конце концов, среди его предков был бесстрашный Танкред Манрик. Только сейчас ноги подкашивались от ужаса и не спасали никакие предки. Поэтому вместо протеста он неловко стащил мундир, бросил на пол шейный платок. Чего ждать от сумасшедшего? Один удар — и всё. Кинжал взметнулся перед его глазами, рубашка с треском разошлась, и он сбросил и её, уже не надеясь на спасение. Савиньяк горячо задышал ему в ухо, прижался сзади, свободной рукой дёргая завязки его штанов. Оцепеневший Манрик стоял, упёршись взглядом в стену, обитую синим шёлком с золотистым узором. Почему-то ему казалось: как только он окажется полностью обнажённым, случится что-то абсолютно непоправимое. Штаны сползли к коленям. Что ещё он готов сделать, только бы сохранить жизнь? Манрик с брезгливым интересом прислушался к себе и сам потянулся развязать панталоны. *** Покрывало на постели Алвы оказалось мягким. Лёжа на животе и косясь назад, Манрик отогнал глупую мысль о том, что они творят непотребство в постели Первого маршала. Он сам ни в чём не виноват, его заставили, и Савиньяк по-прежнему держит кинжал у его горла. Может, они оба сошли с ума? Может, безумие Алвы заразительно? Или он сам стоит сейчас за какой-нибудь портьерой и наблюдает за происходящим? Создатель, только бы это кончилось поскорее, только бы сохранили жизнь! Савиньяк дотянулся до валяющегося на полу зелёного платка, свернул его жгутом, держа один конец в зубах. От убийственной чёткости и сдержанности его движений Манрику стало холодно. Или дело в том, что он лежит голый, а с ним собираются сделать что-то страшное? — Вшегда любил рышеньких, — откровенно признался Савиньяк, выплюнул платок и принялся деловито связывать Манрику руки за спиной. Кинжал ему пришлось бросить, но это уже не могло помочь. — Но вот ваше семейство недолюбливал, — добавил он. — Это не даёт вам права… — начал Манрик и осёкся. Время куртуазных бесед прошло, остались только охотник и жертва, живущие по своим законам. И в этом новом мире личная неприязнь вполне могла стать поводом для расправы. Связанные руки тут же стали затекать. Савиньяк слез с кровати, оглядел Манрика и наклонился. Звякнула пряжка. Пользуясь минутой, Манрик рванулся, но узел был завязан на славу. — Тихо, — повторил Савиньяк, со сноровкой опытного палача стягивая ему колени ремнём. Манрик вправду притих, убеждая себя, что ничего не может сделать, что нужно только перетерпеть, а потом… Что потом — он не знал. *** Савиньяк даже не счёл нужным полностью раздеться или вести себя менее грубо. Манрик стиснул зубы, увидев, как он расстёгивает штаны. Собственная готовность делать что угодно, только бы остаться в живых, вызывала лишь тошноту. Ничего больше не говоря, Савиньяк сел на него верхом, и Манрик сжался. Он сам никогда не применял силу, обходясь с дамами исключительно куртуазно. Но весь его жизненный опыт говорил, что сейчас случится то, чего он не переживёт, пойдёт ли после в ход кинжал или нет. Сжатых ягодиц коснулось горячее и твёрдое, и Манрик не выдержал. — Помогите! На по… — успел проорать он. Савиньяк, не церемонясь, схватил его за волосы и впечатал лицом в подушку. Манрик выгнулся, пытаясь сбросить врага, но тот налёг всем телом, то ли хрипя, то ли рыча. В этот момент Савиньяк отпустил его волосы, опёрся рукой о постель, и Манрик последним отчаянным движением укусил его за запястье. Савиньяк отдёрнул руку, выругался, и Манрик оцепенел от мысли, что сделал только хуже. Ведь сейчас он найдёт затерявшийся в складках покрывала кинжал… Однако судьба распорядилась иначе. — М-мерзавец… — прошипел Савиньяк, всовывая ему член между сжатых ног. Манрик иногда сам делал так с дамами, но, теперь, если останется жив, больше себе такого не позволит. Никогда! Мокрый член тёрся о промежность, и Манрик прикусил подушку, чтобы не заскулить от отчаяния и бесконечного унижения. Он хотел жить, но у всего есть предел. Он сам не заметил, как в глазах защипало. Савиньяк дышал рвано и часто и двигался всё быстрее. Когда он стал постанывать, явно наслаждаясь, Манрик пообещал себе, что, если об этом его позоре узнает хоть одна живая душа, он немедленно застрелится, и плевать на Создателя, который заповедовал не поднимать на себя руку! Только что он перестал быть мужчиной, а кем ему быть теперь — не знал. Савиньяк, оседлав его, стонал в голос и наконец, вжавшись в него, охнул. Манрик почувствовал влагу у себя между ног, и его передёрнуло от брезгливости. Если бы он мог, то немедленно вытерся бы, а лучше — вымылся бы как следует, но занемевшие руки были крепко связаны, а Савиньяк не торопился его отпускать. Но какое счастье, что это закончилось! Хрипло дыша, Манрик попробовал вывернуться из-под Савиньяка, но только оцарапался какой-то его пряжкой. — Теперь-то вы меня отпустите? — просипел он. — Гнусный, мерзкий… Савиньяк наклонился и поцеловал его в лопатку, мазнув по спине волосами. Манрик выдал длинную тираду, уместную больше в казарме, а не в доме благородного дворянина. Ужас закончился, и он чутко прислушивался, не раздадутся ли за дверью чьи-нибудь шаги. Как не позволить случившемуся выйти за пределы этой комнаты? Достать бы кинжал… Можно будет списать на защиту… главное, чтобы отец не узнал правды. Создатель, ведь Алва должен скоро вернуться! Или уже вернулся? Савиньяк приподнялся, давая возможность перевернуться на бок. Где же этот проклятый кинжал?! Пропал, затерялся — как сам Манрик затерялся в том, что узнал о себе сегодня. Склонив голову набок, Лионель изучал его — провёл пальцем по дорожке тёмных волос, которая тянулась по груди и животу. — А я вот думал, — протянул он, — ты здесь такой же масти окажешься? — и глупо хихикнул. — Не трогайте меня! — прошипел Манрик, пытаясь отодвинуться. — Вам было мало издевательств надо мной? Вы за это ответите! — Вызовете меня? Манрик размышлял всего мгновение: — Такое решается не на дуэли. Я просто вас убью! — Этим? — Савиньяк наклонился и выхватил кинжал, на который он уже натолкнулся рукой. И Манрик понял, что мучения только начинаются. *** Он окончательно уверился, что Савиньяк обезумел и не осознаёт, что делает. Ему нравилось, как Манрик дёргается, пытаясь спастись от кинжала, как шипит, когда на его коже появляются новые и новые царапины. Нравилось слизывать выступающие капли крови, царапать и зацеловывать багровые отметины. Вскоре Манрик принимал ужасные ласки с безнадёжной покорностью. Так, наверное, чувствуют себя замученные детьми котята или щенки. — Пожалуйста, отпустите, — шептал он, отвернувшись и прикрыв глаза. Его всего трясло, было холодно, мысли путались, он уже плохо понимал, где находится, — только ждал, чтобы хоть ктонибудь спас его, неважно, ценой какого позора. Савиньяк бесстыже теребил его сморщенный член, но не мог ничего добиться и только огорчённо хмурился. Из-под полуопущенных ресниц Манрик равнодушно наблюдал, как у него на лбу появляется морщинка, как он покусывает губы. Синий полумрак спальни скрадывал стыд и страх; где-то светило солнце, а здесь жизнь замерла, закончилась навсегда, утонула в безумии. Скрипнула дверь кабинета. *** Манрика словно подбросило, и он чуть не напоролся животом на кинжал, которым Савиньяк усердно чертил линии на его коже. — Отпустите, — простонал он, зная, что у Алвы тончайший слух. По крайней мере, так говорили. — Пожалуйста, я больше не могу… И он задёргался, мотая головой и слабо брыкаясь. Открылась дверь в спальню. Леворукого Манрик встретил бы с большей радостью, чем Алву, но выбирать не приходилось. Он только мельком взглянул на чёрно-синюю фигуру, но так и не увидел выражения лица вошедшего. — Я полагаю, это происходит по взаимному согласию? — голос Алвы явственно дрогнул. Конечно, не каждый день Первый маршал Талига обнаруживает в своей спальне гайифскую оргию! — Нет! — взвизгнул Манрик. — Уберите его от меня, умоляю! Он меня заколет! — Лионель, брось кинжал, — потребовал Алва. — Росио, ты что? — удивился Савиньяк. — Какое согласие, это же Манрик, что ему сделается? Подумаешь, какой неженка! Манрику показалось, что ему только что вонзили этот кинжал в грудь. Он попытался вдохнуть и не смог — давился, пока сухие рыдания не принесли ему облегчения. *** Алва словно превратился в вихрь: казалось, он ухитрялся одновременно быть и в спальне, и в кабинете. Разрезанный платок упал лоскутьями, и Манрик непослушными руками потянулся расстегнуть связывающий колени ремень. Потом забился в угол постели и замер, кое-как накинув на себя покрывало. Алва гремел чем-то в кабинете; Савиньяк, которого он утащил туда с собой, громко протестовал, отказываясь пить горькую гадость. Манрик прислушивался, ожидая, пока очередь дойдёт до него. Маршал не замедлил появиться. В руке он держал бокал, полный прозрачной жидкости. — Пейте, Леонард, — тихо и как-то ласково сказал он. Яд? Лекарство? Манрик выпростал из покрывала дрожащую руку. Присев на постель, Алва поддерживал бокал, пока он пил, и делал вид, что не обращает внимания на то, как у Манрика стучат зубы. — Вы можете рассказать, что здесь произошло? — спросил он. Манрик представил, как признаётся в том, что пал жертвой чужой похоти и безумия, и ему стало дурно. — Нет, — процедил он сквозь сжатые зубы. Смотреть на Алву не хотелось, щёки, судя по ощущениям, горели огнём. — Тогда вы можете оставаться здесь сколько пожелаете, — разрешил Алва. Манрик, наоборот, засуетился, не собираясь больше находиться в этой комнате ни секунды, попытался слезть с кровати, поддерживая покрывало. Алва смотрел на него серьёзно, без ожидаемой торжествующей или презрительной ухмылки. — Поверьте, Леонард, в моих словах нет скрытого смысла, — сказал он и вышел, не дожидаясь ответа. Что бы всё это значило? Неожиданно сильно потянуло в сон. *** Манрик проснулся и сначала испугался незнакомой комнаты, потом вспомнил всё, что здесь произошло, и так и подскочил. Был уже вечер. Аккуратно сложенная одежда лежала рядом на стуле — значит, слуги уже тоже знают… При мысли, что нужно надеть всё то, что с него срывали несколько часов назад, Манрик поёжился. Потом слез с кровати, таща за собой покрывало, и приник ухом к двери. — Росио, я застрелился бы, если бы не Эмиль, который ни в чём не виноват! — раздавался из кабинета глухой голос Савиньяка. — Я знаю, что он этого не переживёт… — Я не для того споил тебе половину своих противоядий! — ответил Алва. — Список тех, кто мог тебе удружить, отдай Хуану, он разберётся… — Хорошо, но ведь есть ещё одна проблема, — ядовито ответил Лионель. — И она сейчас спит в твоей спальне! — Уже нет, — сказал маршал, и Манрик, как застигнутый врасплох вор, отскочил от двери, не сомневаясь, что Алва прекрасно слышал его шаги. Дверь открылась. Манрик вцепился в покрывало и опустил глаза. — С вас можно писать картину, — усмехнулся Алва. — Если хотите, можете войти в кабинет, я расскажу вам, что случилось. Манрик услышал подразумеваемое: «Если не боитесь посмотреть в глаза Савиньяку» — и шагнул вперёд как был, в покрывале. *** Лионель уставился на него, как на привидение. — Господин генерал… — начал он и потерянно замолчал. Алва подошёл к столу, но не сел, а опёрся бедром. — Вам нужно знать, что кто-то пытался отравить графа. Однако это был настолько неудачливый отравитель, что он не учёл одной детали, — заговорил он. — Использованный яд начинает разрушаться от взаимодействия с вином, при этом вызывая помутнение рассудка. Граф Савиньяк виноват только в том, что встретил вас. Не было ни малейшего сомнения, что виноватым Алва полагает Манрика. Его никто не приглашал, и он действительно напросился на неприятности сам. А маршал теперь вынужден заминать скандал. Кто знает, был ли на самом деле этот яд? Или Савиньяк просто дал волю своим желаниям? Манрик промолчал, пожав плечами. Заговорил сам Лионель, но его неуверенность не приносила удовлетворения. — Я прошу у вас прощения, — сказал он. — Будучи в здравом рассудке, я никогда не позволил бы себе… я готов принять ваш вызов на поединок… готов принести извинения в любой форме… Поединок, который даст Савиньяку возможность превратить своего противника в подушечку для иголок! — Вы можете хранить тайну, — сказал Манрик, отстранённо удивляясь тому, что говорит, — но спьяну или при помутнении рассудка обязательно её выболтаете. Судя по тому, как закаменел Савиньяк, он всё понял. — Мне не нужно ничьих извинений, — продолжал Манрик. — С вашего позволения, господин герцог, я оденусь и уйду. *** Когда он вышел одетый, Лионеля уже не было, но Алва стоял в той же позе у стола. — Леонард, зачем вы приходили? — спросил он, и Манрик понял, что маршал тоже не знает, как себя вести. — Хотел попросить вас взять меня на войну. — Вы можете присоединиться. Выступление послезавтра. — Благодарю, прощайте. Манрик взялся за ручку двери, к которой его недавно прижимал Лионель. — Да, и вот ещё, — сказал Алва, и ему пришлось обернуться. — Вам удивительно идёт синее. От этих слов Манрик вылетел за дверь как ошпаренный. Что хотел сказать Алва? Что ему удивительно идёт роль шлюхи, которая обучена притворяться, будто противится чужим желаниям? Но вызывать на дуэль Алву — самоубийство… Впрочем, может, его и нужно совершить? Красиво пасть от руки превосходящего его противника… Манрик даже приостановился на лестнице, но потом продолжил путь. Он стерпел унижение от Савиньяка, почему бы не стерпеть почти невинную насмешку от маршала? *** За воротами его облаял бродячий пёс, но Манрик не обратил на него внимания. Он оглянулся — окна кабинета были завешены шторами. Он медленно поехал по улице, щурясь на заходящее солнце. Хотелось домой, хотелось почувствовать себя в безопасности, забыть о невыносимом позоре, никогда больше не видеть ни Алву, ни Савиньяков. А Лионель, оказывается, неравнодушен к рыжим… Манрик поёжился, словно вновь почувствовав поцелуи на своём теле. Сегодня он понял, что к нему относятся так, как он того заслуживает. И он сам не должен мнить о себе слишком много: насилие — это всё, чего он достоин. Впрочем, в том, что делал с ним обезумевший Савиньяк, хотя бы не было равнодушия… пожалуй, и презрения тоже не было. Интересно, что это был за яд?.. Название: Память Автор: fandom OE 2013 Бета: fandom OE 2013 Размер: мини (1425 слов) Пейринг/Персонажи: Рокэ Алва/Луиза Арамона, Арнольд Арамона/Луиза Арамона Категория: гет Жанр: романс, ПВП Рейтинг: R Краткое содержание: Первая брачная ночь. Дисклеймер: Все герои принадлежат В.В. Камше, но мы оставляем за собой право сделать их немного счастливее. Для голосования: #. fandom OE 2013 - работа "Память" Конечно, не думать о первой ночи с Арнольдом она не могла. Впрочем, все последующие ночи от первой мало чем отличались, но в первый раз разочарование оказалось самым сильным. Потом Луиза долгие годы пыталась понять, кто вдолбил ей в голову это ожидание волшебства, которого не случилось. Ни волшебства, ни сказки, ни прекрасного принца. Луиза не могла не вспоминать, пока камеристки расшнуровывали корсет и помогали выбраться из платья, красивее которого ей ещё не приходилось надевать. И лучше бы и не пришлось больше: двигаться, да и просто стоять под его тяжестью, было мучением, в её годы совершенно излишним. На ней осталась лишь длинная белая рубашка, не менее красивая, но лёгкая и не стесняющая движений. Из её волос вытащили драгоценные булавки, позволяя косам расплестись и свободно упасть на плечи. Луиза расставалась с украшениями равнодушно. Тяжеленное колье, без которого стало легче дышать. Браслеты — все, кроме одного: тонкое кэналлийское плетение, мелкие сапфиры, мерцающие на тёмном серебре, как звёзды безлунной ночью. Конечно, ей было не по себе: ещё одна мечта, столько лет не просто позволявшая жить, но делавшая её почти счастливой, могла сейчас рассыпаться в прах. Подвестись чертой: «Все мужчины одинаковы» — так однажды сказала её матушка. «Но ты вечно желаешь себе большего». Она не знала, как будет в этот раз, и будущее пытались заменить лезущие из прошлого призраки. Арнольд, этот жирный боров, назначенный маменькой ей в супруги, даже попытался проявить нежность, оставив влажный след языка на щеке и шее, и Луизу чуть не стошнило от этих... поцелуев. К губам он, благодарение святым, не лез. Дверь спальни отворилась перед ней, и Луиза, задрожав, вошла. Всего три свечи разгоняли темноту, и ей показалось, что комната пуста. Потом, когда дверь закрылась, она услышала, как изнутри поворачивается ключ, и обернулась. Супруг уже дожидался её. Первая мысль была о том, что она попала в ловушку. Не выбраться. Страшно было вовсе не за себя, а за мечту. — Рокэ?.. Он улыбнулся, она, скорее, догадалась об этом по тому, как блеснули его зубы. — Что угодно моей герцогине? — Давай зажжем ещё свечей? — Незачем. Это наша ночь, так стоит ли портить её светом? Утро наступит быстрее, чем тебе кажется. Луиза покачала головой, но спорить не стала. Он сильно изменился после того, как вернулся... оттуда. Они не говорили о том, где он был и что с ним происходило, но он стал другим, и Луиза больше не узнавала в нём ни беззаботного унара, в которого влюбилась, ни бесстрашного и непобедимого герцога, делавшего её жизнь светлее, пусть и не зная об этом. У регента в волосах то и дело попадалось серебро, а около глаз, когда он по-кошачьи щурился, собирались морщинки. Он не любил много говорить и почти не смеялся, у него совсем не стало свободного времени, и шли месяцы, долгие, почти бесконечные, и он всё отдалялся... А потом Луиза выдала замуж старшую дочь. Возможно, это всё устроила Арлетта. Намекнула своему Росио, что было бы неплохо сделать мать новоиспеченной графини Савиньяк герцогиней. Или, что ещё вероятнее, напомнила регенту, что годы идут, а влюблённая в него женщина сидит и ждёт его, пока он летает против ветра. И вряд ли он уже найдёт что-нибудь получше, помоложе и покрасивее... Но, как бы там ни было, вскоре на руке Луизы оказался браслет. — Может быть, вина? Да, пожалуй, это именно то, что ей нужно. В тот первый раз она тоже выпила для храбрости — немного, надо было больше. Память снова ожила — не вовремя. Луиза не могла даже себе признаться, что боится, и поэтому пытается сравнивать. Кроме нелепых поцелуев, Арнольд никаким иным способом не позаботился о её удовольствии. Ворвался внутрь, обдавая лицо ароматами свадебного пиршества, и потом ещё с неделю у неё болело всё тело, а в особенности же — самая сокровенная его часть. Трудно было не только ходить, но и сидеть, как после бешеной скачки, не только без привычки, но и без седла. Мужа это не слишком волновало. К счастью, не прошло и недели, как она узнала, что носит ребёнка, — и почти год после этого Арнольд не трогал её. Скорее всего, его просто мутило при виде располневшей жены… Ах да, ей ведь предложили вина! — Немного. — Садись. — Рокэ усадил её на постель, а сам откупорил пыльную бутылку и разлил пахнущее пряностями кэналлийское по бокалам. — Можешь представить, что я твой оруженосец. Луиза улыбнулась. В этой шутке… или предложении было что-то неуместное и грязное. — В таком случае я приказываю принести гитару. — Она уже здесь, эрэа. — Тогда спой. И он пел. На кэналлийском — и потом просил прощения и, смеясь, говорил, что забыл от восхищения все другие слова. Всё-таки он никогда не был женат — и теперь почти смущён. Потом снова просил прощения и пытался очень вежливо объяснить, что это вовсе не какой-нибудь намёк и он даже не ревнует. Ещё бы, было бы к кому. — Конечно, если бы мой милый Арнольд не отправился к выходцам, я бы даже не взглянула на тебя. Подумаешь, синеглазый кэналлийский герцог! — То-то они не захотели принять меня в свою компанию!.. Рокэ осёкся и поднял на неё виноватые глаза. Гитара жалобно тренькнула. — Ты ведёшь себя, как наивный унар. — А ты умудрилась соблазнить многих унаров, моя эрэа? — Только одного. Зато какого! Он отставил гитару. Она отставила так и не допитый бокал. Поцелуй вышел детским: как впервые, прячась от родителей, не зная, куда деть руки, носы, языки, зубы. Они посмеялись над собой и попробовали снова. Это было ни на что не похоже. Дыхание Рокэ пахло вином, но это не было дешевое вино, купленное её матушкой для свадьбы. В его дыхании была пьянящая свобода кэналлийских степей — и она завораживала. Поцелуй получался властным и нежным, и в этом был весь её Рокэ. Луиза приоткрыла рот, впуская его язык, это оказалось бесстыдным и сладким. Тонкие пальцы Рокэ легли на завязки нижней рубашки. Как хорошо, что Алва не столь строгих правил, как некоторые надорские герцоги, и ей не придётся отдавать супружеский долг, путаясь в тряпках... Рубашка упала к её ногам. — Это непростительно, любезный супруг, вы всё ещё одеты! — Как неуважительно с моей стороны! А что, если я запутался в застёжках, может быть, прекрасная эрэа поможет неловкому унару? Луиза фыркнула. Она не собиралась отказываться. На этот раз они целовались уже всерьёз, долго, помогая — или мешая — друг другу расправляться с одеждой. Во вкусе этого поцелуя медленно таяли воспоминания о ночах с Арнольдом. Таяли её годы. Её некрасивое лицо. Её утраченная молодость и чудом не загубленная жизнь. Обнажившись наконец, Рокэ уложил Луизу на постель, бережно поддерживая за талию. Прохладные простыни обволокли тело, уже желающее почувствовать на себе приятную тяжесть мужчины. Любимого мужчины. Дальше всё слилось для неё в гитарный перебор, в плеск волны о каменные склоны Алвасете, в шелест ветра в гранатовых рощах, где она пока не была. Сердце стучало, как кастаньеты. Теперь дыхание Рокэ пахло страстью, и, когда он целовал её губы и лицо, она хотела смеяться и плакать, опьянённая не хуже, чем всеми винами Кэналлоа. Они изучали друг друга, и пальцы стали чуткими, как пальцы слепых, касающиеся барельефов или незнакомых лиц. Они запоминали всё, а в особенности — каждый рваный выдох или стон, те места, прикосновение к которым заставляло вздрагивать, ёжиться, задерживать дыхание. Чтобы повторять снова и снова, играя друг на друге, играя друг с другом, даря удовольствие и делая эту ночь понастоящему первой. Луиза вздрагивала и тянулась навстречу, всем телом умоляя его: скорее, скорее! Не было больше сил предвкушать, бояться, теряться в сомнениях. Она хотела дойти до конца — с того самого дня, как впервые увидела его в толпе унаров. Хотела, чтобы было по-настоящему, не в мечтах или постыдных снах. Пусть будет страшно, пусть будет больно — но ведь не будет. Это не Арнольд, это её Рокэ. Её! Рокэ не спешил. Он ласкал, словно действительно впервые познавал женщину. Не было уже места на её теле, которого бы не коснулись губы или прохладные пальцы. И под его ласками она словно впервые познавала себя. Никогда раньше Луиза не думала, что её тело скрывает столько радости и страсти. Выгибаясь на мягкой перине, она стонала и прикусывала губы, и единственное, о чём она жалела, — о том, что не сможет уже подарить своему герцогу наследника. — Я не могу больше, Рокэ... Скорее... — Можешь. Не спеши. Он проник в неё бережно, как никогда не удавалось Арнольду, и заполнил собой. Больше не осталось места для прошлого, точившего сердце. И Луиза кричала от наслаждения, срывая голос до жалкого хрипа, а пальцы комкали и рвали неповинные в её удовольствии простыни. — Теперь ты моя? — спросил Рокэ, когда они уже отдышались и лежали рядом. Его рука перебирала спутавшиеся светлые пряди. Луиза хотела сказать, что она всегда была его. С первого взгляда нечеловечески синих глаз. Она лежала, касаясь лицом его бока, и чувствовала, как под бледной кожей быстро колотится сердце. Потом она подняла руку и пощекотала его грудь свадебным браслетом. — А я ведь запомнил тебя там, в Лаик, в первый день, — медленно сказал Рокэ, прижимая её запястье к губам. — И завидовал Арамоне, как… глупый унар… моя эрэа.