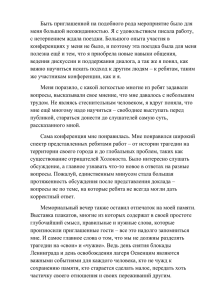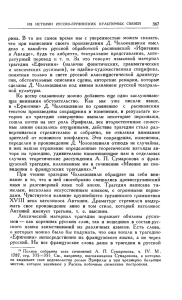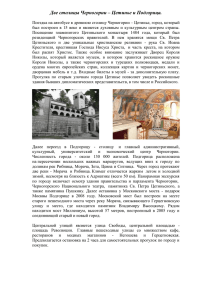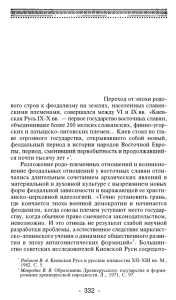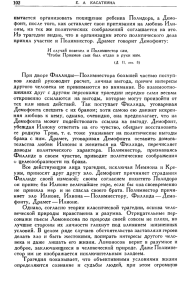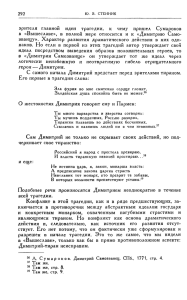Горы и горе (заметки о Черногории). Сначала в названии этой
advertisement

1 Горы и горе (заметки о Черногории). Сначала в названии этой страны мы слышим «горы»; потом, стоит больше узнать об истории южных славян, всё отчётливей слышится – «горе». И, в итоге, в душе остаётся сложно-двойное мерцание смыслов: сквозь признак внешний, отчётливый и характерный – действительно, Черногория, прежде всего, страна гор – проступает ещё и трагическое содержание. Просматривая в Сети отзывы о посещении Черногории, можно заметить интересную закономерность: эту страну либо восторженно хвалят, либо ругают. То есть относятся к ней примерно так же, как и к России, великой восточной сестре Черногории: её или любят, или ненавидят. Думаю, это же самое наблюдение касается всех славян вообще: в мире к нам почти нет нейтрального, тепло-хладного отношения. Но не значит ли это, что мы – и Россия, и Черногория, и вообще все славяне – несём в своих судьбах, в своём бытии нечто глубинное, важное, то, к чему нельзя относиться спокойно? Не значит ли это, что мы несём некий трагический опыт, обозначаем особенный путь, который можно признавать или не признавать, хвалить либо хулить – но нельзя делать вид, что этого мирового пути, этой славянской трагической формулы просто-напросто не существует. Разумеется, формула эта – раз уж мы воспользовались выражением Пушкина* – мало похожа на математическую: неизвестных величин в ней куда больше, чем твёрдо известных, неопределённого больше, чем определённого, и решить её, в том прямом смысле, в каком решают алгебраические уравнения, никому не под силу. Но несомненно, что ключевым словом в ней является слово «трагедия». *«…Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; …история её требует другой мысли, другой формулы…» (Пушкин, «Второй том «Истории русского народа» Полевого») 2 Мало есть в целом свете народов, кому так знаком горький опыт трагедии, как он знаком славянам. А уж на Балканах череда непрерывных трагедий и бед, от войн до землетрясений, так часто вторгается в жизнь, что трагическое начинает казаться здесь чем-то почти обыденным. Не потому ли славян так порою чураются, так сторонятся – как будто боятся от них заразиться тем духом трагедии, что наполняет славянскую жизнь? Согласитесь, что люди не очень-то рвутся общаться с тем, с кем случилась беда: скорее, они избегают несчастного, как прокажённого. Но ведь трагическое не просто вторгается время от времени в жизнь, как нечто чуждое и инородное; нет, трагедия и трагическое составляют само существо, саму суть человеческой жизни, выражают её непреложную и беспощадную правду. Жизнь это трагедия – то есть непримиримый конфликт, в котором, во-первых, каждый по-своему прав, и, во-вторых, все, в конце концов, погибают. Так что вопрос о смысле трагедии равен, по сути, вопросу о смысле жизни. Вот мы и попробуем здесь, на Балканах – нет, разумеется, не разрешить этот неразрешимый вопрос – но хотя бы порассуждать о трагическом: понимая, конечно, что рассуждения в данном случае будут всегда неадекватны предмету, что трагический опыт надо переживать и преодолевать, а не только лишь рассуждать о трагедии, как о неком нейтральном событии. Но, с другой стороны, и рассуждения могут дать многое. Они могут помочь осознать, как надо, в принципе, относиться к трагедии: избегать ли её, или жить ей «навстречу», осудить и отвергнуть весь этот трагический мир – или всё же принять его, принять вместе с болью, и горем, и смертью? 3 II В разговоре серьёзном не обойтись без личного интереса и личного опыта – нельзя же лишь пересказывать то, что написано в книгах – поэтому, думаю, будет уместно то, о чём я собираюсь сейчас рассказать. Тема балканских славян вошла в мою жизнь ещё в раннем детстве, и вошла вместе с Пушкиным. В жаркое лето 1972 года – люди постарше, наверное, помнят, как тем летом горели торфяники по всему Подмосковью – наша семья обитала в палатке на берегу Угры. Место было очень красивым – река, песок, сосны – и те две недели, которые я, восьмилетний, провёл вместе с матерью и отцом, запомнились, как совершенно блаженное, райское время. Можно сказать, что всё светлое в детстве, всё безмятежное, лучшее в нём – было, как в фокусе, собрано и сгущено в этих двух незабвенных неделях полнейшего детского счастья. Но это же самое время до сих пор вспоминается, как самая первая встреча с трагическим. Дело в том, что единственной книгой, которую отец захватил на стоянку, был том Пушкина; и я, восьмилетний, в ту пору много и жадно читавший, раскрыл эту книгу как раз на «Песнях западных славян». Я был тогда потрясён и испуган, растерян, смущён – и сейчас, спустя почти сорок лет с той поры, я вполне сознаю: именно там и тогда, в то жаркое лето, незримая, но какая-то очень глубокая трещина надорвала мне сердце. Представьте: вот я живу в совершенном раю. Мир прекрасен; мои мать и отец – разумеется, лучшие люди на свете; жизнь в палатке похожа на сказку – чего стоит один только запах брезента, нагретого солнцем! – и все впечатления мира так свежи и новы, что вызывают в душе непрерывный восторг. Вот, скажем, костёр и сосновые шишки – которые, если их бросить на угли, становятся нежно-малиновы, полупрозрачны… Вот песчаные осы: словно танцуя, они роют норки в сыпучем обрыве, и я часами могу наблюдать этот их грациозно-причудливый танец… А короткие грозы, и стрёкот дождя по натянутым скатам палатки? А купанья в Угре, чьи чистейшие, тёплые воды проносили тебя над песчаною отмелью – прямо в руки отца, который, смеясь, учил тебя плавать? Словом, жизнь была так хороша, как она может быть хороша только в детстве. 4 И вот я открываю том Пушкина – о котором я уже твёрдо знаю, что это прекраснейший, светлый поэт, самый лучший из всех, кто когда-либо жил на земле – и читаю, к примеру, историю Феодора и Елены. Вкратце напомню сюжет. Старый Стамати, отвергнутый молодою Еленой, решает ей отомстить. Некий жид его учит: надо поймать на кладбище черную жабу, исколоть её иглами, напоить эту тварь её собственной кровью – а потом дать ей облизать спелую сливу. Так злодеи и делают – и сливу, под видом подарка, передают Елене. Красавица, ни о чём дурном не подозревая, съедает её – и чувствует, как в животе у неё кто-то шевелится… «Стала пухнуть прекрасная Елена, Стали баить: Елена брюхата. Каково-то ей будет от мужа, Как воротится он из-за моря!» Действительно, возвращается Феодор, в пылу гнева отсекает голову загулявшей, как он уверен, жене – а потом решает достать из её чрева живого младенца, чтобы, когда тот подрастёт, увидеть, на кого ребёнок похож, и уж тогда сполна отомстить совратителю. Но в утробе жены вместо ребёнка – шевелится чёрная жаба… А мёртвая голова Елены, размыкая уста, произносит: «Я невинна. Жид и старый Стамати Чёрной жабой меня окормили». Тут опять уста её сомкнулись, И язык перестал шевелиться…» Что же это? Зачем Пушкин передаёт нам всё то ужасное, тёмное, страшное – что, казалось бы, надо навеки упрятать от глаз, постараться об этом забыть, как мы забываем ночные кошмары? И каково же всё это было читать восьмилетнему мальчику? Зачем, только-только его восхищённому взору открылся земной, полный радостей, рай – была тут же показана чёрная трещина ада? 5 И предо мною впервые, во весь свой чудовищный рост, встал этот страшный вопрос: в чём же истина жизни? И вообще, что есть жизнь – в её сути, в её наготе? Неужели всё то, что я вижу вокруг – река, солнце, сосны, весёлые лица родителей – есть всего лишь мираж, оболочка, есть некий обман, который до времени лишь прикрывает жестокую, чёрную суть бытия? III Спустя сорок лет я оказался в тех самых местах, где зародились сюжеты «Песен западных славян»* – и тема славянской судьбы и славянской трагедии вновь вошла в мою жизнь. С одной стороны, Черногория – это, конечно же, рай. Особенно адриатическое побережье: недостанет ни красок, ни слов, чтоб вполне передать красоту здешних мест. Если представить себе всю театральную пышность субтропиков – скажем, нашего черноморского побережья Кавказа – все эти пальмы, магнолии и олеандры, всё величие гор, подпирающих небо, почувствовать животворящую влажность тепличного здешнего климата – а потом взять, да вспомнить любимый наш Крым – «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, и парус медленный, что облаком продолжен…» – то вот как раз побережье Черногории объединяет в себе самое лучшее и характерное от Кавказа и Крыма, от картинности первого и благородства второго. Море? Оно здесь прекрасно – и для пловца, и для рыбака, и для созерцателя: например, если ты созерцаешь его, сидя за столиком какогонибудь ресторанчика в старом будванском порту. Перед тобою тарелка тушёных кальмаров, графин «Грошевины» (отличное местное белое); чуть дальше, по набережной, вышагивают красотки, одна соблазнительнее другой; ещё дальше, в бухте, сонно качается лес яхтенных мачт, словно связанных между собой сложным кружевом вант, и слепящие блики играют на белых бортах катеров – а совсем уж вдали, за всем этим пёстрым столпотворением порта, до самого горизонта разлито горячее масло 6 морской, отражающей солнце, лазури. Кажется, целую вечность можно сидеть в этом знойном блаженстве, в полуденной неге, и слушать говор разноязыкой толпы, сложно смешанный с плеском, с дыханием адриатических волн… А старые города побережья – Котор и Будва, Герцег-Нови, Пераст? Их облик сложился в пору венецианского ренессанса, в эпоху расцвета ремёсел, торговли, искусств, и, на теперешний взгляд, каждый адриатический город – своего рода брешь, пробитая в густо слежавшемся времени, прямиком из сегодняшних дней в европейское средневековье. По узким ветвящимся улочкам бродишь, как в воплотившемся, сложно запутанном сне, где соблазны и страхи поджидают за каждым углом, и где сердце поэтому бьётся всё чаще, взволнованней – в такт растерянным и торопливо стучащим шагам. Возможно, что толкователь снов Зигмунд Фрейд и сказал бы что-нибудь по этому поводу: во всяком случае, желание снова и снова сворачивать во всё более сумрачно-узкие щели меж старых домов становится здесь, в самом деле, маниакально-болезненным и почти что неодолимым. Вообще, побережье – ривьера, как принято здесь говорить – так дышит соблазнами, так наполнена ленью и негой, что вся черногорско-приморская жизнь представляется неким длящимся праздником, непрерывной усладой для тела и взгляда. Правда, есть Черногория и совершенно другая: суровая, горная, труднодоступная. Там, в горах, аскетом быть столь же естественно, как естественно быть сладострастником на побережье. Трудно даже поверить, что в обжитой современной Европе ещё сохранились места, которые в долгие зимние месяцы вовсе теряют связь с «большим» миром – лавины перекрывают дороги – поэтому и продукты, и топливо, и медикаменты запасают там с осени, а уж если кто-то зимою всерьёз заболел, то уповать остаётся лишь только на милость Господню. Там, в горах, и хоронят-то, кстати, покойников рядом с домами, в «породичных» склепах-гробницах: так что мёртвые в черногорских деревнях, можно сказать, охраняют живых – а живые не забывают о мёртвых. *То есть, говоря строго, южных: западными принято называть поляков, словаков и чехов. 7 Если горную Черногорию и можно назвать словом «рай», то это рай аскетический, строгий, суровый. Здесь почти нет плодородной земли, очень мало воды – приходится собирать и хранить дождевую – и райские здесь только виды: они, в самом деле, ошеломляют. Горы, покрытые лесом, орлы, что кружат над ущельями, клочья тумана, ползущие над каменистою осыпью склонов, а внизу, под извилистым серпантином дороги – будто светится бирюзовая лента реки… Здесь действительно очень красиво, и здесь чувствуешь, как душа наполняется гордостью за человека. Оттого ли, что люди обжили-таки эту всю неприступную горную красоту, оттого ли, что черногорцы никогда и никем не бывали полностью покорены – с ними так и не совладали ни турки-османы, ни Гитлер, ни Наполеон* – или, может быть, оттого, что облик людей соответствует здешней природе? Коренные, настоящие черногорцы худы, измождённо-суровы – это народ воинов и пастухов – и недаром же Черногорию издавна называют славянскою Спартой. Меж обвислых усов черногорца непременно дымит сигарета – кажется, он с ней родился – взгляд обычно сощурен, а кожа смугла и обветрена. Но удивительно, как, несмотря на суровую внешность, добродушны, радушны и веселы эти люди. А уж какие здесь девушки – это надо увидеть своими глазами! Они все высокие, стройные, темноволосые, со смугловато-оливковой кожей и с поразительно чистыми, радостно-ясными лицами. Недаром сказал один мой товарищ своему повзрослевшему сыну: «Паша, невесту привозишь – только из Черногории!» Но, говоря о характере черногорцев, мы сразу же видим противоречие. При всей суровости здешнего быта – а, значит, при необходимости много, усердно работать, чтобы как-то себя прокормить в этих горных краях – черногорцы, похоже, на редкость ленивы. Я поначалу не очень-то верил себе, наблюдая, как множество местных мужчин день-деньской просиживают за столиками кафе. Ну, мало ли, думал я: все же это туристские трассы, и индустрия сезонных, сравнительно легких доходов не могла не сказаться на здешних нравах. Но, похоже, и в остальные сезоны, и даже вдали от туристов, черногорцы не очень-то рвутся работать. *Отсылаю читателя к стихотворению «Бонапарт и черногорцы»: мало о ком Пушкин писал с таким восхищением, как о воинах-черногорцах. 8 Скорей, местный житель задумчиво подымит сигаретой, выпьет стопочку ракии, да будет смотреть-созерцать, как кружатся орлы, и как клочья тумана ползут по лесным склонам гор… И вот подтверждение этим моим – неизбежно поверхностным – наблюдениям путешественника. По всему побережью, в бесчисленных сувенирных киосках, продаётся любопытнейшая открытка: «Черногорские заповеди». Эти заповеди настолько забавны и вместе с тем характерны, что я приведу их полностью. «Человек рождается утомлённым, чтобы потом всю жизнь отдыхал. Люби кровать свою, как самого себя. Днём отдыхай, чтобы ночью мог спать. Не работай – работа опасна для жизни. Если увидишь отдыхающего – помоги ему. Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то и можешь – так пусть другой этим займётся. В тени спасение: отдыхая в её объятиях, пока никто не умер. Работа болезнетворна: чтобы не умер молодым, сторонись её с раннего детства. Если у тебя внезапно появится желание работать, тогда немедленно садись, успокойся – и это глупое желание улетучится. Если увидишь скучающих и пьющих – присоединяйся, а если увидишь работающих, немедленно уходи: их нельзя беспокоить». Согласитесь: как ни шутейны эти все афоризмы, но ничего подобного, даже в шутку, не могло быть сказано ни о немцах, ни о китайцах – вообще, ни о ком из по-настоящему трудолюбивых народов. Пытаясь связать склонность к лени и созерцанию со спартанской суровостью здешнего быта, я даже придумал особенный термин: «аскетическое эпикурейство». К слову заметим, что сам Эпикур был как раз не развратником и сластолюбцем, как его иногда представляют, а настоящим аскетом: он не пил вина, не ел мяса, сыр позволял себе только по праздникам, и вообще жил как можно более просто и скромно. Так что, в 9 определённом смысле, можно считать черногорцев истинными учениками и последователями великого грека. IV То, что Черногория – рай, очевидно для всех, приезжающих в эту страну. Но за очевидностью и за фасадом скрывается много тяжёлого и даже страшного. Судьба Черногории, как и вообще Балкан, горька и трагична. Здесь – место великого стыка религий, культур, языков; и это место напоминает кровоточащую рану, которая только-только подсохнет, затянется тонкою коркой, начнёт, вроде бы, заживать – как вдруг, при чьём-либо неловком движении, этот струп снова сорван, края раны расходятся, и из неё вновь течёт кровь. Не буду перечислять все те трагедии, которыми полна история балканских славян, начиная с их поражения на Косовом поле; напомню лишь то, что во время последней великой войны, с 1941 по 1945г.г., героически воевавшая Югославия по людским жертвам заняла третье место после Советского Союза и Польши. И до сих пор Балканы – самое кровоточивое место Европы: вспомним хотя бы бомбардировки Сербии и Черногории натовскими войсками в 1999 году. Несомненно и то, что все периоды относительного благополучия и покоя, которые выпадали балканским славянам, были имперскими. Начиная с империи Александра Македонского, здешние земли входили во множество разных империй: и римской, и византийской, и империи турок-османов, и Австро-Венгерской империи Габсбургов. Но только в 1918 году славяне Балкан оказываются не под чужеродной, извне привнесённою, властью – но создают свою собственную, пусть и небольшую, империю: Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1929 году оно было переименовано в Королевство Югославия. Благозвучное это название – Югославия – столь милое нашему слуху, и, видимо, столь ненавистное Западу, не выносящему даже намёка на славянское объединение, просуществовало до 2003 года, но 10 затем, увы, было стёрто с карты Европы. Но оно не стёрлось из людских душ. Достаточно сказать, что культовый современный кинорежиссёр, мусульманин-босниец по крови и православный по вероисповеданию, Эмир Кустурица на вопрос о собственной национальности отвечает: «Я – югослав». И достаточно посмотреть, как на черногорских заборах написано «Тито» что, конечно же, выражает и ностальгию по временам Югославской империи, и одновременно надежду людей на сплочение южных славян. Многим всё чаще является мысль, что без имперской «повязки», которая как бы прикроет и стянет балканскую рану – этой многострадальной земле нельзя ждать исцеления. Нам с вами даже трудно представить, насколько глубокие противоречия разрывают балканскую жизнь. Ведь мы в России, при всей трагедийности нашей истории, не знали, в сущности, ни настоящей религиозной розни между католиками и православными – а ныне проблема католиков-униатов как бы «вынесена» в сопредельную Украину – ни, тем более, мы не знали тех «алфавитных войн», которые целые десятилетия не давали покоя Балканам. Поясню для тех, кто, быть может, не знает. Сербохорватский язык (основной на Балканах) с XIX века использует два алфавита: латиницу и кириллицу, или гаевицу и вуковицу, по именам их создателей, Людовита Гая и Вука Караджича. Естественно, что латиница ближе католикам, и именно этот алфавит принят в католических Хорватии и Словении; православным же сербам и черногорцам, понятное дело, ближе кириллица. Но сама ситуация, когда одна и та же народная разговорная речь может быть записана на бумаге двумя разными способами, посредством двух алфавитов – ситуация эта достаточно редкая, если не уникальная. И такая вот «трещина», разорвавшая изначально единую сербохорватскую речь – не могла не сказаться на душах людей, на их отношении к миру, к соседям и даже к собратьям по крови. Напряжённость и сложность «внутрисемейственных» отношений балканских народов хорошо передаёт сербская поговорка: «Как войдёт в избу католик проклятый – в морду ему дай, но квасом напои: всё ж он не турок, а душа крещёная». 11 V Непросто что-либо понять, разобраться в конфликтах, противоречиях, спорах, какими доселе кипит вся балканская жизнь. Тут приходится или принять чью-либо узко-национальную точку зрения – но узкий, зашоренный взгляд как раз и приводит к кровавым конфликтам – или пытаться взглянуть на всё «взглядом Шекспира»*. В XX веке таким вот «балканским Шекспиром» стал прозаик из Боснии Иво Андрич. Это писатель огромного, мирового значения: Нобелевская премия, которую он получил в 1961 году за роман «Мост на Дрине» – лишь одно из формальных тому подтверждений. Андрич писал этот роман в годы войны, в самое тяжёлое для Югославии время, кода Белград был оккупирован немцами; и во всей мировой литературе XX века немного найдётся романов, полных такой горькой правды и силы, такой мудрости и благородства – каков «Мост на Дрине». Это могучий, торжественный эпос – и одновременно свидетельство о балканской трагедии, имеющее высшую – то есть художественную – достоверность. Поразительно, скажем, как сцена казни крестьянина Радисава, борца против турок – символический центр, туго стянутый узел романа – при всём ужасе беспощадно показанных автором достоверных подробностей казни, превращается в гимн человеку. Там есть одно место, которое, может, важнее всего для того, чтоб понять смысл трагедии. Радисав, посаженный турками на кол, мучается почти сутки; продлить его муки, не дать умереть быстрой смертью, и тем запугать сербов – очень важно для турок. И весь тот чудовищный день, пока Радисав умирал, люди не могли ни смотреть на казнённого, но не могли и отвести глаз от страдальца, вознесённого высоко над шумящею Дриной. Когда же Радисав, наконец, испустил дух – «сербы облегчённо вздохнули, словно одержали незримую победу…» * «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира…», - утешал Пушкин Дельвига после разгрома восстания декабристов. 12 Вот это и есть настоящий катарсис, «очищение души через ужас и сострадание», как объяснял Аристотель – это и есть тот высокий урок, который мы можем усвоить, соприкасаясь с трагическим. Смерть может быть и победой, преодолением трагического тупика жизни – именно такому отношению к смерти учит нас христианская вера. Всё творчество Андрича – это трагический эпос Балкан. Мало кто с такой трезвостью видел людей, понимал всю безмерную силу страстей, разрывающих нашу непрочную жизнь, знал её, жизни, ужасы – но мало кто так же, как Андрич, сохранил и доверие, и живой интерес к человеку, мало кто с такой силой и твёрдостью принимал эту жизнь, как бесценный, хотя и трагический, дар. И вот, продолжая имперскую тему, нельзя не сказать, что Иво Андрич, историк по образованию, дипломат по профессии – он был послом Югославии в Риме, Мадриде, Берлине – и великий писатель по дару, то есть человек, который, конечно же, больше всех знал и глубже всех понимал то, что мы называем «балканским вопросом» – Андрич был убеждённым империалистом, сторонником объединения южных славян в единое, усмиряющее национальные противоречия, государство. Конечно, империя не снимет и не разрешит всех трагических противоречий человеческой жизни – однажды родившись, человек обречён пронести свой, большой или малый, трагический крест – но империя может, по крайней-то мере, помочь нам сполна прожить наши жизни, осуществить и сыграть наши с вами трагедии в полную силу. Иначе мы можем напрасно, бездарно погибнуть ещё в первом акте – так и не осознав ни своих ролей, ни общего замысла всей постановки. VI А теперь пора обратиться к пушкинским «Песням западных славян», для большинства из нас, читающих русских – основному источнику знаний о балканских славянах. 13 Интересна история написания – и источники «Песен». В примечаниях к этому циклу из 16 стихотворений Пушкин пишет, что он в 1829 году познакомился с книгой «Гузла, или иллирийские песни». Судя по предисловию, это был перевод сербских песен, выполненный французом Проспером Мериме. Друг Пушкина Соболевский, лично знакомый с Мериме, по просьбе Пушкина отправляет тому письмо – и получает ответ, в котором французский писатель очень живо рассказывает о том, как он сочинил сборник «Гузла». Оказывается, никакой это не перевод действительно существующих сербских песен, а исключительно плод поэтического воображения самого Мериме. Да и сочинены эти песни, якобы, наскоро, по одной-две в день, скучающим в ожиданье обеда писателем. Конечно, Мериме здесь лукавит. Известно, что над сборником «Гузла» он работал очень серьёзно, не менее семи лет – потому и сумел выразить душу другого народа, почти неизвестного тогдашней Европе, с такой достоверностью, что даже Пушкин был, по его собственному признанию, мистифицирован, но в «хорошей компании». «Хорошая компания» – это Адам Мицкевич, который, также сочтя сборник подлинным, перевёл одну песню «Гузлы» на польский. Из 16 стихотворений, входящих в «Песни западных славян», 11 действительно переведены Пушкиным из сборника Мериме, две взяты из собрания Вука Караджича «Сербские песни» – Это «Соловей» и «Сестра и братья» – а три сочинены самим Пушкиным: «Песнь о Георгии Чёрном», «Януш Королевич» и «Воевода Милуш». Выходит, что «Песни западных славян», будучи, с одной стороны, несомненно произведением Пушкина – чего б не коснулись его взгляд и перо, всё мгновенно преображается, дышит новою жизнью! – в то же самое время «Песни» являются совокупным продуктом творчества крупнейших писателей разных народов: француза Мериме, серба Караджича и даже, отчасти, поляка Мицкевича. Это придаёт «Песням» особую универсальность и полноту, особую «всечеловечность». Тем более что и главная тема, ведущий мотив всего сборника – неизбежность трагедии – есть важнейшая тема, встающая перед любым человеком. Просто славяне так много всего пережили, так много узнали о горе и смерти, что славянский трагический 14 опыт является глубочайшим, бесценным – буквально, оплаченным кровью – достоянием человечества. Видимо, чувствуя и сознавая эту славянскую «всечеловечность», чувствуя необходимость выразить некую общеславянскую формулу, Пушкин и посвящает свою «вторую» Болдинскую осень, осень 1833 года, размышленьям о судьбах славян. Не забудем, что другой шедевр этой же осени – «Медный всадник». Эта поэма, вкупе с «Песнями западных славян», выражает взгляд Пушкина и на Россию, и на славян вообще, на их нелёгкие судьбы в Европе и мире. Как устоять перед страшным напором стихий, непрерывно грозящих славянам? То враждебное, чуждое, злое, что угрожает славянскому миру, оно воплощается то в обезумевших водах Невы – «Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервеняясь, На город кинулась…» – то в турецком нашествии: «Вот взвилась из-за города бомба, И пошли бусурмане на приступ…» Как жить – в непрерывной осаде, в окружении наступающей смерти и тьмы? Ведь враждебные силы, грозящие нам, совершенно чудовищны, неодолимы; недаром и в сборнике «Песен», главным образом, мы читаем о смерти – но смерти особого рода: одолевающей, можно сказать, саму смерть. В «Видении короля», открывающем весь этот цикл, повествуется, как сербский король, обороняющий осаждённый город от турок, ночью заходит в храм, и ему видится нечто ужасное: то, что с ним, королём, будет завтра. Храм завален трупами и залит кровью; рядом с султаном, усмехающемся на амвоне – изменник, брат короля Радивой. И султан, в честь победы, жалует Радивою кафтан (обыкновенный подарок султанов, поясняет нам Пушкин): 15 «Дать кафтан Радивою! Не бархатный кафтан, не парчовый, А содрать на кафтан Радивоя Кожу с брата его родного…» Потрясённый всем тем, что он видит, король молится – видение исчезает – но главный-то ужас в том, что в реальности начинается то, продолженье чего король уже знает: «Было тихо. С высокого неба Город белый луна озаряла. Вот взвилась из-за города бомба И пошли бусурмане на приступ». А последняя песня сборника, «Конь» («Что ты ржёшь, мой конь ретивый, что ты шею опустил…») – очень похожа на первую: в ней вещий конь открывает хозяину его, леденящее душу, будущее. « Отвечает конь печальный: Оттого я присмирел, Что я слышу топот дальный, Трубный звук и пенье стрел; Оттого я ржу, что в поле Уж недолго мне гулять, Проживать в красе и в холе, Светлой сбруей щеголять; Что уж скоро враг суровый Сбрую всю мою возьмёт, И серебряны подковы 16 С лёгких ног моих сдерёт; Оттого мой дух и ноет, Что наместо чепрака Кожей он твоей покроет Мне вспотевшие бока». Мотив предчувствия, предощущенья беды, несомненно, важен для Пушкина. Видимо, он не только для своих персонажей, но и для себя лично ждал мало хорошего в том, что ему несёт будущее. И беды, и горести, и недалёкая смерть – это всё представлялось ему даже в самом счастливом, 1831 году, когда он писал Н. И.Кривцову: «Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчёты. Всякая радость будет мне неожиданностию…» Предощущенье беды, убеждённость в её неизбежности есть важнейшая часть духовного опыта человека – и Пушкин настойчиво нам предлагает не прятать испуганных взглядов, не закрывать глаз руками, но твёрдо, смиренно и просто посмотреть на грядущее. В конце концов, сама удивительная способность предчувствия, возможность увидеть будущее с некой возвышенной точки, приподнятой над самодовлеющей злободневностью настоящего – говорит нам о том, что трагическая реальность преодолима. «Взгляд Шекспира», та точка зрения, с которой творец озирает творение, открывает большой, исторический, над-человеческий смысл трагедии. Можно сказать даже так: способность предчувствия есть способность божественная. Ведь это для Бога не существует грядущего или прошедшего – но всё совершается в вечно длящемся настоящем. И художник, предвидящий то, что ещё не свершилось – он убеждает нас в том, что иллюзия времени преодолима, а значит и смерть, с точки зрения Бога, не так и страшна, как она представляется нам. Предвидеть трагедию, знать о её приближении и, тем не менее, жить ей «навстречу» – уже означает подняться над неизбежностью и победить. (Ср. у Паскаля: «Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но 17 пусть бы даже его уничтожила Вселенная, - человек всё равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознаёт, что расстаётся с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознаёт…») VII Тема балканских славян зазвучала у Пушкина много раньше его второй Болдинской осени. Ещё в 1820 году, в Кишинёве, Пушкин пишет стихотворение «Дочери Карагеоргия». В нём он вспоминает легендарного вождя сербов Георгия Чёрного, получившего своё мрачное прозвище после того, как он убил собственного отца. Соединение в одном человеке качеств героя и одновременно злодея, нежного отца и беспощадного сына, который ласкает любимую дочь тою же самою рукой, какой он убил и отца, и родного брата – Пушкин, конечно, не мог не заметить такую редчайшую, крупную, противоречивую личность. «Гроза луны, свободы воин, Покрытый кровию святой, Чудесный твой отец, преступник и герой, И ужаса людей, и славы был достоин…» Так и видишь: из строк, посвящённых Карагеоргию, словно рождается ещё один человек-легенда, ещё один «преступник и герой» – Емельян Пугачёв. Вполне вероятно, что образ великого русского бунтовщика, к которому Пушкин обратится спустя много лет – был «зачат» именно в 1820 году. В пушкинском Пугачеве, как и в Карагеоргии, мы видим соединение несовместимого: когда один и тот же человек может быть злобен и великодушен, весел и яростен, светел и тёмен, чудовищен и прекрасен – он может быть так же широк, необъятен, необъясним, как широка и парадоксальна сама наша жизнь. И поразительно, как, при всей непримиримой полярности противоречий, из которых слагаются личности и Карагеоргия, и Пугачёва, они видятся нам удивительно цельными, 18 подчинёнными некой внутренней логике слова и жеста – логике противоречия, если можно так выразиться. Несомненно, что Карагеоргий и Пугачёв – точнее, их образы, нарисованные пером Пушкина – так близки, так похожи один на другого, что можно считать их братьями. И несомненно, что личности вот такого крупномасштабного, противоречивого типа были Пушкину очень важны – ибо в них, этих личностях, не подходящих ни под какие обычные мерки, таится загадка необъяснимой, широкой, трагической, всегда сотканной из противоречий славянской души. То, насколько личность Карагеоргия была Пушкину интересна, насколько загадку, сокрытую в ней, он считал важной для понимания сути славян вообще, подтверждает и то, что Пушкин посвящает Карагеоргию ещё целых два(!) стихотворения. Одно так и называется «Песнь о Георгии Чёрном» (снова отсылаю читателя к «Песням западных славян»), а второе – это незавершённый отрывок «Менко Вуич грамоту пишет…» В нём речь идет о вражде двух предводителей сербов, Георгия Чёрного и Милоша Обреновича – вражде, в результате которой первого убивают по приказу второго. Не будет большою натяжкой сказать, что образ пушкинского Пугачёва – в идее, в замысле, в самом первом к нему приближении – был рождён на земле Черногории, и принял сначала облик легендарного бунтовщика по имени Карагеоргий (подтверждением этого служит кишинёвское стихотворение 1820 года) – а уж потом, спустя годы, Пушкин воплотил всю безмерную сложность бунтарской славянской души в ином образе, в самозваном государе-императоре Петре III. Но вот что совершенно невероятно, и что не могло быть придумано никаким, самым смелым, затейливым, хитрым умом – это то, что реальная жизнь, прежде чем разыграть трагедию под названием «бунт Пугачёва», провела «репетицию» этой трагедии – и как раз на земле Черногории! Дело в том, что в 1766 году, за шесть лет до появления самозванца в оренбургских степях, некий авантюрист по имени Степан Малый начал борьбу за черногорский королевский престол, объявив себя, ни много, ни мало – русским императором Петром III. Екатерина Великая, возмущённая появлением лже-Петра на Балканах, посылает в Черногорию своего 19 эмиссара, князя Долгорукова – с тем, чтобы тот разоблачил самозванца. Но Долгорукий, вместо разоблачения – и неизвестно, по каким мотивам – неожиданно признает в самозванце наследного русского императора. Народ Черногории горячо поддерживает авантюриста, Степан Малый становится королём, и правит страной целых семь лет, пока его не убивает слуга, подкупленный непримиримым и вечным врагом черногорцев, турецким султаном. Вряд ли, конечно, Емельян Пугачёв, поднимая свой бунт и объявляя себя государем Петром III, знал об этих событиях в Черногории. Но несомненно, что нас с черногорцами, помимо родства по славянской крови и православной вере, связывают ещё и истории бунтарей-самозванцев. VIII Вообще, трудно найти в целом мире страну, столь же близкую нам, как близка Черногория. Причём, она нам близка не только по крови и вере, по сходству родственных языков – произносить фразы на сербском доставляет особое, прямо-таки физическое, удовольствие – но близка и по восприятию жизни, как испытания, как неизбежной трагедии. Но здесь нужна существенная оговорка. Вернувшись из Черногории и посмотрев свежим взглядом на своих соотечественников, поражаешься: до чего же у большинства из нас, русских, убитые лица и тусклые взгляды! В иные глаза и смотреть невозможно из-за гнетущей и мутной тоски, наполняющей их. Кажется, люди с тяжёлою злобой, с тупым недоверием относятся сами к себе – а, значит, с такою же недоверчивой злобой они относятся и ко всем окружающим. Радости – лёгкой, живой, непосредственной радости жизни – нет и в помине… Совсем не то в Черногории: там лица именно светятся радостью. Несмотря на все трудности жизни, на все испытания, что выпали южным славянам на долю (а испытания эти, конечно, не кончились), несмотря на трагический фон и истории, и современности, черногорцы живут с добродушным и мудрым 20 доверием к миру, с благоволением к людям, с тем твёрдым, спокойным достоинством слова и жеста – которого нам так, увы, не хватает. Как же так вышло? Почему мы, русские, изо всех наших великих трагедий вышли опустошёнными и полумёртвыми – а наши братья-славяне остались живыми? Может, всё дело в том, что сербы и черногорцы во всех многочисленных битвах, восстаниях, войнах, что выпали южным славянам на долю, сражались за самих себя – за свою веру и землю, язык и обычаи, за свою суверенную жизнь и свободную душу? А вот мы, русские, как это ни горько признать, сражались-то, большею частью – особенно в XX веке – против самих же себя. Мы крушили обычаи, веру отцов, разрушали уклад устоявшейся жизни, мы ломали язык и саму свою душу – и вот, в результате, мы стали такими, какие мы есть. Можно сказать, мы в очередной раз победили – но победили-то мы самих же себя… И всё чаще мне кажется: небывалая популярность отдыха в Черногории – а за последний год число побывавших здесь русских туристов выросло втрое – связана, может быть, даже не с тем, что мы, русские, едем сюда отдыхать – а с тем, что мы в Черногорию едем лечиться. Лечиться от собственной мутной тоски, от уныния и от угрюмства, лечиться – что самое главное – от нелюбви, неприязни к самим же себе. Мы рады увидеть – нам неожиданно видеть такое! – что в Черногории нас, русских, любят, причём любят живо и искренно, так, как мы уж давно разучились любить сами себя. Здесь часто приходится слышать вопрос-восклицание: «Русия? Славно, славно!» – и от этих, таких немудрёных, но полных живого сочувствия слов начинаешь, вот именно, что выздоравливать. Не забудем, что даже в Христовом завете – «Возлюби ближнего, как самого себя» – любовь человека к себе подразумевается, как естественный и несомненный фундамент, основа нашего отношения к миру и людям. Человек, не осмеливающийся любить самого себя – это дефектный, больной человек, неспособный, вследствие этого, любить никого вообще, от соседа до Бога. И как же тут, следом за Божьим заветом, не вспомнить и пушкинских слов – где за шуткой скрывается самый, может быть, важный совет для всех нас, так, увы, склонных гоняться за призраками, и в безумной, отчаянножертвенной этой погоне забывать о самих же себе: 21 «Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель…» IX Трагизм и величие «вечных» вопросов как раз в том, что они принципиально неразрешимы – по крайней мере, в пределах людского рассудка и здешнего мира. Но сама постановка такого вопроса, сама широта и объём того взгляда на мир, при которых подобный вопрос может быть задан – уже несут в себе как бы возможность ответа. Вопрошая: «Есть ли в трагедии смысл?», или «Зачем нужно страдать?», или «Зачем мы все умираем?» – мы с вами, в глубине сердца, чувствуем, что ответы, конечно же, есть: иначе и сами вопросы не могли бы быть заданы. Задача в том, чтобы найти ту точку зрения, с которой противоречие, что содержится в «неразрешимом» вопросе, перестанет быть противоречием – и тогда сам вопрос как бы перестанет существовать. Ведь из того несомненного факта, что наша жизнь есть трагедия, очень легко сделать шаг к отрицанию Бога. Если Творец и всемилостив, и всемогущ – то как же Он может мириться с тем, что любимые дети Его и страдают, и погибают? В рамках здешних, земных, ограниченных наших условий такое противоречие, в самом деле, непреодолимо. В том-то и дело, что надо подняться, взглянуть на трагедию взглядом гения, взглядом Пушкина или Шекспира – чтобы трагедия из обвинения Богу, из упрёка Ему превратилась, напротив, в доказательство Его бытия, и, стало быть, в подтвержденье бессмертия нашего духа. Трагедии жизни – это как бы плавильные печи, в которых Господь обжигает людей, это печи, в которых твердеет и крепнет сырая душа человека. Взгляды гениев как раз помогают подняться на ту высоту, с которой трагическое представляется не бессмысленным нагромождением ужасов, 22 перед которым тускнеет и разум, и воля, и которое парализует всю нашу жизнь – но трагедия предстаёт, как осмысленный, связанный с Высшею волей, процесс. Трагедии жизни ставятся Богом, вершителем человеческих судеб – и именно с точки зрения Творца в каждой трагедии есть свой смысл, свой урок, своя правда. Что чувствует сердце, коснувшись трагедии – реальной ли, совершившейся в жизни, или такой, о которой нам повествует художник? Через всю боль, через муки, с которыми связан трагический опыт, нам словно брезжит какоето высшее знание: убеждение в том, что человеческий путь не кончается смертью. Это знание никогда не бывает незыблемо-твёрдым – оно укрепляется в меру того, как растёт, укрепляется наш с вами дух, и слабеет, когда мы сами слабеем – но без этого знания человек никогда не поднимется в свой полный рост, он не станет вполне человеком. И, как человек, что сумел пережить, пересилить трагедию, становится больше себя самого – так и целый народ, чей трагический путь полон горя и муки, воплощает особое, высшее знание жизни. В таком-то народе и начинают не просто утешать-успокаивать тех, с кем случилась беда, но поздравляют: «С несчастьем Вас!» – и говорят о трагедии: «Бог посетил…» Похоже, славяне находятся на особом счету, на особой примете у Бога. Мало кто может с ними сравниться в трагизме их судеб, в том множестве бед, испытаний, несчастий, какие славянам пришлось пережить. И славянская формула, после всех сокращений, может выглядеть так: «Жизнь трагична, а смерть неизбежна – но человек не кончается смертью». Именно здесь, в Черногории, где жизнь так прекрасна и так трагична одновременно, где, с одной стороны, всё дышит радостью, негой, гармонией моря и гор, а, с другой стороны, даже в названье страны слышно горькое «горе» – здесь, как нигде, мы близки к разрешенью загадки, которая, в принципе, и не может быть разрешена силой только рассудка: лишь наше славянское, общее сердце предчувствует верный ответ… 2010г. 23