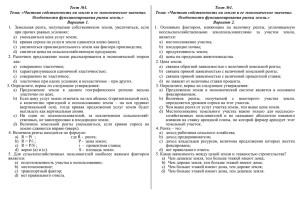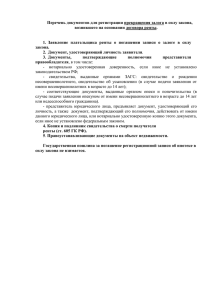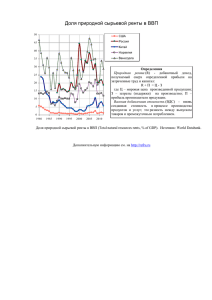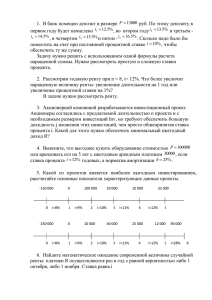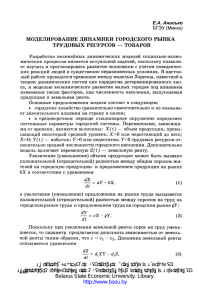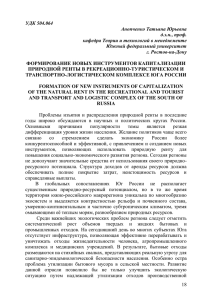Кто берется за частные вопросы, без предваржтельного
advertisement
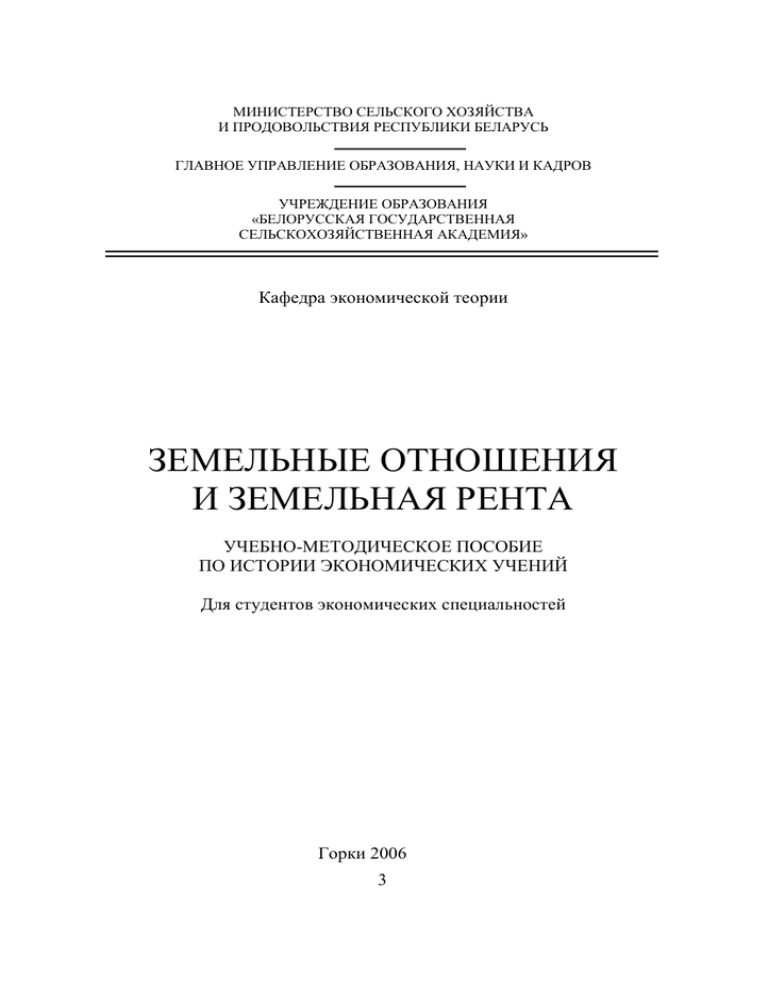
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» Кафедра экономической теории ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ Для студентов экономических специальностей Горки 2006 3 УДК 330.821.1:332.68/075.8 ББК 65.011 Я7 Л. 84 Одобрено методической комиссией экономического факультета 30.06.2005. Лукьянов В.Т. Л 84 Земельные отношения и земельная рента: Учебнометодическое пособие/ Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2006. 52 с. Приведены история и теория земельных отношений и земельной ренты от возникновения до современности для самостоятельного изучения студентами истории экономических учений. Для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Таблиц 2. Библиогр. 17. Рецензенты: И.А. СКАЗЕЦКАЯ, канд. экон. наук, доцент; А.А. МАСЛОВСКИЙ, канд. с-х. наук, доцент. УДК 330.821.1:332.68/075.8 ББК 65.011 Я7 © В. Т. Лукьянов, 2006 © Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 2006 4 ВВЕДЕНИЕ Земля – материальная основа возникновения, существования и развития человека. Она была и остается естественным условием всей его жизнедеятельности. Поэтому отношения по поводу владения и пользования землей находятся в центре внимания общества с древних времен до наших дней. Хотя земля является продуктом природы и обладает рядом невоспроизводимых особенностей, по мере хозяйственного развития на неё стали распространяться категории и законы внутренне присущие общественным факторам производства – труду и капиталу. При этом нередко она ставится в один ряд с последними и обосновывается тезис, что человек уже не только пользователь вещества и сил природы, а и её творец и созидатель. С другой стороны демонстрируется беспомощность человека в отношениях с природой: ей в вину инкриминируется наличие и рост платы за пользование землей, снижение производительности земледелия и рост цен на хлеб и т.д. В результате экономическая наука до сих пор не имеет однообразного толкования ни причины земельной ренты, ни её источника, ни многих других сторон этой важнейшей проблемы. Современная экономическая учебная литература ограничивается самой общей её характеристикой. Предлагаемое учебно-методическое пособие на основе историкоформационного подхода имеет целью решить следующие задачи: рассмотреть особенности земли как естественного условия производства и определить её место в системе производственных отношений; установить закономерности возникновения и развития земельных отношений и ренты и выяснить их общие черты и особенности на типичных периодах хозяйственной деятельности человека; проанализировать вклад классиков экономической теории в развитие теории земельной ренты свободной рыночной экономики. Издание предназначается для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, а также для всех, кто интересуется историей мировой экономики в части владения и пользования землей. 5 Труд был первым и навсегда останется единственным покупательным средством в наших взаимоотношениях с природой. Т. Годскин 1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕНТА В ДРЕВНИЙ ПЕРИОД И СРЕДНИЕ ВЕКА 1.1. Земля – естественное условие зарождения, существования и развития человека Высшим этапом развития органических форм на Земле и ее составной частью является человек. Он же одновременно является членом и продуктом общества. Благодаря сознанию и трудовой деятельности человек как бы обособляется от природы, вступает в отношения с ней, все в большей степени использует ее силы и вещество. Становление этих отношений началось с того, что уже в период появления человека Земля предоставила ему необходимый минимум готовых средств к выживанию, а также предметы и средства труда, рабочее место и сферу действия для последующего существования и развития. Это нельзя перетолковывать в том смысле, что природа является слугой человека, она всегда была и будет благосклонным господином последнего. С экономической точки зрения под Землей разумеется не только земное пространство, но воды и леса, недра и растительность, атмосфера и климат, т.е. все то, что неразрывно связано c ней и является ее принадлежностью. Природная среда, окружающая человека, бесконечно разнообразна. Но именно это многообразие способствует развитию человека. Благодаря смене тех естественных условий, в которых приходится жить человеку, происходит умножение его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда. Представляется, что очень важную роль в процессе становления современного человека сыграла неустойчивость климата четвертичного периода, вызванная многократными наступлениями и отступлениями ледника. Как свидетельствует история, природа сама по себе не предопре6 деляет ни характера общества, ни экономического уровня его развития в той или иной части земного шара. Природа действует на человека, но и человек воздействует на природу, создает себе новые условия существования. Степень использования человеком потенциальных сил природы определяется, прежде всего, законами общественного развития. Достаточно сравнить Индостан с Италией. По словам К.Маркса, Индостан – это Италия азиатских масштабов. Гималайские горы соответствуют Альпам, равнины Бенгалии – равнинам Ломбардии, Деканский хребет – Апеннинам, а остров Цейлон – острову Сицилия. То же богатство и разнообразие даров земли и та же раздробленность в политическом устройстве. Однако в социальном отношении Индостан представляет собой не Италию, а Ирландию Востока. Значимость человеческой деятельности в освоении природы нельзя преувеличивать, вольно или невольно доводить до утверждения, что общество становится множителем сил природы. Этот фетишизм превращает человека из продукта природы в ее творца и тем самым искажает объективные основы экономической науки. Роль человека в его отношениях с природой состоит лишь во все более глубоком и всестороннем познании внутренне присущих ей законов движения и развития и на этой основе – все более широком использовании бесконечно разнообразного арсенала ее сил и вещества. Процесс труда – это процесс создания потребительных стоимостей внутри и посредством природы. Этот процесс не может быть одновременно и процессом умножения последней, так как существует естественный закон сохранения и превращения массы и энергии. Теория и практика широко пользуется понятиями "искусственное давление", "обогревание", "плодородие" и т.д. Часто эти явления трактуются и понимаются буквально, противопоставляются естественным. Конечно, деятельность человека по отношению к природе в определенном смысле искусственна и все ее результаты – суть искусственные продукты. Но высокое давление и температура, например в термобарокамере, отнюдь не изобретение человека, их часто можно встретить в естественных условиях. Используя законы природы, человек лишь сконцентрировал эти силы в нужном для себя пространстве и времени. В этом и состоит суть процесса труда. Точно такое же явление представляет собой и искусственное плодородие. Если его наличие объяснять производственным воздействием человека на землю, то тогда исчезает понятие "естественное 7 плодородие", так как вне процесса труда никакого плодородия не существует. Если же искусственное плодородие связывать только с определенной частью затрат, то исчезает научная основа понятия плодородие, так как с экономической точки зрения и капитальные мелиорации, и текущая обработка земли имеют одно следствие – улучшается водный, воздушный, тепловой и питательный режим для корневой системы растений. Следовательно, плодородие не может по существу быть двойственным: частью естественным, а частью – искусственным. Оно едино. Назвать его искусственным – значит лишить общепринятого смысла процесс труда, возвести его в неземной процесс. Признав же плодородие естественным свойством природы, нужно признать и его искусственную невоспроизводимость. Категория "искусственное плодородие" допустима не в отношениях людей к природе, а лишь в отношениях между самими людьми, да и то в краткосрочном периоде. Теория земельной ренты должна исходить из того, что даже при очевидном вкладе человека в улучшение земли она остается естественной, невоспроизводимой и безвозмездной материальной основой жизни общества, так как вклад этот состоит в более широком использовании даровых безграничных сил природы, а не в искусственном умножении их. Другим важным моментом при выяснении роли земли в развитии общества является трактовка ее пространственной ограниченности. Из этой ограниченности часто прямолинейно выводятся стратегические и политические действия народов, экономические категории и законы. Ограниченностью земли объясняется всё – от межплеменной розни до империалистического разбоя, от подавленности первобытного человека природой до бедности непосредственных производителей сегодня, от возникновения частной монополии на землю до необходимости платы за пользование ею. Первобытному племени достаточно было использовать 1% приходящейся на его долю земной суши, но тем не менее оно физически уничтожало весьма удаленных своих соседей. Захваты чужих земель римлянами сопровождались запустением более лучших собственных садов и полей. Татаро-монгольские завоеватели "нуждались" не в свободной, а в густонаселенной территории. Американский империализм, обладая большими в абсолютном и относительном исчислении природными богатствами, объявляет зоной своих жизненных интересов почти весь остальной земной шар. 8 Нет необходимости доказывать, что все эти исторические явления порождены не пространственной ограниченностью земли, не необходимостью бороться за свое существование, а омерзительной жаждой поживиться даже за счет жизни себе подобных. Физическая ограниченность Земли-планеты – научно доказанная объективная реальность, но реальность благоприятная с точки зрения зарождения и существования человека. Именно сравнительно небольшие физические размеры Земли обусловили создание условий, которые дали не только начало органической жизни, но и породили высшую форму материи – человеческий разум. Будь Земля несколько массивней, ей не удалось бы избавиться от водорода и метана и обогатиться более тяжелыми элементами, необходимыми для развития жизни. Если бы она была меньших размеров, то не смогла бы удержать на себе водную оболочку. Ограниченные размеры планеты являются оптимальными и с точки зрения последующего существования и развития человека. На протяжении всей своей истории общество не ощущало ограниченности Земли для производственной деятельности. В пятом тысячелетии до н.э. на каждого жителя земли приходилось свыше 1 тысячи гектаров суши, на рубеже смены летоисчислений – около 100, в X в. – 50, в конце XIXв. – 10, а в настоящее время – менее 3-х, в том числе в Европе примерно 1,5 га, а в Африке – в 5 раз больше. Можно ли утверждать, что современные жители старого света испытывают острую нехватку жизненного пространства? Нет, нельзя. Во Франции при средней площади суши на душу менее 1 га по данным ООН не используется 5,5 млн. гектаров вполне пригодных для обработки земель, а фермеры не находят рынков сбыта для многих своих продуктов. Нидерланды, Бельгия, Германия и ряд других стран Европейского континента, имея 0,3–0,5 га на одного жителя, развиваются экономически так же успешно, как и США, где этот показатель на порядок выше. Арсенал сил и предметов природы в различных частях земного шара различен, но нельзя назвать ни одной страны мира, чтобы преградой на пути ее развития стала пространственная ограниченность земли, как сферы применения капитала. К началу текущего тысячелетия в мире использовалось только 20,9% теоретического максимума зернового производства, в том числе в Европе – 41,0%, Северной Америке – 37,2, Азии – 21,2, Австралии – 16,3, Южной Америке – 11,7, Африке – только 8,4%. Таким образом, при выяснении сущности земельных отношений 9 экономическая наука должна исходить не из пространственной ограниченности земли, а из её безграничности природных сил. Не от природы, а от человека зависит, в какой мере эти потенциальные естественные силы будут использованы. В этом и состоит суть отношений человека с природой. Но процесс труда в каждый данный момент ограничен самим человеком, а следовательно, и степень использования безграничных сил природы – величина конечная. Поэтому можно и нужно говорить об "ограниченности" использования человеком безграничных производительных сил Земли в каждый данный момент. Очень важным является правильный подход к освещению роли земли в различных отраслях производства. Поскольку производство продуктов питания является самым первым условием жизни непосредственных производителей и всякого производства вообще, наиболее древней формой деятельности человека является сельское хозяйство. Роль земли в этой отрасли была настолько осязательна, что физиократы объявили земледельческий труд единственно производительным. Виднейший представитель классической политической экономии Д.Рикардо, критикуя положение А.Смита, что "в мануфактуре природа не делает ничего", правильно заметил: "Нельзя назвать ни одной отрасли промышленности, в которой природа не оказывала бы помощи человеку, и притом помощи щедрой и даровой" [13, с.36,37]. В широком смысле земля является всеобщим предметом и всеобщим средством труда. При более узком понимании процесса взаимоотношений человека с природой она в одних случаях служит только предметом труда, в других – только средством труда, а в сельском хозяйстве – и тем и другим одновременно. В результате создается впечатление, что только в сельском хозяйстве земля в полной мере помогает человеку, а в других отраслях ее роль второстепенна. Сказать, что транспорт не использует почвенного плодородия – это еще ничего не сказать. Но пытаться объяснить роль земли в одной отрасли её ролью в другой – значит сделать невозможное. Каждая отрасль использует ''свое плодородие": для сельского хозяйства – это физические, химические и другие свойства верхнего слоя земли, а для строительства – это совершенно другие её слои и характеристики. Земля представляет собой не конгломерат различных по производственному назначению участков, а бесконечно многообразное единое целое, почти везде пригодное для 10 функционирования очень многих, если не сказать больше, отраслей производства. И не от природы, а от характера отрасли зависит, какое плодородие земли будет непосредственно использовано. В различных отраслях оно не только различно, но и не сопоставимо. Поэтому нельзя полагать, что будто земля более благосклонна к сельскому хозяйству, чем, например, к транспорту. О дифференцированности естественных условий производства можно говорить лишь применительно к одной отрасли, да и то, если речь идет о сельском хозяйстве, по отношению к идентичным культурам и при равной интенсивности возделывания. Для теории земельной ренты важное значение имеет категория "качество" земли. Само по себе понятие "качество" многолико: его можно рассматривать в философском, экономическом и других аспектах. Экономическая сторона качества характеризует степень удовлетворения данной вещью данной потребности человека. Применительно к земле, как к первичному условию всякой человеческой деятельности, более высокое качество естественного ресурса означает при прочих равных условиях и более высокий уровень эффективности базирующегося на нем производства. Две особенности земли – многообразие и объемность – обусловливают и два основания для дифференциации качества земли как условия производства: плодородие и местоположение земельных участков. Можно утверждать, что термин "плодородие" не совсем подходит для отраслей промышленности или строительства, но нельзя доказать, что только местоположение земельных участков оказывает влияние на эффективность производства в этих отраслях. Если "плодородие" понимать не буквально, а как дифференцированное соучастие земли в каждом производственном процессе, то недоразумения исчезнут сами собой. Плодородие и местоположение существуют в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Каждое из них может способствовать повышению или понижению степени другого, но не может заменить, ни тем более отменить его, так как нет одного без другого и наоборот. С количественной стороны плодородие и местоположение характеризуются однообразно: сопоставлением затрат с их результатом. Однако в первом случае качество тем выше, чем больше результат на единицу затрат, а во втором – чем ниже затраты на единицу результата. Кажущаяся искусственность этого противопоставления ошибочна, так как последствия роста качества земли за счет указанных факторов различны: рост плодородия 11 означает и рост результата, а улучшение местоположения такого следствия непосредственно не происходит. Все это свидетельствует о важности различения двойственности качества земли как с теоретической, так и с практической точек зрения. Иерархия качества земли должна быть установлена в очень узких пределах. Естественным или общественным свойством является качество земли? Хотя естественное многообразие земли отрицать невозможно, разнокачественной она становится только в процессе человеческой деятельности. Пока землей не пользуются в качестве условия производства, она однолика, т.е. нет оснований говорить о её качестве. Общеизвестно, что земля может быть очень плодородной для обработки под хлеб, но экономические причины могут побудить землевладельца превратить ее в пастбища и сделать таким образом менее плодородной, как это было в Англии в период первоначального накопления капитала. Двусторонний подход к качеству правомерен, поскольку процесс производства представляет собой взаимодействие сил человека и сил природы. Активная роль в этом взаимодействии принадлежит первому. Когда говорится о качестве как естественном свойстве земли, то речь идет лишь о той части потенциальных сил природы, которая утилизируется человеком в данный момент. Две стороны качества земли нередко трактуются как две его обособленнее составные части. Особенно наглядно это прослеживается на противопоставлении искусственного плодородия естественному: "От природы земля обладает естественным плодородием, а под воздействием производственной деятельности человека формируется искусственное плодородие" [5, с.57,58]. Выходит, что естественное плодородие возникает до хозяйственной деятельности человека, а искусственное формируется без участия природы, т.е. что многовековая и архисложная деятельность природы на торфяных болотах создала лишь мизерное естественное плодородие, а человек путем примитивного отвода избытка воды сформировал здесь очень высокое искусственное плодородие мгоновенно. Если эту ошибку довести до логического конца, то неизбежно придешь к заключению, что все современное плодородие – результат искусственный, а сама земля – продукт труда. О плодородии нужно говорить без всякого предиката, так как оно всегда одновременно и естественное и искусственное: нет плодородия без труда, но нет его и вне природных условий. Сказанным не отрицается возможность существования в 12 экономической теории и практике категории "искусственное плодородие", но её наличие обусловлено не тем, что человек проводит коренные мелиорации и повышает культуру земледелия, а тем, что общественный прогресс осуществляется неравномерно в пространстве и времени, т.е. тем, что передовые землепользователи, опережая общественно нормальный уровень использования земли, "повышают" плодородие. Однако прирост этот по существу своему ничем не отличается от основы, над которой он приподнялся и кратковременно обособился. Как только нормальный (средний) уровень использования земли поднимется на новую, более высокую ступень, указанный выше прирост плодородия потеряет всякие признаки искусственности, исчезнет из экономических отношений между самими людьми и по праву станет считаться произведением природы, т.е. просто плодородием. Но поскольку общественный прогресс непрерывен, то неизбежно возникнет новый искусственный прирост плодородия и динамика плодородия повторится. Процесс этот бесконечный и только в этой динамике возможно существование понятия "искусственное плодородие". 1.2. Земельные отношения и рента в первобытном обществе Первобытнообщинный строй охватывает период от выделения человека из мира животных до возникновения классов. В период полной зрелости основной формой социальной организации первобытного общества была родовая община. Коллектив этот состоял из кровных родственников и гордился общим происхождением. Род представлял собой учреждение, общее для всех народов, вплоть до их вступления в эпоху цивилизации. Хозяйство в первобытной общине велось сообща и на коммунистических началах. Трудовая деятельность всех членов рода основывалась на простой кооперации. Этот первобытный тип коллективного производства был, разумеется, результатом слабости отдельной личности. Даже по достижении полного расцвета родовой строй имел низкий уровень развития производительных сил и редкое население. Прибавочный продукт здесь был незначительным по величине и обусловлен временными удачами общины в той или иной хозяйственной деятельности, а потому распределение могло быть только уравнительным. Наряду с присваивающими видами хозяйства родовая община 13 постепенно развивала и воспроизводящие. Сказанное относится только к добыче предметов потребления. По отношению же к орудиям труда хозяйство с самого начала было производящим. Кроме места действительного поселения, в пользовании общины находилась более или менее значительная территория для собирательства, охоты, рыболовства, организации скотоводства и земледелия. В этих условиях земельные отношения внутри рода были достаточно просты и прозрачны. Поскольку ни один из индивидов общины не мог обособиться от коллектива, присвоение земли в процессе производства осуществлялось только сообща и на равных основаниях, т.е. отношения по вертикали отсутствовали, а по горизонтали были безрентными. Род в целом был ассоциированным землевладельцем и землепользователем. Института собственности на землю не существовало, не было и земельной ренты. По отношению к своим смежникам родовая община осуществляла монополию на землю как объект хозяйства и тем самым вступала с ними в земельные отношения по горизонтали. Однако эта монополия существовала формально, фактически она не реализовывалась в качестве ренты вследствие отсутствия экономических взаимосвязей между соседними общинами. Многовековая история свидетельствует, что межплеменные войны велись не за захват чужой, лучшей территории. Победитель уничтожал как побежденного, так и его часто более высокую культуру на Земле. С развитием производительных сил родовые общины стали развивать экономическую взаимосвязь в форме обмена продуктами собственного производства. В отношения вступали равноправные участники, поэтому оснований для возникновения земельных отношений по вертикали не было. Отношения же по горизонтали из формальных превращались в реальные, однако и в этих новых условиях монополия землепользования не могла реализоваться в форме дифференциальной ренты. Неразвитость обмена на этой ступени развития означала, что стоимость продуктов проявлялась в единичной форме. Поэтому выигрыш собственников различных потребительных стоимостей в этом акте обмена был обоюдным. Нельзя сказать, что земледельческие племена пользовались лучшими землями по сравнению со скотоводческими и что они присваивали дифференциальную ренту. Дальнейшее развитие производительных сил и производственных отношений первобытной эпохи показало, что в основе превращения 14 земельных отношений в рентные лежало развитие не экономических связей в форме обмена между племенами, а политического союза между ними. Вместо того, чтобы быть контрагентами в актах обмена, родоплеменная знать вступала в союз с тем, чтобы сообща грабить своих соплеменников. К этому были и объективные причины. Отношения обмена между племенами утрачивали свое значение, потому что исчезала сама родовая община. В результате ее разложения возникли более мелкие обособленные производственные ячейки – семейные общины, которые и стали осуществлять монополию землепользования, но благодаря общинному землевладению для каждой семьи создавались примерно равные естественные условия производства и, следовательно, земельные отношения по горизонтали оставались безрентными [7,с.420]. Правда, существовала абстрактная возможность присвоения отдельными землепользователями дифференциальной ренты как следствия неравномерной интенсификации производства. Но о практической реализации такой возможности в тот период по известным причинам говорить не приходится. Наряду с чересполосным способом выравнивания условий землепользования истории известны и другие приемы решения этой проблемы. Так, в некоторых общинах Индии практиковалось уравнивание естественных условий производства не в пространстве, а во времени (периодический обмен земельными участками между отдельными деревнями и их ответвлениями). В одних районах обменивались лишь пахотные земли, а в других – даже дома. Из этого исторического факта нельзя делать формальный вывод, что землепользователи попеременно присваивали дифференциальную ренту. Во-первых, в среднем за определенный период времени дифференциальных различий в доходах землепользователей не существовало. Во-вторых, в силу первобытнообщинных традиций ни одна семья не обходилась без систематического дележа продуктами своего труда с соседями в форме подарков, общественных угощений и т.п. Таким образом, достоянием всей соседской общины становился дифференциальный продукт, полученный в результате использования не только лучших естественных, но и общественных условий. Постепенное разложение общинного землевладения и усиление обособленности соседских общинников позволяли родоплеменной знати все более возвышаться, противопоставляться и обогащаться за счет рядовых соплеменников. Освободившись от «оков» общинного 15 землевладения, частный владелец и пользователь тут же оказался в «тисках» общественного регулирования, цель которого состояла в том, чтобы на основе сохранения равного отношения к земле ее непосредственных пользователей внедрить и узаконить неравное отношение к ней последних с одной стороны и управленцев – с другой. По существу это означало возникновение новой, вертикальной плоскости земельных отношений. По мере того, как родовая община утрачивала статус социальной единицы, а соседская община становилась составной частью более широкого сообщества – государства, аристократия всех родов и племен превращалась в крупного частного собственника земли. Возникли соответствующий институт земельной собственности и соответствующая ему земельная рента. Для одних использование земли стало платным, для других присвоение титула земельного собственника – доходным. 1.3. Рентность земельных отношений в рабовладельческих государствах Просуществовав десятки тысяч лет, первобытная формация уступила место классовому обществу. Развитие общественного разделения труда и возникновение обмена, обособление патриархальных семей и развитие неравенства, возвышение родоплеменной знати и превращение общественного самоуправления в государство – все это взаимосвязанные явления многовековой истории перехода от первобытнообщинного к новому общественному строю. Для многих народов Земного шара первой классовой социальноэкономической формацией был строй рабовладения, который зародился в Месопотамии и Древнем Египте в IV тысячелетии до н.э. и просуществовал до конца V века н.э. в Римской империи. Материальной основой жизни этого общества продолжало оставаться сельскохозяйственное производство. Роль земли в этой отрасли неуклонно возрастала, а отношения по поводу ее владения и пользования приобретали все более первостепенное значение. Присвоение природных условий всегда предшествовало труду и было опосредовано мирным или немирным захватом территории первобытной общиной, которая сообща захватила, сообща охраняла и сообща владела и использовала её длительное время. По мере развития производительных сил землепользование постепенно превратилось из общинного в частное, семейное. Развитие общественного разделения труда и экономических связей 16 между общинами привело к образованию более широкой общности людей и дальнейшему обособлению первичной хозяйственной ячейки– патриархальной семьи, которая становится и частным землевладельцем. Первобытная община хотя и продолжает существовать более или менее длительное время, но роль ее становится производной от высшего единого начала – государства: не она уже предопределяет экономическое положение своих, окончательно обособившихся членов. Так, в Древневосточных деспотиях община была той территориальной единицей, через посредство которой государство предоставляло надел земли отдельной семье. В странах классического рабства предпринимались попытки продлить существование общины даже ценою нарушения родовых правил. Чтобы воспрепятствовать при вступлении в брак переходу имущества из одного рода в другой, афинский реформатор Солон постановил, что наследница должна выходить замуж за своего ближайшего агната, хотя до этого браки между представителями одного рода были обычаем запрещены [10,с.327]. Но это не остановило быстрого разложения общины, тем более, что законы Солона допускали переход земли за пределы рода по завещанию. Община уступила свои функции государству. По мере становления рабовладельческого государства коренным образом изменялись земельные отношения. Во-первых, в противоположность первобытной общине государство стремилось к закреплению земли в постоянное пользование, что соответствовало интересам всех частных землевладельцев. Во-вторых, оно не преследовало цели уравнять естественные условия производства для соседских общинников, что отвечало только интересам родоплеменной знати. В-третьих, функции общественной власти оно выполняло не безвозмездно, поэтому частные землепользователи должны были исправно уплачивать государству ренту – налог. Вчетвертых, и это главное, государство само было крупным собственником земли. Но это была собственность не свободных граждан общества, но и не одного верховного лица. Государство – результат разложения родового строя, поэтому бывший старейшина, вождь племени единолично становятся верховным государем и выступают как восточный деспот, как греческий родовой вождь или как кельтский глава клана. Однако государственная власть не могла олицетворяться в одной персоне. Вся остальная родоплеменная знать занимает подобающее ей место в новом общественном учреждении. 17 Поэтому царь, фараон, сатрап четко отличают родоплеменную аристократию от массы соседских общинников. Отношения государства по поводу земли с первой заключаются в безвозмездном жаловании каждому знатному лицу титула собственника на соответствующий земельный участок. В результате земельная собственность в рабовладельческом обществе становится двоякой: коллективной собственностью господствующего класса в лице государя и частной собственностью индивидуально каждого представителя этого класса. С общинниками государство вступает в земельные отношения по другому принципу: вам – мелкое частное землевладение и землепользование, т.е. то, к чему вы давно стремились; мне – титул верховного собственника земли и, естественно, земельная рента. Сущность этих отношений не зависила от того, получал ли крестьянин землю во временное или наследственное пользование, мог ли он ее продавать или нет. История свидетельствует, что чем свободнее владение землей, тем быстрее лишается ее крестьянин. Получив от общины право осуществлять монополию на землю как объект хозяйства, мелкий земледелец затем ценою ее дальнейшего разложения стал и индивидуальным владельцем земли. Но именно этот его успех породил земельные отношения по вертикали, крупную частную собственность на землю небольшой части общества. Отдельные лица более всего стремились именно к тому, чтобы освободить парцеллу от прав на нее со стороны родовой общины, прав, которые стали для них оковами. От этих оков они избавились, но вскоре после того избавились также и от своего кратковременного земелевладения. Земельные отношения рабовладельческого общества в исходном пункте были таковыми, что естественный ход их развития неизбежно представлял собою двуединый процесс: все большая концентрация земли в собственность немногих с одной стороны, а с другой – все большее лишение крестьян свободно владеть и пользоваться ею. Неравенство земли у родоплеменной знати и рядовых семей сложилось уже на первой ступени разложения общинного землепользования. Надписи Маништусу свидетельствуют, что за тысячелетия до н.э. в Месопотамии землевладения богатых измерялись сотнями гектаров. Обрабатывались такие большие площади рабами или крестьянами, что соответствовало обычаю родового строя, когда старейшины и вожди освобождались от обязанностей заниматься добычей и 18 производством продуктов и жили за счет общины. Поэтому нетрудно понять, почему рабовладельческое государство прямо и косвенно способствовало концентрации земельной собственности в руках немногих и лишению земли крестьян, почему все формы земельной ренты – налога, трудовые и воинские повинности очень быстро потеряли всякие разумные пределы, служили интересам только крупных собственников земли, неуклонно ускоряя гибель этого строя. Так, например, в Древнем Египте государственный налог-рента был настолько обременительным, что по всей стране стояли высокие царские амбары, доверху наполненные зерном и другими продуктами. А между тем многие крестьяне за невозможность уплатить налог насильно лишались земли и превращались в рабов вместе с детьми, процесс обезземеливания крестьян в значительной мере ускоряли трудовые повинности по строительству зиккуратов, дворцов и гробниц для фараонов. Сотни тысяч мелких землевладельцев погибли и разорились из тех многих миллионов, которые в течение тридцати лет по три месяца в году работали на строительстве пирамиды Хеопса. Даже общественные работы по развитию орошаемого земледелия оборачивались против них самих. Во-первых, значительная часть этих земель становилась частной собственностью номов и царя. Во-вторых, прирост урожая узурпировалось государством в форме налога-ренты. В сущности своей аналогичными были земельные отношения и в странах классического рабства. В Древней Греции уже в период разложения родовой общины (ХI–IХ вв.до н.э.) была крупная земельная собственность, ее описание приводится в поэмах Гомера "Илиада" и "Одиссея". По словам Аристотеля, к концу VII в. до н.э. в Афинах земля вся находилась в руках немногих и если бедные не платили исправно аренды, то попадали в кабалу вместе со своими детьми. В 594г. до н.э. правитель Афин Солон вынужден был провести реформу, согласно которой максимальные размеры земельной собственности были ограничены (не более 500 га), крестьянам возвращены их бывшие маленькие наделы и свобода, а задолженность ростовщикам признана недействительной. Но это не остановило процесса концентрации собственности на землю. Уже в середине следующего столетия обезземелившиеся крестьяне в Афинах в 1,5 раза превышали численность свободных граждан. Сотни тысяч такого же люмпенпролетариата заполняли улицы и площади рабовладельческого Рима. Непосредственной причиной этого явления была неуклонно растущая земельная собственность господствующего класса. Земельная рента 19 выступала здесь не в форме государственного налога или общественных работ, а в форме воинской повинности. Непрерывные войны за расширение территории отвечали интересам только крупных собственников земли. Крестьяне же не только не расширяли свои наделы, но и не имели возможности нормально обрабатывать их, а потому почти поголовно лишались земли, хотя и сохраняли личную свободу. Таким образом, история всецело утверждает, что земельные отношения в рабовладельческом обществе – это отношения диктата и подчинения. Господствующий класс в целом и порознь – крупный частный собственник земли, а крестьянин – бесправный мелкий землевладелец и землепользователь. Может показаться, что различия естественных условий производства приводили к присвоению последними дифференциального продукта и тем самым превращению их из владельцев в собственников земли. Однако судьба этого избытка всецело была предопределена существованием земельных отношений по вертикали. Он являлся органической частью единой и неделимой рабовладельческой земельной ренты. Никакого избыточного продукта на лучших землях крестьяне присваивать не могли. У них изымался даже дифференциальный продукт, полученный благодаря так называемому искусственному плодородию. Сказанное не означает, что рабовладельческая рента была дифференциальной. В противном случае пришлось бы утверждать, что худшие земли в этом обществе находились в бесплатном владении и пользовании. Что это не так, известно достоверно. В законах вавилонского царя Хаммурапи (1792– 1750 гг.до н.э.) указывается, что за пользование землей богатых крестьянин уплачивал твердо установленное количество продукта. В зависимости от качества земли эта плата составляла от двух до четырех шестых урожая. В Китае хорошо известно обобщение мыслителя периода династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) Дун Чжун-шу: "Когда обрабатывают поля богатых, взимается оброк 5 из 10". Аристотель в своих сочинениях упоминает о крестьянах шестидольниках, т.е. о том, что земельная рента в древней Греции достигала пяти шестых урожая. Приведенные и многие другие исторические факты свидетельствуют о том, что при рабовладельческом строе рента существовала на всех земельных участках, величина ее регулировалась долей в урожае. Наряду с этим нормальным родом земельной ренты рабовладение породило также монопольную ренту. Ее возникновение связано 20 непосредственно с наличием весьма высоких доходов у богатой аристократии, которая использовала их на прихоти праздной жизни. По свидетельству Варрона и Колумеллы, в последние годы республики и при императорах в пригородах Рима устраивались искусственные парки для оленей, зайцев, кабанов, выдр, а также пруды для различного рода редких рыб. Эти земли приносили очень высокие доходы своим собственникам в результате сдачи их в пользование высшей знати. Современник того периода Плиний сообщает, что Азиний Целер купил рыбу-краснобородку за 8 тыс. сестерций, т.е. уплатил цену, равную примерно 20 тоннам пшеницы. Ясно, что здесь идет речь о монопольно высоких ценах и, следовательно, о монопольной земельной ренте, уплачиаемой из кармана богатого покупателя. Как видно из вышеизложенного, рабовладельческая земельная рента присваивалась во всех трех формах, в которых может проявляться прибавочный труд. Однако последний присваивался, прежде всего, непосредственно в рабочем времени. В этой форме отчуждались труд рабов и значительная часть труда крестьян, которые наряду с трудовыми и воинскими повинностями уплачивали земельную ренту натурой: хлебом, скотом, птицей, плодами и т.п. Монопольная же рента присваивалась, в основном, в денежной форме. Такова сущность земельных отношений при рабовладельческом строе. Они послужили основой для становления и развития феодальной земельной ренты. 1.4. Земельная рента в феодальной системе хозяйствования В противоположность рабовладельческому строю феодализм был всемирной социально-экономической системой. Многие народы перешли к этой ступени своего развития непосредственно от первобытнообщинного способа производства, после перехода к соседской общине, другие же – через более-менее развитое рабовладение. В первом случае свободный владелец общинной земли постепенно превращался в землепользователя, зависимого от крупного частного собственника земли, во втором наоборот – безземельный и бесправный раб становился частным пользователем земли своего господина, оставаясь при этом в экономической и некоторой личной зависимости от последнего. Конечный результат в обоих случаях был один и тот же: крупная частная земельная собственность феодалов с одной стороны, мелкое частное землепользование крестьян, 21 экономически и лично зависимых от феодала, – с другой. При всем многообразии земельные отношения при феодализме сводились к тому, что собственник земли соглашался быть покровителем интересов своих землепользователей, которые взамен обязывались отплачивать трудом, продуктами и деньгами. В условиях политической раздробленности, когда у одних народов централизованная власть еще не сложилась, а у других господство императоров уже изжило себя, каждый отдельный феодал не мог рассчитывать на успех вне связи с себе подобными и в конечном счете с государством. Иерархическая структура земельных отношений и связанная с ней система вооруженных дружин давали дворянству неограниченную власть над крестьянами. Этот строй был acсоциацией, направленной против производящего класса. Это означало, что земельная собственность при феодализме, как и при рабовладении, была двойственной: частной собственностью господствующего класса в целом и каждого феодала в отдельности. Как земельный собственник, последний обладал значительной самостоятельностью в отношениях с крепостными: кроме присвоения ренты, государь передавал ему право организации военного ополчения, судейской власти и другие функции. Поэтому ошибочно утверждение, что феодальная "земельная собственность вообще отсутствовала, а существовала лишь иерархическая форма землевладения"[4,с.422]. Если бы это было так, то нельзя объяснить, на каком основании феодалы присваивали выкупные платежи крепостных за землю при освобождении. В основе земельных отношений при феодализме лежали отношения между крупным частным земельным собственником (которым был и сам государь, и храм) и мелкими частными землепользователями – крепостными. Экономической формой реализации этих отношений была земельная рента, которая выступала в трех формах: отработочной, продуктовой и денежной. Для превращения феодальной ренты в капиталистическую необязательно, чтобы она достигла денежной формы, но совершенно необходимо появление третьего участника земельных отношений – капиталиста-арендатора. В России этот переход происходил не столько от денежной и продуктовой, сколько от отработочной ренты, так как вплоть до отмены крепостного права здесь торжествовала барщина. По десятой ревизии 1859 г. в России насчитывалось 23 млн. крепостных, которыми владели 104 тыс. помещиков: 70% крестьян состояли на барщине и 30% платили оброк. В Казанской, Полтавской, 22 Екатеринославской губерниях барщинные крестьяне составляли 80– 90%[2,с.46]. Сказанным подтверждается положение, что натуральному хозяйству внутренне присущи отработочная и продуктовая рента, а товарному – денежная. В этой связи можно напомнить, что преждевременные попытки римских императоров превратить натуральную ренту в денежную были безуспешными и что продуктовая рента в Англии в 1836–1860гг. была насильственно заменена денежной. Господство натурального хозяйства и слабые экономические связи поместий с окружающим миром означали, что феодализму внутренне присуща только рента нормального рода. Монопольная рента в этих условиях была невозможна. Если абстрагироваться от церковной десятины, то величина феодальной земельной ренты предопределялась уровнем абсолютного плодородия почвы. Местоположение участков еще не оказывало существенного влияния на качество земли. Количественно она представляла собою определенную долю в продукте, произведенном на данном участке. В эпоху средневековья эта доля колебалась в пределах от 1/4 до 5/6 урожая. В России в ХV–ХVI вв. на новгородско-псковских землях рента зерном составляла 1/4– 1/3 урожая, а в ХVIII в. её доля повысилась до половины урожая. Для раскрытия закона феодальной ренты недостаточно сказать, что она находилась в прямой зависимости от плодородия и поглощала весь прибавочный продукт, так как кратность степеней плодородия различных участков не совпадает с кратностью прибавочных продуктов, произведенных на них. Изъятие ренты по недифференцированной доле означало, что одни крестьяне лишаются даже части необходимого продукта, другие же не выплачивают полностью прибавочный продукт (табл. 1). Т а б л и ц а 1. Дифференциация землепользователей в результате изъятия земельной ренты по единой норме (пример условный). Хозяйства 1-е Земл и Худ шие Урожа йность, ц/га 4 Площа Валово дь, й га продук т, ц Необх Прибаодимы вочный й продук продук т, т, ц ц 12 40 48 23 8 Рента доля в урожае ц 16 1/3 2-е 3-е Всег о… Сред ние Луч шие 5 12 60 40 20 20 1/3 6 12 72 40 32 24 1/3 36 180 120 60 60 1/3 Как видно из табл.1, пользователи худшей земли не могут осуществлять даже простое воспроизводство, так как 20% необходимого продукта у них отчуждается в форме ренты. В то же время владельцы лучших земель удерживают не только весь необходимый продукт, но и 25% прибавочного. Теоретически устранить эту несправедливость легко: снизить долю ренты для первых до 1/6, а для вторых повысить ее до 4/9 валового продукта. При таком подходе общая сумма земельной ренты останется прежней, каждый землепользователь в качестве ренты будет отчуждать только весь прибавочный продукт, т.е. все будут поставлены в равные экономические условия по отношению к земле. Нельзя сказать, что практике не был известен принцип дифференциации норм земельной ренты в зависимости от качества земли. Уже во времена царствования Хаммурапи в Вавилонии плата за арендованное поле равнялась обычно одной трети урожая. Сад давал больше дохода, поэтому сдавался за две трети урожая. Китайский экономист Чэнь-Бо-да сообщает, что в уезде Цань-у "провинции Гуань-си рента с орошаемых полей составляла 45,4% урожая, с неорошаемых – 33,6%, с покрытых лесом холмов – 24,3%, с заболоченных земель – 22,3% урожая" [16,с.49]. Но справедливая дифференциация норм земельной ренты в соответствии с качеством земли не получила широкого распространения из-за трудностей их надлежащего обоснования. Решение проблемы было направлено по более очевидному пути (чересполосное землепользование). Если бы в нашем условном примере все три хозяйства использовали по 4 га худших, средних и лучших земель, то их экономическое равенство обеспечивалось бы автоматически. Этот идеальный вариант на практике выявил ряд существенных недостатков: систематические переделы, много- и мелкополосица, разобщенность полей, неурядицы с границами, проездами и т.д. Чтобы частично избежать этих недостатков, крестьяне соглашались использовать не все качественно различные разряды земель, с условием пересчета площадей худших и лучших земель в 24 разряд средних по соответствующим коэффициентам и с переходом к условной единице поземельного обложения. Такой единицей, например, в Новгородских землях была соха. Последствия этого пути представлены в табл. 2. Т а б л и ц а 2. Изъятие земельной ренты пропорционально условным единицам обложения Хоз яйст ва Зем ли 1-е Худш ие Средн ие Лучш ие 2-е 3-е Все го Урожай ность, ц/га Площа Условн. дь, единица га обложения Валовой Необход. Прибав. продукт, продукт, ц ц продукт, ц Рента ц 4 15 1 60 40 20 20 норма 1/3 5 12 1 60 40 20 20 1/3 6 10 1 60 40 20 20 1/3 37 3 180 120 60 60 1/3 За математическим равенством данных табл. 2 скрывается экономическое неравенство землепользователей: равенство необходимого продукта и земельной ренты во всех хозяйствах достигнуто неравными затратами труда и средств, так как различны возделываемые площади. Это неравенство лишь ускоряло процесс дифференциации крестьян. В истории феодализма не было редкостью, когда более состоятельные крестьяне в свою очередь держали крепостных. С развитием товарного производства, распространением ипотеки и ростовщичества процесс разложения феодальных земельных отношений неизмеримо ускорился. Непосредственный производитель постепенно отстраняется от прямого участия в отношениях с собственником земли. Последний также полностью освобождается от опеки государства в отношениях по поводу земли. Земельная собственность перестает быть двойственной и становится свободной крупной частной собственностью. Между свободным собственником земли и свободным непосредственным производителем внедряется также свободный посредник – каптиалист-арендатор, законно претендующий на нормальную прибыль. Земельные отношения из натуральных превращаются в товарно-денежные. На рынке появляется богатый монополист–покупатель товаров не первой необходимости. Такова в общих чертах экономическая основа, на которой 25 сложились капиталистические земельные соответствующая им система земельной ренты. отношения и 2. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА В СВОБОДНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ С распространением господства капитала на сельское хозяйство существенно изменились и земельные отношения в этой жизненно важной отрасли материального производства. Важнейшими причинами этих изменений были: личная независимость непосредственного производителя от земельного собственника и внедрение между ними капиталиста-арендатора; возрастание экономической роли сферы обращения в связи с переходом от натурального к товарному хозяйству; увеличение различий в степени использования плодородия почвы в результате коренных мелиораций земли и интенсификации производства; создание условий для перераспределения прибыли между отраслями и сферами общественного производства. В новых условиях бывшая односложная феодальная земельная рента превращается в систему видов и разновидностей, величина которых становится функцией многих переменных: соотношения сил собственников земли и капитала, спроса и предложения, уровня интенсивности производства, дифференциации качества используемых земель; степени богатства покупателей роскошных товаров и других причин. Адекватной новым условиям становится денежная форма земельной ренты. Проблема земельных отношений в свободном рыночном хозяйстве не могла остаться вне поля зрения экономистов-теоретиков и практиков. Более 300 лет назад классическая политическая экономия положила начало её научному освещению. В течение столетий сущность данной проблемы исследовалась все глубже и глубже. Но вклад виднейших представителей классической политэкономиии в разработку сущности земельной ренты и сегодня освещается не всегда глубоко и правильно. Некоторые их неочевидные положения принимаются за аксиомы, а очевидные ошибки по существу не критикуются. 2.1. Вопросы земельной ренты в работах У. Петти 26 Первая теоретическая разработка капиталистического способа производства принадлежит меркантилистам – современникам процветания купеческого и ростовщического капитала. Но они рассматривали лишь прибыль от отчуждения "в сношениях одной нации с другими нациями." Начало же исследования земельной ренты в свободной рыночной экономике связано с классической школой политической экономии, основателем которой является английский экономист Уильям Петти. Цельной системы взглядов на эту проблему у него не было. Он делал первые шаги в этом направлении. Но его разрозненные высказывания по этому поводу все же образуют некоторое связное целое, которое оказало важное влияние на разработку проблемы последующими экономистами. В своих работах Петти опирался на факты современной ему действительности. "Вместо того, чтобы употреблять слова только в сравнительной и превосходной степени и прибегать к умозрительным аргументам, – подчеркивал он, – я вступил на путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и мер"[12,с.156]. При характеристике земельных отношений он не принимал в расчет капиталиста-арендатора. Раскрывая таинственную природу ренты с земель, он писал:"Допустим, что кто-нибудь может собственными руками возделать, окопать, вспахать, взборонить, засеять, сжать определенную поверхность земли, и, как этого требует земледелие, свезти, вымолотить, вывеять хлеб, на ней выросший. Если он из жатвы вычтет зерно, употребленное им для обсеменения, а равно и все то, что он потребил и отдал другим в обмен на платье и для удовлетворения своих естественных и других потребностей, то остаток хлеба составляет естественную и истинную земельную ренту." Как видим, определение ренты в общем виде дано правильно – избыток продукта над издержками производства. Допущенное здесь Петти отождествление ренты с прибавочным продуктом не имело принципиального значения для дальнейшего исследования проблемы. На свой вопрос: "Какому количеству английских денег может равняться по своей стоимости этот хлеб или эта рента?"– Петти отвечал: "Серебро одного должно быть равно по своей стоимости хлебу другого"[12,c.34]. Тем самым было правильно подчеркнуто, что источником ренты является труд непосредственного производителя. Но эти два положения были началом научного осмысления общественной практики. Пoэтому, касаясь других сторон проблемы, он вступал в противоречия с самим собой. Так, переходя на "язык 27 чисел, весов и мер", он пишет: "Предположим, что пшеница продается по 5 шиллингов, или 60 пенсов, за бушель, если рента с земли, на которой растет эта пшеница, составляет каждый третий сноп, то из 60 пенсов 20 приходится на землю и 40 на земледельца"[12,c.172]. Правильно определив земельную ренту как «остаток» (разность), Петти ставит на его место долю (частное) в урожае и возвращается к закону феодальной земельной ренты. Он не видит, что этот шаг в прошлое противоречит основному принципу приложения капитала: равная прибыль на равный капитал. Хотя двойственности капиталистической земельной ренты Петти не знал, но по ходу выяснения других вопросов политической экономии он сделал важные дополнения в ее исследование. Так, в главе "О проценте" в "отступлении относительно размеров ренты" указывается: "Сильный спрос на хлеб повышает его цену, а потому и ренту с земли, на которой растет хлеб. Если хлеб, которым питается Лондон, должен быть подвозим из мест, отстоящих на 40 миль, то хлеб, растущий на расстоянии только одной мили от Лондона, принесет столько сверх своей естественной цены, сколько и составляют издержки перевозки на 39 миль" [12,c.38]. Правильно подмечено, что в рыночной экономике местоположение земельного участка является рентообразующим фактором и что величина этой ренты равна разности издержек транспортировки хлеба с худших и лучших земель. Следовало добавить: "в расчете на единицу хлеба", так как указанная экономия обратно пропорциональна расстоянию и прямо пропорциональна абсолютному плодородию (урожаю). Но главная ошибка у Петти в другом: источником ренты по местоположению является не избыток сверх "естественной цены" хлеба, а вычет из неё. Собственно монопольной цены на продукты первой необходимости не бывает, а потому и рента по местоположению – это не монопольная рента, а разновидность нормальной дифференциальной земельной ренты. Рассматривая факторы роста земельной ренты, Петти приходит к открытию ренты интенсификации,т.е. так называемой дифференциальной ренты II." Если бы можно было, – подчеркивал он, – сделать названные графства более плодородными путем приложения большего, чем прежде, количества труда, то земельная рента возросла бы тем больше, чем больше увеличившийся доход превзошел бы увеличенный труд" [12,c.41]. Прибыль от интенсификации определена правильно – остаток, 28 разность между дополнительными доходами и расходами. О том, что она носит преходящий характер и что её нужно исследовать в краткосрочном и долгосрочном периоде, Петти не знал. Он даже посчитал излишним выразить свое мнение на языке чисел, мер и весов и вопреки арифметике перетолковал разность в частное и увеличил свою средневековую долевую ренту на несколько снопов. Петти рационально подошел к определению цены земли, которая для него – товар, не являющийся продуктом труда, а потому её цена должна измеряться приносимым доходом. После того, как найдена рента за год, – указывал он, – возникает вопрос, какой сумме годичных рент равноценна свободная земля? И отвечал: "Я думаю, что это такое их число, которое могут одновременно прожить дед – пятидесяти лет, отец – двадцати восьми лет и сын – семи лет " [12,с.35 - 36]. Нужное число лет Петти взял из практики и подвел под него «научную» базу. Затем на основе цены земли он вычислил банковский процент, т.е. поступил с точностью, да наоборот. Тем не менее, можно утверждать, что ценой земли Петти считал капитализированную земельную ренту. Вклад Петти в создание теории капиталистической земельной ренты оценивается противоречиво: от утверждения, что "Петти не может считаться родоначальником теории ренты, так как отождествлял последнюю с прибавочной стоимостью" до вывода, что в работах Петти "мы находим анализ дифференциальной ренты как по плодородию, так и по местоположению, дифференциальную ренту как первую, так и вторую " [11,c.135;1, с.84]. Обе оценки безосновательны: первая – потому что указанное отождествление не имело принципиального значения для дальнейшего исследования проблемы; вторая – потому что для анализа дифференциальной ренты нужно или отрицать ренту на худших землях, или знать абсолютную ренту. На то и другое у Петти нет и намека. Он ведет речь о единой и неделимой земельной ренте и определяет её в феодальном духе как долю в абсолютном урожае каждого данного участка, а не в сравнении с рентой худших участков. Сказанное в точности относится и к ренте интенсификации. Тем не менее вклад У.Петти в разработку теории капиталистической земельной ренты дает основание поставить его в один ряд с последующими классиками политической экономии. Он внес проблему земельной ренты в повестку дня экономической науки, дал её правильное определение, указал на её источник, зависимость от плодородия почв, местоположения участков и интенсивности производства, в правильном направлении шел и в определении цены 29 земли. Прошло более 100 лет, прежде чем продолжилось исследование капиталистической земельной ренты. Физиократов эта проблема фактически не интересовала. Они считали земельную ренту единственной формой прибавочной стоимости, а её источником природу. Единственное, что можно поставить им в заслугу в этой области, так это идею перераспределения прибавочной стоимости между сферами общественного производства, хотя мотивы были вынужденными: прибавочная стоимость создается только в земледелии, а присваивать её должны и промышленники. Первым, кто по существу продолжил попытки У.Петти исследовать земельную ренту в свободной рыночной экономике, был шотландский экономист и философ А. Смит. 2.2. Учение А. Смита о земельной ренте Виднейший представитель классической политической экономии Адам Смит уделил большое внимание исследованию капиталистической земельной ренты. Только специальная глава по этой проблеме занимает восьмую часть его пятитомного экономического сочинения. Являясь исследователем-аналитиком и превосходным знатоком фактической стороны экономики ряда эпох, он попытался всесторонне осветить современную ему систему земельных отношений. Недостаточный уровень развития общих основ экономической теории не позволил Смиту дать научные и до конца последовательные ответы по всем рассматриваемым им аспектам земельной ренты. По мере углубления в сущность последней он испытывал затруднения теоретического порядка и становился на путь догадок и скольжения по поверхности явлений, ошибок и противоречий. Несмотря на это, А.Смит не только глубже и точнее осветил многие вопросы земельной ренты, поставленные У. Петти, но и исследовал новые важные стороны этой проблемы. В противоположность У. Петти А. Смит исходил из участия в земельных отношениях и капиталиста-арендатора. Он четко проводит мысль, что земельная рента – это плата за землю как дар природы: "Землевладелец требует ренту за земли, совершенно не подвергавшиеся улучшению, требует ренту даже за то, что вообще не поддается улучшению посредством человеческих усилий. Она не стоит ни в каком решительно соответствии с тем, что землевладелец 30 затратил на улучшение земли"[15,c.120,121]. Важным моментом в учении Смита является указание на причину земельной ренты: "С тех пор как вся земля в той или иной стране превратилась в частную собственность, землевладельцы хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают требовать ренту даже за естественные плоды земли". Развивая эту мысль в специальной главе, Смит заключает, что "земельная рента, рассматриваемая как плата за пользование землей, естественно, представляет собою монопольную цену в обычном значении слова" [15,c.52,121]. Большое внимание Смит уделил закону ренты. Сначала земельную ренту он определил вполне научно:"Устанавливая условия договора, землевладелец стремится оставить арендатору лишь такую долю продукта, которая достаточна для возмещения капитала, затрачиваемого им на семена, на оплату труда, покупку и содержание скота, а также остального сельскохозяйственного инвентаря, и для получения обычной в данной местности прибыли на вложенный в сельское хозяйство капитал. Всю ту часть продукта или, что то же самое, всю ту часть цены, которая остается сверх этой доли, землевладелец, естественно, стремится удержать для себя в качестве земельной ренты"[15,c.120]. Но как и Петти, он не знал, что в условиях рыночной конкуренции указанная разность распадается на сумму двух слагаемых, каждое из которых регулируется своим законом. Поскольку закон феодальной долевой ренты удовлетворительно объяснял и наличие земельной ренты на всех землях, и более высокую ренту с лучших и средних, Смит без малейших сомнений капиталистическую земельную ренту отождествил с феодальной: "Этот остаток редко бывает меньше четвертой части, а часто превышает третью часть всего продукта"[15,c.268]. Он прямо утверждал, что "в сельском хозяйстве стоимость продукта и ренты пропорциональна их абсолютному плодородию". Хотя Смит и не исследовал дифференциальной ренты по плодородию, он был первым, кто открыл ее закон. Пытаясь понять, почему "стоимость самой бесплодной земли не уменьшается благодаря соседству самой плодородной", а бедные рудники не выдерживают конкуренции со стороны богатых и перестают приносить ренту и даже прибыль, он приходит к противопоставлению законов земельной ренты в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. Понимая, что исходя из долевой ренты нельзя свести к нулю ренту даже на самом бедном руднике, он утверждает: "Рента, которую может 31 давать своему владельцу тот или иной рудник, зависит не от его абсолютного, а , так сказать, от относительного богатства или избытка его добычи сравнительно с другими рудниками такого же рода". Сформулированный таким образом закон дифференциальной ренты применительно к промышленности остался фразой для Смита, поэтому свою ренту по богатству (плодородию) рудников он по шаблону перетолковывает в феодальную и сетует лишь на то, что по сравнению с хлебной рентой доля эта мала и неустойчива: "Рента с имения, в котором ведется сельское хозяйство, обыкновенно достигает, как считают, трети валового продукта… Для угольных копей рента в размере одной пятой валового продукта считается весьма высокой; обычно она достигает одной десятой его"[15,c.141]. Правильно начав с противопоставления законов рент по абсолютному и относительному плодородию, Смит заканчивает утверждением их тождества. По сравнению с Петти дифференциальную ренту по местоположению Смит рассмотрел точнее и глубже: "Пригородная земля дает большую ренту, чем столь же плодородная земля в отдаленной части страны. Хотя обработка той и другой может требовать одинакового количества труда, доставка на рынок продукта с отдаленного участка земли всегда должна обходиться дороже; благодаря этому должен сокращаться тот излишек, из которого получаются как прибыль фермера, так и рента землевладельца"[15,c.122]. Как видим, отдаленные участки повышают ренту с пригородной земли не тем, что повышают естественную цену продукта, как у Петти, а тем, что снижают прибыль, т.е. рента по местоположению не монопольная, а нормальная. Относительно ренты интенсификации Смит заметил, что "распространение улучшения земли и ее обработки ведет непосредственно к повышению ренты", так как "доля землевладельца в продукте необходимо увеличивается вместе с увеличением всего продукта" и имеет место "возрастание действительной цены сырых произведений земли". Как частный случай – это правильно. Но если бы Смит исходил из двух законов капиталистической ренты, то неуклонный её рост был бы доказан из прямо противоположных и более вероятных условий: при неуклонном снижении цен на хлеб, при падении доли землевладельца в продукте, и даже при уменьшении всего продукта. Смит прав, что "при возобновлении арендного договора землевладелец обычно требует такого увеличения ренты, как будто все эти улучшения были произведены за его счет". Однако 32 неверно, что "надбавка" эта представляет собой "предполагаемый процент, или прибыль на капитал, затрачиваемый на улучшение земли"[15,c.120]. Ни количественно, ни качественно она не совпадает ни с прибылью, ни с процентом на капитал, её величина регулируется законами земельной ренты: в зависимости от естественных и общественных условий одни и те же затраты на улучшение земли приносят различную надбавку[3,с.342]. В концепции Смита недостает важного заключительного звена – утверждения, что капитал, затраченный на улучшение земли, через определенное время выпадает из сферы земельных отношений, так называемое искусственное плодородие становится естественным. В раскрытие источника земельной ренты Смит не внес ничего нового по сравнению с Петти. Его исходная позиция вполне правильна: "Труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту и прибыль." Пытаясь объяснить, почему стоимость сельскохозяйственных продуктов выше стоимости продуктов мануфактуры на величину земельной ренты, и зная, что источником последней не может быть ни более производительный труд, ни сфера обращения, Смит не видит другого выхода, как повторить ошибку Петти: "В сельском хозяйстве природа также работает вместе с человеком и, хотя ее работа не требует никаких издержек, ее продукт обладает своей стоимостью точно так же, как и продукт наиболее дорогостоящих рабочих. ... ренту можно рассматривать как продукт тех сил природы, пользование которыми землевладелец предоставляет фермеру "[15,c.267]. Проблему стоимости земли Смит разрешает вполне научно. Количество годовых рент, составляющих цену земли, он ставит в зависимость от нормы процента на капитал: "Обычная рыночная цена земли зависит везде от обычной рыночной нормы процента. Лицо, обладающее капиталом, от которого оно желает получать доход, не обременяя себя личным употреблением его в дело, имеет перед собою выбор: купить на него землю или отдать взаймы под проценты"[15,c.263]. Важной заслугой Смита является исследование ренты особого рода – собственно монопольной ренты. Её существование он связывает с естественной ограниченностью производства престижных продуктов, которые не становятся предметами массового потребления и продаются по собственно монопольным ценам. Покупателями же 33 редкого продукта являются отдельные лица, которые "готовы дать за него больше, чем необходимо". Смит обращает внимание на то, что "покупатель-монополист платит за популярность и воображаемое качество престижного продукта, т.е. покупает товар потому, что он дорог и тем самым поднимает еще выше его монопольную цену, которая может возрастать до чрезвычайной высоты и, по-видимому, не ограничена никакими пределами"[15,c.171]. Это означает, что источником монопольной ренты является личный доход покупателя. Таким образом, Смиту принадлежит различение в рыночной экономике рент двоякого рода: нормальной (монопольной в обычном смысле слова) и собственно монопольной. Смит первым в экономической литературе указал на взаимосвязь рент от различных продуктов: "Рента с обрабатываемых земель, продукт которых составляет пищу людей, регулирует ренту большей части других, находящихся под обработкой земель. Ни один специальный продукт не может продолжительное время давать меньшую ренту, ибо в таком случае земля будет немедленно обращена под другую культуру"[15,c.130]. Эта трактовка не совсем корректна и последовательна. Во-первых, рента даже с главного пищевого продукта не может односторонне предопределять ренту всех других культур, так как последние по разному оценивают одно и то же плодородие и местоположение. Это признает и сам Смит. Рисовое поле– бесплодное болото с точки зрения возделывания пшеницы, и высокую земельную ренту он выводит из большого количества производимой пищи и вопреки своей логике утверждает, что "рента с рисовых полей не может регулировать ренту с других обрабатываемых земель" в странах, где "главной излюбленной пищей народа" является рис[15,c.131]. Во-вторых, обществу нужно многообразие пищевых и непищевых продуктов земли, да и сама земля нуждается в севообороте. Поэтому сельскохозяйственные культуры и животные могут приносить и меньшую и большую земельную ренту по сравнению с пшеницей, но в целом их сочетание должно быть оптимальным, приносить максимум совокупной ренты, который, однако, может быть и ниже и выше смитовской пшеничной ренты. Свободная конкуренция выработала и механизм достижения этой цели: перелив капитала, плодосмен, трансформация сельхозугодий. Так, в период первоначального накопления капитала в Англии плодородные пшеничные поля были 34 превращены в пастбища, поскольку разведение овец приносило больший доход и большую ренту, так что хлебная рента сама до известной степени предопределялась рентой с пастбищных угодий. Экономической науке ещё предстоит более глубокий анализ указанного тезиса Смита. В своем учении Смит затронул почти все аспекты земельной ренты в рыночной экономике, но до конца последовательно были освещены только причина ренты, цена земли, рента по местоположению и монопольная рента. Не знал Смит и главного: раздвоения нормальной земельной ренты на абсолютную и дифференциальную. Все это не позволяет считать его родоначальником теории капиталистической земельной ренты. Вместе с тем нельзя оценивать вклад А.Смита в разработку этой проблемы ниже по сравнению со вкладом У.Петти. Он не только глубже и точнее осветил многие аспекты ренты, поставленные У.Петти, но и исследовал новые важные стороны этой проблемы. А. Смит подготовил почву для разработки основ теории земельной ренты в рыночной экономике своим последователям, в частности, Д.Рикардо. 2.3. Основы теории земельной ренты Д. Рикардо Виднейший представитель классической политической экономии английский экономист Давид Рикардо продолжил учение А. Смита о земельной ренте через несколько десятилетий. За это время выяснилось, что вопреки выводу Смита о гармонии интересов земельного собственника и общества в Англии резко обострились противоречия между промышленниками и лендлордами. Попытку защитить интересы сельских хозяев путем оправдания хлебных законов и снять вину с земельных собственников за рост цен на хлеб и рост ренты предпринял шотландский практик-арендатор Д. Андерсон, который утверждал, что худшие земли не приносят ренты, так как здесь издержки по возделыванию земли сравниваются со стоимостью всего продукта, а потому "не рента, определяет цену ее продукта, а цена этого продукта определяет земельную ренту. " Тем самым была отвергнута смитовская средневековая долевая рента и на её место поставлен один из видов капиталистической нормальной земельной ренты – дифференциальная рента по плодородию. Рикардо не считал себя первооткрывателем закона дифферен35 циальной ренты, хотя Андерсона он и не знал. В предисловии к своим "Началам политической экономии" Рикардо указывает, что "правильную теорию ренты" опубликовал Мальтус, а Смит не имел "правильного представления о началах ренты"[13,c.ХХIХ]. Тем не менее представляется, что концепция земельной ренты Рикардо была прямым следствием критического анализа учения Смита по этой проблеме. Не могла же быть чистой случайностью диаметральная противоположность их взглядов буквально по всем аспектам ренты. Если оценивать этот заочный диалог в целом, то он будет не в пользу Рикардо. Приняв за основу, что "стоимость товаров определяется количеством труда, воплощенного в них", в главе "О ренте" Рикардо ставит одну главную задачу: "рассмотреть, не вызывает ли обращение земли в собственность и следующее за этим создание ренты какоголибо изменения в относительной стоимости товаров независимо от количества труда, необходимого для их производства". То есть он хотел уяснить, повышает ли земельная собственность цену хлеба выше его стоимости, и тем самым отвергнуть или подтвердить монопольную цену на хлеб Смита. Поставленную задачу Рикардо решает следующим образом: "При первом заселении страны, где имеется в изобилии богатая и плодородная земля, ренты не существует, ведь никто не станет платить за пользование землей, раз есть налицо масса еще не обращенной в собственность земли" [13,c.32]. Как видим, проблема разрешается тем, что снимается с повестки дня за отсутствием крупной частной земельной собственности, т.е. за отсутствием самой проблемы. Он не видит своей методологической ошибки и продолжает: "Когда с развитием общества поступает в обработку земля второго разряда по плодородию, на земле первого разряда тотчас возникает рента, и величина этой ренты будет зависеть от различия в качестве этих двух участков". Итак, в связи с переходом к возделыванию худших земель цена хлеба повышается до уровня индивидуальной стоимости его производства на земле второго разряда и первый разряд начинает приносить сверхприбыль. Но поскольку при капиталистическом хозяйствовании на земле существование двух различных норм прибыли невозможно, постольку на лучшей земле тотчас возникает земельная собственность и присваивает этот избыток в качестве ренты. Рикардо полагает, что логика исследования не нарушена: все категории, причинно-следственные связи между которыми предпола36 галось выявить, – налицо: цена – рента – собственность. Он не видит, что их статус изменен на обратный: следствие порождает причину. К тому же цена, из которой исходит Рикардо, исключает возможность существования той формы земельной собственности, которую он решил исследовать его утверждение, что рента "не только не регулирует цену, но, скорее, сама является её следствием" правильно лишь при общественной форме собственности на землю. Исследуя не ту форму земельной собственности, не тот вид земельной ренты и не ту цену, Рикардо пытался достойно замкнуть круг своего анализа и дать отрицательный ответ Смиту. Начав с сослагательного: если нет крупной частной собственности на землю, то нет ренты и она не входит в цену, он заканчивает изъявительным: "Но так как регулятором цены хлеба является хлеб, производящийся при наибольшей затрате труда, то и рента не входит и не может ни в малейшей степени входить в качестве составной части в его цену. Адам Смит, безусловно, ошибается, поэтому, предполагая, что первоначальное правило, регулировавшее меновую стоимость товаров, – а именно, сравнительное количество труда, которым они произведены, может быть вообще изменено вследствие обращения земли в частную собственность и уплаты ренты"[13,c.38]. Упрек Рикардо Смиту по существу глубоко ошибочен. Рента не входит в индивидуальную стоимость хлеба на худших землях не потому, что она является регулирующей, а потому, что дифференциальной ренты на этих землях нет по закону, а абсолютной – по произволу Рикардо. Если бы он знал, что отрицание ренты на худших землях это отрицание важнейшего вида нормальной земельной ренты в рыночной экономике, который непременно сосуществует рядом с дифференциальной рентой и на средних и на лучших землях, то в противовес Смиту и Мальтусу не стал бы утверждать, "что" во всякой стране существует земля такого качества, которая не может доставлять количество продукта, более чем достаточное для возмещения затраченного на нее капитала плюс обычная для этой страны прибыль" [13,с.209]. К тому же этот упрек Смиту совершенно не нужен Рикардо для решения своей главной задачи. Для доказательства нерушимости закона стоимости не нужно ни игнорирование монополии крупной частной земельной собственности, ни отрицание абсолютной ренты, ни равенство рыночной цены хлеба с его индивидуальной стоимостью на худших землях. Не зависимо от степени возвышения рыночной 37 цены хлеба над его издержками и средней прибылью на худших землях закон стоимости не нарушается до тех пор, пока это превышение оплачивается из общего фонда прибыли, а не из кармана потребителя. Рикардо механически принял ошибочный постулат Смита о том, что стоимость продуктов обществу диктует одна небольшая группа производителей, отбросив лишь дуализм Смита: "Меновая стоимость всех товаров, будь то промышленные изделия, продукты рудников или продукты сельского хозяйства, определяется наибольшим количеством труда, которое по необходимости затрачивается на их производство" [13,c.69]. Отождествив рыночную стоимость хлеба с его индивидуальной стоимостью в худших условиях, Рикардо вслед за Смитом произвольно отстранил от участия в производственных отношениях основную массу товаропроизводителей и низвел роль закона стоимости до присвоения наименее производительным затратам статуса общественной стоимости. Если бы Рикардо исходил из законов рыночной конкуренции, то было бы ясно, что с переходом к возделыванию земли второго разряда рыночная стоимость хлеба действительно повысится до уровня средневзвешенной из двух разрядов, а рыночная цена хлеба поднимется до уровня возмещения издержек и получения средней прибыли на землях второго разряда, но может и не достигать индивидуальной стоимости хлеба в худших условиях. И тем не менее Рикардо пришлось бы отказаться от своего тезиса, что дифференциальная рента не входит в цену хлеба и что "цена хлеба нисколько не понизилась бы, если бы даже все землевладельцы отказались от всей своей ренты " [13,c.36]. Отказ от дифференциальной ренты означал бы, что государство как собственник земли получит возможность скупать хлеб у производителей по их индивидуальной стоимости и реализовывать по общественной, а не по цене производства на худших землях. В результате рента действительно ликвидируется, цена хлеба и зарплата понизятся, а прибыль повысится. Практическая трудность осуществления этого варианта не колеблет его теоретической состоятельности. Ненаучной была попытка Рикардо объяснить источник дифференциальной ренты на основе закона стоимости: с переходом к обработке худших земель на "лучшей земле тот же продукт будет все еще получаться при прежней затрате труда, но стоимость его 38 повысится, рента не есть создание богатства, рента есть создание стоимости, но стоимость эта является номинальной." Кто же создает эту номинальную стоимость ?! Рикардо не апеллирует к высокой производительности труда, поскольку возникновение и рост ренты он связал с законом понижающейся производительности труда, но и низкую производительность труда он не может назвать источником номинальной стоимости, так как повышенные издержки на худшем участке сполна оплачиваются обществом на месте их вложения. Поэтому ему ничего не остается как последовать примеру Петти и Смита, обратиться за помощью к природе:"Я вполне допускаю, что в земледелии определенный капитал, вкладываемый в силу природы ренты в какую угодно землю, но только не в ту, которая позже всех поступила в обработку, приводит в движение большее количество труда, чем такой же капитал, вложенный в обрабатывающую промышленность и торговлю"[13,c.224]. Выходит, что на лучшей земле потребительные стоимости создает всё-таки труд, а номинальную стоимость – земля. Но с точки зрения общества такая стоимость ничего не стоит и если ее приходится оплачивать, то это значит покупать продукт по цене выше затрат труда. Это утверждает и сам Рикардо: "Мы должны поэтому признать, что г-н Сисмонди и г-н Бъюкенен правы, рассматривая ренту как чисто номинальную стоимость, являющуюся не прибавкой к национальному богатству, а лишь простым перенесением стоимости, выгодным только для владельцев земли и соответственно убыточным для потребителя" а это не что иное, как собственно монопольная рента [13,c.261]. Поэтому нет оснований для утверждения, что "возникновение дифференциальной земельной ренты Д.Рикардо впервые в истории политической экономии объяснил с точки зрения действия закона стоимости, а не его нарушения"[1,c.129]. По существу ошибочен и рикардовский переход от лучших земель к худшим. То, что сначала осваиваются лучшие с экономической точки зрения земли, сомнений не вызывает, но переход к худшим землям предполагает и переход к более совершенной и более эффективной системе земледелия. Игнорирование общественного прогресса у Рикардо вынужденно – он не видит других путей для объяснения роста хлебных цен и ренты в Англии. Чтобы общество не устранило вздорожание сырых продуктов путем интенсификации производства, он ставит барьер и с этой стороны: "приложение добавочного количества труда дает пропорционально меньший 39 доход". Рикардо не знал, что и цена, и рента (совокупная) могут расти и растут при прямо противоположных условиях. В прямой зависимости от закона убывающего плодородия почвы понимал Рикардо и ренту интенсификации, которую приносят не более производительные, а менее производительные затраты и не сами по себе, а тем, что, повышая цену хлеба, увеличивают дифференциальную ренту на относительно лучших землях. Но у Рикардо есть и правильное понимание ренты интенсификации, когда он говорит о коренных улучшениях земли с повышающейся эффективностью. При этом, в отличие от Смита, прирост ренты Рикардо не считал процентом на капитал, затраченный на улучшение, " так как часть капитала, однажды затраченная на улучшение фермы, неразрывно срастается с землей и направлена на увеличение производительных сил последней, то вознаграждение, уплачиваемое землевладельцу за пользование ею, носит полностью характер ренты и подчиняется всем законам ренты"[13,c.163]. Доход от капитала, затраченного земельным собственником "на сооружение зданий, необходимых для хранения продуктов и предохранения их от порчи", а также на другие улучшения преходящего свойства, Рикардо исключал из земельной ренты и тем самым не смешивал её с арендной платой. Причину ренты в рыночной экономике Рикардо видел в следующем: "Рента всегда платится за пользование землей только потому, что количество земли не беспредельно, а качество ее неодинаково"[13,c.326]. То есть рента выводится из естественных, а не общественных условий. Но он был близок к тому, чтобы правильно назвать причину земельной ренты. Отвергая смитовское определение ренты пропорционально абсолютному плодородию, он пишет: "Но, предположим, что нет ни одного участка земли, который не приносил бы ренты. В этом случае величина ренты с наихудшей земли была бы пропорциональна избытку стоимости продукта над затратой капитала и обычной прибылью на капитал. Тот же самый принцип будет определять peнту с земель несколько лучшего качества ... и т.д. до самых лучших. Не очевидно ли после этого, что именно относительное плодородие земли определяет ту часть продукта, которая уплачивается в виде земельной ренты? "[13,c.271]. Начав с относительного принципа – определение ренты (абсолютной) на худшем участке вне связи с другими участками, Рикардо заканчивает относительным плодородием – определением 40 ренты (дифференциальной) на средних и лучших землях в сравнении с худшими. Не замечая подмены тезиса, он находит, что закон дифференциальной ренты (произведение рыночной цены единицы хлеба на дифференциальный продукт) не приемлем для худших земель. Но вместо того, чтобы согласно относительному принципу обосновать для последних другой закон, он утверждает, что никакого избытка там и нет. Но вся история цивилизации свидетельствует, что в цене единицы хлеба худших земель всегда была доля ренты и что общая сумма этой доли находилась в прямой зависимости от их абсолютного плодородия. Отсюда и определение величины ренты с худших земель: произведение доли ренты в цене хлеба на абсолютное плодородие. Закон этот известен с древних времен и отвечает принципам рыночной экономики. Правда, применительно к лучшим и средним землям в условиях развитой рыночной экономики в расчет принимается их абсолютное плодородие за вычетом дифференциального. Динамику ренты Рикардо объяснял следующим образом: "Рента увеличивается всего быстрее, когда уменьшаются производительные силы земли, имеющейся в нашем распоряжении, вместе с повышением цены хлеба повысится и заработная плата, а прибыль необходимо упадет" [13,c.60]. Если бы это было так, то заработная плата вскоре поглотила бы не только всю прибыль, но и всю ренту. Благодаря ошибке в доказательстве динамики ренты он сделал другой правильный вывод: "Интересы землевладельцев всегда противоположны интересам потребителей и фабрикантов"[13,c.214,215]. Из теории ренты Рикардо эта дисгармония интересов не вытекала: земельная собственность – следствие ренты и не причина вздорожания хлеба, с ликвидацией ренты ничего не изменится и т.п. Хотя Рикардо уклонился от разрешения поставленной перед собой задачи, абсолютную ренту отрицал, источник дифференциальной не обосновал, жестко связал ренту с ограниченностью производительных сил земли и беспомощностью общественного прогресса, динамику ренты и противоположность интересов земельного собственника и общества определил правильно лишь благодаря взаимопогасившимся ошибкам, все же с его именем связано начало создания основ теории земельной ренты в рыночной экономике. Д.Рикардо категорически отбросил средневековую долевую ренту У.Петти и А.Смита и поставил на ее место хотя и один из двух, но адекватный рынку вид 41 нормальной земельной ренты – дифференциальну ренту, правильно подметил некоторые аспекты ренты интесификации, разграничил ренту и арендную плату. Неубедительность отрицания ренты на худших землях, слабая обоснованность ряда других вопросов послужили стимулом последующим экономистам для дальнейшего исследования проблемы. Попытку опровергнуть теорию земледельческой ренты Д.Рикардо и дать "обоснование новой теории ренты" предпринял немецкий экономист К.Родбертус. Правильно подметив, что теория Рикардо объясняет только, "почему образуется большая земельная рента", но не то, почему вообще получается земельная рента, Родбертус затем ликвидирует дифференциальную ренту путем выравнивания производительности труда на землях разного качества и приходит к выводу, что если бы "в сельском хозяйстве в капитале фигурировала также стоимость земли, то части ренты, падающие на сельское хозяйство и промышленность, находились бы в одинаковом отношении к капиталам, на которые должна была бы высчитываться прибыль"[14.c.299]. Более высокая норма прибыли в сельском хозяйстве, по Робертусу, существует потому, что земледелец не включает в свои издержки стоимость сырых продуктов. Поэтому устойчивый избыток, а следовательно, и рента имеют место и на худших землях. Но, во-первых, как и у Рикардо, рента существует потому, что существует сверхприбыль, т.е. причина ренты не названа. Во-вторых, наличие сверхприбыли в сельском хозяйстве научно не доказано, так что никакой новой теории земельной ренты К.Робертус не обосновал. 2.4. Развитие К. Марксом теории земельной ренты Теория земельной ренты Карала Маркса складывалась в результате критического анализа взглядов на эту проблему классиков политической экономии и, прежде всего, – концепции Д.Рикардо. По собственному признанию он сначала "полностью разделял теорию ренты Рикардо", но уже в январе 1851г. сообщил Ф.Энгельсу опровержение рикардовского обоснования роста ренты убывающей производительностью земледельческого труда и соотвествующим ростом цен на хлеб. На условном примере был показан рост ренты в условиях прогресса земледелия и снижения цен на хлеб за счет роста дифференциального плодородия земель, находящихся в обработке. 42 Энгельс рекомендовал Марксу опубликовать эти "новые, совершенно правильные соображения о земельной ренте" отдельной статьей в каком-нибудь английском журнале [8,c.23.26]. В мае этого же года Маркс ознакомился с "обоснованием новой теории ренты" К.Родбертуса, которое назвал "ребяческо-комическим". Но идея Робертуса доказать, что средняя норма прибыли в сельском хозяйстве выше, чем в промышленности, заинтересовала Маркса всерьёз. Она давала ключ к открытию ренты на худшем участке и утверждению в качестве причины ренты монополии крупной частной земельной собственности. Разрешение этой проблемы для Маркса оказалось долгим и не совсем рациональным. Лишь спустя 11 лет после разграничения стоимости и цены производства и предположения о более высоком строении капитала в промышленности он пришел к выводу, что в сельском хозяйстве имеет место избыток стоимости хлеба над его ценой производства, который и является источником второго вида нормальной земельной ренты в развитой рыночной экономике – абсолютной ренты. Сообщая об этом Энгельсу, Маркс писал, что наконец-то разделался с поганой земельной рентой и собирается дать теорию ренты в виде вставки, как иллюстрацию к ранее выдвинутому положению. При этом он подчеркивал, что "должен теоретически доказать возможность абсолютной ренты без нарушения закона стоимости" и что новый вид ренты не зависит "от различия в плодородии различных категорий земли", а возникает "из-за того, что капитал вложен в землю"[8,c.83,88; 6,с.823]. Жестко связав существование абсолютной ренты с органическим строением капитала в сельском хозяйстве, Маркс поставил её на грань вымирания. В специальной главе третьего тома "Капитала" («Абсолютная земельная рента») он дважды повторяет: "Если бы среднее строение земледельческого капитала было таково, каково строение среднего общественного капитала или выше, то абсолютная рента – опять-таки в только что исследованном значении – отпала бы; т.е. отпала бы рента, которая отличается как от дифференциальной, так и от ренты, покоящейся на собственно монопольной цене"[6,c.826,831; 9,с.108,264,334,434]. При таком подходе, во-первых, ставится под сомнение не только существование, но и рождение абсолютной ренты. То, что менее производительный труд создает большую прибавочную стоимость, противоречит и истории, и его собственной теории относительной 43 прибавочной стоимости. Непрерывный рост массы прибавочной стоимости и земельной ренты обязан общественному прогрессу, а не регрессу. Во-вторых, поскольку абсолютная рента "есть адекватное выражение крупной частной земельной собственности", то отпадение следствия означает исчезновение и причины – земельной собственности. Неоднократные пояснения Маркса, что "абсолютная рента не есть следствие этого избытка, а есть следствие собственности на землю", что "собственность на землю сама создала ренту" не возвращают обоснование абсолютной ренты в нормальное русло [9,c.341; 6, с.820]. Если бы Маркс взял смитовскую монопольную цену хлеба, обремененную земельной собственностью (рентой), и доказал, что закон стоимости при этом не нарушается, то обоснование абсолютной ренты было бы кратким, четким и научным. К тому же у него были правильные положения на этот счет, правда, сделанные мимоходом. Рассматривая издольное хозяйство и крестьянскую парцеллярную собственность, Маркс писал: "Абсолютная рента или предполагает, что реализуется избыток стоимости продукта под его ценой производства, или предполагает избыточную монопольную цену, превышающую стоимость продукта"[6,c.876]. То, что закон стоимости при этом не нарушается, подчеркивается в главе «Видимость, создаваемая конкуренцией»: если бы вследствие "монополии земельной собственности сделалась бы возможной монопольная цена, превышающая цену производства и стоимость товаров, и если бы товар с такой монопольной ценой входил в число необходимых предметов потребления рабочего, он повысил бы заработную плату и тем самым понизил бы прибавочную стоимость раз, рабочему попрежнему выплачивали бы стоимость его рабочей силы"[6,с.938]. Для обоснования закона абсолютной ренты не имело значения ни различение стоимости и цены производства, ни различие в строении земледельческого и промышленного капитала, ни степень возвышения рыночной цены хлеба над его ценой производства и стоимостью на худших землях. В любом случае это была бы монопольная цена в обычном значении слова, так как собственно монопольной цены на предметы первой необходимости быть не может. Абсолютная величина этой ренты исчисляется по формуле Ra = ( РЦ – ЦПх.з.) × Ух.з., где РЦ – рыночная цена единицы хлеба; 44 ЦПх.з. – цена производства на худших землях; Ух.з. – урожайность (продуктивность) на худших землях. Как видим, абсолютная рента находится в прямой зависимости от доли ренты в рыночной цене единицы хлеба и абсолютного плодородия худших земель. Величина ренты на худшем участке является нормой дани на капитал для земель более высокого плодородия и, следовательно,базой отсчета их дифференциальной ренты. Другими словами, взаимосвязь между этими двумя видами нормальной ренты напоминает взаимосвязь между средней прибылью и добавочной прибылью в промышленности. Теория абсолютной земельной ренты была новым словом в экономической науке, и поэтому таким противоречивым оказался для Маркса путь её обоснования. По поводу дифференциальной ренты Маркс писал, что она "не представляет в теоретическом отношении никаких трудностей. Она – не что иное, как добавочная прибыль, существующая в любой сфере промышленного производства для любого капитала, действующего в условиях выше средних"[8,с.220]. Как известно, добавочную прибыль Маркс рассматривал после детального исследования средней прибыли и на её основе. Абсолютную ренту такой основой для дифференциальной ренты он не считал. И та и другая представлялись ему в качестве "независимых двух форм добавочной прибыли" к средней прибыли арендатора и исследовались изолированно: сначала дифференциальная рента (надбавка), а затем абсолютная (основание). Маркс даже убежден, что "единственный способ понять самоё природу дифференциальной ренты заключается в том, чтобы ренту земли категории А приравнять нулю". Эта методологическая ошибка значительно осложнила ему исследование проблемы. Cознательно отбросив абсолютную ренту, а вместе с ней и крупную частную земельную собственность, Маркс по технологии Рикардо находит на средних и лучших землях добавочную прибыль. Остается назвать её причину. Ошибочность утверждения Рикардо, что таковой является природа, ему была известна. Но Маркс исключил возможность констатировать, что земельный собственник налицо, он уже определил норму абсолютной дани для всех земель и теперь накладывает вето на дифференциальный избыток прибыли с лучших и средних земель и потому утверждает: "Земельная собственность не причина создания, а лишь причина перенесения возникшей без 45 содействия этой собственности (скорее, вследствие того, что цена производства, регулирующая рыночную цену, определяется конкуренцией) добавочной прибыли" [6,с.820]. То, что конкуренция – акт общественный, а не естественный – ясно. Ясно также то, что она является лишь условием, а не причиной рассматриваемого избытка. Внутриотраслевую конкуренцию в земледелии можно устранить (она уже устранена в границах землепользования каждого арендатора), но земельный собственник не перестает требовать с арендатора более высокую ренту за лучшие и средние земели. Совокупная (абсолютная + дифференциальная) земельная рента количественно определена земельным собственником и предъявлена к оплате до начала производства и, следовательно, включена в издержки арендаторов, которые таким образом поставлены в равные экономические условия хозяйствования. Поэтому борьба за высокую рыночную цену хлеба – это коллективная борьба всех без исключения арендаторов, поскольку только при такой цене каждый из них может получить среднюю прибыль и уплатить земельную ренту. К тому же арендатор земли и покупатель хлеба являются лишь посредниками в конкурентной борьбе за распределение совокупной прибыли двух монополистов: собственника земли и владельца капитала. Как уже известно, первым шагом земльного собственника было принуждение потребителя покупать хлеб выше его рыночной стоимости. В результате все арендаторы получили избыточную прибыль для уплаты ренты за право приложить капитал к земле вообще, т.е. независимо от её дифференциального качества. Для получения ещё большего дохода с целью доплаты за более высокое плодородие этот механизм не подходит, так как противоречит принципу: равная прибыль на равный капитал. Поэтому включается другой общественный механизм: реализация дешевого хлеба с высоко плодородных земель по цене дорогого хлеба с худших земель. Вследствие более низких издержек арендаторы лучших и средних земель получают избыточную прибыль, которая количественно равна произведению рыночной цены единицы хлеба на дифференциальный продукт и выплачивается земельному собственнику в виде дифференциальной ренты. Так что земельная собственность является причиной существования и дифференциальной ренты. В свете сказанного становится понятной ошибочность утверждения Андерсона и Рикардо, что дифференциальная рента не входит в цену 46 хлеба. Обществу хлеб обходится дороже его действительной стоимости потому, что в основу его рыночной цены положены не общественные, а более высокие, менее производительные издержки. Это означает, что дифференциальная рента является составной частью рыночной цены хлеба, повышает его цену. Элементарно простой механизм образования дифференциальной ренты оказался настолько сложным, что её источник до настоящего времени остается камнем преткновения. Не внес ясности в эту проблему и Маркс. Назвав дифференциальную ренту ложной социальной стоимостью, он не стал исследовать источник, из которого она реально черпается. Поскольку рыночная цена хлеба у него достигает индивидуальной стоимости на худших землях, то источник дифференциальной ренты находится, естественно, за пределами земледелия. Но возможность перелива прибыли из промышленности в сельское хозяйство в фонд земельной ренты Маркс не рассматривает, полагая, что это нарушает закон стоимости. О второй разновидности дифференциальной ренты – ренте по местоположению – Маркс ограничился кратким замечанием. Приступая к исследованию дифференциальной ренты, он подчеркнул, что "Две независимые от капитала общие причины неодинаковости результатов суть: 1) Плодородие; 2) Местоположение земельных участков." Затем дал пояснение общего характера: "Прогресс общественного производства действует, с одной стороны, нивелирующим образом на местоположение земельных участков как на основание дифференциальной ренты, создавая местные рынки; а, с другой стороны, усиливает различия в местоположении земельных участков как вследствие отделения земледелия от промышленности, так и вследствие образования крупных центров производства"[6,с.707,708].Более глубокое исследование дифференциальной ренты по местоположению продолжено не было. Важное место в теории земельной ренты Маркса занимает обоснование её динамики. Ещё до открытия абсолютной ренты Маркс пришел к выводу, "что с прогрессом цивилизации в обработку поступают все худшие земли. Но столь же несомненно и то, что в силу прогресса науки и промышленности эти худшие земли относительно хороши по сравнению с теми, которые прежде считались хорошими" и что это ведет к росту ренты при снижении рыночной цены хлеба за счет роста дифференциального плодородия. С обоснованием абсолютной ренты этот нетипичный вариант мог быть снят, так как в 47 условиях прогресса земледелия бесспорный рост абсолютной ренты компенсировал бы даже снижение дифференциальной ренты. Такая возможность оказалась несостоявшейся, поскольку оба вида нормальной ренты исследованы Марксом вне взаимосвязи друг с другом. В результате рента интенсификации была сведена только к её воздействию на динамику дифференциальной ренты. Но абсолютная рента также связана с плодородием и её динамика находится в прямой зависимости от интенсификации производства. Пока добавочная прибыль от последней присваивается арендатором, она по существу и не рента. Но когда более высокий уровень хозяйствования на земле станет общественно нормальным, а добавочная прибыль от этого – достоянием земельного собственника, то количественно изменится и абсолютная, и дифференциальная рента. Вся сверхприбыль от интенсификации на худшем участке превратится в абсолютную ренту, и эта повышенная норма распространится на все остальные земли. Оставшаяся часть сверхприбыли интенсификации на средних и лучших пополнит (или не изменит) фонд их дифференциальной ренты. В какой пропорции произойдет это распределение для теории не имеет значения. Но можно с уверенностью утверждать, что темпы роста абсолютной ренты будут более высокими, так как худшие земли имеют тенденцию приближаться по своему плодородию к лучшим. Так что рост совокупной ренты гарантирован и при отрицательной динамике дифференциальной ренты. Не исключено, что до указанного выше распределения часть добавочной прибыли от интенсификации превратится в среднюю прибыль капиталиста для замедления темпов снижения её нормы вследствие общественного прогресса. Это произойдет в том случае, если соотношение сил в конкурентной борьбе землевладельцев и капиталистов изменится в пользу последних. Но, скорее, это будет означать не «перелив» прибыли из сельского хозяйства в промышленность, а снижение дотации земледелию из общего фонда прибыли промышленного капитала. По поводу монопольной ренты Маркс ограничился одним предложением: " Рента, кроме этих двух форм (абсолютной и дифференциальной), может покоиться лишь на собственно монопольной цене, которая определяется не ценой производства и не стоимостью товаров, а спросом и платежеспособностью покупателей"[6,с.830]. Выходит, что цена, превышающая стоимость товара, является собственно монопольной ценой и потому нарушает 48 закон стоимости. Маркс не поясняет, что к предметам первой необходимости это не применимо, любое возвышение рыночной цены хлеба над его стоимостью порождает не собственно монопольную цену, а монопольную цену в обычном значении слова и не нарушает закон стоимости, так как соответствует первичному распределению. Нечеткое разграничение Марксом двух монопольных цен привело к тому, что абсолютная рента у него отпадает досрочно, а источник дифференциальной остался без научного обоснования. В сравнении с предшественниками К.Маркс внес более весомый вклад в развитие теории земельной ренты в развитой рыночной экономике. Он открыл второй вид нормальной земельной ренты – абсолютную, обосновал её закон, назвал причину, механизм и частный источник. Теорию дифференциальной ренты Д.Рикардо подверг критике, но не отверг, оставил в качестве одного из вариантов, рядом с которым поставил свою концепцию – переход к возделыванию новых земель с повышающейся производительностью труда. Динамика этой ренты исследована досконально, но вне взаимосвязи с абсолютной рентой. Как и у Рикардо, причина и источник дифференциальной ренты остались без научного обоснования. О дифференциальной ренте по местоположению и монопольной ренте Марксом даны односложные замечания самого общего характера. Относительно теории земельной ренты у Маркса есть ряд правильных положений, высказанных мимоходом в других темах, но не использованных в специальных главах, что отрицательно сказалось на обосновании причины, источника и динамики нормальной земельной ренты в условиях развитой рыночной экономики. 49 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Высшим этапом развития органических форм на Земле и её составной частью является человек. Благодаря сознанию и трудовой деятельности он как бы обособился от природы, вступает в отношения с ней, все в большей степени использует её силы и вещество. Становление этих отношений началось с того, что уже в период появления человека Земля предоставила ему необходимый минимум готовых средств к выживанию, а также предметы и средства труда, рабочее место и сферу действия для последующего существования и развития. Это нельзя понимать в том смысле, что природа является слугой человека, она была и будет благосклонным господином достойного человека – Homo axios. Не от природы, а от человека зависит, в какой мере потенциальные естественные силы будут использованы. В этом и состоит суть отношений человека с природой. Но процесс труда в каждый данный период ограничен самим человеком. Поэтому можно и нужно говорить об ограниченности использования безграничных производительных сил природы. История землевладения и землепользования – это история человеческой жизнедеятельности. Самой длительной в этой истории 50 была первобытная эпоха. В период полной зрелости основной формой социальной организации первобытного общества была родовая община – коллектив близких и дальних кровных родственников. По мере разложения родовой общины и перехода к соседской общине создавалась абстрактная возможность превращения земельных отношений по горизонтали в рентные. Но сохранившееся общинное землевладение сводило такую возможность на нет благодаря мелкополосному землепользованию. Переход к частному землевладению означал и реальную возможность неравного отношения к земле бывших общинников. Просуществовав десятки тысяч лет, первобытнообщинная формация уступила место классовому обществу. Для многих народов земного шара таковым было рабовладение. Развитие земельных отношений в этом обществе представляло собой двуединый процесс: все большая концентрация земли в собственность немногих с одной стороны, все большее лишение крестьян свободно владеть и пользоваться землей – с другой. Исторические факты свидетельствуют, что в эпоху рабовладения земельная рента уплачиалась со всех видов земель, величина её регулировалась долей в урожае. Наряду с этим нормальным родом земельной ренты рабовладение породило монопольную ренту. Её возникновение обусловлено производством дорогих предметов роскоши и наличием весьма высоких доходов у богатой аристократии. В противоположность рабовладельческому строю феодализм был всемирной социально-экономической системой. Многие народы перешли к этой ступени своего развития от первобытнообщинного способа производства, другие же – через более-менее развитое рабовладение. Конечный результат в обоих случаях был один и тот же: крупная частная земельная собственность феодалов и мелкое частное землепользование экономически и лично зависимых крестьянкрепостных. Господство натурального хозяйства и слабые экономические связи с окружающим миром означали, что при феодализме существовала только рента нормального рода, которая выступала в трех формах: отработочной, продуктовой и денежной. Для монопольной ренты экономических условий не было. Изъятие ренты по единой норме (доле) ставило крестьян в неравные экономические условия вследствие разнокачественности используемых ими земель. Поэтому практике известен принцип дифференциации =орм ренты и мелкополосного 51 землепользования: каждый крестьянин возделывал полоску земли всех разрядов. С распространением господства капитала на сельское хозяйство существенно изменились и земельные отношения. В новых условиях бывшая односложная феодальная земельная рента превратилась в систему родов, видов и разновидностей. Начало исследованию рентной проблемы положил основатель классической школы политической экономии У.Петти. Капиталистическую земельную ренту он правильно определил как избыток хлеба над издержками производства, а её источником считал труд крестьян. Но, переходя на "язык чисел и мер", повторил закон феодальной земельной ренты – каждый третий сноп. Иследование земельной ренты в рыночной экономике продолжил А.Смит. В отличие от У.Петти он исходил из участия в земельных отношениях и капиталиста-арендатора. Смит четко проводит мысль, что земельная рента – это плата за дар природы и что её причиной является частная собственность на землю. Сначала ренту Смит определил вполне научно: избыток цены продукта сверх издержек и обычной прибыли арендатора. Но затем в точности повторив ошибку Петти, возвратился к феодальной ренте. Аналогичным было и утверждение Смита в отношении источника ренты: сначала таковым он считал труд, а затем стал рассматривать его как продукт сил природы. Ему принадлежит четкое изложение монопольной ренты. Цена земли, по Смиту, – земельная рента, капитализированная по рыночной норме процента. Учение о земельной ренте продолжил виднейший представитель классической политэкономии Д. Рикардо. Приняв за основу, что стоимость товаров определяется количеством труда, воплощенного в них, он ставит главную задачу: "Рассмотреть, повышает ли земельная собственность цену хлеба выше его стоимости". Поставленную задачу Рикардо решает тем, что снимает её с повестки дня за отсутствием крупной частной земельной собственности. Ненаучным было и обоснование Рикардо источника дифференциальной ренты: с переходом к обработке худших земель на лучшей земле продукт будет получаться при прежней затрате труда, но стоимость его повысится, т.е. по примеру Петти и Смита он обратился за помощью к природе. По существу ошибочен и рикардовский переход от лучших земель к худшим. То, что сначала осваиваются лучшие с экономической точки зрения земли, – аксиома, но аксиома и то, что переход к 52 возделыванию худших земель означает и переход к более эффективной системе хозяйствования. Рост земельной ренты Рикардо объяснял уменьшением производительных сил земли, что означало повышение цены хлеба и заработной платы и снижение прибыли. Если бы это было так, то заработная плата вскоре поглотила бы всю прибыль и всю ренту, а общество шагнуло бы вспять, в первобытную эпоху. Благодаря ошибке в доказательстве динамики ренты Рикардо сделал другой правильный вывод: "Интересы землевладельцев всегда противоположны интересам потребителей и фабрикантов". Из его теории ренты эта дисгармония интересов не вытекала: земельная собственность – следствие ренты и не причина вздорожания хлеба, с её ликвидацией ничего не изменится. Теория земельной ренты К.Маркса складывалась на основе учения по этой проблеме классиков политической экономии и, прежде всего, – концепции Д.Рикардо. Сначала Маркс полностью разделял его взгляды, но уже в январе 1851г. предложил противоположное рикардовскому обоснование динамики земельной ренты: за счет роста степени дифференциации плодородия в условиях прогресса земледелия и снижения цен на хлеб. В середине этого же года Маркс ознакомился с "Новой теорией ренты" К.Родбертуса и у него возникла идея дать обоснование ренты и на худших землях без нарушения закона стоимости и тем самым ещё более отдалиться от концепции Рикардо. Спустя 11 лет в основу решения этой проблемы были положены два открытия из области теоретической экономии: цена производства и органическое строение капитала. По поводу дифференциальной земельной ренты Маркс писал, что в теоретическом отношении она не представляет никаких трудностей. Назвав её "ложной социальной стоимостью", он не стал определять источник, из которго она реально черпается. Роль ренты интенсификации Маркс свёл к её воздействию только на динамику дифференциальной ренты, а в отношении монопольной ренты ограничился одним нечетким замечанием: "Рента, кроме этих двух форм (абсолютной и дифференциальной), может покоиться лишь на собственно монопольной цене, которая определяется не ценой производства и не стоимостью товаров, а спросом и платежеспособностью покупателей". Выходит, что цена, превышающая стоимость хлеба, является собственно монопольной ценой и нарушает закон стоимости, и очевидно поэтому он не 53 допускал перелива прибыли из промышленности в сельское хозяйство. ЛИТЕРАТУРА 1. А ф а н а с ь е в В . С . Этапы развития буржуазной политической экономии: Очерк теории / В.С.Афанасьев. М.: Мысль, 1971. 367 с. 2. История земельных отношений и землеустройства: учеб. пособие для вузов /Н.В. Бочков и др.; под общ. ред. Н.В.Бочкова. М.: Госсельхозиздат, 1956. 248 с. 3. История экономической мысли: курс лекций /Ф.Я.Полянский и др.; под ред. И.Д.Удальцова. Ч.1. М.: Издательство Московского университета, 1961. 512 с. 4. К о л г а н о в М.В. Собственность: Докапиталистические формации /М.В.Колганов. М.: Соцэкгиз, 1962. 496 с. 5. Л о п а т и н а О.Ф. Экономика сельского хозяйства: учебник для сельскохозяйственных вузов по экономическим специальностям /О.Ф.Лопатина, К.П.Оболенский, С.В.Фраер. М.: Экономика, 1977. 390 с. 6. М а р к с К . Капитал: Критика политической экономии /К.Маркс; под ред. Ф.Энгельса. М: Политиздат, 1970. Т. III. С.669–964. 7. М а р к с К . Наброски ответа на письмо В.И.Засулич /К. Маркс, Ф.Энгельс.Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1950. Т.19. С. 400–421. 8. М а р к с К . Письма о "Капитале" /К.Маркс, Ф.Энгельс. М.: Госполитиздат, 1948. С. 22–26, 83–89. 9. М а р к с К . Капитал. Т. IV. /К.Маркс //Теории прибавочной стоимости. М.: Политиздат, 1978. Часть II. 703 с. 10. М о р г а н Л . Г . Древнее общество /Л.Г.Морган. Л.: Издательство института 54 народов севера ЦИК СССР, 1934. 352 с. 11. М о р д у х о в и ч Л . М . Очерки истории экономических учений: от античных мыслителей до родоначальников буржуазной классической политической экономии / Л.М.Мордухович. М.: Политиздат, 1977. 180 с. 12. П е т т и . У . В . Экономические и статистические работы /В.Петти; под ред. Д.Розенберга. М.: ОГПЗ Соцэкгиз, 1940. 324 с. 13. Р и к а р д о Д . Начала политической экономии и налогового обложения / Д.Рикардо. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1941. Т.I. 287 с. 14. Р о д б е р т ус К . Экономические сочинения /К.Робертус. Л.: ОГИЗ Соцэкгиз, 1936. 435 с. 15. С м и т А. Исследование о природе и причинах богатства народов /А.Смит. М.: Соцэкгиз, 1962. 684 с. 16. Ч э н ь - Б о - д а . Очерк земельной ренты в Китае. Арендные отношения в сельском хозяйстве гоминдановского Китая /Чэнь-Бо-да; пер. с китайск. М.: Изд-во иностр. лит., 1952. 111 с. 17. Э н г е л ь с Ф . Происхождение семьи, частной собственности и государства /Ф.Энгельс. М.: Политиздат, 1970. 240 с. СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………….…………………………………..…………………..……. 3 1. Земельные отношения и рента в древний период и средние века……..…..……. 4 1.1. Земля – естественное условие зарождения, существования и развития человека………………………………………………………………………….…. 4 1.2. Земельные отношения и рента в первобытном обществе………….......……….. 11 1.3. Рентность земельных отношений в рабовладельческих государствах..……..... 14 1.4. Земельная рента в феодальной системе хозяйствования…................................. 19 2. Земельная рента в свободной рыночной экономике…….……………..….....… 23 2.1. Вопросы земельной ренты в работах У. Петти .…………….………..……….... 24 2.2. Учение А.Смита о земельной ренте…………………….……………..……..….. 27 2.3. Основы теории земельной ренты Д.Рикардо……..……………………...…….... 32 2.4. Развитие К. Марксом теории земельной ренты……………………………..…. 39 Заключение……….…………………………….………………………………………. 47 Литература…....……………………………………….………………………………... 51 55 Учебно-методическ ое издани е Виктор Терентьевич Лукьянов ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА Учебно-методическое пособие по истории экономических учений 56 Редактор О.Г.Толмачёва Техн. редактор Н. К. Шапрунова Корректор А.М. Павлова Подписано в печать 26.06.2006. . ли № 348 от 09.06.2004 Формат 60 x 84 1/16. Бумага для множительных аппаратов. Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 2,88. Тираж 150 экз. Заказ . Цена 3290 руб. _________________________________________________________________________ Редакционно-издательский отдел БГСХА 213407, г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2 Отпечатано в секторе издания учебно-методической литературы и ризографииБГСХА г. Горки, ул. Мичурина, 5 57