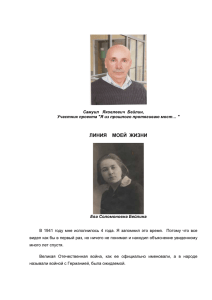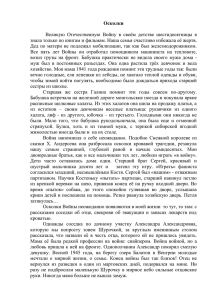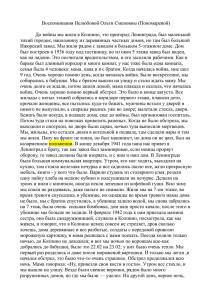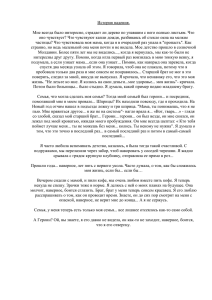Интервью - Centropa
advertisement

Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 1 Интервью с Деборой Яковлевной Авербух Сегодня 6 декабря 2001 года. Берем интервью у Деборы (Нины) Яковлевны Авербух. Город Киев. Скажите, пожалуйста, о себе. Как вас зовут, где вы родились? Я – Дебора Яковлевна Авербух, родилась 19 июля 1921 года в поселке городского типа Меджибож, еврейский Штейтл, ныне Хмельницкого района, а за его… за времена советской власти это был и Каменец-Подольская область, и Винницкая область. Сейчас это Хмельницкая область. Мои родители жили в это время в Екатеринославе. Но поскольку это были времена военного коммунизма, родители претерпевали нужду и голод, и мама во время беременности мною ходила опухшая от голода, а в Меджибоже жили две папины старшие сестры. В провинции было немножко легче с пропитанием, родители уехали в начале лета 21-го года, и таким образом, в июле 21-го года я родилась в местечке Меджибож. Когда мне было 6 месяцев, родители уехали вместе со мной в Екатеринослав, который после этого стал городом Днепропетровском, и поныне. Кроме меня в семье был мальчик, брат, старше меня на 4 года. Израиль Яковлевич Авербух, 17-го года рождения. А где он родился? Он родился в Екатеринославе. После февральской революции, я знаю со слов мамы, что, когда ее приходили поздравлять с рождением сына, у всех в петлицах были красные розетки, и все очень радовались, что наступит, наконец, демократический режим вместо Российской империи. Когда мне было примерно полтора года, родители переехали в Киев, потому что в Киеве жил папин младший брат, врач, и он был, ну, немножко благополучнее, чем мои родители. Отец к этому времени остался без работы, поскольку примерно с 15го года и по, наверное, 20-й включительно, до того времени, когда были большевиками запрещены все духовные учебные заведения, отец остался без работы, поскольку он был ректором Екатеринославской ешивы. Это единственное высшее духовное иудейское учебное заведение на нынешней Украине. Извините, назовите вашего отца. Как его звали, когда он родился? Мой отец, Авербух Яков Абрамович, 1887 года рождения, родился в местечке Новоконстантинов. Ну, это тоже, вероятно, сейчас была бы Хмельницкая область, но дело в том, что после Второй мировой войны, после Отечественной войны с административной карты Украины это местечко исчезло. Оно стерто с лица Земли, оно не существует. Есть только его, скажем, побратим, Староконостантинов. Отец родился в очень религиозной семье, был исключительно образован в плане иудаики, иудаизма, и до последних своих дней, до гибели в Бабьем Яру, очень строго придерживался всех религиозных обычаев, праздников, на полном серьезе, вполне сознательно. Дом у нас был с соблюдением всех правил Кашрута, с традиционным празднованием всех праздников. У нас в доме всегда, как полагается в еврейских домах, хоть и сами мы жили исключительно бедно, всегда был приписан один-два нищих, нуждающихся еврея от синагоги, которые ежемесячно получали от нас пожертвования. У нас за праздничными столами обычно в пятницу вечером или во время пасхальных седеров всегда были приглашены к столу и участвовали в трапезах приезжие евреи из других мест, оказывавшихся в это время не в своих домах. Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 2 Из какой семьи ваш отец? Значит, мой отец – прямой потомок (нрб, Балшен-Това???), шестое колено. Его отец, Авербух Аврум Арнс, отец трех сыновей и трех сестер, это из сохранившихся детей, я не знаю, может быть, там, в детстве и умирали какие-то дети, он был предпринимателем, наверное, надо сейчас так сказать. Он изготавливал и продавал вино, причем продавал крупными партиями. Отец по поручению деда где-то в 10-е годы, до 1910 года, все время, еще не имея семьи, все время ездил в Австрию и Германию покупать партии винограда для производства дедовского, торговать партиями вина. Дед, поскольку по своему материальному положению он не достигал звания купца первой гильдии, то он не имел права владеть таким хозяйством. Поэтому у него, как говорится сейчас, в офисе, у него в конторе в рамке висел патент на имя графа Бобринского, которому он платил определенную мзду за пользование его именем в патенте. Таким образом, ну, как бы официальным владельцем дедовского хозяйства был граф Бобринский, на территории которого находились, как видно, эти местечки. Мать отца? Мать отца звали (нрб) Лея. Я ее не знала, у меня только были фотографии – типичная еврейская старушка в платочке, забранном за уши. Это типичная еврейская такая фотография. Умерла, и дед и бабушка умерли до моего рождения, так что я о них ничего не знаю. Я только знаю, что дед отца, Арн Авербух, то есть, это фактически получается правнук Балшен-Това, был физически очень здоровым, крепким человеком. По семейному преданию он во время какой-то очень крупной грозы проплыл, что-то такое 20 верст по южному Бугу, был великолепным пловцом. Не знаю, то ли это на пари, то ли это чем-то было вызвано. У него было 18 детей: 12 детей от первого брака, 6 детей – от второго брака. Вот это то, что я знаю о предках моих родителей. Во время пребывания в Израиле я в Тель-Авивском университете получила из соответствующего Центра, у меня есть его название, распечатку из компьютера о происхождении фамилии Авербух. Это подробно у меня есть, я могу передать это вам. Нет, вы скажите просто. Это в XV веке, в немецком городке Авербах одной из еврейских семей была присвоена эта фамилия. В то время как раз присваивались фамилии. Значит, там есть ссылки на Ауэрбах, Авербах, Авербух, и приводятся там еще некоторые подробности. Значит, из, опять-таки, со слов моего отца, легенда происхождения этой фамилии, Авербах, хотя бах – это и ручей по-немецки, а мы – Авербухи. Но вроде в этом городке раввин был… жил раввин, у которого жена была на сносях. В древних немецких городках через овраги или через речки, вот до сих пор существуют каменные мостики с высокими каменными балюстрадами. Поскольку наш предок был раввином и пекся о благополучии еврейской общины, он был всегда в антагонизме с курфюрстом, который был достаточным антисемитом, надо полагать. И вот, когда его жена на сносях проходила по этому мостику, мостик узкий, то на этом мостике она повстречалась с каретой курфюрста, запряженной цугом, и оказалась под угрозой быть затоптанной лошадьми. Она инстинктивно повернулась, животом прижалась к этой каменной балюстраде, карету пронесло. Она благополучно осталась жива, и, так гласит легенда, в балюстраде сохранилась выемка для того, чтобы она сохранила плод и свое потомство. Вот такие истории. Отец был очень образован. У нас до самой войны была великолепная библиотека на древнееврейском языке. Ну, это его… свидетельствует хотя бы то, что он, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 3 будучи совершенно молодым человеком, был ректором ешивы, а светского образования при очень набожных родителях он не мог получить никак. Но у нас дома были энциклопедии: «Гимназия на дому», у нас дома была энциклопедия «Университет на дому» дореволюционного издания. И письма, которые отец писал в начале войны мне удивительно грамотны на русском языке. Поразительно, это все самоучкой. Самоучкой выучился играть на скрипке. А заочно, еще до революции, получил диплом бухгалтера. И после революции, когда он не мог работать, ну, лишился своей основной профессиональной работы, он одно время работал бухгалтером. У него был диплом каллиграфа, и график, он был великолепный график. Он, когда занимался уже потом, после революции, он вынужден был заниматься дедовской профессией, то есть виноделом работал в небольших украинских городах. Поскольку в Киеве работу найти такую, чтоб можно было по субботам и по еврейским праздникам не ходить на работу, он не мог. Поэтому он одно время, в 30-е годы, работал в Яготине, перед самой войной, в начале войны еще работал в Овруче. Там он в артелях местных изготавливал вино, а этикетки ко всем этим бутылкам он рисовал сам. Они получали даже премии на каких-то конкурсах. Он был великолепным графиком. Ну, и надо сказать, что отец в Бабий Яр ушел в возрасте 54-х лет. А сколько я себя помню, где-то с его 40-45 лет он был членом третейского суда при киевской синагоге, несмотря на достаточно… не очень солидный возраст. На каком языке говорили в вашей семье? Родители между собой и с родственниками старшими, а у нас всегда, хотя жили мы очень стесненно, и по площади, и материально, но у нас, я не помню такого дня, чтоб у нас не жили родственники из всех местечек Украины, потому что, кто бы где ни заболел, или какие-то решал свои, предположим, юридические проблемы, они все приезжали и останавливались к нас – и близкие родственники, и родственники родственников, и знакомые знакомых. Они между собой говорили на идиш, с детьми – родители разговаривали, со мной и с братом разговаривали на русском. Я, естественно, понимала идиш, ну, может быть, я не помню, чтоб мне приходилось с кем-нибудь разговаривать, даже с тетками, которые приезжали из провинции. И они со мной говорили по-русски. Я в своей молодости и в детстве, значит, первый раз посетила свою родину, Меджибож, когда мне было 7 лет, и второй раз – когда мне было 11 лет. Но там я тоже разговаривала по-русски. Значит, ваш отец умел говорить… знал древнееврейский? Древнееврейский – совершенно свободно, идиш, русский – с очень сильным акцентом, но это не от того, что он не знал языка, а просто вот такие фонические изменения гортани, надо так понимать. И, очевидно, украинский? Украинский, ну, бытово. Потому что он приехал, один раз приехал из Овруча, он, несмотря на то, что ему уже было 50 лет, и он очень рано поседел, и был очень близоруким, носил толстые очки и выглядел всегда значительно старше своего возраста, он приехал и рассказывал, что бежали навстречу ему крестьянские ребятишки и кричали: «Дывы, он дид губы намастыв!». У него были очень яркие, пунцового цвета губы. Кроме того, он знал очень прилично немецкий, которым ему пришлось овладеть во время поездок в Австрию и Германию по делам… производственным делам деда. Он даже когда вернулся в начале войны из Овруча, он рассказывал, что вели пленных немцев, и его попросили работать переводчиком наши командиры. Вот. Так что он знал Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 4 немецкий. Когда отец в Екатеринославе был ректор ешивы, под его начальством, если можно так сказать, это сейчас выглядит немножко смешно, древнееврейскую литературу преподавал классик, поэт Бялик. И еще до второй половины 20-х годов отец с ним переписывался. Я помню эти письма. Кроме того, у отца работал, там же в ешиве преподавал раввин Гельман, городской раввин Екатеринослава, и мой дед со стороны матери, который, вероятно, с 16го до 19-го года с семьей были беженцами в Екатеринославе. Но о том, что он преподавал там же в ешиве, я знаю со слов моего дяди, маминого брата. И внешность у него была такая благообразная, он пользовался большой популярностью у слушателей, студентов, не знаю, как это называется, и когда он заходил в аудиторию, они говорили: «Смотри, пришел сам Мойше Рабейно». Такая у него была библейская внешность. Вы говорили, что ваш отец переписывался с поэтом Бяликом. На каком языке велась переписка? Переписка велась на древнееврейском языке, это я очень хорошо помню. И еще один вопрос. Вы рассказывали про ешиву. Что-нибудь вы знаете про ешиву, как там велась учеба? Нет, ну учеба велась как в классическом любом высшем учебном заведении еврейском. А подробности я об этом знать не могу, потому что, когда я уже себя могу помнить, уже ликвидировали ешиву, папа уже переехал в Киев. Никаких подробностей больше я не знаю. А о семье вашей матери, о вашей матери расскажите, пожалуйста. Моя мать, Рахиль Осиповна Горовиц-Вайсбрат, родилась в 1891 году в городе Замощь Люблинского воеводства. Это Польша, но она тогда входила в состав Российской империи. В 11-ом году они познакомились с моим отцом, на свадьбе родственников. Папина племянница и мамин двоюродный брат сочетались браком. На свадьбе родители познакомились, в течение трех лет вели очень интенсивную переписку, у нас дома до самой войны хранились две пачки писем, перехваченных ленточками, и переписка велась на идиш. Но я очень часто туда заглядывала, не зная языка, но по датам я определяла, что обменивались письмами практически ежедневно. И поженились весной 1914 года. Где? Где была свадьба, я не знаю, но сразу после свадьбы они уехали в КаменецПодольский, где отец договорился о покупке типографии, поскольку он хорошо владел… будучи в Австрии и в Германии он попутно со своими делами овладел профессиями линотиписта, потом, я не знаю, как это называется, когда графику переводят в типографское производство. Там он купил типографию и тут же, через 2-3 месяца началась Первая мировая война. И они переехали в Екатеринослав. То ли оттого, что там фронт проходил, но, во всяком случае, они жили в Екатеринославе, и вот с тех пор началась деятельность моего отца в качестве ректора ешивы. Мама была домашней хозяйкой, естественно. В 17-ом году родила сына, моего брата старшего, Израиля. Тут же приехала семья дедушки, мамины родители с двумя младшими детьми, дочь Иохевид и сын Иегуда-Лейб. Иегуде было тогда три года. И вот, я, наверное, ошиблась, ему было больше, ему было тогда около семи лет, и о подробностях их жизни в Днепропетровске мне Иегуда-Лейб рассказывал в 91-м, 95-ом году, когда я с ним познакомилась в Израиле. Была у него в гостях. Значит, вот, в 22-ом году родители переехали в Киев. Мама была домохозяйкой. А какое было образование у мамы? Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 5 Мама закончила русскую гимназию в Замоще, но заканчивала она ее экстерном, потому что как дочь раввина и как верующая иудейка она не могла по субботам посещать гимназию. Но она закончила с золотой медалью экстерном русскую гимназию в Замоще. Какая у нее была семья, ее родители, ее братья, сестры? Отец матери был казенным раввином в Замоще. Как его звали? Мама была Рахиль Иосифовна. Но я знаю, что у отца было еще три имени, у него было всего четыре имени. Вот одно из имен было Шлома, это я помню. Бабушка Сарра. О моей бабушке до сих пор в Израиле ее земляки помнят, потому что я познакомилась с женщинами моего возраста, там, в 91-ом, 95-ом году, и даже немного старше меня. Когда я одним из них приехала в Рамат-Ган в гости, то хозяйка дома обзванивала все землячество и рассказывала, что у нее в гостях внучка ребецн. Бабушка овдовела с начала 20-х годов, но вот мне эти женщины рассказывали, что после гимназии они приходили к моей бабушке. Она их учила рукоделию, учила еврейскому языку, то есть она поддерживала с ними связь, и им было с ней очень интересно. Надо полагать, что она была интересным человеком. Что я еще знаю, что ее двоюродный брат жил в Петербурге, барон Гинзбург. Знаменитый меценат, и банкир, и промышленник. И вот из такой семьи происходила моя бабушка. Значит, бабушкина девичья фамилия?.. Гинзбург. А фамилия вашего дедушки? Фамилия моего дедушки Горовиц. Однако, для того, чтобы избежать мобилизации в армию царскую, ему… ну, существовал такой порядок, что в армию мобилизовывали… Если в семье было двое или больше сыновей, то их забирали в армию, а если сын был один, то его от армии освобождали. Поэтому у бездетных евреев, то ли за деньги, то ли по договоренности, покупали вот это первородство, то есть дедушкина фамилия была впоследствии Вайсброт, а его родного или двоюродного брата – Штернфельд, тоже был такой раввин Штернфельд в Замоще. И, кстати, и о дедушке и о его брате, Штернфельде, очень объемные и содержательные статьи в книге, изданной на иврите, о известных людях Замоща. У меня есть выкопировки на ксероксе, я сняла, о дедушке, о дяде и, кстати, о Розе Люксембург, которая тоже из Замоща. И мамина сводная сестра Мина уехала еще в конце XIX века с Розой Люксембург в Германию делать революцию. Дед, естественно, от нее отказался. Как я подозревала, но я оказалась права – она там вышла замуж за швейцарского коммуниста, христианина, была членом коммунистической партии. Жили они возле Цюриха и общались с Владимиром Ильичом Лениным, когда он был в Цюрихе. Потом она тоже была активным членом Коминтерна. Умерла тетя Мина в Швейцарии не очень давно. Я после пребывания в Израиле узнала адрес ее дочери, с ними списалась, и четыре раза была в Швейцарии достаточно продолжительное время. Познакомилась там с дочерью тети Мины, Манон. Она христианка, поскольку она вышла замуж, отец был христианином, и вышла замуж там же за местного швейцарского врача. И она мне очень много рассказывала о тете Мине, которая осталась вдовой с 11-летней девочкой, не знала, собственно, не имела профессии, не знала языка. Каким-то образом работала там каким-то клерком, машинисткой. Вот это такая одна ветвь. А сколько вообще было детей у вашего дедушки и бабушки? Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 6 Значит, дедушка первым браком был женат на женщине. У него было, помоему, двое или трое сыновей и дочка Мина. Сыновья эти, по-моему, сгинули в огне первой мировой и гражданской войны, это я знаю со слов Манон. А от второго брака, жена умерла при родах, вот, дочери, и он вторым браком женился на моей бабушке. Там тоже два сына погибли, по-моему, в гражданскую войну, где-то в районе Екатеринослава, это я помню со слов мамы. Кроме того, была старшая сестра Хана, потом шла мама, потом сестра Клара, которая на идиш называлась Кейла. В Израиле она приняла имя Хадасса и псевдоним Израэли. Она уехала в Израиль в 22-ом году, является одной из основоположников известного кибуца Эль-Харот. Умерла она на 96-ом году жизни. Очень много занималась благотворительностью. И о ней рассказывают, что в возрасте 80-ти, по-моему, 80-ти лет во время, по-моему, семидневной войны, она уехала на фронт, кормить израильских мальчиков, потому что они, наверно, соскучились по домашней еде. То есть, такая «Матушка Кураж» своеобразная. Ваши дедушки и бабушка были обеспеченными людьми? Они, я думаю, что обеспеченными. Дед служил, он был казенным раввином, он получал заработную плату от или муниципалитета Замощи, или от государства. После его смерти бабушка получала государственную пенсию как жена казенного раввина. Значит, дети все получили образование. Кстати, воспитывал их дедушка по-спартански. Мама рассказывала, что их зимой выпускали босиком на снег. Мама всю свою жизнь обливалась ледяной водой каждое утро. В доме у нас горячей воды не было, так что она просто ледяной водой, это все воспитание деда, по-моему, достаточно сурово-светское. У мамы была младшая сестра, намного младше, там разрыв был лет, наверное, 15. Иохевид. Она была очень образованная женщина, очень интеллигентная. Жила при бабушке. И в начале 30-х годов вышла замуж за польского еврея, вдовца, очень богатого, владевшего доходным домом и сетью магазинов в Варшаве. Я знаю, что их адрес – это была улица Маршалковская, главная улица Варшавы. Жили они в своем собственном пятиэтажном доме, в котором находился один из его магазинов. Фамилия его была Эйдельман. Когда я читала материалы по Варшавскому гетто, то там очень много об Эйдельмане написано, и один из его племянников был, по-моему… возглавлял восстание в Варшавском гетто. Иохевид с сыном и мужем погибли в Варшавском гетто. Был самый младший брат, которого мы всегда знали как Лейбеле. Он родился в 1909 году, был в Екатеринославе с дедушкой и бабушкой во время первой империалистической войны. Потом вернулись в Замощ. Какое у него образование, я не знаю. Он служил в польской армии, у нас была до войны его фотография в конфедератке, форме польского офицера. Значит, у него было какое-то образование, гимназия во всяком случае. В 35-ом году он переехал в Палестину, бежал от преследований Пилсудского. Поскольку в Палестине жила сестра Кейла Хадасса с 22-го года, уже укоренилась, дети, родственники, и жила самая старшая сестра Хана, которая переехала в Палестину в 30-ом году из Риги, где у нее была кондитерская фабрика, по-моему. Или аптека, или аптека и кондитерская фабрика одновременно, а она в Палестине купила, владела, во всяком случае, фабрикой по производству безалкогольных напитков. Жила в Хадар-Кармеле, это в богатейшем хайфском районе, там, на горе, была очень состоятельная женщина. Муж уехал тогда же, где-то в середине 30-х годов в Америку, и в Америку же уехали ее два сына, Михаил и, Саймон теперь он. Саймон. Тогда это были Миша и Сима. Миша Вайлер закончил перед войной в Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 7 Филадельфии ешиву, получил звание доктора-рабинера, и уехал городским раввином в город Йоханнесбург. И только много позже, уже при создании государства Израиль, он переехал в Иерусалим. И в 95-ом году он еще был жив. Жил в Иерусалиме. Саймон живет в Далласе сейчас, тоже очень пожилой человек. Старшая дочь у нее была, Рахиль, которая в Риге закончила, вероятно, университет, и поехала работать в Турин делопроизводителем в местную газету. Итальянскую. И вышла замуж за главного редактора. Когда началась фашизация Италии, они переехали в Канаду, и она умерла в Канаде еще задолго до смерти тетки. У дяди… так, значит дядя Лейбеле переехал в Палестину, работал чернорабочим, я видела его фотографии, где он катит тачку, груженую землей. Потом он работал служащим на какой-то фабрике, воевал за независимость Израиля, участвовал в осаде этой гостиницы в Иерусалиме, был сподвижником, политическим и военным сподвижником Бегина. Бегин даже был свидетелем на свадьбе его сына. Последний год… Жил он в Хайфе последние годы, и я его навещала дважды. Он жил в районе Большой Хайфы, Кирият Моцкен. Я думаю так, что поскольку я в 91-ом году первый раз приехала, он к этому времени уже был пожилым человеком, ему было 82 года, он не работал. Но перед этим он в течение семи лет был вайс-мером Кирият Моцкена. И в городе он очень уважаемый человек, и мне много, жители Кирията мне показывали дома, скверы, благотворительные, богоугодные заведения, которые были воздвигнуты благодаря стараниям моего дяди. У него два сына… один сын и две дочери. Сын, Иоси Ли Амф, он приял такую фамилию, юрист по образованию, в Австрии дослужился до генеральского чина и работал юридическим советником в Генштабе. После того как умер его тесть, он получил в наследство две крупные промышленные фирмы, он их объединил под эгидой своей юридической фирмы, и живет в Иерусалиме. Фирма его в Тель-Авиве, очень успешно ведет бизнес. Он является, как бы ведет юридические дела, кроме промышленных, по консультации не по гражданским делам, а вот по промышленным, по предпринимательским делам. Одна дочь, старшая, живет, замужем за египетским евреем. Они познакомились в армии в израильской, он приехал из Египта специально служить в израильской армии. Он биофизик, на стажировке был одно время в Соединенных Штатах, и потом они туда переехали. Живут они в Балтиморе, он работает в Вашингтоне, в крупной фирме, в которой он стажировался, а она в вашингтонском университете, ну, забыла, как он называется, джорджтаунский, по-моему, университет, она преподает хибру, иврит. Там у них есть кафедра, на которой преподаются восточные языки, там же у ее коллеги, я с ними познакомилась во время пребывания в Соединенных Штатах в 90-м году, во время пребывания в Балтиморе я совершенно случайно с ней познакомилась, оказалось, что мы – двоюродные сестры. Вот она меня связала с дядей, я на следующий год поехала к нему в гости. Значит, к нее на кафедре я познакомилась с преподавателем китайского языка, вот такая сводная кафедра, на которой она преподает хибру, у них называется, иврит. Младшая дочь живет там же, где жил дядя до последних дней, в Кирият Моцкене, она преподает фортепиано, она закончила иерусалимский университет, музыкальный факультет, потому что там консерватория, в Израиле, это среднее учебное заведение. Она закончила высшее. Еще, наверное, надо сказать о том, что дядя при переезде в Палестину, а может уже при завоевании независимости Израилем, вернулся, принял имя Иегуда, и официально он называется Иегуда Горовиц, хотя мы его знали дома всегда как дядю Лейбеле. Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 8 Скажите, пожалуйста, вот фамилия Горовиц, дедушка менял фамилию, она потом вернулась? Он не менял официально… он менял фамилию только официально, и дети там в документах Российской империи были написаны Вайсброт, но вся дедушкина переписка, у меня, кстати, есть ксерокопии писем дедушки к своим дочерям в Ригу, и с бабушкой он переписывался, когда бабушка была в гостях. В 14-ом году бабушка оказалась в Риге у старшей дочери. У меня есть целая подборка ксерокопий, потому что письма написаны по-русски. Поразительно, казалось бы такое традиционное иудейство, письма написаны исключительно грамотно, на русском языке, грамотным русским языком. Где он его изучал, это мне, в общем-то, сложно сейчас восстановить. И он мотивирует, что он пишет письма по-русски для того, чтобы цензура не должна была, чтоб не произошло задержки писем из-за цензурных всевозможных несуразностей. Все письма подписаны Горовиц, так что отец от этой фамилии, дедушка от этой фамилии не отказывался. Фамилия эта очень древняя, вот дядя Иегуда Горовиц, он очень увлекался историей своего рода, он мне даже подарил, им на иврите составленная генеалогическая таблица рода Горовицев. Из этой таблицы следует, что род происходит от Иегуды Геронти, который, ну, средневековый поэт, философ, служил при дворе мавританского владетеля Испании в XI веке, по-моему. Его творчество известно во всем мире, он писал на арабском, иврите и испанском. После, во время инквизиции в Испании, они переехали сначала в Голландию, этот род, потом оказался в Чехии в городке Горовиц, и там они получили эту фамилию Горовиц. Со слов дяди я знаю, я иврит не знаю, поэтому я разобраться в этой таблице не могу, но она у меня есть, может, кто-то заинтересуется и поможет мне ее перевести. Дядя мне сказал, что к нашему же роду относится и род Карла Маркса. Что они тоже по происхождению Горовицы. Значит, дядя… а, ну я уже говорила, по-моему, что он (нрб), что он принял фамилию… вернулся к фамилии Горовиц и имя Иегуда это за ним было закреплено. Это потом выкинете, потому что это уже накладка. Вы мне скажите, с какого возраста вы себя помните? Я не знаю, это, наверное, будет очень нескромно, значит, до 10 месяцев я жила, родилась и жила в Меджибоже. А родилась я в гостинице, которой владела (Монте Кибор???). Несмотря на то, что папина старшая сестра жила в двухэтажном кирпичном доме, для Меджибожа это было очень крупно, круто, если говорить по-современному, первый этаж дома занимала бакалейная лавка Фишмана. Это муж моей тетки. Значит, там торговали абсолютно всем. Я Меджибож посещала, я говорила уже, два раза, и я видела остатки всего этого благополучия. Но мама была так воспитана, что когда… … ры Яковлевны Авербух. Кассета №1, вторая сторона. Еще раз расскажите, что вы помните о Меджибоже. Значит, я Меджибож посещала два раза: в семилетнем возрасте, и в одиннадцатилетнем возрасте. Значит, гостиница, в которой меня мама родила, находилась через дорогу от дома папиной сестры, это на углу главной улицы и того угла, где был до революции театр. В Меджибоже был, ну, куда приезжали гастролеры. И после, уже во время моих визитов, там был кинотеатр. Это самый центр города. Вторая папина сестра, старшая, Серл, жила в отдельной усадьбе, тылы которой выходили к могиле Балшема. Ну, и мне эту могилу показывали, я ее помню, мы туда ходили, собственно, это было впритык к усадьбе. Ну, и поскольку мы прямые потомки Балшема, то этот культ в нашей семье, конечно, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 9 очень высоко поддерживался. В семилетнем возрасте, когда я была в Меджибоже, у местного раввина дочь была замужем за раввином города Вены. И она приезжала навещать своих родителей. Я помню, что мы с моими тетями и с дядьями ходили на околицу вместе со всем местечком встречать приезд дочери местного раввина. Значит, поскольку ближайшая железнодорожная станция находилась в Деражне, то в Деражне, так же как и мы, приезжали на фаэтоне, это больше 20 верст. Очень интересная, живописная дорога, красивые фаэтоны, балагула. Так вот, при въезде в Меджибож со стороны Деражни фаэтон был остановлен, местные молодые мужчины выпрягли лошадей, а сами впряглись в этот фаэтон, и довезли его с женой раввина до дома раввина. Я помню, это было где-то на полдороги между Меджибожским роскошным замком историческим и тем местом, где жила моя тетя. Вечером мы там были на приеме. Огромная комната, очень много гостей, стол с традиционными еврейскими угощениями. И еще я помню, что я декламировала поэму Лермонтова «Беглец». И приезжая вот эта дочь раввина сказала, что такая девочка оказала бы честь Вене, и предлагала моим теткам, это было в 28-ом году, предлагала моим теткам, что она меня заберет с собой в Вену, потому что тогда уже на Украине жить уже было практически… То есть, по сравнению с тем, как она там жила… Ну, конечно, тетки на это не согласились, потому что, собственно, они, родители были в Киеве, и я бы, вероятно, сама не согласилась, потому что я всегда была очень самостоятельной. А когда я себя первоначально помню, я вам сейчас скажу. Значит, в 22-ом году мы уже переехали в Киев. Значит, это было мне, наверное, года полтора. Мы сидели на бульваре в Екатеринославе с моей няней, которая по букварю учила: «Мы не рабы, рабы не мы». Я помню почему-то канализационный люк, который был открыт рядом с той скамейкой, на которой мы сидели. Кроме того, после того как закрыли ешиву и папа остался без работы, а он потомственный винодел, была там какаято, типа артели. И вот бочки с вином были установлена на таких открытых антресолях, то есть это, как видно, было двухсветное помещение, и деревянная лестница вела на антресоли, на которых стояли бочки. Там работали у папы молодые девочки, одна из них была Вера, она тоже очень долго с родителями переписывалась, я помню, как они меня брали на руки и тискали. То, что это было не позже 22-го года, это совершенно точно. Когда родители приехали с нами в Киев, мы жили сначала очень непродолжительное время на Жилянской, в 55-ом номере, на втором этаже снимали квартиру. Там праздновалось, вероятно, мое двухлетие. Взрослые сидели в одной комнате за большим столом, детей посадили за детский плетеный столик и детские плетеные креслица. На втором… Была веранда на втором этаже, и туда вела деревянная лестница. Один из гостей мне не понравился, мальчик, я его сбросила с лестницы со второго этажа. Я это очень хорошо помню. Шел проливной дождь. Я спустилась вниз. Соседи меня угостили раками, я знала, что раки есть нельзя, но я все-таки попробовала. Вот это я так помню. В 23-ем году мы переехали на улицу Совскую, в 18-й номер. Сейчас это улица Физкультурная. Что это был за дом? Это была усадьба, которой владели домовладельцы, вот с улицы – один кирпичный дом слева, одноэтажный, второй – два с половиной этажа: подвал, в котором жил сапожник, в котором жила портниха, в котором жил дворник, которого звали Ефремчик. Это я очень хорошо помню. Были, там же жила одна польская семья, на втором этаже, это практически был уже третий этаж, жила семья очень интеллигентных людей с фамилией Добролеж, их сын потом, судя Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 10 по, ну, публикациям, работал на киевской киностудии. Вот так. В одноэтажном кирпичном доме жила семья Розановых, тоже интеллигентные люди очень, дочка была пианистка, и даже меня в возрасте шести лет пытались учить играть на фортепьяно, вот. Поскольку у нас не было инструмента, то, тогда это называлось «упражняться» я ходила к этим Розановым. Сын был какой-то очень благополучный. Я думаю, что он был инженером. А во дворе был одноэтажный двухфлигельный дом такой, по-моему, саманного типа, очень неблагоустроенный, там жила, потом уже, впоследствии, туда въехала одна провинциальная еврейская очень бедная семья. Там были две дочери. Я не помню, как звали старшую, младшую звали Броня. Она была необыкновенной красоты. И вот я помню, где-то, начиная с 30-го, а может быть, с 29-го года… Да, были у нас там открыт один сарай небольшой, и вот эти молодые девушки, Розановы, Добролежи устраивали спектакли, продавали билеты, и шли они благотворительно в помощь беднякам. На этих благотворительных спектаклях я участвовала. Декламировала Лермонтова, в основном, это у меня с детства, и танцевала лезгинку. Это у меня тоже с детства. Значит, примерно с 29-го-30-го года за этой Броней ухаживал необыкновенной красоты молодой человек, которого звали Абраша. Он даже несколько раз приезжал на автомобиле, тогда это было поразительной редкостью. Потом они поженились, сейчас скажу, в каком году, наверное. Я как раз после болезни брюшным тифом, я была в четвертом классе, значит, мне было 11 лет, это был 32-1 – 33-й год. Они уже тогда поженились, и он приезжал еще на Совскую, я помню, и после войны мы встречались на улице, очень мило раскланивались, и этот Абраша, это Абрам Поляченко, основатель Киевгосстроя. И сейчас его сын, Владимир Аврумович Поляченко, возглавляет эту крупнейшую на Украине фирму Киевгосстрой. В глубине двора стояла еще одна одноэтажная мазанка. Там жила многодетная семья украинская. Мы жили в двухэтажном каменном, кирпичном доме, во дворе уже, не с улицы, не с фасада, а во дворе. На втором этаже жил домовладелец, его жена с дочерью, с его падчерицей. Ну, кроме того, что он владел домом, тогда уже НЭП был. Он еще держал фаэтоны на выезд, и у нас во дворе был такой круг, на котором тренировали лошадей для того, чтобы они не застаивались. Поэтому я с детства очень близко, не боялась лошадей, и с детства очень лошадей люблю. Кроме того, на втором этаже жил инженер путей сообщения Конечный. Наконечный. Жена у него была Екатерина Фотиевна, гречанка. Очень дородный человек, очень милые люди, мы с ними поддерживали очень хорошие отношения. На первом этаже в этом доме родители сняли трехкомнатную квартиру. Там был туалет, ванной не было, кухня без тамбура выходила прямо железной дверью на мороз. Я не очень помню трехкомнатную квартиру, потому что нас тут же уплотнили, и самую большую комнату, которая была нашей детской, отдали семье по фамилии Сергеевы. Муж, который работал машинистом на паровозе и ездил в поездки в Одессу. Они из Одессы, она из Молдавии. Звали ее Шура. У них потом родился ребенок, и уже когда весь этот дом расселили, они жили на Ленина, в 36 доме. Значит, дверь из детской в нашу столовую ничем не была изолирована, она просто была закрыта на ключ. Поэтому, по-моему, вместе с русским языком я слышала классический мат, которым разговаривал со своей семьей вот этот паровозный машинист. Он был в свое время, не знаю, партизан или как. тогда это были не партизаны, но это были какие-то там войска непонятные. Красные. Он был коммунистом, это я помню. У них всегда была собака доберман-пинчер, огромная высокая собака, большая. Во время голодомора вся семья питалась за Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 11 счет этой собаки, потому что собак обеспечивали субпродуктами мясными. И всегда, все время в кухне общей варилась вот эта требуха. И этот запах до сих пор, отвратный запах этой требухи до сих пор меня преследует, несмотря на то, что это были голодные годы, и, может быть, это вызывало бы какие-то другие ассоциации. Еще в нашем доме у соседей была огромная собака бульдог, с которой я тоже очень дружила. Собаки меня очень любили, я до сих пор не боюсь никаких собак. Но однажды я на этого бульдога очень обиделась, потому что в кои-то веки собрали деньги и мне купили сандалики новенькие. Мне было лет шесть. И этот бульдог оторвал пряжку в новых моих сандалиях. Это было самое большое детское огорчение, которое я помню. Игрушек у меня не было. Мы жили очень бедно, поскольку у отца профессии, собственно, не было, он не мог работать нигде, даже бухгалтером, хотя у него… хотя он владел этой профессией. Потому что из-за его религиозных убеждений работу, на которой можно было бы по субботам и по еврейским праздникам не работать, он в Киеве найти не мог. Значит, он перебивался какими-то случайными заработками. И я помню, однажды он привез домой какой-то грязный пресс, и даже я помогала на этом прессе штамповать наконечники на карандаши. Вот когда-то на карандаши, чтоб грифель не сломался, жестяные наконечники надевали. Вот эти наконечники мы штамповали на этом прессе. Это была какая-то надомная работа, кустарная. Игрушек у меня соответственно не было. Значит, первый целлулоидный голый пупс у меня появился, когда мне было 10 лет. На радостях я его завернула в огрызок старого байкового одеяла, вышла на ворота и стала его баюкать. И тогда по двору пошел слух, что мадам Авербух родила третьего ребенка. Это была моя игрушка, (нрб). Но это в 10 лет. А в 7 мой брат, который был старше меня на 11 лет, приволок откуда-то коньки «Нурмис», привязал мне их к ботинкам, какие-то еще были, пластиночки это называлось, прикрепил, и я начала кататься на этих коньках. В 14 лет я уже каталась на беговых коньках. И сейчас мне 80, и я продолжаю кататься на беговых коньках на Ледовом стадионе. А на каком языке разговаривали ваши родители? Родители между собой – на идиш, а с нами, и мы между собой, естественно, только на русском. Я помню, когда я в первый раз в первом классе пришла к школьной соученице, которая жила рядом со школой, Тине Ковалевской. Ее мама была учительница русского языка. Она ужасно удивилась, узнав, что я еврейка, почему я разговариваю без акцента. А я никак не могла понять, почему я должна разговаривать с акцентом. Мама говорила по-русски исключительно грамотно, мама великолепно знала польский язык. Когда появились в 39-ом году польские беженцы, она с ними говорила абсолютно свободно, и мама свободно говорила на немецком языке. Но русский язык она знала, по-моему, лучше меня. Такое у меня впечатление. У вас была… был многонациональный двор? У нас двор бы не многонациональный. Одно время мы были единственными евреями на нашем квартале, а, может быть, и на всей Совской улице. Дом был очень открытый, жили мы на первом этаже, окна были всегда открыты. На Пасху, по субботам, на все еврейские праздники, которые отмечались с максимальной традиционностью, пелись еврейские песни. Я до сих пор помню, как пели (поет на идиш) на Пасху, стояли соседи под окнами, получали удовольствие, и никогда в жизни никакого намека на оскорбление я не слышала ни с чьей стороны, так же и мои родители. Отец пользовался уважением на улице, перед ним все снимали шляпы, когда он проходил. Маму иначе как Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 12 мадам Авербух не называли, и все молодые девочки старались одеваться так, как одевается мадам Авербух, а одевалась она так. Из папиной, папа в армии не служил в первую мировую войну, но шинель у него была. Потом ее покрасили. Потом из этой шинели перешили брату бекешку, а потом из нее сделали суконки для натирания пола после мастики. А потом мама ее постирала, извините, в моче, докупила лоскут файдешина, и пошила сама себе платье, о котором говорили, что мадам Авербух одевается так, за какие деньги, никто не понимал. Вот так. У нас всегда в доме на праздники и на субботы за трапезой присутствовали, ну, от синагоги командировали, или командированных, или просто приезжих. У нас всегда были штатные, ну, не знаю, как сказать слово нищие, не знаю. Но люди, которым регулярно, ежемесячно выделяли определенную сумму их наших очень скудных возможностей. У нас, несмотря на папину религиозность, уже когда брат вырос, мы уже тогда жили на Предславинской улице. За сейдером всегда присутствовали христианские товарищи моего брата, им очень интересно было все это наблюдать, или мамины сотрудники христианские. Вот это поразительно, насколько широкий кругозор был у моего отца, и вот он за еврейским праздничным столом… сейчас мне кажется, что это должно удивлять, тогда это меня не удивляло. Брата друзья, ну, например, самым близким другом был Владимир Евгеньевич Патон, старший сын академика Патона. Для него самый большой интерес, вот он приходил к брату, брат уходил, а он оставался с папой дискутировать по всевозможным философским вопросам. И там другие друзья моего брата. Вот. Ваш отец читал? Любил чтение? Ну, русской литературы – я не помню, чтоб он книги читал. Мать читала очень много. Брат доставал такие уникальные книги, не знаю, где он выменивал. У нас, например, был, 33 тома Ежена Сю с «Похождениями Рокамболя». Поразительно. Первые «Гроздья гнева» Стейнбека принес брат в 37-ом году. Где он его достал – понятия не имею. Читал запоем. Жили мы потом в одной комнате на Предславинской. Брат себе приделал батарейку и лампочку и читал под одеялом, потому что родители возражали против чтения. Читали мы запоем, читали очень много. Более того, когда этот инженер путей сообщения, Наконечный, с Екатериной Фотиевной переезжали в другой город, они распродавали все, что там у них было. Ну, это за какие-то гроши, за какие-то копейки все. Ну, соседи там раскупали все, что угодно. Маме некогда было, она работала, я поднялась… а мне тогда, значит, было, ну, девять лет, может быть, восемь. Единственное, что я у них купила, это… художественная литература в это время выпускалась выпусками, значит, я купила один из выпусков Голсуорси, «Саги о Форсайтах», «Белой обезьяны». Мама была счастлива, когда я ей принесла вот такую покупку. Я это читала в восемь лет с наслаждением. И тетя моя, жена папиного брата, доктора Авербуха, осуждала маму, почему она разрешает мне читать так рано такие вещи. Мама была очень неконфликтный человек, и она не вступала в дискуссии, а я наоборот. Я ей объяснила, что если я не понимаю, что там написано, то вреда мне от этого не будет. А если я понимаю, то лучше, если я об этом узнаю отсюда, а не с забора. Вот это то, что я объяснила тете в восьмилетнем возрасте. Мама была очень большой театралкой. У нее к этому были возможности большие, поскольку она работала кассиром. До войны, а, может, и после войны практиковались уполномоченные театральных касс, которые разносили по учреждениям театральные билеты в кредит. И потом, во время выдачи заработной платы, мама удерживала деньги за эти билеты. Поэтому ей всегда эти распределители давали контрамарки на Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 13 премьеры, просто на спектакли, на гастролеров. Поэтому, сколько я себя помню, меня мама всегда водила с собой на эти спектакли. Значит, первый, помоему, спектакль, который я запомнила, меня мама водила в клуб металлистов, где ныне находится театр оперетты киевский, на спектакль „Родина щіткарів”, ужасно трогательная мелодрама, не помню автора, о слепой девочке из семьи слепых, которые делали щетки. Второй раз, вероятно, в шестилетнем возрасте, я была в том же помещении, где теперь театр оперетты, там были последние гастроли знаменитой артистки Клары Юнг. Ей тогда было 70 лет. Я запомнила, как она танцевала и пела на идиш, это все было очень интересно. Кем работала ваша мама? Моя мама была домохозяйкой и воспитывала двоих детей. Причем, дети воспитывались очень по-спартански. Ну, надо было топить печи – значит, сколько я себя помню, может быть, с пятилетнего возраста, привозили дрова, приглашали там, нанимали пильщиков и пилили. А колол дрова уже брат, десятилетний, а охапки с дровами носила я. А потом, если надо было, оставались недопиленные, я помню, как двуручной пилой я в самом раннем детстве с братом пилила. Все это носило во дворе у нас такой характер… Вот я не знаю, когда строят дом в селе, как это называется? Толока. Толока. Вот так, толока была объявлена у нас по дровам у всех соседей. Потому что соседи нас приглашали, когда нужно было вот эти дрова готовить к осени. Мы их носили, потом нас угощали. Двор жил удивительно дружно, удивительно уважительно. Причем, не отходя от кассы. Сапожник жил тут же, шил туфли. Значит, раз в год шились черные лодочки на небольшом каблучке для мамы, и так она зимой ходила в черных лодочках. Брат в школу пошел в пятый класс, потому что из-за религиозных убеждений отца ему нельзя было ходить в школу по субботам. Ходила милиция, пытались штрафовать. К брату ходил… Как звали брата? Израиль. Изя. Дома он был Изя, так он был Израиль. В честь Балшена, поскольку Балшен тоже был Израиль. А брат был седьмым коленом по прямой линии. Значит, к брату ходил Меламед. Брат был удивительно неспособен к языкам, он великолепный техник был. Ну, впоследствии я там расскажу о нем. Брат ничего не запомнил, а я до сих пор помню «фир кашес», которые я могу спросить за сейдером, и до сих пор удивляю всех. И, даже приехав в Израиль, я вспомнила, что нехем – это хлеб, а келед – это собака. Это мне было тогда три года максимум. И к брату ходили светские учителя, которые с ним проходили курс начальной школы. А уже в пятом классе он пошел в школу. И, когда он пришел в школу в коротеньких брючках, ну, шорты то что теперь называется, он пришел ужасно огорченный, потому что его… улюлюкали на него, засвистывали, что он такой аристократ, что он ходит в коротких брючках и в носочках-гольф. Соседи осуждали маму за то, что дети в мороз ходят с голыми, извините, попками. Трусики ситцевые, полотняные, и чулочки в резинку, на резинках. Единственное теплое, что я помню в очень большие морозы – это хлопчатобумажные черные рейтузы. Поскольку мы действительно были очень бедные, то я донашивала всегда брючки брата, поэтому я в брюках всю жизнь хожу, освистывать меня начали где-то в 50-е годы в Донбассе и в Днепропетровске, когда я в командировку в брюках приезжала, то я это просто потому, что надо было донашивать брючки, из которых вырос брат. Мне все шила мама сама. Мама была великолепная рукодельница, несмотря на то, что у нее на правой руке указательный палец был согнут навеки, у нее, вот сразу Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 14 после моего рождения был сепсис, общее заражение крови. Началось оно с правой руки, и вопрос стоял об ампутации. Ну, вот характер матери. Я так считаю, что это от воспитания. Она не разрешила ампутировать руку. Она сказала, что остаться без правой руки с двумя детьми – она их загубит. Так лучше пусть у них будет мачеха, а дети будут ухоженные. Но, слава Богу, обошлось, но у нее правая рука была не в порядке. При этом она отлично шила, ну, и вязала, соответственно. Вот так вот. Значит, мама не работала, но в 29-ом году у отца случился… воспаление седалищного нерва, ишиас. И его залечили, ему кварцем сожгли нерв или сухожилие, я не помню. Он два года лежал пластом. Я помню, что мы ели песок, и спали на песке, его горячим песком отхаживали, и отглаживали этими, утюгами, которые грели соответственно на примусе. Что такое примус? Примус – это горелка, наподобие паяльной лампы, в которой топливом служит керосин. Сейчас, может, люди не знают, что такое керосин, но сейчас на керосине летают все самолеты. А раньше керосин – это было бытовое топливо, на всех углах торговали керосином, вонь неимоверная. В каждом доме стояла бомба замедленного действия – бутыль с керосином. Наливали его в резервуар примуса, который стоял на трех ножках проволочных. Резервуар медный или латунный, туда заливался керосин, и под давлением накачивался в форсунку. Горелка горела очень интенсивным шипящим пламенем. Конечно, оно регулировалось, можно было делать меньше, можно было делать больше. Форсунки засаривались бесконечно, их прочищали специальными иголками. И вот на них все готовили. Зимой, конечно, старались все готовить на… грубка, это на Украине называется, это отопительная печь, ну, голландская печь, или как она называется. Еще стояли плиты, чугунные плиты четырехконфорочные, на которых зимой готовили. А летом старались обходиться вот этими самыми примусами. Значит, грели утюги на примусе и папу гладили. Ну, каким-то образом, после двух лет этих мук он поправился. Но тогда была на Украине дикая безработица. Мама, очень образованный человек, абсолютно не имела никакой профессии. Она очень долго ходила на биржу труда. Что такое биржа труда, наверное, объяснять не надо. Сейчас они тоже появились. И все абсолютно было бесполезно. Однажды она получила наряд на сбор клубники где-то далеко за Ирпенем. Конечно, никакого дохода от этой работы не было, и это вообще была разовая работа. И, наконец, ей повезло. На нашей же Совской улице, наверное, в восьмом номере, была деревообрабатывающая артель. Во дворе стояла циркулярная пила под открытым небом. Это был такой лесопильный цех. Маму туда взяли чернорабочей. Это было в июле месяце. Она подавала бревна на эту циркулярную трубу, получила солнечный удар, и благополучно упала в обморок. Ее пожалели и перевели в уборщицы конторы этой артели. Ну, это уже было, конечно, очень хорошо, но поскольку заработок был очень малый, а женщина она была очень толковая, ее повысили в звании и сделали курьером. Что такое курьер, теперь, наверное, никто не знает. Это надо было по всему городу и по пригородам разносить бюрократическую документацию, расписываться в журнале, что туда-то сдал, там расписались, привезти эту расписку обратно. Выдавали ей трамвайные деньги, она, конечно, бегала пешком, потому чтоб деньги сэкономить, но она от работы уборщицей не отказалась. Она днем работала курьером, а вечером я с ней ходила убирать контору. Мама мыла полы, а я делала влажную уборку конторских столов. И через некоторое время ее перевели на должность кассира-инкассатора, так Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 15 официально называлась должность. Она заключалась в том, что мама ездила ежедневно оформлять финансовые документы в банк, который находился, где и сейчас находится Центральный банк. Ездила она 18-м трамваем по КруглоУниверситетской, и когда в один прекрасны день этот трамвай врезался в угловой дом на улице Бассейной, я легла спать и перекрыла голову подушкой, чтоб, если я проснусь, может, мама уже будет дома. Потому что, это как раз тот маршрут, которым пользовалась мама. Она, кроме оформления ежедневно финансовых всех документов, выплачивала сотрудникам зарплату. А цеха были в Пуще-Водице, в Святошино, на Куреневке, на Подоле. Потом и сама контора переехала на Нижний Вал. И вот мама возила зарплату в Пущу-Водицу в дамской сумочке на 12-м трамвае. Возвращалась поздно, с остатками денег, и это все было совершенно дико, потому что перед войной транспорт работал очень трудно. При этом дома всегда был идеальный порядок. Надо было накормить семью из четырех человек из ничего вообще, потому что все было очень скрутно. Папа после того как поправился, в Киеве он устроиться работать не мог. Он уехал в Яготин, в какую-то артель, где он делал вино. Я помню, как он оттуда… Я, будучи школьницей первого класса и второго класса, стояла в очереди за хлебом по карточкам, простояла целый день, и мне не досталось хлеба. И вот я так, голодная, пришла домой, и, конечно, мама была в ужасе, и я была в ужасе, и в это время приехал папа и привез кусок колеса макухи. Что это – макуха? Макуха – это каменные выжимки от производства масла, из мака, в данном случае, или из подсолнечника. Но папа привез из мака. Это абсолютно как мельничный жернов, такой формы и такой крепости. Вот папа привез один сектор от этого. И я помню, как я своими молочными зубами грызла эту макуху. И я тогда бабушке первый раз в Польшу написала, что, вот, мы сидим без хлеба, и папа… И меня мама очень обругала, и запретила это письмо бабушке посылать, потому что бабушка – вдова, живет на вдовью пенсию, и незачем ее расстраивать. Брат по окончании семилетки, тогда еще, когда брат заканчивал семилетку, еще 10-х классов не было. Только через два года после того, как брат закончил семилетку, при нашей же школе организовали уже тогда 8-й класс. Он поступил в техникум связи, который сейчас как Политехникум связи существует на улице Леонтовича. Однако, его тут же, в 31-ом или 2-ом году перевели в Харьков, и он, 14-летний мальчик, уехал в Харьков, жил там в общежитии. Материально родители ему не могли помогать абсолютно. Я помню одно из писем, которые брат прислал. Обрадовал маму, что он сегодня постирал носки, потому что он знал, что мама очень волнуется, как он там следит за своей гигиеной, вот. Правда, в умывалке, холодной водой и без мыла. А в 34-ом году, наверное, вот как раз, когда начали появляться коммерческие магазины, то есть уже стали… где-то подходила отмена хлебных карточек, брат вернулся из Харькова с дипломом техника-связиста. И, поскольку по специальности он устроиться не мог, ему тогда было 17 лет, он пошел в мамину артель. Работал на изготовлении пружинных матрасов. Овладел специальностью моментально, его страшно хвалили. И когда ему удалось устроиться в киевский Политехнический институт на радиофакультет заведовать радиолабораториями радиофакультета, то там были очень огорчены, что они теряют такого работника. И до самой войны брат проработал в киевском Политехническом институте на радиофакультете. Оттуда 6 или 7 июля он добровольно ушел в армию, пошел призываться в военкомат на Кругло-Университетской. К этому времени он уже закончил 1-й курс очного Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 16 отделения радиофакультета. Я в это время закончила уже 2-й курс электротехнического факультета. На радиофакультет меня не брали. Скажите, пожалуйста, вы помните голодомор? Великолепно помню. К сожалению. Я выходила из дому, шла в школу, кстати, в школу надо было идти, переходить трамвайную линию на Красноармейской. Даже в первый день меня никто не отводил. Мама работала, я сама ходила в школу. Я помню, как на, значит, Физкультурная улица, Совская, на том участке, на котором мы жили, была односторонней. Вторая сторона – это был забор товарной станции, складов товарной станции. Насыпь к этому забору шла такая мягкая, черноземная, и на этой насыпи лежали опухшие люди или трупы. Это я помню. Я великолепно помню огромные круглые печи, в которых варили асфальт, в котором кишмя кишели беспризорные. Вот то, что в картине «Путевка в жизнь» показывали потом, я это великолепно помню. Но что очень характерно, я проходила, маленькая девочка, ребенок, проходила мимо этих печек, в особенности зимой они там грелись, я совершенно этих детей, абсолютно. Они абсолютно не были агрессивны по отношению к нам. Это удивительно. Не было такого, что они пытались что-то забрать? Ну, наверно, у меня нечего было забирать, честно говоря. А у вас в доме как в это время было с едой, во время голодомора? Ну, вот я ж вам рассказываю, как, что папа когда привез кусок макухи… Значит, еще у нас случилась очень большая беда. Значит, стирать большое белье, и мужское полотняное исподнее, и простыни, и пододеяльники, скатерти приглашали прачку. Значит, она белье с ночи замачивала, потом целый день его стирала, вываривала, полоскала. На следующее утро она приходила. Оно оставалось на ночь в кухне. Сначала были деревянные бальи, в которых стирали, потом это стала цинковая большая бадья. Она заливала после первого полоскания холодной водой, на следующий день полоскала, синила, крахмалила и вывешивала. Значит, когда в одну из прекрасных ночей она оставила эту балью, полную чистого мокрого белья, утром его не оказалось. Выбили окно в кухне, и украли абсолютно все белье, и украли серебряные ложки и вилки, которые лежали в коммунальной кухне, не закрываясь в ящичке. Значит, все все знали. Поскольку тогда воровская честь была очень высока, папа пошел вести переговоры с местным уркаганом. И они ему сказали, что… А они были знакомы? Папа знал?.. Нет, ну все знали, все ж друг друга знали. Значит, они папе дали честное слово, что это не они, потому что они законы знают – там, где они живут, они ж не воруют. Мы остались голые абсолютно. Значит, папа из своих… во время своей работы из Овруча привез настоящие крестьянские рядна домотканые, ну, из конопляного, наверное, из конопляной пряжи. Я думаю, что я здоровая такая оттого, что я в детстве спала на таких пододеяльниках. Что-то присылали тетки из Меджибожа, какую-то помощь. Ну, мы остались голые и босые. И вот это вот было во время голодомора. Ну, начнем с того, что я, ну может быть 20 лет, последние 20 лет хожу в сухой обуви. Все свое детство, и в войну, и после войны, у меня всегда были мокрые ноги. Не было денег на нормальную обувку. Скажите, пожалуйста, началась резкая, в 20-е годы, советизация окружающего мира. Как относилась ваша семья? Моя семья относилась, отец ненавидел эту всю советскую власть черной ненавистью, у нас в доме все говорили открытым текстом, при детях. Я не понимаю, почему они не боялись, что из меня вырастет Павлик Морозов. Этого Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 17 я не понимаю. Я была очень активной, я великолепно училась в школе. Я за 10 лет обучения в школе не имела не только в четверти или в год четверки, я не имела четверки и текущей. Начиная с какого-то пятого класса, если директор школы, который преподавал географию, или завуч… Интервью с Авербух Деборой (Ниной) Яковлевной. Кассета №2. Нина Яковлевна, мы говорили о взаимоотношениях вашей семьи и советской власти. В нашей семье родители, да и дети тоже, относились к советской власти резко отрицательно. Отец говорил, что петлюровцы, что красные, что махновцы – это было все одно и то же. Дома в открытую рассказывали антисоветские анекдоты, дома говорили открытым текстом абсолютно все, совершенно не опасаясь, что дети окажутся Павликом Морозовым и заложат своих родителей. Значит, был такой период во время советской власти, это было где-то тоже между 30-м или 29-м и 33-м годом, так называемая «золотуха», то есть из евреев, а может и не только из евреев, трясли золото и драгоценности. Наша семья от этого не пострадала совершенно, потому что у них очень хорошая была информация – прекрасно понимали, что дома ни драгоценностей, ни золота нет. Значит, у отца, когда он был благополучным дореволюционным гражданином, у него были золотые карманные часы, которые благополучно карманники вырезали в поезде по дороге из Екатеринослава в Киев. У мамы было одно обручальное кольцо, которое во время голодомора она отнесла в Торгсин… Что такое Торгсин? А можно сноску потом? Да. Отнесла в Торгсин и купила на полученные деньги ржаную муку, потому что она была самая дешевая из продуктов питания. Торгсин – это сокращенное торговля с иностранцами. Ни с какими иностранцами не торговали. Туда советские граждане приносили обручальные кольца, кольца, брошки, старые зубы золотые, золотые монеты царские. Их принимали как металлолом, на вес, и на них можно было купить продукты и одежду. Мне там когда-то купили резиновые тапочки, те, которые сейчас называются полукеды. Это была мечта идиота. Значит, кроме этого золотого кольца, пару раз, я помню, бабушка из своей вдовьей пенсии переводила, я помню, 5 долларов один раз, может быть, второй раз 5 долларов. Это из Польши переводилось якобы на наш адрес, но прямо на банк. Там выдавали типа чеков чего-то, и на эти чеки можно было тоже отовариться. Но «золотухи» трясли всех наших знакомых, родственников, и родственников наших знакомых, и знакомых наших родственников. Поэтому у нас всегда в эти годы, где родители жили в малюсенькой 9-метровой спальне, а мы с братом – в столовой, метров 25. Сколько я себя помню, я спала на сдвинутых стульях. Сначала я спала в детской кроватке с сеточкой, чтоб не выпасть, а потом я спала на сдвинутых стульях, потому что на тех кушетках, и даже не кушетки, а сундуки старинные кованные, на которых мы с братом спали, они всегда были заняты гостями. Диван там стоял и вот эти сундуки. Значит, кроме того, что приезжали, по-моему, я об этом уже говорила, родственники к врачам, по бюрократическим своим вопросам, у нас останавливались. Во время этой самой «золотухи» у нас всегда жил кто-нибудь из известных богатых евреев, которые прятались от арестов, потому что дома на них охотились. Значит, это был раввин… ладно, я вспомню потом. Кроме того, это был Ганапольский, раввин. Я сейчас не могу вспомнить еще фамилии. Они, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 18 одни жили на Мало-Житомирской, в центре города, другой жил на Владимирской. Они сутками лежали на диване под одеялом, в нижнем белье, слава Богу, у нас туалет в общей квартире был наш личный, соседи им не пользовались. Поэтому они на соседей не «светились». Но у меня впечатление, что соседи все равно об этом знали, но никто ни на кого не донес. Вот так по полгода они у нас жили. К ним приходили навещать их жены, приходили навещать их дети. С мамой было все значительно сложнее. Поскольку мама урожденная Польши, когда мама там жила, то была Российская империя, маму несколько раз, ну, это уже были 36-ые, 37-ой год, вызывали на Владимирскую 33. это, как тогда называлось, НКВД. И держали ее сутками. Вот это самые страшные дни в моей жизни, самые страшные сутки. Опять же, перекрывалась с головой – проснусь, а вдруг мама уже дома. Значит, мама рассказывала, как ее заставляли стоять в коридоре. Прислоняться к стене нельзя было. А надо сказать, что у мамы была страшная подагра, у нее были очень больные ноги. Прислоняться к стене нельзя было, ни присесть, и ждать собеседования. Основной вопрос – когда ваши родственники выехали за границу. Объяснить этим юристам, что не они выехали за границу, а она выехала за границу… Она им объясняла, что она выехала, значит, весной 14-го, когда это была Российская империя. А летом 14-го началась империалистическая война, Польша отделилась потом, и она оказалась по эту сторону, а не они по ту сторону. Ну, ее, слава Богу, благополучно отпускали, через полгода ее снова туда забирали. Вот это были самые страшные дни. Какие были взаимоотношения между вами и братом? Вы с ним дружили? Дружили – это не то слово. Поскольку мама часто работала, а отца дома не было, брат был самостоятельным, очень самостоятельным человеком. Ну, если он в 14 лет уехал на собственное жилье! Во-первых, мой брат мною очень годился. Он считал, что ему не под стать с его сверстниками соревноваться, там, в декламации или в спортивных состязаниях. Значит, он меня от семьи выставлял со своими сверстниками на легкоатлетические соревнования, на конькобежные соревнования. Брат меня приобщил к чтению, самому раннему чтению, и приносил в дом все, что могло представлять какой-то определенный интерес. Я была в курсе всей современной, ну, и советской литературы, и европейской и американской, и я была, знала всю классику, и русскую классику, и европейскую классику. С этим вопросов не было. Брат меня опекал. Самое интересное, что моя мама никогда в жизни не волновалась о судьбе своей дочери, которой сначала было очень мало лет, а потом в начале войны мне исполнилось 20 лет. Мама никогда не волновалась, поздно я возвращаюсь, не поздно, я всегда была в компании брата, и он всегда был при мне. И тут было железно, и уже ничего не могло пройти. Значит, в детстве, если брату выдавали 5 копеек на кино, а кино крутили, серию немого кино, американское, вот я помню, фильмы с Дугласом Фербенксом, с Мэри Пикфорд. Фильмы эти крутили в школе Ратманского на улице Горького, где еще с довоенного времени и поныне находится администрация института Патона. Там был великолепный зал, и я туда с братом ходила в это кино. Тогда брат ходил со своей компанией мальчиков, ну, тогда им было, я не знаю, по 10 лет, мне было соответственно 6 лет, они летом ходили на Черепанову гору. Черепанова гора – это то, что сейчас возвышается над Олимпийским стадионом нашим. Поскольку это было недалеко от нас, это все было, там Троицкий рынок, бассейн и прочее. Он меня всегда вынужден был брать с собой, потому что дома меня не на кого было оставлять. Я участвовала в прыжках в длину и в прыжках в высоту. Надо Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 19 сказать, что брат был великолепным спортсменом, уже работая в КПИ, он серьезно занимался спортом, он ездил на велотреки, он был великолепным шоссейным гонщиком велосипедным. Он вел секцию велосипедную в КПИ, и вот я в этом году, 9 мая, когда пришла класть в память о нем цветы к памятнику в КПИ, жертвам войны, я там встретила группу выпускников, то есть, я поступала в КПИ в 39-ом, а они к этому времени уже закончили КПИ. И когда я сказала, что я сестра Изи Авербуха, они все сказали: «Ну, как же, он у нас вел секцию велосипедного спорта». Он был великолепным боксером, он меня приобщил к конькобежному спорту, в котором у меня были очень большие успехи. Я занималась в спортивной гимнастике. В наше время художественная гимнастика – это был буржуазный спорт, так же как и фигурное катание. В КПИ я была в секции спортивной гимнастики с очень хорошими показателями, я там играла в КПИ в баскетбол, и играла в волейбол уже после войны, в команде профессуры, поскольку я уже тогда в КПИ работала. И это все благодаря брату. Такая у меня была защита. Ну, не без того, конечно, что мы между собой там, дискутировали, мягко говоря, потому что характеры и у меня, и у него были очень самостоятельные. До драк не доходило? Нет, нет. Это исключается. Вот. У нас еще одно время жил двоюродный брат, Гриша Фишман, это сын тети Тубы, папиной сестры. Он служил в армии в конце 29-х годов, кавалеристом. После демобилизации из армии он устроился на завод «Большевик» токарем по металлу. И работал три смены, и приходил домой в этом засмальцованом, все в мазуте, в масле, и в стружках одежде. Надо сказать, что у мамы при том, что она очень тяжко работала, и приходила с работы вечером поздно, и садилась на стол под абажур штопать мужские носки на двух взрослых мужчин, хлопчатобумажные, и свои фильдеперсовые чулки, на которых живого места уже не было, она еще вышивала подушки ришелье белые. У нас было 37 подушек диванных. И вот Гриша сваливался со своей этой грязью на это все, и полы натирала мама сама мастикой, а Гриша заходил, не вытирая ног. А сделать замечание мама не могла, потому что это папин племянник. Вот. Так Гриша со мной занимался… Ну, он был 5-го года рождения, значит, он был на 16 лет старше меня, как вы понимаете. Так вот, он со мной дома устраивал цирковые номера, он меня подбрасывал к потолку, держал, там, на одной руке, на ладони. Так что меня тренировали два брата, и я… Поэтому, наверное, у меня такой мужской характер. Самостоятельный. У брата была девушка? Перед самой войной, за год, может быть, из Харькова приехала необыкновенно красивая девушка. Звали ее Сима. Брат был внешне, ну один к одному, Владимир Высоцкий. Такого роста, такого телосложения, очень изящный, очень ловкий. Но роста ниже среднего. И внешность была, прямо скажем, такая же не стандартная, как у Высоцкого. Сима была выше его, необыкновенной, библейской, еврейской красоты девушка. И у них был очень серьезный роман. Но он кончился ничем, потому… Брат ездил как-то в Харьков, она часто приезжала к нему. Ну, тогда отношения были между молодежью не такие, как сейчас. И кончилось это ничем, потому что его забрали в армию, и его на войне… он ушел в армию, и на войне он погиб. Судьба этой девушки неизвестна? Я не знаю, началась война. Я была в Харькове, когда я из Киева выехала, я была в Харькове месяц примерно. По-моему, я с ней не виделась. Мне очень трудно сейчас это вспомнить. Ну, ему было 24 года… Он великолепно зарабатывал, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 20 потому что, кроме того, что он работал на приличной должности в Политехническом институте… Частного предпринимательства у нас не было и быть не могло, так же, как и секса не было в Советском Союзе, но ему со всего города возили приемники домой на ремонт. У нас вечно за столом невозможно было пообедать, потому что стояли разобранные радиоприемники. Филипс, Сименс. В особенности это началось в 37-м году, когда начали привозить из Западной Украины трофейные эти приемники. Он очень хорошо зарабатывал, у него был очень дорогой гоночный трековый велосипед, который он, кстати, отдал мне в эвакуацию. Он сказал, что если придется пешком идти из Киева, то я свой узелок или рюкзак смогу привязать к раме. И я его оставила на вокзале в Харькове, когда я садилась в теплушку на Саратов. У него за год до войны, наверное, появился мотоцикл «Харлей-Девидсон» в африканском исполнении, то есть, с двумя выхлопными трубами, мощнейший. Это стоило, наверное, большие деньги, но он этим увлекался. Вот. Перед уходом в армию мотоцикл этот стоял в дровяном сарае. Дровяной сарай, в нем был на втором этаже, двухэтажный сарай был, а он был на втором этаже. Он там оставил этот мотоцикл, и какую-то основную деталь снял и выбросил. Со слов соседей, когда немцы при оккупации Киева, до Бабьего Яра, пришли к родителям, во-первых, они очень обрадовались… Зашли каких-то два офицера, это рассказывали соседи по квартире общей, очень обрадовались, что можно говорить понемецки. У нас был вольтеровский… Один из книжных шкафов был вольтеровский, и там лежали несколько кусочков туалетного мыла, мамина страсть. Когда была возможность, она покупала. Они попросили разрешения взять по кусочку мыла. Мама им, конечно, разрешила. Потом они взяли в руки фотографию брата и фотографию мою и спросили – где? Брат был очень фотогеничен, а я наоборот, но все равно, они спросили, где брат. Объяснили. Папа очень открытым текстом сказал, что он в армии, а дочка уехала, значит, с институтом. И потом приходили спрашивать, кто-то все-таки из соседей донес, что мотоцикл есть. А тогда ж все надо было сдавать, приемники, мотоциклы. Папа их привел, показал. Они покрутили, посмотрели, что основной детали нет, так и не забрали. Вот это то, что мне рассказывали наши соседи. Кстати, этот Гриша Фишман, который служил в кавалерийской части, был приписан к воинской части на старой польской границе. И он должен был по мобилизационному листку в первый день туда явиться. Он туда не явился. Уехал в первый же день. И соседи рассказывали, что уже после… А его мама ушла с моими родителями в Бабий Яр. Причем, она считала, что ее сын погиб на границе в первый день, и ее парализовало. Папа нанял такую двуколку, тележку, на которую погрузили тетю, и погрузили кое-какие вещи, и так они поехали в Бабий Яр. И вот после, уже когда после этого, трагедии Бабьего Яра, вдруг появился Гриша у нас в квартире. Его перепрятывали наши соседи пару дней там на антресолях у нас, а потом они говорят, что он ушел. А другие злословят, что, вроде, его отдали. Но я в этом разбираться не в состоянии. В нашей комнате после того как родителей забрали, жил немецкий директор Владимирского базара. Владимирского рынка. Жил в нашей комнате. А потом туда попала бомба, и дом сгорел. Когда я после войны зашла к соседям по нашей квартире, у них стоял наш трельяжик, и несколько вышитых маминых подушек. Они мне хотели это все отдать, конечно, но мне этот трельяжик некуда, он был маленький такой, настольный, у меня на письменном столе стоял. Мне ни к чему, а вот эти пару подушечек я с удовольствием, с благодарностью забрала у них. Кстати, о том, что родителей расстреляли в Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 21 Бабьем Яру, мне сообщил их сын, который был моложе меня на два года. Я написала в Киев на старый адрес сразу, когда освободили Киев, из Ташкента, из института, из эвакуации. Дома этого уже не существовало, они жили уже на Красноармейской, в другом месте, но каким-то образом, потом они ходили, как видно, на почту, он узнал мой адрес и написал мне открытку о том, что родителей нет. Таким образом, я знала их адрес. А потом я встретила, с нами же на лестничной клетке, на 4-м этаже жила такая украинская семья, Шевелевы. Женщина эта была, ну, всегда говорили, что не совсем нормальная. А во время войны она совершенно сошла с ума. Так вот, после войны я ее встретила, она меня узнала. На ней была надета хламида, типа мешка, сшитая из отреза мебельного гобелена, который лежал у нас в ящике под тахтой, мама приготовила на переобивку тахты. Вот, это память, которую я застала после войны. Ваш брат был пионером? Брат – нет. Я была пионеркой, но я не была комсомолкой. И как это мне удалось, я до сих пор не помню. Как сочеталось, вот – дома вы слышали одно, в школе – другое? Нет, значит, если вы хотите, я вам расскажу, как я стала пионеркой. Ну, в октябрята записывали всех же, с 1-го класса, всех записывали в октябрята. В 3-м классе, может, в 4-м переводили в пионеры. Ну, что, записывали, что я должна была сказать, я не пойду? Всех записывали. Значит, торжественное обещание пионерское и октябренское в начале учебного года, школа наша №15 находилась там, где сейчас кинотеатр Ватутина, когда-то это был кинотеатр «Эхо», то районный такой вечер устраивали опять же в театре оперетты. Тогда уже тоже это, наверное, был театр… нет, когда я была в 3-м классе, это еще не был театр оперетты. Там был тожественный вечер, на котором присутствовали вся общественность района, и прочее. Значит, выстроили октябрят 1-го класса на авансцене, и они произносили торжественное обещание. Но для того, чтобы они могли хоть что-то произносить, надо было поставить меня вперед. И таким образом, я произнесла клятву октябренка поставленным голосом. Я совершенно… Но, пока нас выводили в одну кулису, из другой кулисы построили всех в линейку, и они давали торжественное обещание пионера. А я, пока обошла вокруг, я уже опоздала, и со мной сделалась там, конечно, истерика. Да. Вот это была… наверное, первый урок. Мне сказали – что ты волнуешься? – и повязали красный галстук, там, за кулисами. Я не могла понять, как это так, я ж не давала клятву. Ну, потом все стало на свои места. А в 37-ом году, когда мы были в 8-м классе, с нового учебного года у нас появилась новая ученица, Хатаевич Нина Менделевна. Отец был первым секретарем обкома партии в Днепропетровске. Когда здесь расстреляли Любченко и Косиора, Косиор был, по-моему, секретарем ЦК Украины, Хатаевича перевели сюда. И через полгода его расстреляли. Мать – русская, жена его русская, ее, естественно, арестовали, 10 лет без права переписки. Остались три девочки с бабушкой, уральской крестьянкой. И осталась огромная собака. Вот они жили, эти три девочки и бабушка, им дали одну комнатенку на Предславинской, недалеко от нашего дома. Они жили на тот паек, который выдавали служебной собаке. А бабушку взяли сторожем в ювелирный магазин только благодаря этой собаке. Значит, старшая, Нина, пришла к нам в класс, средняя, Лена, пришла в 6-й класс, а младшая, Рада – в 1-й класс. Значит, надо было выбрать старосту класса. К этому времени, надо сказать, что у нас был великолепный преподаватель русского языка, я не помню сейчас его фамилии, отчество было Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 22 Ефремович, это я помню. Его забрали в 37-ом году от нас. После этого к нам в класс пытались прислать еще четырех преподавателей русского языка, у них ничего не получалось с этим классом. У нас почему-то в классе было всего 16 человек. Это был класс «А». В итоге нашему преподавателю украинскому, нашему классному руководителю, великолепному педагогу, интеллигентнейшему, образованнейшему человеку, Ефим Канонович Уманец, пришлось вести у нас русский язык и русскую литературу, потому что чужаки у нас не могли остаться. К этому времени у нас еще кого-то арестовали из преподавателей. Ну, у нас еще преподавали бывш… например, математику у нас преподавал бывший приват-доцент, историю у нас преподавал бывший преподаватель гимназии. Так вот, когда надо было в начале нового учебного 37го года выбирать старосту группы, мы выбрали Нину Хатаевич. Вот, они нам пытались объяснить, почему ее нельзя, но можете себе представить, что мы в 15 лет, или в 16 не понимали. Весь класс вот так вот себя вел. Мы три раза ее избирали, но все равно нам не позволили ее избирать, и все. Потом я с Ниной Хатаевич во время войны оказалась в одной группе в Среднеазиатском индустриальном институте, на радиофаке. Сейчас она уехала на постоянное место жительства в Германию. Вы продолжаете и сейчас дружить? Нет, нет. Мы после войны много лет встречались, общались. В последнее время как-то мы разошлись, я вам даже скажу, почему. Когда наш институтский самый лучший друг, Илюша Клубман, который жил и работал в Саратове, он был доктором наук, и жена доктором наук, приехал в Киев попрощаться с нами перед отъездом в Израиль, Нина не захотела с ним встретиться. Она боялась за свое благополучие, хотя это было, наверное, в 80-е годы, и ей асболютно… то, что она уже имела, ей ничего не грозило. Они, правда, получили квартиру, вот, против Ленина, наверху, вот этот дом пряничный, они там получили очень хорошую квартиру, она с младшей дочерью… с младшей сестрой. А старшая работала в Москве, в Министерстве парфюмерной промышленности, главным экономистом. Но она рано умерла, Лена. И вот, Нина не захотела, она, значит, она очень осуждала Клубмана за то, что они уезжают. И с тех пор у меня как-то интерес пропал. У вас в классе было много еврейских детей? В самом начале мало, я была, была Аня Туш. А потом появились двоюродные брат и сестра Долинские, потом появилась какая-то девочка Жук, я ее никогда не встречала, а она меня знала, почему-то. И, по-моему… нас вообще было 16 человек. А, был еще чудный мальчик Абраша Кобринский. После войны я его тоже один раз видела. А остальные – украинцы. У нас было два этнических немца, у которых мамы были русские, а отцы были заклятые немцы. Это был Витя Миллер и Женя Швебс. Значит, у Вити Миллера все было благополучно, кроме того, что его отец избивал. Он был дивным художником, он играл за сборную Украины в баскетбол, будучи школьником. Женя Швебс, у которого старший брат, Валя Швебс учился тоже в нашей школе, на два класса старше, закончил, мы в 39-м закончили, а Валя закончил в 37-ом. Значит, еще Валя не закончил школу, отца забрали, и, как видно, расстреляли. И мать забрали и выслали. И вот, остались эти два мальчика, Валя закончил школу, он был блестящий пианист, но он не пошел в консерваторию потом. Он чертежником остался, по-моему. Я не могу вспомнить, как мы к этому относились. Как эти мальчики выжили, я что-то тоже не очень помню. Но, поскольку в мединститут мальчики не шли принципиально, то Жене удалось после окончания школы, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 23 учился он так, на четверки, он не с золотой медалью закончил, его приняли в мединститут. Он два года проучился в мединституте. А Витя Миллер, который очень хорошо рисовал, он на архитектурный в строительный не попал, а попал на гражданское строительство. Закончил два года. Значит, Женя Швебс остался здесь, в оккупации, естественно – папу расстреляли, маму куда-то сослали, Валя остался тоже здесь, в оккупации, Витя Миллер обошел все военкоматы, и его заперли в трудармию. Что такое трудармия, это, наверное, надо рассказать. Это те же самые заключенные, с охраной, за колючей проволокой, с той же баландой. Только их водили на трудовую повинность. И так всю войну прожил Витя Миллер. После войны я встретила отца Виктора Миллера. Он очень плохо говорил по-русски, он говорил по-немецки, в основном. Мальчики немецкого совершенно не знали, ни тот, ни другой. И мне его отец дал адрес Виктора. Виктор был в трудармии, под конвоем, в днепродзержинском сталеправильном комбинате. Я с ним списалась. Значит, мы переписывались где-то, наверное, до 50-го года, я потом ездила в командировку в Днепропетровск и в Днепродзержинск, и я не могла найти его концы. Ну, тогда уже, в общем-то, трудармии не было. Но он работал в горячем цехе и был не расконвоирован. Это после войны! Единственное, что ему разрешили, поскольку он был цеховым и заводским художником и оформлял все ленинские уголки, и газеты, и все на свете, ему позволили заочно продолжать обучение в институте. Вот это так сложилась судьба. Куда девался Женя Швебс, мы не знали. Я предполагала, что либо он благополучно живет в Западной Германии, либо он погиб в этой мясорубке. Так. В один прекрасный вечер, в полпервого ночи, раздается телефонный звонок: «Нина, ты меня, конечно, не узнаешь?». – «Нет, извините». – «А я тебя сразу узнал. Я – Женя Швебс». Это он звонит из Нью-Йорка. Кто-то приезжал в Киев, он просил кого-то разыскать, у нас еще учился, вот, еврейский мальчик Сюня Погребинский, так его сестра работала потом с кем-то из Валиных соучеников. В общем, каким-то образом ему дали мой телефон. И он мне позвонил. Значит, это похоже вообще на правду. Немцы с собой вывозили, ну, он был (нрб). Немцы с собой медиков всех вывозили, и он мне сказал, что вывозили всех студентов мединститута, старших курсов. Он уехал в Германию. Там он женился на девочке, угнанной из-под Козятина в рабство туда, в Германию. Она была студенткой здесь 2-го курса университета, филолог. Она и ее сестра оказались в Германии, потом я поняла, почему. Потому что они – наполовину еврейки. Это была единственная возможность спастись. Значит, он женился на Лесе, он там вроде как пытался учиться, но у него не было такой возможности. Но у них хватило ума вернуться не сюда, а уехать в Америку. Он мыл полы, он получил специальность рентгенолога. Значит, я говорю: «Женька, ну, а чего б вам не приехать, хоть бы посмотреть на родных?». Так, мама была где-то в ссылке, каким-то образом, на Украине, и мама с ними уехала в Америку, и Валя там же. Живут с ними в одном доме, Валя не женат. Мама умерла. Он говорит: «Я боюсь». Я говорю: «Женька, да им плевать на тебя, их уже никого давно нет. Уже нет НКВД» – это ж уже было после перестройки, в начале перестройки. И через полгода они приехали. Значит, я с его Лесей, они прислали фотографии сначала, я с его Лесей как две родные сестры. Она привезла военную фотографию – точно мои военные фотографии. Обаятельная женщина. А, что он меня спросил: «Нина, что тебе прислать?». «Женя, мне ничего не надо». «Нет, нет, нет, ты нам не рассказывай, мы все знаем.я говорю: «Женя, я ученая, пенсионерка! Мне ничего не надо!». «Нет, вот тут Александра, – Леся ее зовут, – Александра тебе готовит посылку». Я говорю: Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 24 «Ну, если уже так надо, то я – наркоман». Ах! Он провалился куда-то. Я говорю: «Я не могу жить без кофе, а у нас кофе – это проблема». «Все, заметано, что еще?». «Больше ничего». Он там нашел, до меня, кого-то еще из наших, так все просили джинсы для внука, джинсовый костюм для сына… То есть, он считал, что сейчас на него вывалится. Я говорю: «Если уж так надо, то шоколад». Короче, они приехали, мы с ними подружились, я, у меня еще тогда автомобиль был. Я их возила, мы ездили на кладбище там, к его каким-то родственникам. Возила я их по родственникам, по знакомым, устраивала им экскурсии по Киеву. Самое обидное то, что я в 91-ом году была в Америке три с половиной месяца, и, примерно, из них два месяца с перерывами жила в Нью-Йорке, и ничего о них не знала. Ну, они очень просят приехать. Он, к сожалению, очень болен. У него Паркинсон, в страшной стадии. Ну, они очень часто звонят. Переехали они сейчас во Флориду, как все старики там. Она очень больна, у нее два клапана, три байпаса на сердце. Ну, очень милая, энергичная. С моей помощью она разыскивала своих молдавских еврейских родственников, вот. Нина Яковлевна, давайте вернемся к предвоенному времени немножко. Настроение, обстановка довоенная, вы ее чувствовали, помнили? Помните? Значит, самые предвоенные годы… ну, во-первых, я вам должна сказать. Мы с вами – достаточно взрослые люди. Если мне в предвоенные годы было между 17 и 20, и что я собой представляла, если вы взяли мою 80-летнюю фотографию. Меня как-то… Это было КПИ, учеба, это был гимнастический кружок, кружок народного танца, в котором я была… Мы заняли с нашим кружком первое место на республиканском конкурсе самодеятельности. Руководил нашим кружком самый знаменитый, Саша Бердовский такой был, солист в Оперном театре. А один из номеров, получивших премию, это был «Еврейская свадьба», и я танцевала невесту. Знаете, я себе наряд сшила из маминого белого маркизетового платья и истлевших тюлевых занавесок, но только грубые эти, копеечные. Вот я сделала внизу большую оборку, я себе сделала вместо, вроде фаты, и какие-то рукава сюда еще из этого занавеса истлевшего сделала. И вот так мы получили первую премию. Кроме того, брата компания, совершенно потрясающая, о которой я уже говорила, и каток ежевечерний. И надо же было успевать в институте учиться. И на меня очень обиделся школьный преподаватель математики, вот этот приват-доцент дореволюционный, когда я пришла на школьный какой-то вечер после первого институтского семестра, и выяснилось, что я получила четверку по высшей математике. Он был просто убит. И я ему сказала: «Илья Степанович, ну, у меня времени не хватает!». Он не понимал, как я могу, значит, иметь четверку. У меня просто было очень много других интересов. Рассказать вам, как я была одета? Так, вы знаете, что такое бурки? Это из старой шинели, из старого войлока стегали такие до колен вроде как чулки, и засовывали их в плоские мужские калоши. Вот это была зимняя обувь. Летняя обувь – у меня были босоножки из ленточек холщовых сделанные. И когда мама пришла и сказала, что она видела босоножки очень хорошие, но на две пары не было денег, я сказала: «Так надо было себе купить! Я в свои 17 лет еще в этих могу пройти». Поскольку мама работала в этой мебельной артели, то им на обивку матрасов и тахты списывали откуда-то лоскут, отходы. Вот этот лоскут им продавали. Мама отбирала там какие-то подходящие кусочки. У меня из такого лоскута двух расцветок было сшито байковое платье, темносинее, в белую цяточку. Пальто я носила из какого-то папиного старого пальто. Воротник был из искусственного меха, но вы не знаете, что это был за искусственный мех. Он был такой, как есть щетки, как Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 25 веники, знаете, вот у нас есть такие щетки. Такие, ими чистят, не знаю, лошадей или что-то такое. Вот так выглядел этот искусственный мех. Вот такое у меня было пальто. Я себя чувствовала абсолютно свободно. У меня не было, хотя у нас были очень богатые студенты в КПИ. Я абсолютно не чувствовала своей никакой ущербности. Это мне не мешало, абсолютно. Летние сарафанчики у меня тоже были из этого лоскута. На выпускной вечер, у мамы была блузочка кремовая, в цветочек мелкий, ситцевый такой узор, но блузка была из вискозы. А вискоза на тех местах, где были узорчики, давала дырки большие почему-то. Как видно, краска была едкая. И все время штопали. Это была одна выходная блузка на двоих. Вот в этой блузке я была на выпускном вечере. А когда я уже поступила в институт, а брат уже стал зарабатывать прилично, они с его лучшим другом, вот это была их… Их четыре человека, Водик Патон, который Владимир, Сережа Барбар, у которого отец пострадал в 34-ом году, он был очень известный врач, и мать была врач, в Киеве. Он, с «Промпартией» его расстреляли в 34-ом году. И четвертый был Володя Тютюн, Владимир Федотович Тютюн. Он не очень давно умер, он всю войну провоевал, под Сталинградом, и прочее. Володя был из такой крепкой мещанской семьи. Я после войны, когда приехала в Киев, они мне не разрешили идти в общежитие, а забрали к себе, потому что они жили на Володарского в частном доме у ее сестры. И у них сохранился дом. И они жили очень благополучно. Почему они меня к себе забрали – потому что я им сына вернула на неделю раньше. Они оставались здесь в оккупации, а он был на Сталинградском фронте. Когда освободили Киев, я им написала его почтовый адрес. Интервью с Авербух Деборой (Ниной) Яковлевной. Кассета №2, вторая сторона. Продолжайте, Нина Яковлевна. Значит, родители этого Володи Тютюна забрали меня к себе, и я, собственно, у них жила. Мне выделили отдельную комнату, у них была 4-комнатная квартира на втором этаже частного дома. Они еще во время, это ж было еще в конце войны, летом 44-го года, то есть за год до конца войны. Они садили капусту, они варили мясо свиное, они делали свиные колбасы и сдавали их частным торговцам на Евбазе, Еврейский базар, который сейчас площадь Победы. Она была очень дородная женщина, ну, наверное, типичная украинка, но ее посемуто все торговцы звали гречанкой. А у ее сына прозвище было Офенис, почемуто. Так все считали, что я ее дочка, потому что я иногда выносила по дороге на работу или в институт, я обносила их этим товаром, относила это. Значит, до войны мой брат и этот Володя Тютюн поехали на толкучий базар покупать себе какую-то ткань на верхние рубашки. А тогда, надо сказать, что молодые люди носили шелковые, крепдешиновые рубашки. И вот они приехали без рубашек, с отрезом потрясающего креп-жоржета цвета чайной розы. Это Володя сказал, что вместо наших рубашек мы купим подарок Ниночке на поступление в институт. Вот это было мое первое нормальное платье. Вот это вам межнациональные отношения. В воскресенье утром. Потом мы жили в 6комнатной квартире, эти жили в 4-комнатной квартире, Барбар с оставшейся мамой жил в 3-комнатной квартире на Красноармейской. В воскресенье утром, поскольку суббота был рабочий день, в 9 утра все сидели у нас и с удовольствием ели сваренную мамой картошку с квашеной капустой. Ни у кого у других они не собирались. Вот такой у нас был открытый дом. У нас была одна комната на четверых взрослых. Новый год, 38-ой, встречали у нас, они Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 26 всей компанией. Родителей куда-то отправили, я ушла в свою компанию… Нет, я уже была с ними тогда, я тогда уже была взрослая. Вот это межнациональные отношения. Никакого бытового антисемитизма, не говоря уже о до войны, и после войны никогда в жизни я проявления в свой адрес не ощущала. Я считаю, что это зависит только от нас. Потому что человек с чувством собственного достоинства, так никому не придет в голову его оскорблять! Ну зато я очень много претерпела от государственного антисемитизма. Нина Яковлевна, вспомните 22 июня 1941 года. Как для вас началась война? Мы жили на 4-ом этаже в одной комнате, и у нас был такой фонарь. Этот дом начали строить до революции в Киеве, первый дом из сборного железобетона. А заканчивали его после революции. Поэтому в 5-этажном доме не было лифта, например. Не было, ванная была одна на бывшую одну квартиру, потом из нее сделали две. Так что, у нас был туалет, а у соседей была ванная, и там им что-то пристроили. Вот огромный такой эркер был, и тогда это почему-то называлось венецианские стекла. Но на лето, поскольку одна комната, их снимали и ставили за шкаф куда-то, так что у нас все было открыто. За год или за два до этого было землетрясение в Киеве. И тут мы поздно проснулись все, и абажур катался, и все. И здесь где-то, без пяти пять, как это поется в песне, 4 часа ночи. Отца не было, он был в Овруче, мы проснулись от бомбежки. И брат сказал: «Что, опять маневры?». Ой, тут же можно целые поэмы рассказывать о репетициях войны перед войной, о маневрах. Это отдельная статья. А мама говорит: «Нет, это не маневры». Мама пережила первую войну, и она это все знала. На 22 июня было назначено открытие бывшего Красного стадиона, его реконструировали очень много лет, ему повернули спортивную чашу по новым стандартам. Было назначено открытие его, и программа, и афиши, и у меня было два билета на этот стадион! Я не знаю, или это у нас с братом было два билета, или нет. Один билет у меня еще есть, а один я, по-моему, на 40-летие войны подарила в музей стадиона Олимпийского. Значит, я к 4-м часам оделась и пошла на стадион. Нарядилась как только могла, вот в это самое шелковое платье. Но с утра мы уже все знали, что это война. Конечно, никакого сборища не было, это очень правильно, потому что там одной бомбы хватило бы на все. Но все это было жутко тревожно. Мы тут же стали копать щели, это окопы, во дворе, для того, чтобы прятаться от бомбежки. Хотя, что бы это помогло, если бы на нас рухнул 5-этажный дом, на эти окопы, я не знаю. Это было воскресенье, а в понедельник у меня был экзамен по математике. И когда я собралась в 8 утра идти на экзамен, был воздушный налет. И я стояла внизу возле парадного, ни в какую щель я не лезла, естественно, и считала самолеты. И поехала в КПИ. Посадили нас в какую-то, почему-то перевели, по-моему, в химкорпус, куда-то, запустил наш профессор Соколов, изумительный математик, химик, очень строгий, у него, то есть, пятерок у него вообще не бывало никогда. Но очень справедливый профессор. Он нас посадил, несколько человек, ну, вы ж понимаете, что можно было сообразить, а еще это высшая математика и конец второго курса! И вот, а он же понимает, он умнейший человек был, и он понимал состояние экзаменующихся, он так ходил между столами и спрашивает: «Кто сегодня наблюдал за налетом?». Ну, все наблюдали, естественно. «Ну, и кто сколько насчитал самолетов?». Значит, ктото сказал 26, кто-то сказал 28. Я мучительно переписывала что-то из шпаргалки, и, не поднимая головы, сказала: «27 самолетов». А он: «Давай зачетку!». Поставил пятерку, и я ушла. И тут же мы пошли, я помню, на Полевой в школу мыть зал и коридоры, потому что уже возили раненых и погибших, раненых при Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 27 бомбежке утренней сегодняшней. Это было боевое крещение. А через два дня я пошла сдавать экзамен по английскому. Вот это были последние два экзамена в эту сессию. А где был ваш брат в это время? Мой брат в это время ходил на работу, естественно, и 6 июля они договорились с Леней Марчевским, лаборантом из его же лаборатории, который жил на Подоле, что они встречаются возле военкомата и идут добровольцами в армию. Он пошел в военкомат, Леня не пошел, чего-то я его там не видела. Я пришла в военкомат, когда брат был уже за этой кованой оградой, и так с ним, вот так вот прощалась, на Круглоуниверситетской, в военкомате. И он уехал. Домой за вещами он не заходил? Нет, он взял свой, ну, не рюкзачок, а мешок, я ж всем там понашивала мешки, к тому времени у всех были за плечами мешки. Он ушел туда. Как относились родители к его добровольному уходу на фронт? Значит, речь шла о том, что надо уезжать, раз бомбят, и прочее, и прочее. Ну, надо ж идти, надо, здоровый, спортивный. Так. Отец говорил, то эвакуироваться не надо, что немцы очень культурный народ, он помнит их в оккупацию 18-го года. Кроме того, он их знает по своим поездкам в Германию. А, кроме того, мы перейдем на левый берег. При всей его антисоветчине он сказал: «Большевики за Днепр немцев не пустят». Вот это была такая установка. Значит, речь шла о том, что нужно все-таки выезжать. Отец был, в начале войны он был в Овруче, потом он вернулся, ему не на чем было из Овруча даже добраться. Выезжали все организовано. А поскольку мама работала в такой вот артели, очень хитрой, у них организованного выезда не было. У отца в Овруче кто-то прихватил кассу его этой, где он работал, и тоже исчез. Так что организовано выехать было никак нельзя было. Папин младший брат, доктор Авербух, был тогда мобилизован и работал, забыла в какой должности, в госпитале, предположим, главврачом. И этот госпиталь находился в Сумах. Вот пытались связаться с дядей, может, он каким-то образом поможет выехать. Пока связывались, из этого ничего не получилось. Как рассказывали соседи, нет, это даже мне мама рассказывала, я ж возвращалась еще в Киев в августе месяце, отец последнее время, хотя ему было всего 54 года тогда, он, как видно, зациклился на чем-то. Когда начинались прямые бомбежки, он отказывался уходить в укрытие. Он сказал: «Если мы остались, то как будет, так будет». Значит, речь шла о том, что, вот, немца не пустят на левый берег, но девочка, молодая женщина, должна обязательно уйти. Ну, с любого фронта, я помню, что делали с молодыми женщинами в ту войну. Ну, как же мне уехать? Я с КПИ не поеду. Чего я поеду в Среднюю Азию, а за три месяца до начала войны в КПИ прислали нового ректора, Колбасникова, который был ректором Среднеазиатского индустриального института. Вот, он поднял институт и увез его в Ташкент. Чего я поеду в Среднюю Азию? Я перебуду где-нибудь тут, поближе, мне нечего ехать. Значит, вот этот Сережа Барбар, Сергей Аркадьевич Барбар, он был офицер запаса. Он участвовал активно в польской кампании 39-го года, и он тут же был мобилизован в армию. Но поскольку он был в танковых частях, он был в ремонтном батальоне. Это как бы тыловой, тыловая часть, и им разрешали вывозить с собой семьи. У них была подруга, Изабелла Яновна Собчик, моего возраста девушка. 19 июля, в день моего рождения, официального моего дня рождения, мы заехали в ЗАГС против Оперного театра, они зарегистрировали свой брак, фиктивный. Я была свидетельницей. И когда чиновница из Загса взяла мой паспорт, чтобы записать меня свидетельницей, она сказала: «Вам же Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 28 сегодня 20 лет!». Я говорю: «Да, мне сегодня 20 лет». А я под видом сестры его жены, мы выехали с его воинской частью, то есть он нас посадил в кабину грузовиков-мастерских. Мама утром ушла на работу. Мы с ней попрощались. Мама удивительно мужественный человек, поразительно. Я не помню, чтоб она плакала, когда брата провожала, я не помню, чтоб она плакала, когда со мной прощалась. А отец уже был в Киеве, это было 19 июля, он со мной прощался на лестничной клетке, где-то между четвертым и третьим этажами. И отец плакал. И единственная фраза, которую он мне сказал, и, наверно, я его послушала: «Мор ништ фар (нрб)» – «Только не за христианина». Замуж не надо было выходить. Вот таким образом я до сих пор, извините, девушка. И мы уехали, мы кружили по Украине много дней, вот так на перекладных в кабинах грузовых мастерских, оборудованных на грузовых автомобилях, и оказались в Харькове на территории какой-то воинской части. С одной стороны – Харьковский тракторный, а с другой стороны – зенитная часть воинская. И вот там они развернули свои ремонтные мастерские, там же. Я посылала телеграммы дяде в Сумы. Пока моя телеграмма туда шла, дядя был в Харькове. Когда он приехал, то их уже увезли куда-то на фронт, госпиталь. А отец настаивал на том, чтобы я уехала с Сережей, что меня довезут до Харькова, и там я уже свяжусь с дядей и буду при дяде. Тогда по дороге мы жили длительное время в Яготине, когда выехали из Киева, с этой воинской частью. В Яготине я встретила одного из сотрудников КПИ, который дружил с моим братом, я забыла сейчас его фамилию, я долго потом с ним встречалась в институте связи. Он мне сказал, что он встречал здесь брата. Брат шел босиком, через плечо у него висели сапоги – он растер ноги, естественно, он не привык к этому делу ко всему. В общем, он чувствовал себя нормально, в общем, я получила живой привет из Яготина от брата. И потом до Яготина дошли слухи, что немцы находятся в Голосеево, что они заняли сельхозинститут. И тогда я и Белка, из солидарности ко мне, сели на открытую железнодорожную платформу с мелкой каменной угольной пылью и приехали в Дарницу. В Дарнице нас выбросили… Это было примерно какого числа? Это было, наверное, середина августа, я так понимаю. Мы это, собственно, по хронике Киева можем узнать. Переезжали мы через Днепр, нет, мы через Днепр шли пешком по мосту. По дороге меня остановили, стали проверять документы, и не поверили, что это мои документы, пока я им не рассказала своими словами, про все Новостроение, про всю новостроенскую босячню, поскольку Предславинская, так называемая Новостроенский район, и вся босячня жила там. Все дело в том, что единственная одежда, которая у меня, это был комбинезон из диагональной ткани цвета хаки на молниях и на кнопках, и на шлейках, на бретельках, который брат сшил в ателье КПИ по собственным эскизам. И из-за которых, по-моему, портной и закройщик могли получить инфаркт. Это они мне потом рассказывали, что он из них делал, чтоб пошили этот комбинезон. В этом комбинезоне я ехала в Киев. В воинской части в Яготине, когда я садилась в эшелон, острили, что генералу, ну, не генерал, тогда командир дивизии, нравятся (нрб) формы, в смысле, этот самый комбинезон. Я, кстати, в этом комбинезоне всю войну в эвакуации была, и в Киеве еще ходила. Потому что ему сносу не было. Так вот, они решили, что я парашютистка, и поэтому меня допытывали с пристрастием. Мы приехали домой. К этому времени немцев отогнали за Житомир, или за Свято… не знаю, но, в общем, уже стабилизировано. Я запаковала в рюкзаки все самое необходимое, пошила им мешки заплечные, все. И они мне дали честное слово, что если только Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 29 ситуация изменится, и начнется возврат, откат нашей армии, они уходят пешком. И мы потом с Белкой сели на какой-то, по-моему, был все-таки пассажирский вагон, через Днепр нас вез, ну мы каким-то образом добрались до Яготина и оттуда уехали в Харьков. В Харькове я последнюю открытку от родителей получила от… Писали они мне каждый день. Телеграммы приходили регулярно. Авиапочта работала так четко, что сейчас и близко она не стоит к этому. Датировано оно было 10 сентября. А немцы вошли 17 или 18-го. 19-го? Ну, во всяком случае… письма, конечно, удивительно интересные, с точки зрения ситуации предвоенного Киева. Туда же, в Харьков я получила единственную открытку от брата, перед этим у меня была еще открытка, которую брат прислал в Киев, я ее забрала во время возвращения в Киев, которую он отправил из полевой своей почты тоже в начале сентября. 20 сентября нас погрузил Сережа в эшелон с Белкой. А Белкины родители жили во Владивостоке, мать врач, отчим какой-то там большой начальник был. И Белка с ними была во Владивостоке, приехала в Киев по окончании десятилетки, потому что в Киеве была забронирована их квартира, поступила в мелиоративный институт. У нее в паспорте есть штамп, что она из Владивостока. Из Харькова мы сели в теплушку, еле-еле уехали, ну, я не в состоянии сейчас рассказывать, в каких условиях мы ехали. Это романы писать можно. Умирали там в теплушке люди, 40 человек, по-моему, было больше. Значит, мама моя, которая пережила и беженство, и все что угодно… Со мной была плетеная корзинка, вализа такая из лозы, небольшая. Значит, там лежал пододеяльник, там лежала простыня, там лежало ватное одеяло. И там лежал чеснок. Мама сказала, что чеснок надо есть в любом случае, и что если ты приедешь к чужим людям, без постельного белья тебя, соответственно, будут (нрб). Вот это мамина установка. На этой корзине я, поджав ноги, и поджав коленки к подбородку, просидела две недели в этой теплушке. Ну, естественно, все выскакивали. Мужчины – по правую сторону, мужчин было мало, но всетаки, женщины – по левую, садились под насыпью под колесами, и это все было видно насквозь. Нина Яковлевна, один вопрос, я хочу вернуться. Отец был начитанным, образованным человеком. А к этому времени из Польши появились беженцы, я так понимаю. Неужели он не понимал ситуацию, связанную с приходом немцев? Никто не понимал. Находясь в Ташкенте, осенью 41 года мы в газете прочли что в Киеве на Ленина 141 что-то там немцы чего-то там натворили. Мы так весело смелись, что это ж все липа, на Ленина ж нету номера 141! Никто ж этого ничего не знал! И о трагедии Бабьего Яра? Нет, мы абсолютно ничего не знали. Совершенно. Это я узнала из письма… из открытки этого мальчика. Через две недели примерно, в самом конце сентября, этот эшелон остановился на юге Саратовской области, среди ночи, в чистом поле, и нас выбросили всех. Лежал уже снег. Поземка. Я увидела первого в жизни верблюда. И мы, я, Белка, и три студента киевского университета, молодые ребята, мы попросились в какую-то избу. Нас пустила молодая хозяйка с маленькими детьми. Утром она нам сварила картошку в мундирах. А потом в этот же тазик посадила по малой нужде своего ребенка. Мы вышли, осмотрелись в этом селе. Нам показали только одну хатку на все глиняное, серое, занесенное поземкой село, с садиком вокруг. Сказали, что там живет хохлушка одна много лет. Мы посмотрели, что там мы погибаем, договорились Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 30 с этим колхозным водителем, и сели в этот снег, в мороз, в кузов, и поехали в Саратов. Ну, куда приехать? Он боялся въезжать в город, потому что его там прихватит мобилизация. Он нас высадил на самой окраине Саратова. И в это время, это было уже часов 10 вечера, еще шли трамваи. Вот, мы сели в трамвай, а куда ехать? Ехать надо на вокзал. Там мы в камеру хранения сдадим свои вещички. Мы приехали. Совершенно освещенная огнями площадь, освещенный вокзал! Мы отвыкли от этого, всюду же светомаскировка у нас была, в Харькове страшная светомаскировка. Причем, в Харькове была отлично, мы втроем жили в автобусе типа «ПАЗик», маленький, и немецкие самолеты прилетали ночью бомбить харьковский тракторный. Его защищала зенитная часть, которая стояла рядом с нами, так разгружались они над нашей воинской частью. Я сидела в автобусе и держала над головой эмалированную кастрюлю. Все смеялись, а я говорила: «Это, чтоб от осколков голову сохранять». И вдруг – яркие огни, мы заходим в вокзал, и мне становится плохо – эсэсовцы! Черная форма, высокие лакированные сапоги с высокими задниками, с какими-то кокардами – это польскую армию из Заполярья, где они были два года в лагерях, отправляли в Иран. Их там обмундировали в польскую армию, и эта польская армия людова была в это время как раз на вокзале. Наше состояние, когда мы увидели, что мы попали к немцам, передать невозможно. Мы сразу оттуда, конечно, убежали. И когда уезжала из Киева, мне отец дал адрес своих друзей меджибожских, Сигалов. Их фамилия Сигал. Они очень дружили, и вот как раз когда я рождалась в Меджибоже, (нрб), и поддерживали переписку. Жена этого Симхе Сигала, была… звали ее Женя и она была профессор Саратовского мединститута. Значит, мальчики эти куда-то там ушли. Мы с Белкой пошли искать, значит, этот адрес. Ночью. Или 119, Набережная. Да, Набережная, 119. мы, когда посмотрели, что вот это 19, и где 119… Нет, как-то… Ну, в общем там что-то, мы притворились, что нам нужен какой-то другой дом. Нам открыла женщина… Нет, открыл мужчина, который был практически слеп. Он открыл дверь и крикнул: «Женя, Рухеле приехала!». Он маму помнил в моем возрасте, полуслепой. Оказалось, что отец мне нечетко написал адрес, что нам нужно было 19, в центре города, а мы прочли, что там 119. и нас с Белкой оставили у этих Сигалов. И мы там жили до, по-моему, недели две. Женя мне предлагала… Нет, я ж еще не рассказала самого главного. Когда я приехала в Харьков, я решила, что зачетка при мне, студенческий билет при мне, и я сдала документы в харьковский электротехнический институт на 3-й курс, поскольку я закончила два курса электротехнического факультета КПИ. Мне сказали – все в порядке. Все оформили. Занятия начнутся 1 сентября. Когда я в конце августа пришла в этот институт, оказалось, что института нет, он уехал куда-то на Урал. Ни зачетки, ни студенческого билета, я вообще никто. У меня есть только паспорт, я вообще не студентка, и нигде не известно, что я закончила два курса. Женя мне предлагала, что она меня устроит в мединститут, и я буду у них жить, и вообще иначе быть не может. Но меня это не устраивало, и я решила, что буду добираться к КПИ. Значит, эвакопункт – это площадь, зимой в уже заснеженном Саратове, перед вокзалом, на которой лежат люди с детьми. В основном это были польские беженцы, с Западной Украины, из Молдавии, с детьми, несчастные, неделями лежат и не могут попасть к этим чиновникам для получения направления. Белке направления не нужно. У нее паспорт с дальневосточной пропиской. Она садится в поезд и едет. А я утром пришла. Ну, я ж не понимаю этой ситуации, не знаю, кто там, что там. Я себе спокойно зашла в комнату, в которой выдавали вот эти самые направления на Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 31 железнодорожный вокзал. Меня никто не остановил, мне потом объяснили, почему. Потому что я была ухоженная, чистая, вымытая, выутюженная, я вышла от Сигалов. И никому не пришло в голову, что я иду за направлением. Я на беженку, ну, никак не тянула. И я этому чиновнику объясняю, что я – студентка КПИ, закончила два курса. КПИ находится сейчас в Ташкенте, потому что директор среднеазиатского его туда перевез. Студенческий билет? – Нету. Зачетная книжка? – Нету. А что у вас есть? – Ничего у меня нет. Вот я в Харькове все отдала, и так. И он мне выписал направление на билет в Среднеазиатский индустриальный институт. Значит, в Среднюю Азию уже никого не пускали, всех посылали в Сибирь. Уже была перегружена Средняя Азия полностью. Вот, на меня он посмотрел, и как видно у меня было такое лицо, что он мне поверил. Мы вышли с Белкой на перрон, нам выдали одну буханку, кирпичик хлеба на двоих, и надо было по направлению получить билет. Значит, вот такое это окошечко, старые эти вокзалы, там ничего не видно. Я так заглядываю, вот направление, мне нужно в Ташкент. «Сколько вам билетов?». Я говорю – один. «А тут не проставлено». Так я, идиотка, вместо того, чтоб взять, там, ручку и поставить, я возвращаюсь, прохожу опять всю эту площадь, захожу к этому человеку и говорю ему, что вы мне не проставили количество человек, а я одна. Он на меня посмотрел, как на полную ненормальную. Я ж могла стать миллионершей. Там были очень богатые люди. Если бы я написала 4 человека, то я бы заработала себе на всю войну. Он мне написал один, я вышла, а она мне говорит: «Билетов на Елецк нету». Я вот так, через вот эту вот грязную форточку заглядываю. А у них же как – зачеркиваются. Я говорю: «А вон у вас не зачеркнуто справа». Она говорит: «Ну, ты и глазастая!». И выдала мне этот билет. И так мы с Белкой доехали до Елецка, она села в поезд на Дальний Восток, а я осталась там со своей этой корзиной, и все. Нина Яковлевна, а какое настроение у вас тогда было? Ну, я не могу вам сказать, какое настроение, когда человек находится в непрерывном стрессовом состоянии. Как я могу сейчас, через 60 лет, сказать, какое было настроение? Я была молодая, здоровая, оптимистка по натуре, и я старалась сделать все так, как оно должно было быть. У меня была цель – доехать в Ташкент и восстановиться в киевском Политехническом институте. Ну, каким-то образом из Елецка я выехала, в какой-то страшной теплушке, доехали до Ташкента. Нас в Ташкент не пустили, потому что в Среднюю Азию уже эвакуированных не пускали. Мы на ходу прыгали из поезда, вот со своим багажом, не доезжая до Ташкента. Когда это было, в каком месяце? Это было 15 октября 1941 года. Оттуда мы каким-то образом, ну, пешком, естественно, добрались до вокзала ташкентского. Там я выяснила, где находится институт политехнический. Но мне очень не повезло, потому что за два дня до этого был ликвидирован киевский Политехнический институт. Он влился в состав Среднеазиатского индустриального института. Поэтому восстановиться в институте я не могла, так как института не существовало. Документов у меня никаких не было. Общежития мне никто не давал. Знакомых вы не встретили? Ну, естественно, я там встретила своих соучеников, я там встретила своих преподавателей. Первый человек, которого я встретила на ступеньках одного из корпусов Среднеазиатского индустриального института, был профессор Тетельбаум, заведующий кафедрой радиопередающих устройств, у которого Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 32 мой брат работал. Он тогда был деканом радиофакультета, вернее, он назывался тогда спецфакультет, потому что он был засекречен, естественно, разрабатывал средства связи и готовил специалистов по средствам связи. Значит, я больше полугода, вероятно, ночевала у своих подружек и приятелей. Я ночевала в общежитиях студенческих, которые были разбросаны по всему Ташкенту, и каждый раз находились осведомители, которые предупреждали, что, вот, сегодня ночью будет облава на это общежитие. Поэтому люди, которые там официально не числятся, будут милицией забираться. И вот мне приходилось бегать по всему городу, и кое-где оставаться ночевать. Я помню одну ночь, слава Богу, что это Ташкент, и там в октябре и ноябре достаточно тепло, я всю ночь проходила по улицам, и представила себе, что если моя мама где-нибудь жива, то она переворачивается вокруг собственной оси, потому что ни в одно общежитие я не могла зайти, облавы были по всему городу. Кто не имели права там находиться, тех сразу отправляли в кишлаки. В институте я восстановиться не могла, потому что обучение было платное. Это кроме того, что у меня не было документов. Документы я восстановила, потому что все преподаватели, которым я в Киеве сдавала экзамены за второй курс, меня все отмечали в ведомости, подтверждали, действительно, сдачу экзаменов. Те преподаватели, которых не было, подписывались другие за них, так что у меня документы были оформлены, а зачислить меня в институт не могли, потому что у меня не было денег внести за право обучения. По-моему, тогда нужно было внести 250 рублей. В это время я пристроилась в студенческой столовой, работала, помоему такая должность называлась калькулятор. Я составляла какие-то там расценки на меню, и кормилась, вот за этот счет ела, получала обед, ну, за деньги, естественно, но вот этот обед военного времени, о котором даже страшно подумать. А что это было? Это был суп под названием затируха, то есть вода, в которой была размешана мука грубого помола. Однажды была на второе тушеные виноградные листья, но они, как видно, были засолены предварительно в бочках из-под мазута, железных. Однажды был большой праздник, привезли самосвал черепах. Я первый раз в жизни смотрела, как живых черепах бросали в кипящие котлы. Надо сказать, что мясо очень деликатное, и суп был очень вкусный. Чай был с двумя ложечками сахара. Ну, хлебной карточки у меня, например, не было, так что я не могла покупать хлеб. Значит, это тоже, так что я примерно полгода была при этой столовой. И жила в общежитии, в комнате у своих состудентов, скажем, с которыми я училась в Киеве. в комнате у мальчиков, их было там 8 человек. Мне они там дали… я у них должна была ночевать, если в женских комнатах не было возможности. Они отгородили угол шкафами, и я у них, значит, очень тревожно спала. И только через полгода мой очень близкий приятель, который был материально обеспечен довольно прилично, потому что он и работал в лаборатории, будучи еще студентом, и был сыном актерской династии, самой знаменитой в Украине, династии драматических актеров Юра, он в один прекрасный день принес мне подарок – квитанцию об оплате за право обучения. Таким образом я была восстановлена на 3-м курсе спецфака. Я в Киеве закончила два курса электротехнического факультета. Там я поступила учиться на спецфак, который в миру называется радиотехнический факультет. И тут же меня устроили на работу секретарем факультета, то есть оформили меня препаратором на маленькую должность, потому что на должности секретаря, как я потом выяснила, была оформлена жена одного из преподавателей. И я Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 33 училась на дневном факультете, вернее, числилась, потому что занятия проходили в три смены, там были, в этом одном и том же здании были и московский институт, и московский архитектурный институт. Секретарь факультета – это была сестра-хозяйка, надо было доставать лампочки, выбивать аудитории. На лекции ходить я, конечно, не имела возможности, но экзамены я сдавала по чужим конспектам. И таким образом я существовала. Получила там место в общежитии, соответственно, и вот таким образом я жила. У меня была хлебная карточка служащего, 600 граммов, хлеб муки под саманного кирпича, там солома, это все знают, мокрый, влажный. Поскольку я по природе сова я до 4-х часов дня старалась не есть. В 4 часа я съедала половину хлеба, а вторую половину пайка, эти 300 грамм, я резала на маленькие кусочки и сушила на электроплитке, и перед сном должна была их заглотнуть, иначе я не могла спать. Это моя совиная природа. Еще иногда удавалось сэкономить, и одну пайку продать, и купить за этот счет самое дешевое, что было, это помидоры в Средней Азии, для того, чтобы разнообразить свой быт. Но все было очень интересно, весело. С субботы вечера по понедельник утром в комнате отдыха в общежитии мы танцевали под пластинки Вертинского и Лещенко, которые ктото из ребят с собой в эвакуацию привез. Я ни разу за все время не ездила на обязательные для студентов сельхозработы, и на строительство оросительных каналов, потому что я была занята на работе. Уже перед самым отъездом из Ташкента, в 44 году, летом, когда институт политехнический снова получил самостоятельность, выделился из Среднеазиатского индустриального института, я была из секретарей факультета переведена в старшие лаборанты лаборатории, и занималась уже практическим и творческим трудом. У нас там были друзья, ну как можно в 20, 21, 22 года быть без друзей? Все были друзья. Была же само… взаимовыручка бесконечная. Вот. Я очень хорошо помню день 6 ноября 1943 года. Мы готовили праздничный ужин в честь 7 ноября, годовщины Октябрьской революции. Вскладчину купили килограмм картошки, это стоило 150 рублей, то есть это ровно было столько, сколько был мой оклад. Мы вскладчину с ребятами и девушками соорудили винегрет. Я этот винегрет несла из кухни в миске в комнату, где мы накрывали на стол, и в это время мне кто-то сказал, что Киев освободили от немецкой оккупации. И эта миска с винегретом благополучно оказалась на полу, так что мы праздновали… Но меня никто не упрекнул, конечно. Ну, весной 44 года я получила открытку от соседского мальчика киевского, который мне сообщил, что мои родители расстреляны в 41 году, ну, потом я уже выяснила, что это называлось Бабий Яр. А до этого вы ничего о Бабьем Яре не слышали? Мы ничего не знали, и не только о Бабьем Яре. Мы вообще ничего не знали. Потому что наши газеты, советские, ничего не публиковали, а всех этих (нрб), не знаю, как-то у нас это прошло. Я эту открытку получила после окончания рабочего дня в субботу, на Главпочтамте, до востребования, прочла ее там и вернулась в институт… Интервью с Деборой (Ниной) Яковлевной Авербух, кассета №3. Продолжайте, пожалуйста. Значит, получив открытку с этим диким сообщением о том, что мои родители погибли, я возвратилась уже по окончании рабочего дня, достаточно поздно, в лабораторию, где продолжали работать мои коллеги, поскольку работа была очень срочная, круглосуточная, и зашла в лабораторию. Мне казалось, что я зашла достаточно нормально, как обычно. Я считала, что афишировать свое Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 34 несчастье не имеет никакого смысла, потому что не я одна такая, что все находятся в точно таком же положении. И меня наш руководитель, шеф, профессор Тетельбаум, спросил: «Что случилось?». Я сказала: «Ничего не случилось», выскочила из лаборатории, он за мной же тут же выскочил, догнал меня в аудитории и спросил: «Что случилось?» – и вот тут я не выдержала и расплакалась. Рассказала, что случилось. Несмотря на то, что следующий день был воскресный, он меня обязал придти утром на работу. Я была ужасно, ну, огорчена, потому что очень деликатный человек, великолепно ко мне относился, и так бесчувственно ко мне отнесся, заставил меня работать, приходить на работу в воскресный день, мотивируя это очень срочной работой. Я на работу пришла, никакой работы в этот день не было, пришел только Семен Исаакович Тетельбаум и проводил меня в общежитие, и сказал мне очень нормально, что «Я понимал ваше состояние и не хотел, чтоб вы зацикливались на этом», старался меня как-то отвлечь. По возвращении в субботу вечером в общежитие – нас было девять человек в комнате, двенадцать даже нас было, было девочек в моей комнате – я никому ничего не сказала о своей вот этой беде, и в воскресенье у меня случился дикий припадок – заворот кишок на нервной почве. Значит, слава богу, станция скорой помощи была за углом, потому что у них никаких ни машин, естественно, никаких карет не было. Побежали мои соседки в эту скорую помощь, привели врачей, меня еле откачали, я целый месяц болела, я не могла совершенно двигаться, я не могла ходить, абсолютно, исхудала совершенно дико, целый месяц кровоточило все, и когда… в таком состоянии я, кстати, ходила на весеннюю сессию, меня провожали подруги, ребята покрепче которые. А потом каким-то образом мобилизовали деньги, и я пошла в частную клинику, тогда были частные клиники во время войны, как это ни странно, и попала к одному очень пожилому врачу, потому что молодые врачи все были, естественно, на фронте. Объяснила ему клинику своей болезни. Он мне сказал: «Это все я понимаю, вы мне скажите, какие у вас были переживания». Я очень обозлилась и сказала: «При чем здесь переживания, когда вот у меня такие-то симптомы болезни». Он сказал: «Деточка, успокойтесь, расскажите, что у вас случилось». Оказывается, это, ну, я в этом не понимаю ничего, оказалось, что это на нервной почве случился такой казус. Ну, заболевания эти продолжаются и поныне. Нина Яковлевна, много было евреев в том институте, в котором вы учились? Было много евреев вот киевских, но, поскольку слились с среднеазиатским, то в этих всех комнатах у нас были узбеки, татары. Узбеков было меньше, потому что они, собственно, местные. Очень много было татар в Средней Азии, очень много было корейцев, были еврейские и польские ребята – беженцы из Варшавы, были из Молдавии, бывшей Румынии, студенты Будапештского института политехнического, или университета, я уже не знаю, но они все влились в наш коллектив. Им, конечно, было очень трудно, они не приспособлены ни к порядкам нашим, ни к жизни к нашей, очень сложно у них было и с языком, но, во всяком случае, они как-то вписались, и выжили, очень нормально. Был достаточно большой процент христиан, наших, вот из Киевского политехнического института. Взаимоотношения какие были? Ну, нормальные взаимоотношения нормальных молодых людей. Любовь, слезы, ссоры… ... проявления антисемитизма? Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 35 Как я уже говорила, бытового антисемитизма я вообще нигде не видела. Вот, как видно, под влиянием привезенного откуда-то антисемитизма, узбекские дети, которые ничего не понимали ни в национальностях, и тем более не могли отличить еврейского студента от нееврейского студента, иногда бегали по улицам и просто скандировали, не понимая, по-моему, что: «Сагочка, скушай кугочку». Ни о каком антисемитизме речи не было. Очень много было у нас студентов, студенток из Белоруссии, причем, опять же, достаточно большой процент нееврейского студенчества. Еще такой вопрос: вот вы говорили, что много из Киева. Вы получили открытку. А какие же сообщения получали другие? Я не помню. Я этого не помню. Вот уже здесь, в Бабьем Яре, я встречала женщин, с которыми я жила вот в общежитии, кстати там, Роза Ступанская такая, у нее тоже родители погибли в Бабьем Яре, но во время нашего с ней проживания в общежитии об этом я ничего не помню, как видно, она об этом узнала только по возвращении в Киев. Летом 44-го года началась кампания по реэвакуации Киевского политехнического института, я на пепелище не хотела ехать, я отправила опять же свои документы в Московский энергетический институт имени Ульянова-Ленина. На каком вы уже были курсе? Я была на четвертом, по всей вероятности, потому что я год потеряла, потом, значит, где-то 42–43-й – это был третий и четвертый курс. Может, это был третий курс – я не могу сейчас вспомнить, потому что и сессии сдвигались бесконечно, не только у меня, у студентов, потому что надо было ездить «на хлопок» – это так называлось – на сбор хлопка, уезжали, месяцами там студенты проводили – так что там все было сдвинуто, я сейчас не могу этого вспомнить. Но мне в институте не дали открепительных документов для того, чтобы я уехала в Ташкент, из Ташкента в Москву, просто ко мне очень хорошо относились на факультете, я и работала, и училась там одновременно, и просто, как видно, старшие товарищи, вот тот же Семен Исаакович Тетельбаум, вот, Наум Филиппович Валернер – они просто сделали так, что заблокировали мои документы, они считали, что все-таки в Киев я вернусь в свой коллектив, а в Москве у меня просто абсолютно нигде никого не было, никого из близких не было. Где-то в конце 43-го года у одного из польских студентов-беженцев, Владика Зархи, я узнала, что у него в Палестине живет отец. Я на память помнила адрес маминой старшей сестры, тети Ханы, она жила в Хайфе, в (нрб). И он написал отцу во время войны, и тот мне прислал точный адрес моей тетки, и я ей (нрб) все это описала. Значит, в Киев я когда возвратилась с институтом, я собиралась жить в общежитии, но родители друга моего брата, которые оставались здесь на оккупацию и жили в очень благоустроенной квартире, квартира не пострадала во время войны, я говорила на прошлой кассете – такой Володя Тютюн был, его родители меня оставили жить у себя, так что я жила не общежитии. А когда через год он демобилизовался из Красной Армии, или тогда уже была Советская Армия, вернулся домой, то я получила место в общежитии Киевского политехнического института и переехала туда. Работала я тогда уже, училась на четвертом-пятом курсе и работала старшим лаборантом на так называемом спецпроизводстве. Это было тоже засекреченная лаборатория, которая разрабатывала оборонную технику связи. Вы называли имя Тетельбаум. Кто это такой, расскажите, пожалуйста. Семен Исаакович Тетельбаум закончил в свое время радиотехнический факультет, защитил кандидатскую диссертацию и в 26-летнем возрасте защитил Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 36 докторскую диссертацию, был самый молодой доктор в историю… за всю историю Киевского политехнического института. В Ташкенте он был деканом спецфакультета. По возвращении в Киев он только заведовал кафедрой радиопередающих устройств, ну, это он и в Ташкенте совмещал с деканством, и заведовал, ну, был начальником спецпроизводства по разработке оборонной техники. В 47-м или 48-м году он был избран членом-корреспондентом Академии наук Украины. Удивительно талантливый ученый, известный на весь Советский Союз, за пределами Советского Союза, к сожалению, в 48 лет умер от обширного инфаркта. Это было в 58-м году. Он 10-го года рождения был, так что в Ташкенте он в 41-м году, ему, соответственно, был 31 год, был удивительно подвижный, моложавый, и с возвращавшимися после фронта, после госпиталей студенты, которые восстанавливались в институте, в перерыв хлопали его по плечу и просили: «Парень, дай закурить», а потом у них отвисала челюсть, когда оказывалось в аудитории, что это профессор Тетельбаум. Был очень демократичный, очень находил общий язык всегда со студентами, кстати, разрешал пользоваться учебниками и шпаргалками на экзамене и говорил, что если человек в нервной обстановке экзамена может из учебника извлечь ответы на вопросы экзаменационные, то в процессе работы он наверняка справится с любой проблемой. Но это не мешало, однако, целым курсом уходить с радиофакультета. Вот так в 46-м году практически весь один из курсов ушел в Институт киноинженеров из-за того, что они никак не могли сдать экзамены по радиопередающим устройствам. А это разрешалось тогда, были нравы в Политехническом институте достаточно демократичные, можно было переходить из факультета в факультет? Нет, это не из факультета в факультет, Институт киноинженеров тогда не был в составе Политехнического института, это был совершенно другой институт. Конечно, слова рейтинг мы тогда не знали, но по рейтингу он был на два порядка ниже радиофакультета КПИ, поэтому студенты, которые не выдерживали нагрузки радиофака, они переводились в Институт киноинженеров. Вы продолжали работать… Я продолжала работать. Тема моего дипломного проекта была очень серьезная, она шла прямо уже в работу тех устройств радиотехнических, которые разрабатывались в спецпроизводстве, у меня был один из важных узлов, я не буду называть, что это было за устройство, изделие, когда-то все это было засекречено, один из узлов – это была тема моего дипломного проекта. И он уже по мере моей разработки чертежи уже прямо шли в производство, в опытные образцы воплощались. За два месяца до окончания срока работы над дипломным проектом, то есть за два месяца до защиты дипломного проекта, меня лишили допуска к секретной работе, потому что моя тетя Хана из Палестины через общество «Джойнт», которое олицетворяло тогда все зло сионистского движения, прислала мне посылку – почему-то это из Лондона посылка пришла – там было полкилограмма яичного порошка и полкилограмма горохового порошка, и это меня, конечно, скомпрометировало в глазах руководства института. Меня лишили допуска к секретной работе. Значит, я не могла не только работать, продолжать работать – а это единственное средство к существованию было, – я не имела права защищать свой собственный дипломный проект. Ну, это была катастрофа, то есть… И тут, опять же, помощь добрых людей. Семен Исаакович Тетельбаум в очередную командировку в Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 37 Москву, куда он отвозил разработанные нами изделия, пошел на прием к… народный комиссар, или тогда уже были министры, госбезопасности, или это НКВД тогда уже было, и сумел его убедить, чтобы мне разрешили защищать мой же дипломный проект. Он показал там, что вот эти чертежи, собственно, мои, что я разрабатывала половину этих узлов, и таким образом на моей защите всех студентов… ведь защищала я не одна, нас целая группа защищала… всех, кто не имел допуска, удалили из аудитории, а я защищала, не имея допуска, защищала секретный диплом. Диплом я защитила на «отлично», и меня оставили в должности инженера-экспериментатора на этом спецпроизводстве при радиотехническом факультете КПИ. И там я проработала до 48-го года, то есть, фактически, два года после окончания института я там проработала, и меня благополучно уволили из института во время борьбы с безродным космополитизмом. А что это такая за борьба? Значит, космополит – это самое почетное слово, которое мировая общественность знала, это гражданин мира. Ну, например, гражданином мира называли Альберта Швейцера известного. После войны в Советском Союзе термин «космополит безродный» был приравнен, ну, может, к термину «предатель родины». Ну, а поскольку, наверно, единственный, кто не имели родины, вопреки тому, что евреи, кажется, сейчас – это единственная нация, которая знает, где ее родина, то есть, там четыре тысячи лет родина была Палестина, то безродными космополитами, как правило, были евреи. Таким образом, меня уволили в июне месяце. Была какая-то формулировка или?.. Формулировка, я вот вчера посмотрела в своей трудовой книжке. Там написано: «В связи с переходом на другую работу». Но! Все дело в том, что я с первого сентября была принята на работу в Киевский институт киноинженеров на кафедру теоретических основ электротехники в должности старшего лаборанта на оклад 600 рублей. Из этих шестисот рублей я 400 рублей платила за угол (угол – это кусок комнаты, который я снимала в многодетной семье, то есть там стояла кушетка, на которой я спала), за это я платила 400 рублей, и 60 рублей я платила за городской транспорт из дома на работу. Таким образом, мне оставалось 140 рублей. Меня на кафедру туда принял мой преподаватель теоретических основ электротехники, у которого я прослушала курс теоретических основ электротехники еще до войны, Павел Герасимович Городецкий. Он к тому времени, возвратившись из армии, заведовал кафедрой киноинженерного института. Ну, вероятно, я была способной студенткой у него, и к тому времени на кафедре в киноинституте я проработала до 51-го года. Я хотела бы сделать такое небольшое отступление: значит, поскольку я работала, я стипендии не получала – я работала в штате КПИ и училась на дневном, это тоже очень странное такое конгломерат, потому что работающие учились на вечернем, на заочном. Но, поскольку я нигде ни от кого помощи никакой не имела, а прожить на тот оклад невозможно было, я нигде не осваивала профессии швеи, вынуждена была обшивать себя, и ко мне стали обращаться студентки с просьбой, естественно, за соответствующее вознаграждение, перешивать там из старых каких-то бабушкиных пальто себе куртки. Таким образом я зарабатывала и потом стала зарабатывать неплохо, потому что об этом узнали профессорские жены, им очень нравились те модели, извините, от кутюр, которые я выполняла, и, таким образом, у меня недостатка в заказах не было. Но все дело заключалось в том, вся сложность, что у меня же Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 38 не было и швейной машины. 80% жилплощади в Киеве было разрушено. Как люди жили, в каких условиях, описывать невозможно, но мне приходилось вечерами, поздними вечерами, напрашиваться к моим друзьям, знакомым, у которых были швейные машинки, и там я строчила вот эти вот свои заказы. Ну, когда я спала, я не знаю, потому что еще ж надо было учиться в это время, и работать. Одновременно я освоила профессию машинистки, и вот тут уже я стала вполне благополучным человеком, потому что, еще работая, еще будучи студенткой, я оставалась вечером в лаборатории, и на институтской машинке печатала диссертации, учебники для профессуры, редактировала, поскольку, как правило, технари очень плохо знают русский язык, у них плохо с грамотностью, у них плохо с фразеологией, кроме того, я в все эти печатные материалы вписывала, поскольку эти работы, диссертации, технические, и учебники технические, я вписывала формулы, проверяла эти формулы, редактировала, мне очень… Ко мне уже потом составляли протекцию, вплоть до того, что обращались к моему шефу, академику Тетельбауму, с просьбой, чтоб он составил протекцию, чтоб я эту работу взяла. Но работу эту я могла делать только ночами. Это все было очень сложно – оставаться в лаборатории. К этому времени я уже жила в общежитии в КПИ, территориально это вроде было близко, и этим же я, кстати, продолжала заниматься и в Институте киноинженеров. Извините, тогда вопрос: вы говорили, что вот в связи с борьбой с космополитизмом – какая вообще обстановка в этот момент была? Обстановка была страшная. Значит, в учебниках, в лекциях, если встречалась фамилия типа немецкой, еврейской фамилии в каких-нибудь разработках профессиональных, ну, например, фамилия Ленц, то официально это называлось «формула члена-корреспондента Академии наук Союза ССР Ленца», чтоб не подумали, что это какой-то заграничный ученый, перед которым мы преклоняемся. Это называлось «преклонение перед Западом». Все это было ужасно страшно. Конечно, в кулуарах, между собой по этому поводу было бесконечное количество анекдотов, и насмешек, и… ну, потому, что это была очевидная глупость, все делалось, ну, переламывали палку, ну, совершенно ни… можно было б все это… Если бы мне пришлось быть в это время антисемитом, я бы это делала гораздо тоньше. Потому что это все было шито белыми нитками, но бороться с этим невозможно было. Это было абсолютно беспочвенно. Значит… Академик Тетельбаум, он еврей? Академик Тетельбаум, естественно, еврей. Академик Тетельбаум, его двоюродный брат, Наум Филиппович Валернер, профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой радиоприемных устройств. Родной брат Семена Исааковича Тетельбаума, Яков Исаакович Тетельбаум – очень молодой, очень талантливый доцент того же радиофакультета. Они подписали какое-то письмо, которое из них выжали под диким давлением. Десять еврейских крупных ученых в Киеве опубликовали какое-то письмо в связи с делом врачей в 53-м году. И я в этот вечер приехала к Тетельбауму домой, он увидел мое выражение лица, и у меня было такое впечатление, что он сейчас на себя наложит руки. Он не мог мне смотреть в глаза. Он не мог подписать, вообще, такое письмо, но их вынудили. А потом был такой случай: готовилось собрание. В Киевском политехническом институте в 53-м году – мы перескочили, я выпустила целый период, но мы вернемся к нему – в 53-м году, когда в разгаре было дело врачей, в Киевском политехническом институте готовилась акция по борьбе со своими Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 39 соответственно вредителями. Значит, я в троллейбусе – я уже в КПИ не работала, я тогда уже и в киноинституте не работала – я в троллейбусе случайно встретила проректора КПИ по административным вопросам. Фамилия его была Гороход, это еврейский еврей, я с его дочерью училась в одной группе, с его зятем, поэтому мы с ним были очень хорошо знакомы. Он мне сказал, что ему приказали готовить 9-ю аудиторию – это самая большая аудитория в главном корпусе была – потому что на три часа назначено судилище. Там будут устраивать гражданское аутодафе Тетельбауму, Валернеру, еще целому ряду еврейской профессуры. Я, естественно, после работы сразу же поехала в КПИ к Тетельбауму и выяснила, что этим же утром по радио объявили о том, что эта Лидия Тимошенко, которая, ну, собственно, обвинила группу врачей во вредительстве, оказалась провокаторшей, она попала в какую-то там автокатастрофу, погибла, то есть… это было после смерти Сталина, и все развалилось, как карточный домик. И это случилось за два часа до того, как должны были устраивать этот самосуд над группой еврейских, еврейской профессуры из КПИ. По этому поводу я возвращаюсь к своей творческой деятельности. Во время примерно в зимнюю сессию 50-51 года у заведующего кафедрой электротехники Института киноинженеров Городецкого Павла Герасимовича случилась неприятность на работе, ему пришлось уйти из института. Ну, сейчас это уже не то что не так страшно, но это уже такие вещи уже произносят вслух. Он оказался замешан в некрасивой истории, он был гомосексуалистом, и какие-то студенты на него донесли, что он их домогался. Ему пришлось уйти, правда, ушел он в военную академию, авиавоенную академию, даже потом приглашал меня к себе на работу. Значит, поскольку поток в 120 человек посреди года остался без преподавателя теоретических основ электротехники, меня, старшего лаборанта с окладом в 600 тех рублей, вынуждены были перевести на должность ассистента кафедры. Извините, один вопрос: сколько стоила буханка хлеба тогда? Этого я не помню. Я вот только помню, что по возвращении в Киев, в день получки я покупала французскую булку за 10 рублей. Значит, вынуждены были меня назначить на должность ассистента кафедры, потому что старший лаборант не мог на потоке вести курс теоретических основ электротехники. Вот так я полгода проработала практически доцентом или профессором, но я уже была, числилась на научной работе, на учебной работе. Летом 51-го года, не знаю уже, какая там волна, как это называлось, тогда это уже, по-моему, не называлось борьба с космополитизмом, а как-то иначе, в конце учебного года 1951-го из киноинженерного института уволили 14 евреев. Уволили не всех: увольняли среднее звено преподавателей, профессура осталась там, (нрб) был, Карновский профессор, эти остались. А вот среднее звено уволили. Формулировка у меня записана в трудовой книжке – «в связи с уменьшением учебной нагрузки». Это происходило к 1 июля, естественно, а 1 сентября на мою должность была оформлена сестра секретаря комсомольского комитета этого же института. Кстати, среди этих 14 уволенных был и средний сын академика Тетельбаума, Александр Исаакович Тетельбаум. Еще, правда, была уволена, я не помню сейчас ее фамилию, заведующая кафедрой марксизмаленинизма. Она была из комсомола в той трипольской трагедии какой-то, была совершенно непереносимая коммунистка, и, по-моему, самая большая антисемитка в институте. Но она была еврейка, и ее уволили. Вот это та сатисфакция, от которой я получила удовольствие тогда. Итак, я осталась. Жилья у меня тогда не было. Я была прописана в учебной аудитории Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 40 киноинститута. Дело в том, что у меня был старый киевский паспорт и старая киевская прописка, и по действующим в то время законам, если бы меня ктонибудь из квартиросдатчиков прописал на свою жилплощадь, то есть я бы получила формальное право ночевать там, то через три месяца я имела право претендовать на часть этой площади. Поэтому меня никто нигде не прописывал. Значит, опять-таки благодаря заботе Павла Герасимовича Городецкого – многие относили за счет симпатии ко мне как к женщине, но, как потом всем пришлось убедиться, это был просто… просто порядочный, нормальный человек – меня прописали в аудитории киноинститута. А потом, когда меня уволили из киноинститута, я оказалась просто на улице. Значит, если я в Киеве нахожусь месяц непрописанная, я утрачиваю вообще право проживать в Киеве. Извините, такой вопрос. Вы вернулись, ваша квартира, где вы жили с родителями, не предлагали вам ее? Я на эту квартиру претендовать не могла. Я говорила уже, то в ней жил, в нашей комнате жил директор Владимирского рынка, поскольку это было близко к рынку, от немецкого коменданта. Но во время войны в наш дом попала бомба, и от дома ничего не осталось. Значит, надо было стать на очередь, доставать какие-то справки, свидетельские показания, но поскольку я очень хорошо представляла себе, когда это может разрешиться, я, собственно, сказала: «Да как это, я в своем городе не устроюсь? Я буду заниматься год, через суд, каких-то свидетелей представлять, когда просто жилья нет в природе». Я этим не стала заниматься, я считала, что если возможность такая будет, то мне, киевлянке, ее предоставят. Кстати, по возвращении в Киев мне вдогонку кричали «Немецкая овчарка», так как жена киевского военного коменданта была очень на меня похожа. Страшно лестно. А когда дядя Арон вернулся в Киев с войны, еще во время войны, их жилье тоже было разрушено, им дали комнату в какой-то квартире на улице Жилянской, то в этот день к ним приехали владельцы этой квартиры довоенные, еврейская семья, и поскольку я пыталась им объяснить, что, ну, нельзя же, давайте пока ютиться с моими родственниками в одной квартире. Они мне кричали: «Жидовка, недобитая в Бабьем Яре». А после обеда мне вдогонку кричали «Немецкая овчарка». Вот, это со всех сторон мы были обложены. Простите, вы меня перебили, я что-то рассказывала… А, где я была прописана. Значит, наконец, через каких-то знакомых женщина, украинская женщина с большой семьей, со старым отцом, с дочкой, с внучкой, в коммунальной квартире у них были две смежные комнаты, одна из них проходная, согласилась меня взять к себе на квартиру. А по поводу прописки ее старый отец, который был формально владельцем квартиры, проникся ко мне доверием. Хотя его предупреждали, что она у вас отсудит площадь, он сказал: «Нет, я в людях разбираюсь. Она ничего подобного себе не позволит». Дал письменное согласие на прописку на их жилплощади. Но для этого надо было разрешение председателя райисполкома. Это улица Бассейная, а исполком находился на Круглоуниверситетской, а это были сталинские годы, 51-й год. Все руководство, вся администрация, все чиновничество работало ночами, потому что Иосиф Виссарионович был, как и я, сова… Иосиф Виссарионович Сталин был, как и я, сова, ночами работал, и поэтому все по всей иерархии, по вертикали вниз, работали тоже ночами. Значит, в два часа ночи я наконец попала на прием к председателю райисполкома. И он мне сказал, что он мне разрешения на прописку дать не может, потому что я не могу ни с какой стороны быть родственницей украинцев (нрб). И совершенно чужие люди не имеют права меня у себя прописывать. Вот если бы они были вашими Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 41 родственниками, тогда бы вы на этот счет… На этих словах я схватила чернильницу, тогда еще были чернильницы стеклянные, и разбила ее об стол, и сказала: «Значит, пропишите меня в Бабьем Яру, потому что все мои родственники в Бабьем Яру. Правда, брат один на войне погиб». И получила разрешение на прописку. И так я прожила в этой семье, за шкафом, три года, до 54-го года. Я до сих пор молюсь на эту Евгению Семеновну. И ее дочка, и внучка, и правнучка со мной поддерживают сейчас до сих пор хорошие отношения, это была совершенно золотая женщина. То есть, я, конечно, пыталась быть очень деликатной, я начала с того, что Евгения Семеновна, можно я возьму блюдце, и Евгения Семеновна, можно я возьму стул? Она мне сказала: «Бери все, что хочешь, не морочь голову». И относилась ко мне как к собственной дочери. Так что, вот это относительно бытового антисемитизма, и относительно государственного антисемитизма. Значит, после того, как меня благополучно уволили из института киноинженеров, это было 30 июня. Я до 3 декабря ходила без работы. И без жилья. Опять же ходила ночевать к каким-то подругам, потом сняла угол у какой-то бабки и спала на веранде зимой, на холодной веранде застекленной, на сундуке кованом. А потом я сняла угол у каких-то… у какой-то семьи. Пожилые евреи, пара, значит, мне не разрешалось после 10 вечера приходить, а у меня была и вечерняя работа. Кроме того, мне не разрешалось вечером жечь электричество, освещение после 10 часов. Я не говорю о том, что я не могла читать в постели, но я вынуждена была шить. Это какие-то старые черные перешивались из мужских брюк юбки, из пальто – кофты. И я все это проделывала при свече. В один прекрасный день я где-то задержалась до 11, и меня не пустили ночевать. Я ходила всю ночь по улицам. Слава Богу, что это была осень. И вот только после этого я попала в Евгении Семеновне Ильевич. На работу я устроиться никуда не могла. Значит, мне сказали, что в управлении Аэрофлота, я не помню, был ли уже тогда Бориспольский аэропорт, или не было. Их начальство сидело на Крещатике, против Бессарабки. Я туда пришла. Мне сказали, что я им очень подхожу, что им нужен инженер-радист, тем более, что у меня фирма – я училась у Тетельбаума, это я им все рассказала, что я работала в КПИ, все рассказала. У меня попросили паспорт, и сказали: «Да, понимаете, но сейчас вакансии еще нет, позвоните к нам, придите к нам…». Но я понимала, что это полный отруб. Ну, так повторялось много раз, так повторялось. Значит, я пошла в институт «Гипросвязь». Начальник отдела… электроотдела «Гипросвязь»… да, вот я забыла сказать. Когда Павел Иванович Городецкий вынужден был уйти заведовать кафедрой в военной академии, как его взяли после этого скандала… Ну, скандал, наверное, замяли. Он мне предлагал перейти к себе ассистентом. Но я уже тут принципиально сказала, что ассистенты по теоретическим основам электротехники нужны в двух институтах в Киеве. Я хочу быть «холодным сапожником», я хочу пойти в проектный институт и тихо сидеть и работать инженером. Значит, я пришла в институт «Гипросвязь». Начальником электроотдела оказался тот студент КПИ, который мне в Яготине в начале войны сказал, что он встретил моего брата. Он, естественно, ко мне был очень расположен, но от него практически ничего не зависело. Единственное что, он меня спросил: «А вот вы работали там-то, там-то?». «Да». «А Пасечника вы знаете?». Я говорю: «А как же, он у нас на кафедре работал, доцент Пасечник». Он закончил в свое время одесский институт связи и устроился на кафедру теоретических основ электротехники, поэтому когда ушел Городецкий, он не мог читать теоретические основы электротехники, будучи кандидатом наук и Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 42 доцентом. А меня он, значит… поставили на эту должность. Оказалось, что они соседи. «Пожалуйста, я у него справлюсь о вас, что вы собой представляете как специалист. И вы зайдите через некоторое время». Но к этому времени отец Павла Герасимовича Городецкого, Григорий Мойсеевич Городецкий, профессор киевского Политехнического института, до войны он был деканом электрофакультета, я ему оформляла его последний учебник, печатала и редактировала, и корректировала. Он позвонил в институт «Гипрокоммунэнерго», который находился на Подоле, где во главе института, и главный инженер, и директор были его бывшие студенты, и попросил меня устроить у них. Я к ним пришла на собеседование, они остались всем очень довольны, но, к сожалению, они посчитали, что им не удастся меня провести, ну, через отдел кадров, через министерство, и тогда я поехала к Тетельбауму. Я у них не была месяца три, просто не хотела показываться в таком состоянии. Я приехала, опять же Семен Исаакович меня спросил: «Что случилось?». Я без комментариев сказала: «Вы мне хотите помочь?», а он в это время работал над беспроволочным троллейбусом. Была такая очень модная тогда штука, да, и это была такая хозтематика от министерства коммунального хозяйства. Я говорю: «Вот у вас есть связи в министерстве коммунального хозяйства. Вот есть такой институт, и меня туда согласно руководство… Интервью с Деборой Яковлевной Авербух. Кассета №3, вторая сторона. Семен Исаакович меня посадил в свой «Москвич», отвез в министерство коммунального хозяйства, в приемную заместителя министра Сахарова, ведавшего кадрами. Через 15 минут выглянул и пригласил меня в кабинет. Со мной заместитель министра поговорил, позвонил при мне директору института «Гипрокоммунэнерго», и, я не помню, по-моему, с 17 декабря 1951 года меня приняли на работу инженером на 700 рублей, хотя в таком институте… киноинституте я была ассистентом и получала больше тысячи рублей, помоему, 1050. В этом институте я проработала до 1978 года и ушла на пенсию. Значит, институт этот реорганизовывали, сливали, поскольку жилья у меня попрежнему нормально не было, я в 54-ом году, вот уже три года работая в этом институте, я получила место в общежитии этого института. Это уже были не студенты, к сожалению, это была обычная жилая 4-комнатная квартира, с проходными комнатами, с 12-ю молодыми, пожилыми, старыми женщинами, с общей кухней. В 57-ом году я получила в ведомственном дому 12-метровую комнату. Тогда я уже была старшим инженером. Поскольку жилья не было, я с удовольствием всегда ездила в командировки. Командировки эти были связаны с тем, что мы по всей Украине, по всей разрушенной Украине проектировали электрические сети, электрические подстанции. Это была не моя профессия, но я очень быстро в это дело вработалась. И, поскольку началась газификация Киева, и стал вопрос о том, что газопроводы гибнут от коррозии, и благодаря интенсивному подземному строительству газопроводов начали погибать кабели от коррозии. Меня вызвал главный инженер, ориентируясь на то, что я работала в КПИ на научной работе, и предложил мне заняться защитой кабелей, высоковольтных кабелей от коррозии. Я в этом абсолютно ничего не понимала, мне пришлось начать все с самых азов, и когда в 57-ом году институт уже слили… Вернее, тогда организовали при коммунальной… Министерстве коммунального хозяйства институт по газификации Киева, эти два института слили. Руководитель группы по защите газопроводов от коррозии, а это было Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 43 страшное дело, газопроводы рвались буквально через год после их укладки, уволился. Меня вызвали, предложили мне возглавить группу проектную в институте по защите газопроводов от коррозии. Я сказала, что я в этом ничего не понимаю, и я на это не согласна. Тогда мне сказали: «Вас тогда мы все равно в эту группу переведем в вашей же должности старшего инженера». Ну, я решила, что ж я буду ходить рядовым инженером. Работа эта связана с полевыми изысканиями, с ночными измерениями на подземных коммуникациях и на источниках блуждающих токов. Лучше я буду получать вместо 1000 рублей 1400, и буду другими командовать. И вот так, с 1957 года я перешла уже в газовое отделение этого института, стала руководителем группы, потом создали отдел, поскольку у меня группа была больше, чем соседний отдел. У меня группа разрослась на 25 человек. Огромный автомобильный парк, потому что все было связано с полевыми работами. Мы ездили по всей Украине, потом нас стали приглашать в Белоруссию, в Молдавию, во всю Прибалтику, Среднюю Азию, Закавказье. Фактически сфера деятельности у нас была по всей… по всему Советскому Союзу. Организовали отдел, меня, конечно, назначить начальником отдела не смогли, пригласили там одного практика, без диплома, по-моему, даже. Я работала у него заместителем начальника отдела. В 63-ем году я ушла в научно-исследовательский институт городского хозяйства, который вот только организовало наше министерство. Меня пригласили на должность заведующего лабораторией. Я на этом деле очень много потеряла в окладе, но там открывалась возможность работы над диссертацией. Когда директор этого нового института обратился в академию коммунального хозяйства в Москве, которые были ведущими в Советском Союзе по защите от коррозии, ему сказали… а, а институт новообразованный, министерства коммунального хозяйства, привлеченным специалистам давали в Киеве квартиры. Вот он позвонил в академию, чтоб ему прислали какого-нибудь молодого москвича, и он ему гарантирует здесь квартиру. Ему глава советской коррозионной школы Иосиф Вениаминович Стрижевский сказал: «Зачем вы от нас просите, у вас в Киеве есть Авербух». На что он ему ответил… я все это знаю со слов профессора Стрижевского, это телефонные разговоры шли. Он мне говорил, что вам надо туда переходить, но вот… он сказал, что вы не пройдете по трем статьям. Я спросила: «Какие еще две?». Он мне сказал: «Не член партии, и не кандидат наук». Но в министерстве, над нашим институтом, курировал наш институт начальник технического управления министерства Киркевич Леонид Александрович. Он меня пригласил к себе в кабинет. В этом кабинете находился директор научно-исследовательского института коммунального хозяйства, Квачев Григорий Семенович, закрыл нас снаружи на ключ и сказал, что я совершаю диверсию против себя, я объединяю тот институт. Квачев со мной поговорил. Он выпускник КПИ, когда он узнал, что я из школы Тетельбаума, он сказал: «У меня никаких вопросов нет, пишите заявление на конкурс». Я сказала: «Я на конкурс заявления писать не буду, потому что меня конкурсная комиссия министерская не пропустит, опять же по тем трем причинам. А с каким лицом я вернусь в свой институт? Мне ведь надо брать характеристику на конкурс». Он мне сказал: «Ладно, я вас проведу без конкурса». Только потому, что я оказалась ученицей Тетельбаума. Вот так я оказалась в научно-исследовательском институте. Извините, вернемся в 53-му году. Смерть Сталина Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 44 Я не знаю. Сказали, что смерть Сталина. Какой-то вышел… выходили мы почему-то на улицу. Кто-то устраивал из этого… снимал шапки, плакал. Ну, нормальные люди как-то реагировали совершенно нормально. А ваше отношение к Сталину? Лично мое? Ну, вы же знаете, в какой семье я выросла, и вообще мою, мой критический образ мышления. Я когда-то, вот между смертью и вот этим хрущевским разоблачением, помню, что я бежала на работу, я всегда опаздывала, я подумала: «Ну, вот сколько должно пройти десятилетий для того, чтоб действительно была оглашена истинная ситуация?». И буквально на второй день собрали закрытое партийное собрание, и всем это рассказали. И очень активный член партии Абраша Гурин мне по дороге на работу совершенно с восторгом рассказывал, как, значит, вчера разоблачили Сталина!». Я говорю: «Это ты за одну ночь так перелицевался?». Ну, вот. Я не помню уже, в какой ситуации мы об этом все узнали, это ж вроде нельзя было всем знать, это была закрытая информация. Ну, ничего, у меня об этом есть другие впечатления, потому что я была в Тбилиси через неделю после того как развенчали Сталина и выбросили из мавзолея, и в Тбилиси на проспекте Руставели расстреляли 200 мальчиков молодых. И я жила в гостинице, которая вся была в щербинках от пуль, напротив почтамта, где был этот весь расстрел. И все это видела и слышала от грузинов. Это переходит все вообще мыслимые границы. Потом, в 65-ом году, то есть целый год, директор моего того, проектного института добивался, чтобы лабораторию, которую я организовала, и начала там работать над диссертацией… Ушла я от него одна, без ничего, без никого. Он был страшно возмущен, почему я к нему не обратилась. Я сказала, что вы бы меня все равно не отпустили. «Да, но у вас незаконченные научные работы!». Там я вела научные работы, в проектном институте. «Значит, вам придется совмещать до Нового года, вы должны здесь закончить. Значит, вы туда пойдете на полставки». Я говорю: «Туда меня на полставки не возьмут, там надо организовывать лабораторию. Это конец года, ни оборудования, ни денег, ни материалов – ничего нет. На полставки – нет. Совмещение возможно только в вашем институте». «Ну, значит, будете сюда приходить на работу!». Я говорю: «Вы ж знаете, сколько это стоит». Таким образом, я на этом время выиграла, и полгода получала полтора оклада. Вот тогда я уже была очень богатая. Но мне очень все равно везет на хороших людей, потому что к тому времени этот же Леонид Александрович Киркевич, начальник технического управления министерства, был началь… перевели его начальником главного управления материально-технического снабжения. И весь необходимый список нужного оборудования, материалов для фукционирования лаборатории он у меня принял не до 1 сентября, как полагалось, а в декабре. И лабораторию всем обеспечили. И вот тут мой авторитет в глазах руководства института вырос… непрекословным сделался! Ну, в общем, мне очень долго приходилось доказывать по всем министерским инстанциям, включая министра, что лаборатория научная, а к тому времени там был очень большой штат, были очень большие фонды на научно-исследовательские работы, что такая лаборатория должна находиться при научно-исследовательском институте. А директор проектного института все время туда писал, всевозможные мотивировки, мне эти мотивировки приходилось каждый раз опровергать, и я так понимала, что меня выгонят из научного института, потому что работать мне некогда. Я в основном занимаюсь только тем, чтобы отстаивать свои права. К этому времени со мной еще случилось несчастье, я перенесла полостную Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 45 операцию очень серьезную. Это все связано было, наверно, с нервами. И я в один прекрасный день сказала директору проектного института Бадаеву Николаю Петровичу. Я к нему приехала в институт и сказала: «Николай Петрович, это тянется уже год. Я даю вам слово, что я вам сама напишу мотивировку, по которой лабораторию надо перевести к вам. Но дайте мне возможность получить квартиру в институте». В это время шла речь о том, чтобы получить… что я смогу улучшить свои жилищные условия. Он мне дал честное слово, что он подождет. Ну, как-то я все-таки, наверное, очень наивный человек была. В один прекрасный день он меня пригласил и попросил просто для него составить такой, вроде черновик. И когда я через неделю зашла по делу в приемную министра, то мне навстречу шел заместитель министра, и сказал: «А Бадаев только что получил визу министра на ваш перевод к нему в институт». И в это время из кабинета министра вышел Бадаев. Он сказал: «Вот все, вопрос решен!». Я спросила: «А как же мои личные дела?». «А ваши личные дела – это ваше личное дело». С этим я и осталась. Значит, в это время распределяли квартиры в научно-исследовательском институте. Каким-то образом меня включили в списки, хотя норма жилая тогда была 3 квадратных метра на человека, санитарная была 12. Это очень долго рассказывать, что это за двойная итальянская бухгалтерия, а у меня было аж 12 квадратных метров. Но все-таки меня директор института включил в этот список. И пригласили нас на коллегию министерства, на которой решался вопрос передачи лаборатории. Я всех абсолютно убедила, вплоть до заместителей министра, чтоб вопрос о моем переходе не оглашали вслух, потому что речь идет о моем… о жизненном для меня вопросе. Мне уже было 44 года тогда, а жилья, собственно, не было. Все было очень хорошо, обсуждались все вопросы, был отчет научноисследовательского института, поднялся министр и сказал: «И очень хорошо, что лабораторию Авербух мы передаем Бадаеву». Вы знаете, вот все, кого я подготовила, сделали такой глубокий вдох, что у меня было впечатление, что я оказалась в вакууме. Тишина мертвая. В это время министр сказал: «А квартиру дадите вы ей!» – и показал пальцем на директора научно-исследовательского института Квачева. И уехал в отпуск. И когда утверждались списки на квартиру, секретарь парторганизации, председатель местного комитета, все говорили, что я уже у них не работаю, я уже месяц работала в проектном институте, и квартира мне не полагается. Ну тут уже проявил себя Квачев, он сказал… те сказали, что мы не слышали. Квачев сказал: «Мне министр приказал!». «Мы этого не слышали. Мы были, но этого не слышали». Он сказал: «Значит, так. Завтра вас переизберут, вы не будете ни секретарем парторганизации, ни председателем местного комитета. А меня, директора, снимут с работы. Я не могу не выполнить приказ министра». То есть, это, конечно, только его благородство, здесь министр не при чем, но рассказывать о том, как оказалась из ничего все-таки эта квартира, это чисто советская специфика. Ну, и я продолжала работать в проектном институте. Я была… я защитила кандидатскую в 71-ом году, в 72-ом меня тут же утвердили, хотя тогда это было страшное дело. Я не могла, например, сдавать кандидатские экзамены, потому что у меня их нигде не принимали, ни в КПИ, где меня все знали… Значит мне, поскольку я вела дипломное проектирование по своему разделу в строительном институте, то у меня кандидатский экзамен по английскому принимали на кафедре английского языка. По специальности я сдавала в Москве в академии коммунального хозяйства, это была чистая формальность. А устроиться на Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 46 защиту в Киеве, на Украине я нигде не могла. Поэтому я защищалась в Тбилисском политехническом институте. Почему вы не могли в Киеве устроиться на защиту? Ну, потому что я еврейка! А почему я не могла в КПИ сдать кандидатский минимум по английскому? Я пришла на кафедру, на кафедре работали три мои преподавательницы. Одна у меня преподавала до войны, Штульберг, одна у меня принимала экзамен во время войны, а Марья Феликсовна Завадская, третий преподаватель этой кафедры, преподавала у меня английский во время эвакуации и принимала у меня госэкзамен уже в Киеве. Кстати, в Ташкенте она ко мне вышла с предложением – она мне будет давать частные уроки английского языка, я закончу радиофак, и буду преподавать английский на радиофаке, потому что ей очень трудно преподавать у нас английский, она по каждому поводу спрашивала: «Ниночка, я правильно выражаю мысль?». Но у меня тогда не было возможности брать еще частные уроки, бесплатные, кстати, потому что мне было тогда 22, 23, 24 года, и у меня были другие совершенно интересы. Значит, я когда пришла на кафедру к ним с просьбой, она мне подарили с дарственными, удивительно трогательными надписями свежеразработанный учебник для технических ВУЗов по английскому языку, а устроить мне прием экзамена они не могли. А поскольку я сотрудничала практически со всеми ведущими коррозионистами Советского Союза, в Тбилиси даже не было такой кафедры, я в Тбилиси защищалась по специальности «Электроснабжение железнодорожного транспорта». Вот там завкафедрой Лордкипанидзе, он уже к тому времени был покойный, а вместо него завкафедрой сказал, что если у вас есть автограф профессора Лордкипанидзе, а я привезла книгу с его автографом, то у нас вы будете защищаться. И я защитилась у них «на ура». Единогласно. Вы много работали. А личная жизнь? А личная жизнь остается за кадром. Я, как все звезды шоу-бизнеса, не люблю распространяться о своей личной жизни. Я одинокая женщина и никогда не была замужем. Ну, вот так. А чем вы увлекались? Я увлекалась театром, литературой, спортом. Я первый раз в жизни на горные лыжи стала в 62 года. Вот до сих пор, в 80 лет, я жду, пока наплюют искусственный снег на горнолыжной базе в центре Киева, и в этом году тоже рассчитываю еще кататься на горных лыжах. Благодаря тому, что я ездила, уже будучи на пенсии, по приглашению Госкомгаза Таджикистана в Таджикистан, в Армению, в Узбекистан, на (нрб) совещания, я, уже уйдя на пенсию, работала от московского института повышения квалификации работников мелиорации, и читала лекции о защите систем мелиорации в Армении, в Узбекистане, в Крыму, в Москве, в Подмосковье. Я все эти вояжи совмещала с договоренностью, что мне дадут возможность ознакомиться со странами, с республиками. Таким образом, я каталась на горных лыжах на базе «Бакуриани» в Грузии, в олимпийской, лучшей в Советском Союзе горнолыжной базе в Цехкадзоре, в Армении, в Алмалыке в Узбекистане. Я читала лекции неделю, я была уже на пенсии, я была свободным человеком, а неделю я проводила в горах. Летом тоже проводила в горах. Благодаря своей этой работе, я еще во время работы в институте практически объездила с лекциями, на конференции, с докладами всю Прибалтику, три республики. Очень много ежегодно читала в Белоруссии лекции. Украина, естественно, вся. Северный Кавказ. Была в Грозном. Вот все это сейчас вижу, вспоминаю. Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 47 Закавказья все три республики. Я, кстати, должна была защищаться в Азербайджанском институте нефти и химии, но к тому времени, когда меня уже зачислили… оформили на защиту, и даже дали мне как бы полагающийся вне аспирантуры, поскольку я в аспирантуре не училась, предзащитный отпуск, вышла частное определение Высшей аттестационной комиссии в Москве о низком уровне диссертантов Бакинского института нефти и химии. Я оттуда забрала свои документы, я не хотела портить себе репутацию. Ну, вот так. Поскольку детей у меня нет, родственников, ни бедных, ни богатых, у меня нет, я решила, что я доживу до 55 лет и уйду на пенсию. Буду жить в собственное удовольствие. Однако, за лет 20 до выхода на пенсию, мне позвонили мои подопечные мальчики и сказали, что они сутки стояли в очереди на запись на покупку автомобиля в магазине (тогда ночевали там, под магазином), что мне надо взять паспорт, это было в воскресенье, и придти. И меня зарегистрируют тоже в очереди. Я посмеялась, ни о каких деньгах речи быть не могло, но я всетаки пришла, поскольку этот магазин был в двух кварталах от моего жилья. И записалась в очередь. Прошло 20 лет, уже очереди эти аннулировали, потому что… ну, не аннулировали, а затормозили, потому что машины раздавали через учреждения. Потом это все опять возобновилось. К этому времени министерство получило 100 «Жигулей». Раздали 92 «Жигуленка» в области, 8 осталось в резерве министра. Мне заместитель министра коммунального хозяйства Наседкин Владимир Михайлович выбил машину для… у министра, целевого назначения. Из этих восьми одну машину мне. Ну, что же министр, он тоже не может мне машину вынуть из кармана, он должен иметь заявление мое, на котором он напишет резолюцию «Выдать». Но для того, чтобы эту резолюцию получить, должны стоять три визы, «треугольник» института: директор, секретарь парторганизации и председатель местного комитета, что они поддерживают мою просьбу, ходатайствуют выделить мне автомобиль. Я пришла с этим заявлением к директору, и он очень захотел знать, кто мне протежирует. Я сказала, что мне протежирует сам министр. Вот поэтому я пишу ему… на его имя пишу просьбу. Он сказал, что он не знает, он не может, другие тоже захотят, ну, оставьте, но я не обещаю вам такой резолюции. И я забрала заявление и подошла к секретарю парторганизации, очень молодому человеку, работал он у нас в архитектурном отделе. Он очень мне симпатизировал, на всех институтских вечерах он меня приглашал на танцы, он на банкетах целовал мне ручки, очень светский молодой человек. Называл он меня, естественно, Нина Яковлевна, а я ему там, по его молодости говорила Валера. Значит, я встретила его, дала ему это заявление и сказала, что вот мне нужна ваша резолюция. Он сказал: «Нина Яковлевна, ну для вас… покатаете меня…». Дал, конечно, все в порядке. Через два дня я с ним сталкиваюсь во входном тамбуре в институт, и он мне говорит: «Дебора Яковлевна!..» – это значит, плохо. Я уже знаю, если мне говорят официально «Дебора Яковлевна», значит, это все, хана. «Дебора Яковлевна, почему вы от меня скрыли, что вы с этим заявлением были у директора?». Я сказала: «Я от вас не скрывала, я просто не знала, что парторганизация подчиняется директору». На этом все кончилось. Так что машину я от министра не получила. Но в это время, несмотря на то, что я уже поменяла квартиру, адрес, и несмотря на то, что очередь у меня была на автомобиль «Москвич», а «Москвич» по сравнению с «Жигулями», которые в это время уже выпускали, конечно, не идет ни в какое сравнение, я получила извещение на «Москвич». Еще Ижевского завода, это абсолютное барахло. Но я уже была очень благополучная женщина, я зарабатывала деньги. Я читала Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 48 много лекций в институте повышения квалификации, я в обществе «Знание» читала, получала 10 рублей за учебный час. Очень много зарабатывала на экспертизе проектов из других институтов. И у меня уже какие-то деньги были. Ну, «Москвич» я могла бы купить, но я очень захотела купить, конечно, «Жигули». И тогда мне министр подписал, опять же по протекции своего заместителя, подписали с удовольствием секретарь парторганизации министерства, ходатайства в министерство торговли… И почему-то тогда этим занимался какой-то спортивный торговый комплекс. Ходатайства в том, чтоб мне вместо «Москвича» выдали модель «Жигули», потому что я по роду своей службы должна оперативно выезжать на аварии газопроводов. И таким образом я получила машину «Жигули». И много на ней ездили? Ездила я на ней немного, потому что… к тому времени… перед тем… Да, вопервых, я не ушла на пенсию в 55 лет, потому что машину я получила вот как раз в 55 лет, купила, и у меня образовалась, естественно, большая долговая сумма, потому что у меня денег не хватило, мне надо было отрабатывать. И я еще два года проработала. Вот как раз за полгода до того, как я купила машину, один мой знакомый продавал свой гаражный блок в кооперативном гараже «Академический», это недалеко от моего дома, и я этот гараж купила. Он у меня до сих пор, кстати, еще есть. Утром бежать до работы в гараж забирать машину… Я очень люблю спать по утрам, я – сова, подчеркиваю. Во дворе оставлять машину было нельзя, потому что раздевали ее на ходу и угоняли, а, кроме того, я всегда опаздывала на работу. И машину ставить необходимо было на тротуаре перед институтом, как раз площадочка была там, куда выходило окно отдела кадров, на первом этаже, и окно директорского кабинета на втором этаже. И приезжать после работы и бегать там на этом автомобиле было не очень удобно. А кроме того, у меня… я ж уже выплатила долги, и у меня не было необходимости копить на автомобиль, поэтому я на работу ездила на такси. И машину я продала в рассрочку своему юному другу полтора года тому назад. Нина Яковлевна, вы… если бы вам не напоминали всю жизнь окружающие, что вы еврейка, вы бы об этом помнили? Во-первых, мне никто никогда в жизни об этом не напоминал. Это я подчеркиваю еще раз. И не потому, что у меня абсолютно космополитическая внешность. В Грузии говорят, что вот образец грузинской княгини, а вы говорите, что их нет. А потом выясняется, что я еврейка из Киева. В Ташкенте меня принимали не за узбечку, естественно, а за армянку. В Риге меня принимали за латышку, в Киеве мне кричали «Немецкая овчарка», а в Будапеште ко мне подходили туристы и спрашивали, как пройти по такой-то улице. В Закарпатье ко мне подходили советские офицеры, в зале, кроме меня никого с Востока не было, и во время танца мне говорили: «Как вы хорошо знаете русский!». Так что… но не поэтому. Я, когда оказывалась в компании, где я не была уверена, что я не услышу лозунги соответствующие, я первым делом, очень деликатно, между делом, давала им понять, что я еврейка. Ну, когда я оказалась в санатории в Трускавце, в 46-ом году, там отдыхали две учительницы с Урала, они сказали: «Вы еврейка?! Не может быть, вы такая симпатичная!». Так что мне никто никогда не напоминал. Я напоминала. А то, что я еврейка, я не помнить не могла, потому что я вскормлена на этом. Если вы потрудитесь прослушать первые кассеты, вы узнаете, какие во мне гены. Они неистребимы. Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 49 Как вы сейчас живете? Я сейчас живу лучше, чем когда бы то ни было. У меня нет никаких забот. Я получаю повышенную пенсию, поскольку я участник войны, Великой отечественной. Я, это мне… у меня есть медаль «За доблестный труд в годы Великой отечественной войны», за это мне добавляют еще три четверти минимальной пенсии. Поэтому я получаю три и три четверти минимальных пенсий. К сожалению, я еще кандидатскую пенсию не получаю, потому что для этого сейчас нужно иметь кандидатский стаж 15 лет, а я ушла на пенсию, когда у меня весь научный стаж составлял 8 лет. Так что мне уже, наверное, в следующей жизни придется получать кандидатскую пенсию. Но, зато по достижении 80 лет мне выдали в поликлинике ученых справку, что я нуждаюсь в постоянном постороннем уходе. Правда, меня врач, когда давала справку после комиссии высокой (это надо было проходить комиссию), она меня попросила в Собес, куда я эту справку буду предъявлять, заходить не так, как к ней в кабинет, а медленно и согнувшись. И для того, чтобы нанять себе трех сиделок круглосуточно, мне добавили 9 гривен и 5 копеек. Таким образом, у меня пенсия 139 рублей 63 копейки. Это в долларах если, как? Это я не знаю по курсу, каждый раз по другому. Значит, в Израиле, в 91-ом году, во время прямой трансляции вывоза евреев из Эфиопии я сидела в гостях за торжественным обедом у Иоси Ли Амфа, у его жены, миллионерши, дочка вот этого миллионера, который им оставил наследство, и она меня спросила: «Сколько ты получаешь денег?». Я говорю: «Я не могу тебе объяснить». Причем разговор шел на английском, который я не знаю. Я этого не могу точно объяснить. Тогда вот по курсу, на шекели, что-то я посчитала по нашему курсу, я сказала: «Официально – 5 долларов, а по черному – 7 долларов». Но за год до этого, когда пригласивший меня мой бывший студент в Америку водил меня по универмагам, там, по магазинам, он мне сказал: «Нина Яковлевна, вот вам нравится этот свитер?» – он увидел заинтересованность. Я говорю: «Очень». А стоил свитер 28 долларов. Он сказал: «Купите». Я сказала: «Ильюшенька, ваш доллар – мои 15 рублей». – «Нина Яков… Ниночка Яковлевна, я получаю 26 долларов в час». Причем, устроился он на работу по моей протекции, по моему письму, в Америке там. Я сказала: «Это ваши подробности». Значит, он мне сказал, что зарабатывает 26 долларов в час. Моя эта родственница, Ирит, поворачивается к своему мужу, к моему двоюродному брату Иоси, и говорит: «Иоси! Как же можно прожить на 5 долларов в час?». Я тихо сползаю со стула, и со мной делается истерика от смеха. Они перепугались, они говорят: «Что случилось?». Я говорю: «Нет, это я в телевизоре увидела один смешной момент». Теперь это уже намного больше. Значит, если 100, да 40 даже, округлим, поделить, там, на 5, это… 25 долларов. Это примерно 25. Нет, ну это же совершенно другие доллары. Я запретила своей кузине из Швейцарии присылать шоколад. Я запретила своей кузине из Израиля присылать кофе. Я в последнем письме своих заочных знакомых из Германии, это переводчица моего родственника с иврита… нет, не с иврита, с какого-то на немецкий, она профессиональный писатель. Они немцы, настоящие немцы, вот у них это какая-то вина перед еврейством, они узнали, что у моей кузины есть сестра в России – это у них называется – и стали со мной переписываться и присылать мне посылки. Значит, я им в последнем письме написала, что я вас все время прошу не присылать мне, это совершенно не ложная скромность, Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 50 просто то, что у вас стоит сумасшедшие деньги, да еще с пересылкой, я здесь покупаю в 10 раз дешевле. Для того, чтобы не быть голословной, я кладу вещественное доказательство. Я вырезала кусочек этикетки с плитки шоколада «Свиточ», на котором крупными буквами написано: «72% какао», и написала, что вот такую плитку шоколада в 100 граммов я покупаю за 30 центов. В Швейцарии плитка не 72%, а 44% какао стоит 1 франк швейцарский, то есть это 80 центов. С пересылкой это стоит полтора доллара. Я не могу позволить чужим людям на это тратить деньги, мне хватает. Вот так. Иногда мне на День Победы 20 гривень Омельченко дарит, как-то на 8-е марта, по-моему – 50 долларов. Но, кроме того, я до сих пор дружу с молодежью. У меня очень много друзей среди артистической публики. Значит, во-первых, в Доме ученых великолепные концерты, в филармонии у меня работают друзья, которые меня туда приглашают. У меня самая ближайшая подруга, очень молодая женщина сравнительно со мной – 50 лет, Наталья Петровна Гончаренко, она заместитель директора крупнейших дворцов искусств в Киеве. Сначала она работала во дворце «Украина» заместителем директора, сейчас она работает в Международном культурном центре, это бывший Октябрьский дворец, на все спектакли, кроме того, у них проходят эти мировые кинопремьеры, при этом у меня доступ ко всем этим мероприятиям очень обеспеченный. Елочку на Новый Год мне приносят мои бывшие мальчики, которым теперь под шестьдесят, вот был юбилей недавно, я получила совершенно царские подарки. Ну я уже не говорю об оригинальных живописных работах известных художников, я получила радиотелефон в подарок, я получила обогревательный прибор, ну, в общем, надо еще к этому добавить, что у меня безотходное производство на кухне, у меня была удивительно хозяйственная мама. Я… говорят, что я очень вкусно готовлю, но у меня все идет без отходов. Ем я достаточно мало. А вы готовите блюда, которые мама готовила? Обязательно. Какое любимое было блюдо, самое такое?.. Синие по-гречески, это то у нас называют соте из баклажанов. Это… ну, что еще? Я фальшивую делаю рыбу фаршированную, ну, то, что у евреев называется чолнт фиш, когда не остается костей. Пеку то, что мама пекла. Свекольники, борщ польский, у мамы была ж польская кухня, не украинская. Правда, мама все готовила на глаз, а мне иногда приходится уже рецепты смотреть, потому что… Ну, здесь есть еще одна подробность. Я сама стригусь, я сама шью, я сама вяжу, я сама перешиваю меховые изделия, это всю свою жизнь, это не от бедности, а от того, что мне угодить очень трудно. Кроме того, я вещи ношу по 50 лет. Вот у меня еще сейчас есть вещи, которые я себе шила в конце 40-х годов. И все оно… каждый раз оно переделывается на новые фасоны, и получается все очень модно и очень хорошо. Правда, надо сказать, что в 90-м году, во время пребывания в Америке, в Соединенных Штатах, я там, в общем-то, приоделась. Причем покупала я все на фри маркете, за бесценок. Но только очень хорошие, новые, нужные мне вещи. Вот. Абонируюсь в трех библиотеках. Сейчас очень, ну, оживилась опять библиотечная жизнь, я должна сказать, подписываются в Киеве все московские, российские толстые журналы, кроме того, меня мои молодые, юные друзья-журналисты обеспечивают своими изделиями, то есть мне… еженедельно получаю «Московский комсомолец в Украине» с приложениями кроссвордов, получаю «Правду Украины» – в подарок меня подписала моя приятельница-журналистка газеты «Правда Украины». Интервью с Деборой Яковлевной Авербух 51 А еврейской жизнью вы интересуетесь? Я очень часто бываю, ну, как это, (нрб) у Монастырского называется, смотрю там программы у них. Но, к сожалению, там очень много программ эклектичных, а так, в общем-то, бываю. С удовольствием получаю, читаю, знакомлюсь с бесконечным количеством, я не в состоянии уследить, кто издает эти газеты, русскоязычные газеты о жизни еврейской общины, какие-то дайджесты из израильских журналов и израильских газет, ну, и кроме того, у меня, извините, очень активная переписка с моими родственниками в Израиле. Там я переписываюсь не только с прямыми родственниками, вот регулярно с Галиной (нрб) Израэли, пока был жив дядя и Вероника, я с ними переписывалась. Кроме того, я переписывалась с профессором Иерусалимского университета Прайсом, Эли Прайс, с которым я тоже познакомилась через Риднера, мы очень долго с ними переписывались, и очень интересная переписка, потому что он… кстати, он выехал из Берлина в 39-м году и в Иерусалиме в его квартире я сидела на стуле, который его родители вывезли из Германии, значит, как видно, были очень состоятельные родители, что могли уезжать в 39-м году из Берлина с вещами. Он воевал в составе английской армии, он великолепный график, его работы выставлялись, я смотрела эти работы, он во время войны, во время открытия второго фронта, – вот я с ними переписывалась. Кроме того, во время первого пребывания в Израиле я попала в среду замощской диаспоры евреев, которые землячество. И переписывалась очень долгое время, вот до смерти, был такой Домб, жена Марыся Домб, то есть Мириам. Домб умер, а она ушла, хотя она моя сверстница, она на полгода старше меня, она ушла в дом престарелых и вот сейчас переписка прекратилась. Все это…