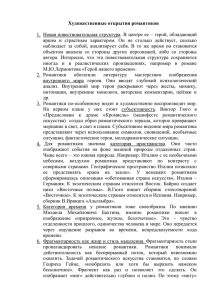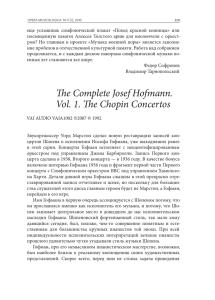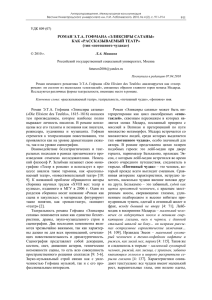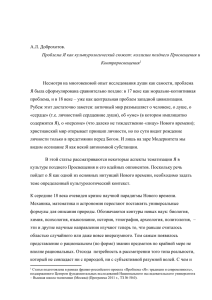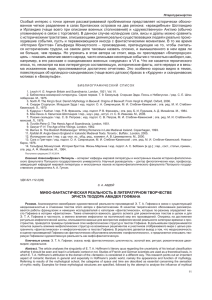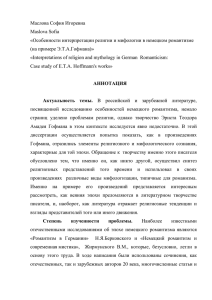Гофман
advertisement
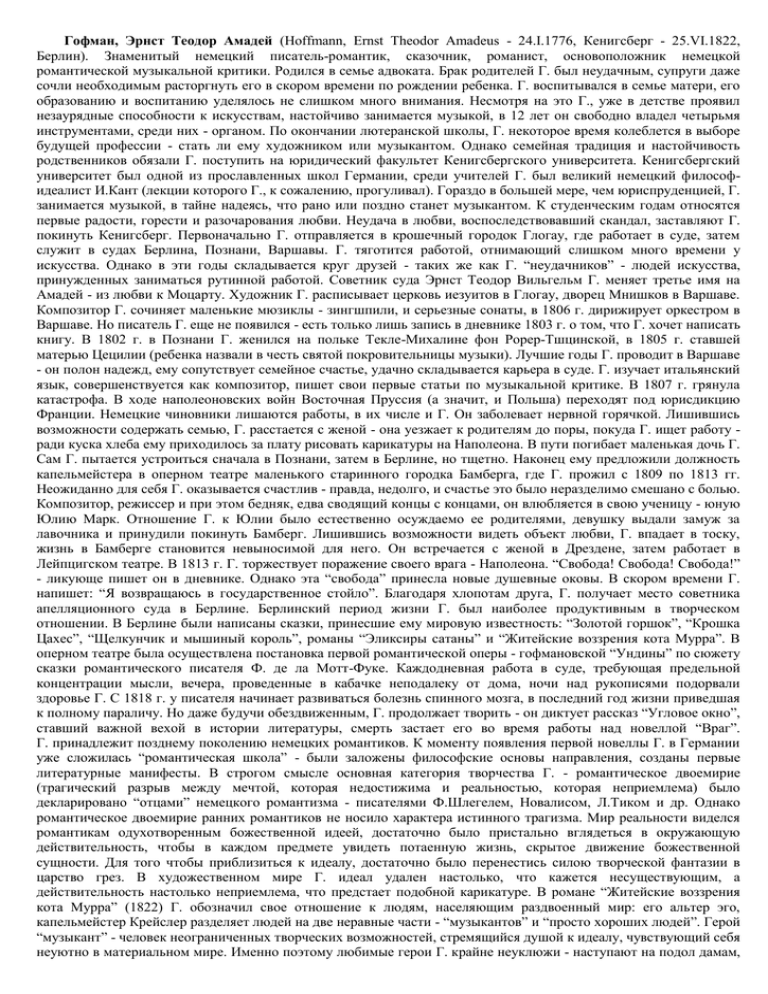
Гофман, Эрнст Теодор Амадей (Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus - 24.I.1776, Кенигсберг - 25.VI.1822, Берлин). Знаменитый немецкий писатель-романтик, сказочник, романист, основоположник немецкой романтической музыкальной критики. Родился в семье адвоката. Брак родителей Г. был неудачным, супруги даже сочли необходимым расторгнуть его в скором времени по рождении ребенка. Г. воспитывался в семье матери, его образованию и воспитанию уделялось не слишком много внимания. Несмотря на это Г., уже в детстве проявил незаурядные способности к искусствам, настойчиво занимается музыкой, в 12 лет он свободно владел четырьмя инструментами, среди них - органом. По окончании лютеранской школы, Г. некоторое время колеблется в выборе будущей профессии - стать ли ему художником или музыкантом. Однако семейная традиция и настойчивость родственников обязали Г. поступить на юридический факультет Кенигсбергского университета. Кенигсбергский университет был одной из прославленных школ Германии, среди учителей Г. был великий немецкий философидеалист И.Кант (лекции которого Г., к сожалению, прогуливал). Гораздо в большей мере, чем юриспруденцией, Г. занимается музыкой, в тайне надеясь, что рано или поздно станет музыкантом. К студенческим годам относятся первые радости, горести и разочарования любви. Неудача в любви, воспоследствовавший скандал, заставляют Г. покинуть Кенигсберг. Первоначально Г. отправляется в крошечный городок Глогау, где работает в суде, затем служит в судах Берлина, Познани, Варшавы. Г. тяготится работой, отнимающий слишком много времени у искусства. Однако в эти годы складывается круг друзей - таких же как Г. “неудачников” - людей искусства, принужденных заниматься рутинной работой. Советник суда Эрнст Теодор Вильгельм Г. меняет третье имя на Амадей - из любви к Моцарту. Художник Г. расписывает церковь иезуитов в Глогау, дворец Мнишков в Варшаве. Композитор Г. сочиняет маленькие мюзиклы - зингшпили, и серьезные сонаты, в 1806 г. дирижирует оркестром в Варшаве. Но писатель Г. еще не появился - есть только лишь запись в дневнике 1803 г. о том, что Г. хочет написать книгу. В 1802 г. в Познани Г. женился на польке Текле-Михалине фон Рорер-Тшцинской, в 1805 г. ставшей матерью Цецилии (ребенка назвали в честь святой покровительницы музыки). Лучшие годы Г. проводит в Варшаве - он полон надежд, ему сопутствует семейное счастье, удачно складывается карьера в суде. Г. изучает итальянский язык, совершенствуется как композитор, пишет свои первые статьи по музыкальной критике. В 1807 г. грянула катастрофа. В ходе наполеоновских войн Восточная Пруссия (а значит, и Польша) переходят под юрисдикцию Франции. Немецкие чиновники лишаются работы, в их числе и Г. Он заболевает нервной горячкой. Лишившись возможности содержать семью, Г. расстается с женой - она уезжает к родителям до поры, покуда Г. ищет работу ради куска хлеба ему приходилось за плату рисовать карикатуры на Наполеона. В пути погибает маленькая дочь Г. Сам Г. пытается устроиться сначала в Познани, затем в Берлине, но тщетно. Наконец ему предложили должность капельмейстера в оперном театре маленького старинного городка Бамберга, где Г. прожил с 1809 по 1813 гг. Неожиданно для себя Г. оказывается счастлив - правда, недолго, и счастье это было неразделимо смешано с болью. Композитор, режиссер и при этом бедняк, едва сводящий концы с концами, он влюбляется в свою ученицу - юную Юлию Марк. Отношение Г. к Юлии было естественно осуждаемо ее родителями, девушку выдали замуж за лавочника и принудили покинуть Бамберг. Лишившись возможности видеть объект любви, Г. впадает в тоску, жизнь в Бамберге становится невыносимой для него. Он встречается с женой в Дрездене, затем работает в Лейпцигском театре. В 1813 г. Г. торжествует поражение своего врага - Наполеона. “Свобода! Свобода! Свобода!” - ликующе пишет он в дневнике. Однако эта “свобода” принесла новые душевные оковы. В скором времени Г. напишет: “Я возвращаюсь в государственное стойло”. Благодаря хлопотам друга, Г. получает место советника апелляционного суда в Берлине. Берлинский период жизни Г. был наиболее продуктивным в творческом отношении. В Берлине были написаны сказки, принесшие ему мировую известность: “Золотой горшок”, “Крошка Цахес”, “Щелкунчик и мышиный король”, романы “Эликсиры сатаны” и “Житейские воззрения кота Мурра”. В оперном театре была осуществлена постановка первой романтической оперы - гофмановской “Ундины” по сюжету сказки романтического писателя Ф. де ла Мотт-Фуке. Каждодневная работа в суде, требующая предельной концентрации мысли, вечера, проведенные в кабачке неподалеку от дома, ночи над рукописями подорвали здоровье Г. С 1818 г. у писателя начинает развиваться болезнь спинного мозга, в последний год жизни приведшая к полному параличу. Но даже будучи обездвиженным, Г. продолжает творить - он диктует рассказ “Угловое окно”, ставший важной вехой в истории литературы, смерть застает его во время работы над новеллой “Враг”. Г. принадлежит позднему поколению немецких романтиков. К моменту появления первой новеллы Г. в Германии уже сложилась “романтическая школа” - были заложены философские основы направления, созданы первые литературные манифесты. В строгом смысле основная категория творчества Г. - романтическое двоемирие (трагический разрыв между мечтой, которая недостижима и реальностью, которая неприемлема) было декларировано “отцами” немецкого романтизма - писателями Ф.Шлегелем, Новалисом, Л.Тиком и др. Однако романтическое двоемирие ранних романтиков не носило характера истинного трагизма. Мир реальности виделся романтикам одухотворенным божественной идеей, достаточно было пристально вглядеться в окружающую действительность, чтобы в каждом предмете увидеть потаенную жизнь, скрытое движение божественной сущности. Для того чтобы приблизиться к идеалу, достаточно было перенестись силою творческой фантазии в царство грез. В художественном мире Г. идеал удален настолько, что кажется несуществующим, а действительность настолько неприемлема, что предстает подобной карикатуре. В романе “Житейские воззрения кота Мурра” (1822) Г. обозначил свое отношение к людям, населяющим раздвоенный мир: его альтер эго, капельмейстер Крейслер разделяет людей на две неравные части - “музыкантов” и “просто хороших людей”. Герой “музыкант” - человек неограниченных творческих возможностей, стремящийся душой к идеалу, чувствующий себя неуютно в материальном мире. Именно поэтому любимые герои Г. крайне неуклюжи - наступают на подол дамам, роняют чернильницы, спотыкаются и наступают в лужи, как студент Ансельм из “Золотого горшка”. “Просто хорошие люди” нисколько не поэтичны, но, не имея крыльев, чтобы воспарить в мир мечты, они твердо стоят на ногах и служат опорой музыкантам, которых часто выбирают себе в друзья. Распознать музыканта непросто. Главный критерий - это цель жизненного пути, главное жизненное достижение. Именно поэтому герой сказки “Крошка Цахес”, Бальтазар, не может считаться истинным музыкантом - его удовлетворяет обладание любящей женой, хорошим домом, положением в обществе. Удел истинного музыканта, как ни ужасно, сумасшествие или самоубийство, потому как романтическая мечта недостижима. Иными словами, если мечты человека оказываются достижимыми, он не может именоваться “музыкантом”. Деление на “музыкантов” и “просто хороших людей” относится не только к созданному писателем миру, но и к читателям. Г. не настойчив в своей трактовке мира всякое фантастическое явление может иметь и реальное объяснение - сон, избыточное нервное возбуждение, сумасшествие, даже вульгарное пьянство. Не следует думать, что музыкант - однозначно положительный персонаж в мире Г. Быть музыкантом - не значит быть моральным человеком - не таков, например, Кардильяк, герой новеллы “Мадемуазель де Скюдери”. Не в силах расстаться со своими прекрасными работами маньякювелир убивает заказчиков, чтобы вернуть себе свои произведения. Герой-музыкант Натанаэль из новеллы “Песочный человек” влюбляется в куклу Олимпию, механизм - а ведь для романтика нет ничего страшнее мертвого, притворяющегося живым. Напротив того, “просто хороший человек” зачастую становится носителем авторской симпатии. Герой такого типа может быть добр, великодушен, здравомыслящ, может быть истинным другом или возлюбленной “музыканта”. Наиболее последовательное сопоставление мира “музыканта” и “просто хорошего человека” прослеживается в романе “Житейские воззрения кота Мурра”, в котором ведется параллельный рассказ о жизни просвещенного кота и музыканта Крейслера. Невозможно переоценить влияние Г. на развитие литературы XIXв., в особенности на русскую литературу - А.С.Пушкина (“Пикова дама”), В.Ф.Одоевского (“Сильфида”), Н.В.Гоголя (“Петербургские повести”). В ХХ в. очевидно воздействие художественного мира Г. на М.А.Булгакова (“Мастер и Маргарита”). Произведения Г. вдохновили многих художников на создание произведений различных родов и жанров искусства. П.И.Чайковский написал балет “Щелкунчик” по сказке Г. Образы Г. вдохновляли Р.Шумана. Вс.Иванов, Федин, Зощенко и Каверин сделали Г. своим духовным покровителем своего творческого содружества “Серапионовы братья”. Великий русский режиссер А.А.Тарковский имел в неосуществленных планах создание картины по “Житейским воззрениям кота Мурра”. Соч.: Избр. произв.: В 3 т. М., 1962; Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. - М., 1982. Лит.: Э.Т.А.Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. - М., 1987; Художественный мир Э.Т.А.Гофмана. М., 1982; Карельский А.В. От героя к человеку: два века западноевропейской литературы. - М., 1990. http://www.dezhurov.ru/Science/Articles/gofman.htm П. Ф. Подковыркин ________________________________________________________ Поэтика в повести-сказке Э. Т. А. Гофмана «Золотой романтизма горшок» — Романтические бредни, романтические бредни! — закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон. Э.Т.А.Гофман. Золотой горшок. Вигилия пятая. Введение Литература эпохи романтизма, ценившая прежде всего ненормативность, свободу творчества, фактически все же имела правила, хотя, конечно, они никогда не принимали форму нормативных поэтических трактатов наподобие «Поэтики» Буало. Анализ литературных произведений эпохи романизма, проделанный литературоведами за два столетия и много раз уже обобщенный, [1] показал, что писатели-романтики используют устойчивый набор романтических «правил», к которым относятся как особенности построения художественного мира (двоемирие, экзальтированный герой, странные происшествия, фантастические образы), так и особенности строения произведения, его поэтика (использование экзотических жанров, например, сказки; прямое вмешательство автора в мир героев; использование гротеска, фантастики, романтической иронии и т.д.). Не вдаваясь в теоретическое обсуждение поэтики немецкого романтизма, приступим к рассмотрению наиболее ярких особенностей повести-сказки Гофмана «Золотой горшок», выдающих ее принадлежность эпохе романтизма. Романтический мир в повести «Золотой горшок» Мир сказки Гофмана обладает ярко выраженными признаками романтического двоемирия, которое воплощается в произведении различными способами. Романтическое двоемирие реализуется в повести через прямое объяснение персонажами происхождения и устройства мира, в котором они живут. Есть мир здешний, земной, будничный и другой мир, какая-нибудь волшебная Атлантида, из которой и произошел когда-то человек (94-95, 132-133) [2] . Именно об этом говорится в рассказе Серпентины Ансельму о своём отце-архивариусе Линдгорсте, который, как оказалось, является доисторическим стихийным духом огня Саламандром, жившим в волшебной стране Атлантиде и сосланном на землю князем духов Фосфором за его любовь к дочери лилии змее. Эта фантастическая история воспринимается как произвольный вымысел, не имеющий серьёзного значения для понимания персонажей повести, но вот говорится о том, что князь духов Фосфор предрекает будущее: люди выродятся (а именно перестанут понимать язык природы) и только тоска будет смутно напоминать о существовании другого мира (древней родины человека), в это время возродится Саламандр и в развитии своем дойдет до человека, который, переродившись таким образом, станет вновь воспринимать природу — это уже новая антроподицея, учение о человеке. Ансельм относится к людям нового поколения, так как он способен видеть и слышать природные чудеса и верить в них — ведь он влюбился в прекрасную змейку, явившуюся ему в цветущем и поющем кусте бузины. Серпентина называет это «наивной поэтической душой» (134), которой обладают «те юноши, которых по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования, толпа презирает и осмеивает» (134). Человек на грани двух миров: частично земное существо, частично духовное. В сущности, во всех произведениях Гофмана мир устроен именно так. Ср., например, интерпретацию музыки и творческого акта музыканта в новелле «Кавалер Глюк», музыка рождается в результате пребывания в царстве грез, в другом мире: «Я обретался в роскошной долине и слушал, о чём поют друг другу цветы. Только подсолнечник молчал и грустно клонился долу закрытым венчиком. Незримые узы влекли меня к нему. Он поднял головку — венчик раскрылся, а оттуда мне навстречу засияло око. И звуки, как лучи света, потянулись из моей головы к цветам, а те жадно впитывали их. Всё шире и шире раскрывались лепестки подсолнечника — потоки пламени полились из них, охватили меня, — око исчезло, а в чашечке цветка очутился я». (53) Двоемирие реализуется в системе персонажей, а именно в том, что персонажи четко различаются по принадлежности или склонности к силам добра и зла. В «Золотом горшке» эти две силы представлены, например, архивариусом Линдгорстом, его дочерью Серпентиной и старухой-ведьмой, которая, оказывается, есть дочь пера черного дракона и свекловицы (135) [3] . Исключением является главный герой, который оказывается под равновеликим влиянием той и другой силы, является подвластным этой переменчивой и вечной борьбе добра и зла. Душа Ансельма — «поле битвы» между этими силами, см., например, как легко меняется мировосприятие у Ансельма, посмотревшего в волшебное зеркальце Вероники: только вчера он был без ума влюблен в Серпентину и записывал таинственными знаками историю архивариуса у него в доме, а сегодня ему кажется, что он только и думал о Веронике, «что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленою змеею была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному состоянию…» (С.138) Человеческое сознание живет грезами и каждая из таких грез всегда, казалось бы, находит объективные доказательства, но по сути все эти душевные состояния результат воздействия борющихся духов добра и зла. Предельная антиномичность мира и человека является характерной чертой романтического мироощущения. Двоемирие реализуется в образах зеркала, которые в большом количестве встречаются в повести: гладкое металлическое зеркало старухи-гадалки (111), хрустальное зеркало из лучей света от перстня на руке архивариуса Линдгорста (110), волшебное зеркало Вероники, заколдовавшее Ансельма (137-138). Используемая Гофманом цветовая гамма в изображении предметов художественного мира «Золотого горшка» выдает принадлежность повести эпохе романтизма. Это не просто тонкие оттенки цвета, а обязательно динамические, движущиеся цвета и целые цветовые гаммы, часто совершенно фантастические: «щучье-серый фрак» (82), блестящие зеленым золотом змейки (85), «искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков» (86), «кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет» (94), «из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало» (104). Такой же особенностью — динамичностью, неуловимой текучестью — обладают звуки в художественном мире произведения Гофмана (шорох листьев бузины постепенно превращается в звон хрустальных колокольчиков, который, в свою очередь, оказывается тихим дурманящим шёпотом, затем вновь колокольчиками, и вдруг всё обрывается грубым диссонансом, см. 85-86; шум воды под веслами лодки напоминает Ансельму шёпот 89). Богатство, золото, деньги, драгоценности представлены в художественном мире сказки Гофмана как мистический предмет, фантастическое волшебное средство, предмет отчасти из другого мира. Специес-талер каждый день — именно такая плата соблазнила Ансельма и помогла преодолеть страх, чтобы пойти к загадочному архивариусу, именно этот специес-талер превращает живых людей в скованных, будто залитых в стекло (см. эпизод разговора Ансельма с другими переписчиками манускриптов, которые тоже оказались в склянках). Драгоценный перстень у Линдгорста (104) способен очаровать человека. В мечтах о будущем Вероника представляет себе своего мужа надворного советника Ансельма и у него «золотые часы с репетицией», а ей он дарит новейшего фасона «миленькие, чудесные сережки» (108) Герои повести отличаются явной романтической спецификой. Профессия. Архивариус Линдгорст — хранитель древних таинственных манускриптов, содержащих, по-видимому, мистические смыслы, кроме того он ещё занимается таинственными химическими опытами и никого не пускает в эту лабораторию (см. 92). Ансельм — переписчик рукописей, владеющий в совершенстве каллиграфическим письмом. Ансельм, Вероника, капельмейстер Геербранд обладают музыкальным слухом, способны петь и даже сочинять музыку. В целом все принадлежат ученой среде, связаны с добычей, хранением и распространением знаний. Болезнь. Часто романтические герои страдают неизлечимой болезнью, что делает героя как бы частично умершим (или частично неродившимся!) и уже принадлежащим иному миру. В «Золотом горшке» никто из героев не отличается уродством, карликовостью и т.п. романтическими болезнями, зато присутствует мотив сумасшествия, например, Ансельма за его странное поведение окружающие часто принимают за сумасшедшего: «Да, — прибавил он [конректор Паульман], — бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против неё весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым уже умершим ученым» (91), обморок, случившийся с Ансельмом у дверей дома Линдгорста он сам сравнивает с сумасшествием (см. 98), заявление подвыпившего Ансельма «ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи» (140) немедленно вызвало подозрение, что Ансельм сошел с ума. Национальность. О национальности героев определенно не говорится, зато известно что многие герои вообще не люди, а волшебные существа порожденные от брака, например, пера черного дракона и свекловицы. Тем не менее редкая национальность героев как обязательный и привычный элемент романтической литературы всё же присутствует, хотя в виде слабого мотива: архивариус Линдгорст хранит манускрипты на арабском и коптском языках, а также много книг «таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков» (92). Бытовые привычки героев: многие из них любят табак, пиво, кофе, то есть способы выведения себя из обычного состояния в экстатическое. Ансельм как раз курил трубку, набитую «пользительным табаком», когда произошла его чудесная встреча с кустом бузины (83); регистратор Геербанд «предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счёт стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом…, что студент Ансельм и принял с благодарностью» (98); Геербанд рассказал о том, как однажды он наяву впал в сонное состояние, что было результатом воздействия кофе: «Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе…» (90); Линдгорст имеет привычку нюхать табак (103); в доме конректора Паульмана из бутылки арака приготовили пунш и «как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним» (139). Портрет героев. Для примера достаточно будет несколько разбросанных по всему тексту фрагментов портрета Линдгорста: он обладал пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как будто из футляра» (105), он носит перчатки, под которыми скрывается волшебный перстень (104), он ходит в широком плаще, полы которого, раздуваемые ветром, напоминают крылья большой птицы (105), дома Линдгорст ходит «в камчатом шлафроке, сверкавшем, как фосфор» (139). Романтические черты в поэтике «золотого горшка» Стилистику повести отличает использование гротеска, что является не только индивидуальным своеобразием Гофмана, но и романтической литературы в целом. «Он остановился и рассматривал большой дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Чёрных ворот…» (93), «шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею…» (94), «с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай» (141). Фантастика позволяет создавать эффект романтического двоемирия: есть мир здешний, реальный, где обычные люди думают о порции кофе с ромом, двойном пиве, нарядны девушках и т.д., а есть мир фантастический, где «юноша Фосфор, облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь…» (96). Фантастика в повести Гофмана происходит из гротесковой образности: один из признаков предмета с помощью гротеска увеличивается до такой степени, что предмет как бы превращается в другой, уже фантастический. См. например эпизод с перемещением Ансельма в склянку. В основе образа скованного стеклом человека, видимо, лежит представление Гофмана о том, что люди иногда не осознают своей несвободы — Ансельм, попав в склянку, замечает вокруг себя таких же несчастных, однако они вполне довольны своим положением и думают, что свободны, что они даже ходят в трактиры и т.п., а Ансельм сошел с ума («воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду», 146). Авторские отступления довольно часто появляются в сравнительно небольшой по объему текста повести (почти в каждой из 12 вигилий). Очевидно, художественный смысл этих эпизодов в том, чтобы прояснить авторскую позицию, а именно авторскую иронию. «Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд…» (144). Эти явные авторские отступления задают инерцию восприятия всего остального текста, который оказывается весь как бы пронизан романтической иронией (см. об этом далее). Наконец авторские отступления выполняют ещё одну важную роль: в последней вигилии автор сообщил о том, что, во-первых, он не скажет читателю откуда ему стала известна вся эта тайная история, а во-вторых, что сам Саламандр Линдгорст предложил ему и помог завершить повествование о судьбе Ансельма, пересилившегося, как выяснилось, вместе с Серпентиной из обычной земной жизни в Атлантиду. Сам факт общения автора со стихийным духом Саламандром набрасывает тень безумия на все повествование, но последние слова повести отвечают на многие вопросы и сомнения читателя, раскрывают смысл ключевых аллегорий: «Блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!» (160) Ирония. Иногда две реальности, две части романтического двоемирия пересекаются и порождают забавные ситуации. Так, например, подвыпивший Ансельм начинает говорить об известной только ему другой стороне реальности, а именно об истинном лице архивариуса и Серпентины, что выглядит как бред, так как окружающие не готовы сразу понять, что «господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея» (139). Однако один из участников этого разговора — регистратор Геербранд — вдруг проявил осведомленность о том, что происходит в параллельном реальному мире: «Этот архивариус в самом деле проклятый Саламандр; он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной трубки» (140). Увлекшись разговором, собеседники вовсе перестали реагировать на изумление окружающих и продолжали говорить о понятных только им героях и событиях, например, о старухе — «ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, ее мамаша — скверная свекла» (140). Авторская ирония делает особенно заметным, что герои живут между двумя мирами. Вот, например, начало реплики Вероники, вдруг вступившей в разговор: «Это гнусная клевета, — воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами <…>» (140). Читателю на мгновение кажется, что Вероника, которая не знает всей правды о том, кто такой архивариус или старуха, возмущена этими сумасшедшими характеристиками знакомых ей господина Линдгорста и старой Лизы, но оказывается, что Вероника тоже в курсе дела и возмущена совсем другим: «<…>Старая Лиза — мудрая женщина, и чёрный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и её cousin germain» (140). Разговор собеседников принимает уж совсем смешные формы (Геербранд, например, задается вопросом «может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды..?», 140), всякий серьёзный смысл его окончательно разрушается иронией. Однако ирония меняет наше понимание того, что было раньше: если все от Ансельма до Геербанда и Вероники знакомы с другой стороной реальности, то это значит, что в обычных разговорах случавшихся между ними прежде они утаивали друг от друга свое знание иной реальности или эти разговоры содержали в себе незаметные для читателя, но понятные героям намеки, двусмысленные словечки и т.п. Ирония как бы рассеивает целостное восприятие вещи (человека, события), поселяет смутное ощущение недосказанности и «недопонятости» окружающего мира. Заключение Перечисленные особенности повести Гофмана «Золотой горшок» однозначно указывают на принадлежность произведения эпохе романтизма. Остались нерассмотренными и даже незатронутыми многие важные вопросы романтической природы этой сказки Гофмана. Например, необычная жанровая форма «сказка из новых времен» повлияла на то, что фантастика у Гофмана не склонна к формам неявной фантастики, а как раз наоборот оказывается явной, подчеркнутой, пышно и безудержно развитой — это накладывает заметный отпечаток на мироустройство романтической сказки Гофмана. Однако проблема фантастики в литературе романтизма — тема отдельного занятия. Список рекомендуемой литературы 1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – М., 1974. – С.463-537. 2. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти тт. – Т.3. – М.: Искусство, 1986. – С.5-55. 3. Литературная теория немецкого романтизма. – М., 1934. 4. Миримский И. Э. Т.А.Гофман / Вступ. ст. // Гофман Э.Т.А. Избранные произведения в 3-х томах. Т.1. – М.: Худож. лит., 1962. – С. 5-42. 5. Тертерян И.А. Романтизм // История всемирной литературы. – Т.6. – М.: Наука, 1989. – С.15-27. 6. Тураев С.В. Немецкая литература // История всемирной литературы в 9-ти тт. – Т.6. – М.: Наука, 1989. – С.51-55. 7. Художественный мир Э.Т.А.Гофмана. – М.: Наука, 1982. – 292 с. [1] См., например: Ванслов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1966; Европейский романтизм. – М., 1973; Тертерян И.А. Романтизм // История всемирной литературы. – Т.6. – М.: Наука, 1989. – С.15-27; мн. др. [2] Здесь и далее повесть «Золотой горшок» цитируется с указанием в скобках номеров страниц по изданию: Гофман Э.Т.А. Избранные произведения в 3-х томах. Т.1. – М.: Худож. лит., 1962. [3] Интересно, что у Гофмана часто встречаются персонажи, являющиеся оживленными растениями: крошка Цахес — альраун, старуха из «Золотого горшка» — дочь свеклы, живой куст бузины, дочь лилии). Возникает ощущение, что все окружающие человека предметы живы, они тоже чьи-то дети, родственники (как, например, цветы в горшках в доме Линдгорста — это его родственницы) http://ppf.asf.ru/Gofman.html Критика. Карельский об Э.Т.А. Гофмане. А. Карельский. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Текст взят с портала Philology.ru, воспроизведенный оным по изданию: Гофман Э. Т. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. М., 1991 "...С тобой должен я посоветоваться, с тобой, прекрасная, божественная тайна моей жизни!.. Тыто ведь знаешь, что никогда я не был человеком низких побуждений, хоть многие и считали меня таковым. Ибо во мне пылала вся та любовь, что от века зовем мы Мировым Духом, искра ее тлела в моей груди, пока дыхание твоего существа не раздуло ее в светлое радостное пламя". ...Старик вдруг очнулся от своего возвышенного забытья, и лицо его, чего давно уже с ним не бывало, осклабилось в той странно-любезной то ли улыбке, то ли ухмылке, что находилась в разительнейшем противоречии с исконным простодушием его существа и придавала всему его облику черту некой даже зловещей карикатурности. Э.-Т.-А. Гофман. Житейские воззрения кота Мурра. Гофман из тех писателей, чья посмертная слава не ограничивается шеренгами собраний сочинений, встающими ряд за рядом из века в век и превращающими книжные полки в безмолвные, но грозные полки; не оседает она и пирамидами фундаментальных изысканий - памятниками упорного одоления этих полков; она от всего этого как бы даже и не зависит. Она скорее легка и крылата. Как странный пряный аромат, она разлита в духовной атмосфере, вас окружающей. Вы можете и не читать "сказок Гофмана" - вам рано или поздно их расскажут или на них укажут. Если в детстве вас обошли Щелкунчик и мастер Коппелиус, они все равно напомнят о себе позже в театре на балетах Чайковского или Делиба, а если не в театре, то хоть на театральной афише или на телевизионном экране. Тень Гофмана постоянно и благотворно осеняла русскую культуру в XIX веке; в XX веке она вдруг легла на нее затмением, материализовавшимся бременем трагического гротеска, вспомним хотя бы судьбу Зощенко, в которой роль отягчающего обстоятельства сыграла его принадлежность к группе с гофмановским названием "Серапионовы братья". Гофман оказался под подозрением в неблагонадежности, его самого теперь тоже издавали скупо и обрывочно - но от этого он не перестал присутствовать вокруг, в литературе и, главное, в жизни, - только имя его стало отныне в большей степени знаком и символом атмосферного неблагополучия ("гофманиана"!), соперничая тут разве что с именем Кафки; но Кафка многим тому же Гофману и обязан. (Подозрение в неблагонадежности, азарт преследования и синдром подследственности... Гофман уже знал механику этих процессов. В его повести "Повелитель блох" фабрикуется дело против ни в чем не повинного человека, и следственная метода описывается, в частности, так: "Проницательный Кнаррпанти имел наготове не меньше сотни вопросов, которыми он атаковал Перегринуса... Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем думал Перегринус как вообще всю свою жизнь, так, в частности, при тех или других обстоятельствах, например при записывании подозрительных мыслей в свой дневник. Думание, полагал Кнаррпанти, уже само по себе, как таковое, есть опасная операция, а думание опасных людей тем более опасно". И далее: "...я представлю в таком двусмысленном свете нашего молодца, что все только рты разинут. А отсюда подымется дух ненависти, который навлечет на его голову всякие беды и восстановит против него даже таких беспристрастных, спокойных людей, как этот господин депутат".) Сегодня наконец-то настала пора представить нашим читателям достойное Собрание сочинений Гофмана; что касается его литературно-художественных произведений, оно практически полное. Гофман впервые удостаивается почести классика, и читатели сами теперь смогут судить, о чем думал этот писатель "как всю свою жизнь, так, в частности, при тех или других обстоятельствах". * * * На литературную стезю Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) вступил поздно: тридцатитрехлетним, если отсчет вести с журнальной публикации новеллы "Кавалер Глюк" в 1809 году; тридцативосьмилетним, если иметь в виду первую крупную публикацию, принесшую ему известность, сборник рассказов "Фантазии в манере Калло", три первых тома которого вышли в 1814 году. Современники встретили нового писателя с растерянностью и настороженностью. Его фантазии сразу были опознаны как романтические, в духе еще популярного тогда настроения, но что значила такая припоздалость? Романтизм ассоциировался прежде всего с поколением молодых, зараженных французский революционным вирусом, тех, кто иронизировал над "резонером" Шиллером и рвался, подобно Клейсту, "сдернуть венок с чела Гете". Германия успела привыкнуть к тому, что ее гениальные романтические поэты начинали спозаранку, вспыхивали фейерверками и метеорами, иные и угасали совсем рано, как Новалис и Вакенродер, - ослепив и отпылав, превращались в легенды; молодости приписывались и на молодость списывались многие их странности. А как прикажете понимать фейерверк, вдруг устроенный господином в летах без определенного общественного положения? Был судейским чиновником где-то на окраине, в Польше, потом капельмейстером в Бамберге, Лейпциге и Дрездене, сейчас перебивается чиновником в министерстве юстиции в Берлине, без жалованья; говорят, что неуживчив и странен, высылался из Познани в Плоцк за карикатуры на начальство; похоже, еще и пьет. Во всяком случае, в сказке "Золотой горшок" романтикофантастические любовные мечты студиозуса Ансельма о прекрасной зеленой змейке слишком уж откровенно подогреваются миской пунша, и добро бы только его мечты: после упомянутой миски романтическими фантазерами становятся и столь почтенные, степенные люди, как конректор Паульман и регистратор Геербранд. Что за странная, подозрительно легкомысленная переоценка ценностей? Романтическим мечтам положено быть сугубо духовного, неземного происхождения, они воспламеняются в душе искрой небесной, а тут их источник так кухонно-прост, и рецепт прилагается: "бутылка арака, несколько лимонов и сахар". Через восемь лет после выхода "Фантазий" Гофмана не стало. Умирал он уже писателем не то чтобы прославленным (этот эпитет скорее подходит для безукоризненного классика или бесспорного гения), но весьма - выразимся по-современному - популярным. Он успел написать за восемь лет на удивление много романы "Эликсиры дьявола" (1816) и "Житейские воззрения кота Мурра" (1821), огромное количество повестей, рассказов и сказок, отчасти объединенных в циклы "Ночные этюды" (1816-1817) к "Серапионовы братья" (1819-1821). Гофмана охотно читали, а после выхода в свет его повести "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер" (1819) писатель-романтик Шамиссо назвал его "нашим бесспорно первым юмористом". Но на протяжении всего XIX века Германия все-таки держала его во втором разряде: в "высокую" традицию он не укладывался. Прежде всего, юмор у этой традиции был не особо в чести - он допускался туда по возможности в приличествующих метафизических одеяниях: хотя бы тяжеловесно-витиеватый юмор Жан-Поля или теоретически расчисленный юмор ранних романтиков (столь солидно и всесторонне философски обоснованный, что про смех при нем уже забываешь, дай бог понять глубины). У Гофмана же сначала смеешься, а насчет глубин спохватываешься потом - и, как увидим, они обнаруживаются. Самой свободой и безоглядностью своего смеха Гофман вызывал подозрение: это уж совсем просто, это "для бедных", это массовый потешник. Ирония, сатира? К ним отношение было примерно такое же это подтвердилось и судьбой Гейне в Германии. Что же касается "серьезной" проблематики Гофмана столкновения поэзии и прозы, художнического идеала и действительности, - она воспринималась к тому времени как dejа vu, опять-таки благодаря ранним романтикам. Выходило, что Гофман только все огрубил, спустил с эмпирей духа на рыночную площадь. Он и сам под занавес в этом откровенно сознался: в написанной перед смертью новелле "Угловое окно" оставил своим поэтическим наследникам завет не пренебрегать рыночной площадью и "ее непрекращающейся суетней". В XX веке Германия стала внимательней к Гофману. Но у благожелательных читателей и истолкователей тоже складывалась своя система клише. Имя Гофмана связывалось прежде всего со знаменитым принципом "двоемирия" - романтически заостренным выражением вечной проблемы искусства, противоречия между идеалом и действительностью, "существенностью", как говаривали русские романтики. "Существенность" прозаична, то есть мелка и убога, это жизнь неподлинная, недолжная; идеал прекрасен и поэтичен, он - подлинная жизнь, но он живет лишь в груди художника, "энтузиаста", действительностью же он гоним и в ней недостижим. Художник обречен жить в мире собственных фантазий, отгородившись от внешнего мира защитным валом презрения либо ощетинившись против него колючей броней иронии, издевки, сатиры. И в самом деле, таков как будто Гофман и в "Кавалере Глюке", и в "Золотом горшке", и в "Собаке Берганце", и в "Крошке Цахесе", и в "Повелителе блох", и в "Коте Мурре". Есть и другой образ Гофмана: под маской чудачествующего потешника скрывается трагический певец раздвоенности и отчужденности человеческой души (не исключая уже и души артистической), мрачный капельмейстер ночных фантазий, устроитель хоровода двойников, оборотней, автоматов, маньяков, насильников тела и духа. И для этого образа тоже легко найти основания: в "Песочном человеке", "Майорате", "Эликсирах дьявола", "Магнетизере", "Мадемуазель де Скюдери", "Счастье игрока". Эти два образа, переливаясь, мерцая, являются нам, так сказать, на авансцене гофмановского мирового театра. А ведь в глубине, ближе к кулисам, маячат, то обрисовываясь, то размываясь, еще и другие образы: веселый и добрый сказочник - автор прославленного "Щелкунчика"; певец старинных ремесел и патриархальных устоев - автор "Мастера Мартина-бочара" и "Мастера Иоганнеса Вахта"; беззаветный жрец Музыки - автор "Крейслерианы"; тайный поклонник Жизни - автор "Углового окна". Гофман в гражданском своем существовании был, в зависимости от поворотов судьбы, попеременно судейским чиновником и капельмейстером, истинное свое призвание видел в музыке, славу приобрел себе писательством. Существованье Протея. Многие истолкователи склонны считать, что его исконная стихия все-таки музыка: мало того что он был сам композитором (в частности, автором оперы "Ундина" на сюжет повести романтика Фуке, известной у нас по переводу Жуковского), - музыка пронизывает всю его прозу не только как тема, но и как стиль. На самом деле душа Гофмана, душа его искусства шире и музыки и литературы: она - театр. В театре этом есть, как положено, и музыка, и драма, и комедия, и трагедия. Только роды и виды не разделены: свяжите образ Гофмана-актера (и режиссера) с одной, сиюминутной ипостасью - он в следующую секунду, ошеломив вас кульбитом, предстанет совсем иным. Гофман и устраивает этот театр, и существует в нем; он сам оборотень, лицедей, гистрион до кончиков ногтей. Например, описать своего героя, дать его портрет - это ему чаще всего скучно, он это если и сделает, то мимоходом, не смущаясь шаблонами; как в театре: ремарки - балласт. Но зато он охотно покажет его, покажет в действии, мимике, жесте - и чем гротескней, тем охотней. Герой сказки "Золотой горшок" вылетает на ее страницы, сразу угораздив в корзину с яблоками и пирожками; яблоки катятся во все стороны, торговки бранятся, мальчишки радуются поживе - срежиссирована сцена, но и создан образ! Гофман спешит не изваять и отчеканить фразу, не выстроить ажурное или монументальное здание философской системы, а выпустить на сцену живую, бурлящую, напирающую жизнь. Конечно, на фоне отрешенно философствующих романтических витий, сновидчески уверенно и бесстрашно шествующих по эмпиреям духа над его безднами, спотыкающийся, балансирующий Гофман выглядит дилетантом, потешником - дитя площади и балагана. Но, между прочим, и у площади с балаганом, не забудем, тоже есть своя философия; только она не выстроена, а явлена. Они тоже - проявление жизни, одна из ее сторон. И как мы увидим, именно та сторона, от которой Гофман, при всей своей несомненной тяге к эмпиреям духа, не в силах оторваться. Казалось бы - да какая такая жизнь? Жизнь ли этот хоровод фантазий и фантомов? Полуреальная, полупризрачная - оперная - донна Анна в "Дон Жуане", зеленые змейки с их папашей, князем духов Саламандром в "Золотом горшке", механическая кукла Олимпия и получеловек, полуоборотень Коппола в "Песочном человеке", фантастический уродец Цахес с его магическими благодетелями и супротивниками, призраки и маньяки давно минувших времен в "Майорате", "Выборе невесты", "Мадемуазель де Скюдери"... Какое это имеет отношение к жизни? Не прямое, нет. Но немалое. * * * Каждый истинный художник - и как личность, и как творец - воплощает свое время и ситуацию человека в своем времени. Но то, что он нам о них сообщает, высказано на особом языке. Это не просто язык искусства, "образный" язык; в его слагаемые входят еще и художественный язык времени, и индивидуальный художественный язык данного творца. Художественный язык гофмановского времени - романтизм. В богатейшей его грамматике главное правило и исходный закон - несклоняемость духа, независимость его от хода вещей. Из этого закона выводится и требование абсолютной свободы земного носителя этого духа - человека творческого, вдохновенного, для обозначения которого в романтическом языке охотно используется латинское заимствование - "гений", а в гофмановском языке - еще и греческое "энтузиаст" ("боговдохновенный"). Воплощения такой боговдохновенности у Гофмана - прежде всего музыканты: и "кавалер Глюк", и творец "Дон Жуана", и сотворенный самим Гофманом капельмейстер Крейслер - двойник автора и собирательный образ артиста вообще. Почему именно у романтиков вопрос о свободе гения встал так остро, как никогда прежде? Это тоже продиктовано временем. Французская буржуазная революция конца XVIII века - купель всего европейского романтизма. Ген свободы в романтическую натуру заложила она. Но уже самой реальной практикой насаждения "свободы, равенства, братства", особенно на последнем этапе, - ожесточенным взаимоистреблением партий и фракций в борьбе за власть, апелляцией к инстинктам толпы, разгулом массового доносительства и массовых ритуальных расправ - революция изрядно поколебала романтические души. А послереволюционное развитие Европы давало романтикам наглядный урок того, что расширение диапазона личной свободы, принесенное буржуазным переворотом, - благо не абсолютное, а весьма относительное. На их глазах обретенная в революции свобода выливалась в эгоистическую борьбу за место под солнцем; на их глазах выходила из берегов раскрепощенная буржуазная, мелкобуржуазная, плебейская стихия, масса, соблазненная призраком власти, а на самом деле манипулируемая сверху и демонстрирующая эту власть там, где она только и может: в завистливо-злобной нетерпимости ко всему неординарному, к инакомыслию, к независимости мнения и духа. Тут важно еще учесть, что именно на это время пришлось и резкое расширение возможностей массового производства художественной продукции, рост ее общедоступности, равно как и общей осведомленности и начитанности. Современные исследователи указывают, что к 1800 году уже четверть населения Германии была грамотной - каждый четвертый немец стал потенциальным читателем. Соответственно этому, если в 1750 году в Германии было издано 28 новых романов, то за десятилетие с 1790 по 1800 год их появилось 2500. Эти плоды эпохи Просвещения романтикам тоже представлялись не однозначно благими; для них все яснее становились необратимые утраты, входящие в цену "широкого успеха": подчинение искусства рыночной конъюнктуре, открытость его всякому, в том числе и заносчивоневежественному суждению, усиление зависимости от требований публики. Служители и носители духовности все более ощущали себя в безнадежном и подавляемом меньшинстве, в постоянной опасности и осаде. Так возник романтический культ гения и поэтической вольности; в нем слились изначальный революционный соблазн свободы и почти рефлекторная реакция самозащиты против устанавливающегося торжества массовости, против угрозы угнетения уже не сословного, не социального, а духовного. Одиночество и беззащитность человека духа в прозаическом мире расчета и пользы - исходная ситуация романтизма. Как бы в компенсацию этого ощущения социального неуюта ранние немецкие романтики стремились стимулировать свое ощущение сопричастности таинствам духа, природы и искусства. Романтический гений, по их убеждению, изначально заключает в себе всю Вселенную; даже задаваясь целью познать внешний мир, их герой в конечном итоге обнаруживает, что все достойные познания тайны этого мира присутствуют уже разрешенными в его собственной душе и, выходит, ездить так далеко не стоило. "Меня все приводит к себе самому" - знаменитая формула Новалиса. Без внешнего мира можно как бы и обойтись; он весь уже есть в твоем "я" - как "в единой горсти бесконечность", как "небо в чашечке цветка" (это формула другого раннего романтика, англичанина Блейка). Но обойтись без мира можно, конечно, только в теории. Миг такой свободы неуловимо краток, он лишь возвышенное философское построение, умозрительная мечта. Очнись от нее - и кругом все та же жизнь и те же проклятые вопросы. Один из первых: кто же виноват? Добрый сновидец Новалис избегал этого вопроса, не спускался на землю и, по сути, не винил никого разве что философов-просветителей с их рационализмом и утилитаризмом. Другие романтики - Тик, Фридрих Шлегель, Брентано - ополчались прежде всего на современное филистерство. Были и такие, что хотели смотреть глубже и шире. Клейст подозревал трагические разрывы в изначальном устройстве и мира, и человека. Возникали и все усиливались сомнения в самом экстерриториальном статусе романтического гения: не таится ли за его возвышенным отрешением от мира высокомерный - и тогда греховный! - индивидуализм и эгоизм? Одним из первых это почувствовал Гельдерлин, в сокрушении воскликнувший однажды: "Да не оправдывает себя никто тем, что его погубил мир! Человек сам губит себя! В любом случае!" Нарастая, такие настроения очень скоро оформились у романтиков в специфический комплекс патриархального народничества и религиозного отречения. Это - другой полюс раннего романтизма: только что индивид был вознесен до небес, поставлен над всем миром - теперь он низвергнут во прах, растворен в безымянном народном потоке. Романтические воздушные замки возводились и рушились, одна утопия сменялась другой, подчас противоположной, мысль лихорадочно металась от крайности к крайности, рецепты омоложения человечества перечеркивали друг друга. Вот в эту атмосферу брожения и разброда пришел Гофман. Он, как уже говорилось, не торопился построить универсальную философию, способную раз и навсегда объяснить тайну бытия и объять все его противоречия высшим законом. Но о гармонии, о синтезе мечтал и он; только свой путь к возможному синтезу он видел не в ожесточенно-утопических крайностях, в которые снова и снова отливалась романтическая философия, а в другом: он не мыслил себе этого пути без отважного погружения в "непрекращающуюся суетню" жизни, в зону тех реальных ее противоречий, что так томили и других романтиков, но лишь выборочно и нехотя впускались на страницы их сочинений и осмыслялись по возможности отвлеченно. Потому Гофман, как и Клейст до него, прежде всего ставил вопросы, а не давал готовые ответы. И потому он, так боготворивший гармонию в музыке, в литературе воплотил диссонанс. То и дело взрываются фейерверки фантазии на страницах сказок Гофмана, но блеск потешных огней нет-нет да и озарит то глухой городской переулок, где вызревает злодейство, то темный закоулок души, где клокочет разрушительная страсть. "Крейслериана" - и рядом "Эликсиры дьявола": на возвышенную любовь Крейслера вдруг падает тень преступной страсти Медардуса. "Кавалер Глюк" - и "Мадемуазель де Скюдери": вдохновенный энтузиазм кавалера Глюка вдруг омрачается маниакальным фанатизмом ювелира Кардильяка. Добрые чародеи одаряют героев свершением мечтаний - но рядом демонические магнетизеры берут их души в полон. То перед нами веселые лицедеи комедии масок, то жутковатые оборотни - вихрь карнавала кружится над бездной. Все эти модели художественной структуры собраны, как в фокусе, в итоговом произведении Гофмана - романе "Житейские воззрения кота Мурра". Он неспроста открывается обширной картиной фейерверка, закончившегося пожаром и разбродом; и неспроста в нем романтические страдания гениального капельмейстера с неумолимой методичностью перебиваются и заглушаются прозаическими откровениями ученого кота. Зыбкость, тревожность, "перевороченность" эпохи никто до Гофмана не воплотил в столь впечатляюще образном, символическом выражении. Опять-таки: философы от романтизма, предшественники и современники Гофмана, много и охотно рассуждали о символе, о мифе; для них это даже самая суть подлинного - и прежде всего романтического - искусства. Но когда они создавали художественные образы в подтверждение своих теорий, они настолько перекладывали в них символики, что сплошь и рядом возникали бесплотные фантомы, рупоры идей, причем идей весьма общих и туманных. Гофман - не философ, а всего лишь беллетрист - берется за дело с другого конца; его исходный материал - современный человек во плоти, не "всеобщее", а "единичное"; и в этом единичном он вдруг цепким своим взором выхватывает нечто, взрывающее рамки единичности, расширяющее образ до объемности символа. Кровное дитя романтической эпохи, отнюдь не чуждый ее фантастико-мистическим веяниям, он тем не менее твердо держался принципа, сформулированного им в одной из театральных рецензий: "не пренебрегать свидетельствами чувств при символическом изображении сверхчувственного". Понятное дело, еще менее пренебрегал он этими свидетельствами при изображении собственно "чувственного", реального. Именно это позволило Гофману, при всей его склонности к символике, фантастике, гротескным преувеличениям и заострениям, впечатляюще воссоздать не только общую бытийную ситуацию современного ему человека, но и его психическую конституцию. * * * Конечно, любой романтический писатель, в какую бы историческую или мифологическую даль он ни помещал своего героя, в уме-то держал именно современную ему ситуацию. Средневековый рыцарский поэт Генрих фон Офтердинген у Новалиса, древнеэллинский философ Эмпедокл у Гельдерлина, мифическая царица амазонок Пентесилея у Клейста - под архаическими одеждами этих героев бьются, томятся, страдают вполне современные сердца. В некоторых новеллах и в романе "Эликсиры дьявола" Гофман тоже отодвигает своего героя на большую или меньшую историческую дистанцию (в романе она совсем невелика - в пределах полустолетия). Но в целом он совершает в романтической литературе радикальный сдвиг угла зрения: его вдохновенный герой-"энтузиаст" обмирщен, поставлен в гущу современной повседневной реальности. Место действия в большинстве его произведений - не идеализированное средневековье, как у Новалиса, не романтизированная Эллада, как у Гельдерлина, а современная Германия, разве что романтико-иронически либо сатирически шаржированная - как, скажем, современные Гоголю Малороссия и Россия в "Миргороде" и петербургских повестях. Тут же с героями Гофмана происходят и самые невообразимые фантастические приключения и злоключения - сказочные принцы и волшебники толкутся между дрезденскими или берлинскими студентами, музыкантами и чиновниками. Чиновников пока оставим, а к волшебникам, музыкантам и студентам приглядимся внимательней. Это, как правило, персонажи, отмеченные несомненной симпатией автора; они составляют круг преимущественно "положительных" героев. Но и здесь есть знаменательные градации. Студенты у Гофмана, все эти романтически-восторженные юноши (Ансельм в "Золотом горшке", Натанаэль в "Песочном человеке", Бальтазар в "Крошке Цахесе"), - энтузиасты начинающие, дилетантствующие; они неопытны и наивны, они сплошь и рядом попадают впросак, и за ними без конца надо следить. Это входит в обязанности волшебников и музыкантов - они старше и опытней, они одаряют молодых энтузиастов своим неусыпным попечением (Линдгорст-Саламандр в "Золотом горшке", Проспер Альпанус в "Крошке Цахесе", маэстро Абрахам в "Коте Мурре"). Одна из самых трогательных черт Гофмана - эта его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения, охранения - так и хочется сказать по-современному: охраны юности. Если учесть, что "учителяволшебники" у Гофмана в избытке наделены его собственными характеристическими чертами, то нетрудно догадаться, что и все эти студенты для него - ипостаси себя прежнего. Здесь мудрость возраста стоит лицом к лицу с неведеньем юности. Неведенье это блаженно, а мудрость горька. Успеху Ансельма или Бальтазара можно - по крайней мере, в сюжете - помочь благодатным чародейством; но те, кто уже пережил зарю туманной юности, прекрасно знают цену этим чудесам. Перечитайте внимательно в конце "Крошки Цахеса" феерическую сцену разоблачения злого карлика. Триумфальная победа "энтузиастов" над "филистерами" оформляется тут подчеркнуто театрально, с массой вспомогательных сценических эффектов. Автор - а точнее говоря, режиссер - бросает на поле боя целую машинерию чудес, головокружительных превращений и трюков. В этом очередном гофмановском фейерверке отчетливо ощутим нарочитый перебор: автор играет в сказку, и вся эта поэтическая пиротехника призвана образовать дымовую завесу, чтобы за ней тем убедительней "для юношества" предстала победа добра. Здесь происходит то же, что и в "собственно сказках" Гофмана, создававшихся уже прямо для детей (которых так любил он сам и так любят его герои, понимая их с полуслова). Сами же гофмановские волшебники и маэстро стоят лицом к лицу с реальным миром и ничем от него не защищены. В судьбах зрелых героев Гофмана и разыгрывается подлинная драма человеческого бытия в современном мире. Во всех этих героях бросается в глаза прежде всего одна черта: резкая смена настроений, внезапные и обескураживающие других - переходы от "нормального", спокойного поведения к эксцентрическому, вызывающему, эпатирующему. Самая снисходительная реакция окружающих на это - "чудаки"; но недалеко от нее и другая, более суровая, - "безумцы". Между тем, если вдумчиво проанализировать каждый такой момент перелома, можно обнаружить, что он отнюдь не выражает немотивированную реакцию. "Странно-любезная то ли улыбка, то ли ухмылка" появляется на лице гофмановского героя всякий раз тогда, когда внешний мир вольно или невольно нарушает установившийся со временем между ним и героем условный "консенсус", неустойчивое равновесие, - когда мир вдруг находит в благоприобретенной броне случайную брешь и затрагивает уже не броню, а душу. Как сказано в "Майорате" об одном из героев, он "боялся сражения, полагая, что всякая рана ему смертельна, ибо он весь состоял из одного сердца". Дело тут, стало быть, не просто в некой врожденной гофмановской склонности к лицедейству и шутовству. Неспроста это шутовство является у Гофмана уделом самых мудрых, артистически организованных и поэтически настроенных - "тонкокожих", как говорится у него в другом месте. Это их, беззащитных, защитная реакция против обступающего их чуждого и враждебного мира. Во всяком случае, на любой выпад, даже и сделанный невзначай, по бестактности, а порой и по простоте душевной, они реагируют молниеносно - только не ответным ударом, а почти по-детски импульсивной и, чего уж говорить, бессильной демонстрацией своего презрения к норме, выплеском своей неординарности. Это судороги индивидуальности в тесном и все сужающемся кольце пошлости, массы, толстокожести. Но это только один - и нескрываемо романтический - пласт гофмановской характерологии. Гофман идет и глубже. В поразительном этюде "Советник Креспель" из "Серапионовых братьев" дается, пожалуй, самая виртуозная разработка этой психологической - впрочем, и социальной тоже - проблематики. О заглавном герое там говорится: "Бывают люди, которых природа или немилосердный рок лишили покрова, под прикрытием коего мы, остальные смертные, неприметно для чужого глаза исходим в своих безумствах... Все, что у нас остается мыслью, у Креспеля тотчас же преобразуется в действие. Горькую насмешку, каковую, надо полагать, постоянно таит на своих устах томящийся в нас дух, зажатый в тиски ничтожной земной суеты, Креспель являет нам воочию в сумасбродных своих кривляньях и ужимках. Но это его громоотвод. Все вздымающееся в нас из земли он возвращает земле - но божественную искру хранит свято; так что его внутреннее сознание, я полагаю, вполне здраво, несмотря на все кажущиеся - даже бьющие в глаза сумасбродства". Это уже существенно иной поворот. Как легко заметить, речь тут идет не о романтическом индивиде только, а о человеческой природе вообще. Характеризует Креспеля один из "остальных смертных" и все время говорит "мы", "в нас". В глубинах-то душ, оказывается, все мы равны, все "исходим в своих безумствах", и линия раздела, пресловутое "двоемирие" начинается не на уровне внутренней, душевной структуры, а на уровне лишь внешнего ее выражения. То, что "остальные смертные" надежно скрывают под защитным покровом (все "земное"), у Креспеля, прямо по-фрейдовски, не вытесняется вглубь, а, напротив, высвобождается вовне, "возвращается земле" (психологи фрейдовского круга так и назовут это "катарсисом" по аналогии с аристотелевским "очищением души"). Но Креспель - и тут он вновь возвращается в романтический избранный круг - свято хранит "божественную искру". А возможно - причем сплошь и рядом - еще и такое, когда ни нравственность, ни сознание не оказываются в силах побороть "все вздымающееся в нас из земли". Гофман бесстрашно вступает и в эту сферу. Его роман "Эликсиры дьявола" на поверхностный взгляд может представиться сейчас всего лишь забористой смесью романа ужасов и детектива; на самом деле история безудержно нагнетаемых нравственных святотатств и уголовных преступлений монаха Медардуса - притча и предупреждение. То, что, применительно к Креспелю, смягченно и философически-отвлеченно обозначено как "все вздымающееся в нас из земли", здесь именуется гораздо резче и жестче - речь идет о "беснующемся в человеке слепом звере". И тут не только буйствует бесконтрольная власть подсознательного, "вытесняемого" - тут еще и напирает темная сила крови, дурной наследственности. Человек у Гофмана, таким образом, тесним не только извне, но и изнутри. Его "сумасбродные кривлянья и ужимки", оказывается, не только знак непохожести, индивидуальности; они еще и каинова печать рода. "Очищение" души от "земного", выплеск его наружу может породить невинные чудачества Креспеля и Крейслера, а может - и преступную разнузданность Медардуса. Давимый с двух сторон, двумя побуждениями раздираемый, человек балансирует на грани разрыва, раздвоения - и тогда уже подлинного безумия. Карнавал над бездной... * * * Но это означает, что романтик Гофман совершает в стане романтических воинов духа сокрушительную диверсию: он разрушает самую сердцевину, ядро их системы - их безоглядную веру во всемогущество гения. Другие романтики очень многое из того, что ощутил Гофман, тоже ощущали, а нередко и выражали (особенно Гельдерлин и Клейст). Романтизм полон пророческих предвосхищений, для нашего времени подчас ошеломительных, - неспроста оно вглядывается в эпоху романтизма с таким вниманием. Но всетаки большинство романтических собратьев Гофмана, "пренебрегая свидетельствами чувств", пытались "снять" открывшиеся им противоречия человеческого бытия чисто философски, преодолеть их в сферах духа, с помощью идеальных умозрительных конструкций. Гофман отринул все эти теоретические обольщения - либо отвел им тот статус, который им единственно и пристал: статус сказки, иллюзии, утешительной мечты. Опьяненный фантазиями Гофман - на поверку почти обескураживающе трезв. Новалис истово и неустанно доказывал, что частица гения заключена в каждом из нас, она как бы дремлет до поры до времени в нашей душе, лишь погребенная под наслоениями эпох "цивилизации". Гофман истово и неустанно зондировал эту душу, пристально всматривался в нее - и обнаружил там вместо изначальной гармонии роковую раздвоенность, вместо прочного стержня зыбкий, переменчивый контур; если в этих глубинах и сокрыты тайны универсума, то не только благие - там перемешаны зоны света и тьмы, добро и зло. У Новалиса герой его романа "Генрих фон Офтердинген", юноша, готовящийся к призванию поэта, встречается в своих странствиях с неким отшельником (оба, конечно, предшественники гофмановских героев - и его юных энтузиастов, и его пустынника Серапиона); листая одну из древних исторических книг в пещере отшельника, Генрих с изумлением обнаруживает на ее картинках свое собственное изображение. Это, конечно, символ, аллегория: образное выражение "поэт живет в веках" Новалис материализует, предлагает воспринимать буквально; он не только выражает тут популярную у романтиков общую идею "предсуществования" личности, но и применяет ее к личности прежде всего поэта. "Я вездесущ, я бессмертен, я лишь меняю ипостаси" - вот новалисовский смысл идеи предсуществования и превращения. У Гофмана мы с превращениями сталкиваемся на каждом шагу; в собственно сказках это может выглядеть и вполне безобидно, таков тут закон жанра, но когда хоровод двойников и оборотней завихряется все неуемней, захватывая повесть за повестью и подчас становясь поистине страшным, как в "Эликсирах дьявола" или в "Песочном человеке", картина решительным образом меняется, бесповоротно омрачается. "Я распадаюсь, я теряю ощущение своей цельности, я не знаю, кто я и что я - божественная искра или беснующийся зверь" вот гофмановский поворот темы. И это, напомним, касается не только душ "остальных смертных" - души Медардуса или владельца майората, Кардильяка или игрока, - это касается, увы, "энтузиастов" и гениев тоже! Вместе с другими романтиками отвергая просветительский образ человека "разумного", рационального и расчисленного как уже несостоятельный и себя не оправдавший, Гофман в то же время сильно сомневается и в романтической ставке на раскованное чувство, на произвол поэтической фантазии; по вердикту Гофмана, прочной опоры они тоже не дают. Гофману ли приписывать сомнения в художниках, в "энтузиастах"? Ему ли, восславившему на стольких страницах музыку, искусство, саму "душу художника"? Ведь, в конце концов, на предыдущие рассуждения можно возразить, что Гофман, заглянув в бездны человеческой натуры, все-таки любимых своих героев до нравственного падения не довел. Более того - он даже Медардуса заставил под конец раскаяться в своих преступлениях; а незадолго до этого конца заставил его выслушать такое поучение папы римского: "Предвечный дух создал исполина, который в силах подавлять и держать в узде беснующегося в человеке слепого зверя. Исполин этот - сознание... Победа исполина добродетель, победа зверя грех". Но в сознании-то вся и загвоздка. Когда Гофман цепкий, сверлящий свой взгляд направляет уже непосредственно на сознание "энтузиаста", когда он это сознание не просто безоглядно идеализирует, а еще и трезво анализирует, результат получается далеко не однозначный. Тут и обнаруживается, что отношение Гофмана к художникам - отсюда не только безоговорочное приятие и прославление. Казалось бы, все просто: двоемирие Гофмана - это возвышенный мир поэзии и пошлый мир житейской прозы, и если гении страдают, то во всем виноваты филистеры. На самом деле у Гофмана все не так просто. Эта типичная исходная логика романтического сознания - уж Гофману-то она знакома досконально, она им испытана на себе - в его сочинениях отдана на откуп как раз этим его наивным юношам. Величие же самого Гофмана состоит в том, что он, все это перестрадав, сумел возвыситься над соблазнительной простотой такого объяснения, сумел понять, что трагедия художника, не понятого толпой, может оказаться красивым самообманом и даже красивой банальностью - если дать этому представлению застыть, окостенеть, превратиться в непререкаемую догму. И с этой догматикой романтического самолюбования Гофман тоже воюет - во всяком случае, он истово, бесстрашно ее анализирует, даже если приходится, что называется, резать по живому. Его юные герои - все, конечно, романтические мечтатели и воздыхатели. Но все они изначально погружены в стихию той ослепительной и вездесущей иронии, непревзойденным мастером которой был Гофман. Когда в "Крошке Цахесе" влюбленный Бальтазар читает чародею Альпанусу свои стихи ("о любви соловья к алой розе"), тот с уморительной авторитетностью квалифицирует этот поэтический опус как "опыт в историческом роде", как некое документальное свидетельство, написанное к тому же "с прагматической широтой и обстоятельностью". Ирония здесь тонка, как лезвие, а предмет ее романтическая поэзия и поза. Поистине, космическую сторону вещей от комической отделяет один свистящий согласный, как метко скаламбурит позже Набоков. Ирония преследует героев Гофмана, как Немезида, до самого конца, даже до счастливой развязки. В том же "Крошке Цахесе" Альпанус, устроив благополучное воссоединение Бальтазара с его возлюбленной Кандидой ("простодушной"!), делает им свадебный подарок - "сельский дом", на приусадебном участке которого произрастает "отменная капуста, да и всякие другие добротные овощи"; в волшебной кухне дома "горшки никогда не перекипают", в столовой не бьется фарфор, в гостиной не пачкаются ковры и чехлы на стульях... Идеал, воплотившись в жизнь, по лукавой воле Гофмана оборачивается вполне филистерским уютом, тем самым, которого чурался и бежал герой; это после-то соловьев, после алой розы - идеальная кухня и отменная капуста! У других романтиков - у того же Новалиса - герои обретали свою любовь (вкупе с тайной мироздания) по крайней мере в святилище Исиды или в голубом цветке. А тут, пожалуйста, в повести "Золотой горшок" именно этот "заглавный" сосуд предстает в качестве символа исполнившегося романтического стремления; снова кухонная атрибутика - как и уже упоминавшиеся "бутылка арака, несколько лимонов и сахар" Энтузиастам предлагается варить в обретенном ими дефицитном горшке то ли романтический пунш, то ли суп. Правда, тут "грехи" гофмановских героев еще невелики, и от таких насмешек эти мечтатели ничуть не становятся нам менее симпатичны; в конце концов, все эти авторские подковырки можно воспринять и как ироническую символику непреступаемости земного предела: герои тяготятся цепями прозаического мира "существенности", но сбросить их им не дано, даже и с помощью волшебства. Однако проблема тут не только в земном пределе: Гофман метит именно в само романтическое сознание, и в других случаях дело принимает гораздо более серьезный, роковой оборот. В повести "Песочный человек" (созданной, кстати, сразу вслед за "Эликсирами дьявола") ее герой Натанаэль - еще один юный представитель клана "энтузиастов" - одержим паническим страхом перед внешним миром, и эта миробоязнь постепенно приобретает болезненный, по сути, клинический характер. Невеста Натанаэля Клара пытается образумить его: "...мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен... Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю... то она должна принять наш собственный образ, стать нашим "я", ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы". Не дать темным силам места в своей душе - вот проблема, которая волнует Гофмана, и он все сильнее подозревает, что именно романтически-экзальтированное сознание этой слабости особенно подвержено. Клара, простая и разумная девушка, пытается излечить Натанаэля по-своему: стоит ему начать читать ей свои стихи с их "сумрачным, скучным мистицизмом", как она сбивает его экзальтированность лукавым напоминанием, что у нее может убежать кофе. Но именно потому она ему и не указ: она, выходит, убогая мещанка! А вот заводная кукла Олимпия, умеющая томно вздыхать и при слушании его стихов периодически испускающая "Ах!", оказывается Натанаэлю предпочтительней, представляется ему "родственной душой", и он влюбляется в нее, не видя, не понимая, что это всего лишь хитроумный механизм, автомат. Этот выпад, как легко почувствовать, куда убийственней, чем насмешки над юношеским донкихотством Ансельма или Бальтазара. Гофман, конечно, судит не целиком с "трезвых" позиций внешнего мира, в стан филистеров он не переметнулся; в этой повести есть блистательные сатирические страницы, повествующие о том, как "благомыслящие" жители провинциального городка не только принимают куклу в свое общество, но и сами готовы превратиться в автоматы. Но первым-то начал ей поклоняться романтический герой, и не случайно эта гротескная история кончается его подлинным сумасшествием. Причем на этот раз логика хозяйничанья "темной силы" приводит уже и к преступной черте: лишь силой удерживают обезумевшего Натанаэля от убийства Клары. Это, конечно, "история болезни"; описываемое здесь сознание неспособно к верному, тождественному восприятию мира, ибо оно, выражаясь по-современному, романтически закомплексовано. В свое время гофмановский поворот проблемы очень верно описал наш Белинский, высоко ценивший немецкого писателя: "У Гофмана человек бывает часто жертвою собственного воображения, игрушкою собственных призраков, мучеником несчастного темперамента, несчастного устройства мозга". Для ортодоксальных романтиков гений - нечто самодовлеющее, не требующее обоснований и оправданий. Гофман же не столько противопоставляет творческую жизнь жизни прозаической, сколько сопоставляет их, анализирует художественное сознание в непременной соотнесенности с жизнью. В этом, кстати, суть напряженной эстетической дискуссии, которая образует пространные промежуточные "сочленения" в цикле новелл "Серапионовы братья". И в этом же глубинный смысл последнего крупного гофмановского произведения, знаменитого романа о капельмейстере Крейслере и коте Мурре. Фантом раздвоения, всю жизнь преследовавший его душу и занимавший ум, Гофман воплотил на этот раз в неслыханно дерзкую художественную форму, не просто поместив два разных жизнеописания под одной обложкой, но еще и демонстративно их перемешав. При всем при том оба жизнеописания отражают одну и ту же эпохальную проблематику, историю гофмановского времени и поколения, то есть один предмет дается в двух разных освещениях, интерпретациях. Гофман подводит тут итог; итог неоднозначен. Исповедальность романа подчеркивается прежде всего тем, что в нем фигурирует все тот же Крейслер. С образа этого своего литературного двойника Гофман начинал - "Крейслериана" в цикле первых "Фантазий", им и кончает. В то же время Крейслер в этом романе отнюдь не герой. Как предупреждает сразу издатель (фиктивный, конечно), предлагаемая книга есть именно исповедь ученого кота Мурра; и автор и герой - он. Но при подготовке книги к печати, сокрушенно поясняется далее, произошел конфуз: когда к издателю стали поступать корректурные листы, он с ужасом обнаружил, что записки кота Мурра постоянно перебиваются обрывками какого-то совершенно другого текста! Как выяснилось, автор (то есть кот), излагая свои житейские воззрения, по ходу дела рвал на части первую попавшуюся ему в лапы книгу из библиотеки хозяина, чтобы использовать выдранные страницы "частью для прокладки, частью для просушки". Разделанная столь варварским образом книга оказалась жизнеописанием Крейслера; по небрежности наборщиков эти страницы тоже напечатали. Жизнеописание гениального композитора как макулатурные листы в кошачьей биографии! Надо было обладать поистине гофмановской фантазией, чтобы придать горькой самоиронии такую форму. Кому нужна жизнь Крейслера, его радости и печали, на что они годятся? Разве что на просушку графоманских упражнений ученого кота! Впрочем, с графоманскими упражнениями все не так просто. По мере чтения самой автобиографии Мурра мы убеждаемся, что и кот тоже не лыком шит и отнюдь не без оснований претендует на главную роль в романе - роль романтического "сына века". Вот он, ныне умудренный и житейским опытом, и литературно-философскими штудиями, рассуждает в зачине своего жизнеописания: "Как редко, однако, встречается истинное сродство душ в наш убогий, косный, себялюбивый век!.. Мои сочинения, несомненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и сердцем кота высокий пламень поэзии... а иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве: "О Мурр, божественный Мурр, величайший гений нашего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем, только твой пример сделал меня великим!" Уберите в этом пассаже специфически кошачьи реалии - и перед вами будут вполне романтические стиль, лексикон, пафос. Изобразить романтического гения в образе вальяжно-разнеженного кота - уже сама по себе очень смешная идея, и Гофман всласть использует ее комические возможности. Конечно, читатель быстро убеждается, что по натуре своей Мурр типичный филистер, он просто научился модному романтическому жаргону. Однако не столь уж безразлично и то, что он рядится под романтика с успехом, с незаурядным чувством стиля! Гофман не мог не знать, что таким маскарадом рискует скомпрометировать и сам романтизм; это риск рассчитанный. Вот мы читаем "макулатурные листы" - при всей царящей и тут "гофманиане" печальную повесть жизни капельмейстера Крейслера, одинокого, мало кем понимаемого гения; взрываются вдохновенные то романтические, то иронические тирады, звучат пламенные восклицания, пылают огненные взоры - и вдруг повествование обрывается, подчас буквальна на полуслове (кончилась выдранная страница), и те же самые романтические тирады упоенно бубнит ученый кот: "...я твердо знаю: моя родина - чердак! Климат отчизны, ее нравы, обычаи, - как неугасимы эти впечатления... Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки? О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по родному чердаку поднимается во мне мощной волной! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная родина..." Для немецкого читателя той поры в одном этом пассаже был краткий курс истории современной литературы и общественной мысли; стремление в высшие сферы как на свою отчизну - это иенские романтические эмпиреи ("Если ваш взор будет неотрывно устремлен к небу, вы никогда не собьетесь с пути на родину", - так напутствовал отшельник Генриха фон Офтердингена); идеализация родимого чердака это уже гейдельбергское германофильство. Поначалу от этой иерархии иронии может закружиться голова. Но демонстративная, прямо чуть ли не буквальная разорванность романа, его внешний повествовательный сумбур (опять: то ли феерия фейерверка, то ли круговерть карнавала) композиционно спаяны намертво, с гениальным расчетом, и его надо осознать. С первого взгляда может показаться, что параллельно идущие жизнеописания Крейслера и Мурра суть новый вариант традиционного гофмановского двоемирия: сфера "энтузиастов" (Крейслер) и сфера "филистеров" (Мурр). Но уже второй взгляд эту арифметику усложняет: ведь в каждой из этих биографий, в свою очередь, мир тоже разделен пополам, и в каждой есть своя сфера энтузиастов (Крейслер и Мурр) и филистеров (окружение Крейслера и Мурра). Мир уже не удваивается, а учетверяется - счет тут "дважды два"! И это очень существенно меняет всю картину. Вычлени мы эксперимента ради линию Крейслера перед нами будет еще одна "классическая" гофмановская повесть со всеми ее характерными атрибутами; вычлени мы линию Мурра - будет "гофманизированный" вариант очень распространенного в мировой литературе жанра сатирической аллегории, "животного эпоса" или басни с саморазоблачительным смыслом (скажем, типа "Премудрого пискаря"). Но Гофман смешивает их, сталкивает, и они непременно должны восприниматься только во взаимном отношении. Это не просто параллельные линии - это параллельные зеркала. Одно из них - мурровское - ставится перед прежней гофмановской романтической структурой, снова и снова ее отражает и повторяет. Тем самым оно, это зеркало, неминуемо снимает с истории и фигуры Крейслера абсолютность, придает ей мерцающую двусмысленность. Зеркало получается пародийным, "житейские воззрения кота Мурра" ироническим парафразом "музыкальных страданий капельмейстера Крейслера". Роман о Мурре и Крейслере - грандиозный памятник пристрастного, кровного расчета с романтизмом и его верой во всесилие поэтического гения. Один из самых пылких апологетов искусства, Гофман в то же время не удовлетворяется романтическим тезисом, что оно - панацея от всех бед. Его художники несчастны не только оттого, что филистерский мир их не понимает и не принимает, но и оттого, что они сами не могут найти "адекватного сознания", естественной и благотворной связи с реальным миром. Искусственно сконструированный искусством мир - тоже не выход для души, уязвленной неустроенностью человеческого бытия. * * * Но Гофману ли приписывать оправдание земного бытия? Ему ли, создавшему, как никто другой, убийственный паноптикум филистерского ничтожества? Однако и здесь все не так однозначно. Было бы величайшей несправедливостью по отношению к Гофману заподозрить его в элитарном высокомерии. Художниками рождаются, а филистерами становятся. И он, изощреннейший насмешник, карает пороки не врожденные, а благоприобретенные. Человек может или не может посвятить себя служению музам - но посвящать себя служению Мамоне он не должен, гасить в себе "божественную искру" не должен. Именно тогда происходит в нем необратимое извращение человечности. В "Песочном человеке" уже упоминавшаяся история о том, как в "благомыслящем обществе" механическая кукла стала законодательницей зал, описана пером блестящего юмориста. Чего стоят одни только резюмирующие замечания Гофмана об атмосфере, установившейся в этом обществе среди "высокочтимых господ" после обнаружения обмана с манекеном: "Рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт... а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись". Это все, конечно, очень смешно, но в иронико-сатирической аранжировке здесь предстает очень серьезная социальная проблема: механизация и автоматизация общественного сознания. В "Крошке Цахесе" тоже смешна история мерзкого уродца, с помощью полученных от феи волшебных чар околдовавшего целое государство и ставшего в нем первым министром, - но идея, легшая в ее основу, скорее страшна: ничтожество захватывает власть путем присвоения (отчуждения!) заслуг, ему не принадлежащих, а ослепленное, оглупленное общество, утратившее все ценностные критерии, уже не просто принимает "сосульку, тряпку за важного человека", но еще и в каком-то извращенном самоизбиении из недоумка творит кумира. Гофмановский паноптикум при ближайшем рассмотрении - больной социальный организм; увеличительное стекло сатиры и гротеска высвечивает в нем пораженные места, и то, что в первый момент казалось ошеломительным уродством и вызовом здравому смыслу, в следующий момент осознается как неумолимость закона. Ирония и сатира Гофмана в таких пассажах, конечно, убийственны, но странное дело: в них в то же время нет ни малейшей ноты брезгливого презрения, нет злорадства - зато постоянно слышима и ощутима та боль, что прозвучала позже в знаменитом гоголевском восклицании: "И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться!" Более того: Гофман действительно не рад этому своему дару видеть все будто сквозь увеличительное стекло, и он оставил этому недвусмысленное свидетельство. В поздней повести "Повелитель блох" (где, как мы помним, средствами гротеска тоже вскрывается серьезная общественная проблема - злоупотребление правопорядком со стороны официальных представителей закона) герой ее, Перегринус Тис, получает от "своего" волшебника чудесное увеличительное стекло, позволяющее ему читать у людей в мыслях. И он недолго пользуется возможностью "видеть насквозь" - он не выдерживает: "...я беру несчастное стекло - и мрачное недоверие наполняет мне душу; в несправедливом гневе, в безумном ослеплении я отталкиваю от себя истинного друга, и все глубже и глубже ядовитое сомнение подтачивает самые корни жизни и вносит раздор в мое земное бытие, отчуждает меня от меня самого. Нет!.. Прочь, прочь этот злополучный дар!" Перегринус отрекается от волшебного стекла - потому что оно, как говорит он тут же, способно истребить в душе все следы "воистину человеческого начала, выражающегося в сердечной доверчивости, кротости и добродушии". Гофман от своего дара не отрекается; одновременно с "Повелителем блох" он работает над вторым томом "Кота Мурра". Мы видели, какое стекло направлено на душу капельмейстера Крейслера: оно не истребляет в ней "человеческого начала", но правдиво фиксирует нежелательные его искривления. То же стекло направлено на крейслеровских антагонистов - общество при дворе князя Иринея: оно правдиво фиксирует нежелательные искривления в них человеческого начала, но его не истребляет. Советница Бенцон в романе - придворная интриганка, мечтающая отдать свою дочь Юлию, любовь и мечту Крейслера, в жены наследнику карликового иринеевского престола принцу Игнатию; принц слабоумен - по деликатно-сочувственной формуле Гофмана, "обречен на вечное детство" (и эта деликатность, отметим попутно, не только ирония - Гофман в самом деле сочувствует принцу, поручая "по сюжету" это сочувственное отношение именно Юлии, своей "положительной" героине). Так вот, госпожу Бенцон маэстро Абрахам, защищая своего подопечного и любимца Крейслера, не без оснований упрекает в том, что у нее "оледеневшее навеки сердце, где никогда и не теплилась искра". "Вы не переносите Крейслера, - продолжает он, - потому что вам не по нутру его превосходство над вами... вы сторонитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы, чем это принято в вашем маленьком мирке". Мы вернулись к тому, с чего начинали. Двоемирие: энтузиаст - филистеры. Вслушаемся теперь в ответ госпожи Бенцон. "Маэстро, - глухо произнесла Бенцон... - ты говоришь, оледенело мое сердце? А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви и не нашла ли я утешенье и покой только в тех условностях, что так презирал необузданный Крейслер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя, - опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой во плоти бранит меня Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей; но проникали ли вы когданибудь сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем?" Маэстро не спустит, не оплошает, он защитит Крейслера и свою с ним общую позицию новыми аргументами, но это уже не важно. Важно то, что у другой стороны двоемирия есть, оказывается, тоже своя правота! Одни - "энтузиасты", другие - "филистеры", но все - человеки; вернулся даже и "защитный панцирь" он привилегия (или рок?) не только "энтузиастов". "Двоемирие" пронзительней всего воплотил в искусстве слова именно Гофман; оно его опознавательный знак. Но Гофман не фанатик и не догматик двоемирия; он его аналитик и диалектик. * * * Мы подошли к самой сокровенной и самой немудреной тайне Гофмана. Его неспроста преследовал образ двойника. Он до самозабвения, до безумия любил свою Музыку, любил Поэзию, любил Фантазию, любил Игру - и он то и дело изменял им с Жизнью, с ее многоликостью, с ее и горькой и радостной прозой. Еще в 1807 году он написал своему другу Гиппелю - как бы оправдываясь перед самим собой за то, что выбрал себе в качестве основного не поэтическое, а юридическое поприще: "А главное, я полагаю, что, благодаря необходимости отправлять, помимо служения искусству, еще и гражданскую службу, я приобрел более широкий взгляд на вещи и во многом избежал эгоизма, в силу коего профессиональные художники, с позволения сказать, столь несъедобны". (Гражданская служба, помогающая избежать эгоизма... Юридическая тема "Повелителя блох" возникла из реальной ситуации: служа в Берлине в должности советника апелляционного суда и будучи в 1819 году назначен членом "высочайшей следственной комиссии по выявлению антигосударственных группировок и других опасных происков", Гофман выступил мужественным правозащитником в схватке с высокопоставленными нарушителями закона. Борьба продолжалась и в связи с публикацией "Повелителя блох" на этот раз борьба еще и с цензурой.) Гофмановский "более широкий взгляд на вещи" оказывается предельно прост. Друзья-рассказчики в "Серапионовых братьях", поупражнявшись в самых разных манерах повествования, в конце концов выражают недоверие всякой чрезмерности, необузданности, "возбужденности" воображения. И вот почему: "Основание небесной лестницы, по коей хотим мы взойти в горние сферы, должно быть укреплено в жизни, дабы вслед на нами мог взойти каждый. Взбираясь все выше и выше и очутившись наконец в фантастическом волшебном царстве, мы сможем тогда верить, что царство это есть тоже принадлежность нашей жизни - есть в сущности не что иное, как ее неотъемлемая, дивно прекрасная часть". Здесь описана режиссерская концепция гофмановского мирового театра. А вот и ее "сверхзадача" - в последних строках "Серапионовых братьев": "Наипервейшее условие всякого творчества и мастерства есть та добрая непритязательность, которая единственно и способна согреть сердце и дать благотворное побуждение духу". "Согреть сердце"... Наверное, об этих строках подумал позже немецкий писатель Виллибальд Алексис, когда написал о Гофмане: "Проживи он подольше - и его субъективный пламень превратился бы в тепло объективности". Гофман не успел прожить подольше - но успел высказать все, что хотел. В уже упоминавшейся новелле "Угловое окно" ее умирающий герой - "сочинитель... отличавшийся особой живостью фантазии", - говорит своему кузену, понадеявшемуся было, что больной все-таки выздоровеет: "Ты, чего доброго, думаешь, что я уже поправляюсь или даже совсем поправился от моих недугов? Отнюдь нет... Но вот это окно - утешение для меня: здесь мне снова явилась жизнь во всей своей пестроте, и я чувствую, как мне близка ее никогда не прекращающаяся суетня. Подойди, брат, выгляни в окно!" Так позвал нас перед своим уходом Гофман. Но, прежде чем начать знакомство с его житейскими и прочими воззрениями, прежде чем распахнуть окно в этот мир, загляните, читатель, еще раз в открывающий статью эпиграф из Гофмана - и, чтоб совсем уж свыкнуться с причудливым этим языком, имейте в виду, что в цитированном гофмановском тексте есть еще и такие слова: "- Да, позволь услышать твой голос, и я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем жить вместе и в волшебном содружестве займемся высшей магией, к которой волей-неволей приближаются все, даже обыкновенные люди, вовсе не веря в нее... Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала. И во всех углах все ожило и задвигалось: манекены зашагали и завертели головами, и механический петух захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили..." Вот теперь - читайте Гофмана. http://etagofman.narod.ru/kritikakarelskiy.html А. Кирпичников. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Гофман (Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Hoffmann) - знаменитый нем. романтик, род. в 1776 г. в Кенигсберге. Мать его была очень нервная женщина, отец - человек очень способный, но беспорядочный. Родители Г. разъехались, когда ребенку было всего 3 года; он воспитывался под влиянием своего дяди юриста, человека умного и талантливого, но фантаста и мистика. Г. рано выказал замечательные способности к музыке и живописи, так что считался чудо-ребенком; в школе учился прекрасно, хотя и тратил много времени на рисованье и музыку. Прекрасно окончил курс юрид. наук в кенигсбергском унив., хотя не чувствовал к юриспруденции особого расположения и продолжал усердно заниматься искусствами. Сдав в 1800 г. блистательно свой последний экзамен, он получил место ассессора в Познани, где широкое гостеприимство поляков впервые приучило его к кутежам. Г. всюду был желанным гостем, как остроумный собеседник, отличный музыкант и талантливый карикатурист. Карикатуры сильно повредили его служебной карьере. Благодаря им, он попал в Плоцк на гораздо худшее место. Вследствие женитьбы на очень доброй и преданной польке, Г. в скучном Плоцке снова сделался "порядочным" человеком. К этому же времени относятся его первые литературный попытки в журнале. Коцебу: "Freimutiger". В 1804 г. Г. был переведен советником в Варшаву; здесь он сошелся с Гитцигом, своим будущим биографом, и с романтиком Захариею Вернером; здесь же он основал музыкальное общество, зал которого украсил своей живописью. Вскоре после иенского сражения все прусские чиновники в Варшаве были уволены от службы. Г. поехал в Берлин, с партитурами нескольких опер в портфеле и с намерением всецело отдаться искусству; но он не нашел ни сбыта своим произведениям, ни уроков. Наконец, ему удалось получить вместо капельмейстера в Бамберге; но дела театра шли так плохо, что Г. принужден был бросить его и перебиваться частными уроками и музыкальными статьями. В 1810 г. один его знакомый, Гольбейн, взялся восстановить бамбергский театр; Г. помогал ему, работая как композитор, дирижер, декоратор, машинист, архитектор и начальник репертуара; но через два года Гольбейн отказался от антрепризы, и театр закрылся. Г. снова начал бедствовать. 26 ноября 1812 г. он пишет в дневнике: "продал сюртук, чтоб пообедать". С начала 1813 г. дела его пошли лучше: он получил маленькое наследство и предложение занять место капельмейстера в Дрездене. Страшные дни августовских битв Г. пережил в Дрездене: он испытал на себе все ужасы войны, но был бодр духом и даже весел, как никогда; он около этого времени собрал свои музыкально-поэтические очерки, написал несколько новых, очень удачных вещей и приготовил к печати род сборника своих произведений под заглавием: "Phantasiestucke in Callot's Manier. Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten" (Бамберг, 1814 - 1815; на русском языке из этого сборника переведена очень характерная повесть: " Золотой горшок", в "Московском Наблюдателе" за 1839 г., 1). Жан-Поль Рихтер нашел в Г. сродный себе талант и написал предисловие к 1 тому; книга имела значительный успех. Скоро Г. потерял место капельмейстера, переехал в Берлин и снова поступил в гражданскую службу. Здесь он встретился с Гитцигом, который познакомил его с берлинскими романтиками, поэтами и художниками. Место советника в камергерихте вполне его обеспечивало и в то же время оставляло ему много досуга, так что его творческий талант, поддерживаемый успехом, мог развернуться во всей силе. Но он слишком привык к цыганской жизни и губил себя излишествами. Чувствуя отвращение к чинным "чайным" обществам, Г. проводил большую часть вечеров, а иногда и часть ночи в винном погребке, где около него всегда собиралась веселая компания. Расстроив себе вином и бессонницей нервы, Г. приходил домой и садился писать; ужасы, создаваемые его воображением, иногда приводили в страх его самого; тогда он будил жену, которая присаживалась с чулком к его письменному столу. А в узаконенный час, если это был служебный день, Г. уже сидел в суде и усердно работал. Более крупные произведения Г. быстро следуют одно за другим в таком порядке: "Чертов эликсир. Бумаги, оставшиеся после брата Медарда капуцина" (1816 1816); "Ночные повести" (1817, "Nachtstucke"; на русский язык переведена "Иезуитская церковь в Г.", "Московский Вестник", 1830, VI); "Удивительные страдания одного директора театра. Из устного предания" (1819; в основе ряд фактов из деятельности Гольбейна); "Крошка Цахес, прозванный Киноварь" (1819, пер. в "Отечественных Записках", 1844, т. ХХХVI); "Серапионовы братья" (1819 - 21; перев. на русск. языки два раза - во второй раз Гербелем и Соколовским, СПб., 1873 - 1874, как первые 4 книги "Полного собрания сочинений Г.", которое, к сожалению, не пошло далее); "Жизненные воззрения кота Мурра, вместе с фрагментарной биографией Иоганна Крейслера в случайно собранных макулатурных лист." (1820 - 22; перев. Н. Кетчером 1840); "Принцесса Брамбилла" (1821); "Мейстер Фло, сказка в семи приключениях двух друзей" (1822, перев. в "Отеч. Зап." 1840 г., т. XIII). В 47 лет от роду силы Г. были истощены окончательно; у него развилось нечто вроде сухотки спинного мозга; но и на смертном одре он сохранил силу воображения и остроумие. Он ум. 26 июня 1822 г. Если б одна напряженность и богатство фантазии делали поэта, Г. был бы первым поэтом в мире; но так как от поэта требуется еще глубокое понимание действительности и художественно верное воспроизведение ее, то Г. - только первый из немецких романтиков чистого типа. Он подводит итоги немецкому романтизму и является самым полным выразителем лучших его стремлений, которым он придал небывалую до тех пор яркость и определенность. Самое ненавистное для Г. понятие - филистерство. Это понятие очень широкое, целое мировоззрение; в нем заключается и самодовольная пошлость, и умственный застой, и эгоизм, и тщеславие (жизнь на показ, "как люди живут"), и грубый материализм, и все нивелирующий формализм, превращающий человека в машину, и педантизм, доходящий до того, что человек даже и влюбляется, и предложение делает по книге Томазиуса. Первое условие для того, чтобы освободиться от давящих рамок этой филистерской пошлости и сохранить живую душу, - "детски благочестивое поэтическое настроение"; только обладая этим талисманом, можно верить, любить людей и природу и понимать поэзию; а понимать поэзию - значить понимать все, так как "поэзия есть высшее знание". Поэзия есть вместе с тем и высшая нравственность; она может исходить только из чистой, любящей души, и до ее нельзя добраться никакими ухищрениями ума; в поэзии отождествляется прекрасное, истинное и нравственное: вместе с тем она есть и высшее счастье. Это счастье доступно не одним только избранным натурам, а всем не опошленным людям. Детям, исключая нравственных уродов, открыт путь в царство поэзии, пока они живут согласно с природой, которая для них служит и лучшим собранием игрушек, и лучшей учительницей. Юноша, который "грезит с открытыми глазами" - истинный богач и счастливец, хотя бы у него не было гроша в кармане, истинный поэт, хотя бы он не написал ни строчки стихов; но горе ему, если он начнет стыдиться своих мечтами, увлечется пошлыми удовольствиями, выгодой и тщеславием. Он устроит свою карьеру, но потеряет свой талисман и будет считать чудаками всех, кто остался детски чист душою, исполнен веры и любви; сам же он проживет всю жизнь филистером, и только разве перед смертью вспомнить с тоскою, как Тадеус Брокель, что и он когда-то был знаком с Неизвестным Дитятею и летал с ним в царство поэзии. Свое мировоззрение Г. проводит с замечательною последовательностью в длинном ряде бесподобных в своем роде фантастических повестей и сказок, в которых он искусно сливает чудесное всех веков и народов с личным вымыслом, то мрачным и болезненным, то грустно трогательным, но чаще грациозно веселым и шаловливо насмешливым. Он умеет внушить и взрослому читателю интерес к этой пестрой фантастике, посредством соединения сверх естественного с обыденным и даже пошлым: у него привидения принимают желудочные капли, феи угощаются кофе, колдуньи торгуют яблоками и пирожками, герцоги и графы овощного царства режутся звёздочками и кладутся в суп и т. д. Крайняя прозаичность немецкой жизни является сереньким фоном, на котором тем резче выделяется яркость красок его фантастики. Таким образом этот ультра-романтик является и ультра-реалистом. Как психолог, Г. отмежевал себе область неопределенных чувств, неясных стремлений, необыкновенных ощущений, магнетических влияний, страшного и болезненно трогательного; бред, галлюцинация, безотчетный страх, потеря душевного равновесия - любимые мотивы его тонких психологических этюдов. Как новеллист, историк и этнограф, он - великий мастер своего дела: в глубь средних веков он спускается неохотно, но эпоху Реформации в и XVII веке воспроизводит превосходно; итальянские нравы и природу описывает так, как будто десятки лет прожил в Италии. Но, верный жизни в подробностях, он в общем везде обращает ее в пеструю сказку. Другая темная сторона поэзии Г. - его стремление приводить читателя в трепет, внушать ему веру в господство каких-то мрачных сил. Третий его недостаток - полное и сознательное равнодушие ко всяким социальным вопросам; его антипатия к тенденции переходить в возмутительный со стороны столь живого человека квиетизм. Зло, существующее в мире, представляется ему непоправимым даже в частных случаях, так как участь человека зависит не от него самого и не от его ближних, а от судьбы. Лучшие люди пусть уходят из это то мира в страны горные, в мир сверхчувственных наслаждений, а другие пусть живут в своей грязи, как хотят. Но, к счастью для себя и читателей, Г., как поэт, не может вечно держаться на такой олимпийской высоте - а когда он спускается на землю, он является другом человечества и горячим проповедником всепрощающей любви. Немецкая критика не очень высокого мнения о Г., и в Германии влияние его не было сильно: там в его время предпочитали романтизм глубокомысленный и серьезный, без примеси едкой сатиры, а следующее поколение усиленно занялось политикой и поэзия стала тенденциозной и утилитарной. Зато вне отечества Г. имеет огромное историческое значение. Французские романтики гораздо больше научились от него, чем от Шлегелей и Тика; во Франции, как и в Италии, он один из любимых писателей до 60-х годов включительно; в С. Америке он имел массу переводчиков и подражателей. В России один из образованнейших писателей пушкинского периода, Антоний Погорельский (А. Л. Перовский), автор "Монастырки"; находится в своих первых произведениях под непосредственным влиянием Г. Белинский (III, 532) называет Г. "одним из величайших немецких поэтов, живописцем невидимого внутреннего мира, ясновидцем таинственных сил природы и духа, воспитателем юношества, высшим идеалом писателя для детей". Другой талантливый критик 50-х годов, Дружинин, считает Перегринуса Тисса Г. одним из величайших созданий мировой поэзии. Но всего интереснее влияние Г. на одного из величайших русских романистов, Ф. Достоевского. Достоевский не только перечитал всего Г. и порусски, и по-немецки, и вдохновлялся им именно в ту пору, когда слагались его литературные вкусы (в 1838 г.), но и в излюбленном произведении первого периода своей деятельности, "Двойник", очевидно подражает ему, не теряя, конечно, при этом своей оригинальности. Мало того: много позднее, в самых крупных произведениях Д - ского замечается поразительное сходство с Г. и во взглядах, и в литературных приемах. Оба они одинаково любят детей и чудаков и не любят холодных, сдержанных жрецов "приличия", поклонников успеха и "деловых людей", всецело отдавшихся "полезному"; оба превозносят не подкрашенную природу на счет культуры; оба принижают разум перед сердцем; оба в повествовании любят неожиданности; у обоих кроткая идиллия внезапно сменяется порывом все уничтожающей бури и наоборот; знаменитое: "тут произошло нечто совсем неожиданное" Достоевского часто дословно встречается у Г. (напр., "Выбор невесты"); оба любят сопоставлять трагическое и страшное с мелочным и обыденным; оба любят сны, предчувствия, галлюцинации; сфера психологических наблюдений Достоевского есть нечто иное, как расширение и углубление сферы наблюдений Г., реализованных на данной почве и в данную эпоху. Все, что говорит Белинский о странности и причудливости гения Г. всецело относится и к Достоевскому - но далеко не все свойства великого русского романиста можно указать у немецкого романтика. Первое изд. сочинений Г. - "Ausgewahite Schriften" (Берлин, 1827 - 1828); его вдова Михелина прибавила к ним потом еще дополнение. Новейшее модное издание - "Sammtl. Schriften, mit Federzeichnungen v. Theod. Hosemann" (Б., 1871 - 73). Прекрасная биография Г. написана его другом, J. E. Hitzig: "Aus H's Leben and Nachlass" (Б., 1823). Ср. Funck, "Aus dem Leben zweier Dichter. Ernst Theod. Wilb. Н. und Fr. Grottlob Wetzel" (Лпц., 1836). Ср. также биографию Г., написанную Rochlitz'ем при франц. переводе его "Contes posthumes, par Champtlenry" (П., 1856). http://etagofman.narod.ru/kritikakirpichnikov.html Критика. О творчестве Э.Т.А. Гофмане. Вступив в литературу в ту пору, когда иенскими и гейдельбергскими романтиками уже были сформулированы и развиты основные принципы немецкого романтизма, Гофман был художникомромантиком. Характер конфликтов, лежащий в основе его произведений, их проблематика и система образов, само художественное видение мира остаются у него в рамках романтизма. Так же как и у иенцев, в основе большинства произведений Гофмана находится конфликт художника с обществом. Изначальная романтическая антитеза художника и общества - в основе мироощущения писателя. Вслед за иенцами высшим воплощением человеческого «Я» Гофман считает творческую личность.- художника, «энтузиаста», по его терминологии, которому доступен мир искусства, мир сказочной фантастики, те единственные сферы, где он может полностью реализовать себя и найти прибежище от реальной филистерской повседневности. Но и воплощение и разрешение романтического конфликта у Гофмана иные, нежели у ранних романтиков. Через отрицание действительности, через конфликт художника с ней иенцы поднимались к высшей ступени своего мироощущения - эстетическому монизму, когда весь мир становился для них сферой поэтической утопии, сказки, сферой гармонии, в которой художник постигает себя и Вселенную. Романтический герой Гофмана живет в реальном мире (начиная с кавалера Глюка и кончая Крейслером). При всех своих попытках вырваться за его пределы в мир искусства, в фантастическое сказочное царство Джиннистан, он остается в окружении реальной конкретно-исторической действительности. Ни сказка, ни искусство не могут привнести ему гармонию в этот реальный мир, который в конечном итоге их себе подчиняет. Отсюда постоянное трагическое противоречие между героем и его идеалами, с одной стороны, и действительностью - с другой. Отсюда дуализм, от которого страдают гофмановские герои, двоемирие в его произведениях, неразрешимость конфликта между героем и внешним миром в большинстве из них, характерная двуплановость творческой манеры писателя. [68] Одним из существеннейших компонентов поэтики Гофмана, как и ранних романтиков, является ирония. Причем в гофмановской иронии как творческом приеме, в основе которого лежит определенная философско-эстетическая, мировоззренческая позиция, мы можем четко различить две основные функции. В одной из них он выступает как прямой последователь иенцев. Речь идет о тех его произведениях, в которых решаются чисто эстетические проблемы и где роль романтической иронии близка той, которую она выполняет у иенских романтиков. Романтическая ирония в этих произведениях Гофмана получает сатирическое звучание, но сатира эта не имеет социальной, общественной направленности. Примером проявления такой функции иронии является новелла «Принцесса Брамбилла» - блестящая по своему художественному исполнению и типично гофмановская в демонстрации двуплановости его творческого метода. Вслед за иенцами автор новеллы «Принцесса Брамбилла» считает, что ирония должна выражать «философский взгляд на жизнь», т. е. быть основой отношения человека к жизни. В соответствии с этим, как и у иенцев, ирония является средством разрешения всех конфликтов и противоречий, средством преодоления того «хронического дуализма», от которого страдает главный герой этой новеллы актер Джильо Фава. В русле этой основной тенденции раскрывается другая и более существенная функция его иронии. Если у иенцев ирония как выражение универсального отношения к миру становилась одновременно и выражением скептицизма и отказа от разрешения противоречий действительности, то Гофман насыщает иронию трагическим звучанием, у него она заключает в себе сочетание трагического и комического. Основной носитель иронического отношения к жизни у Гофмана - Крейслер, «хронический дуализм» которого трагичен в отличие от комичного «хронического дуализма» Джильо Фава. Сатирическое начало иронии Гофмана в этой функции имеет конкретный социальный адрес, значительное общественное содержание, а потому эта функция романтической иронии позволяет ему, писателю-романтику, отразить и некоторые типичные явления действительности («Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения Кота Мурра» - произведения, наиболее характерно отражающие эту функцию иронии Гофмана). [69] Творческая индивидуальность Гофмана во многих характерных чертах определяется уже в первой его книге «Фантазии в манере Калло», в которую вошли произведения, написанные с 1808 по 1814 г. Новелла «Кавалер Глюк» (1808), первое из опубликованных произведений Гофмана, намечает и наиболее существенные аспекты его мировосприятия и творческой манеры. Новелла развивает одну из основных, если не главную идею творчества писателя - неразрешимость конфликта между художником и обществом. Эта идея раскрывается посредством того художественного приема, который станет доминирующим во всем последующем творчестве писателя двуплановости повествования. Подзаголовок новеллы «Воспоминание 1809 года» имеет в этой связи совершенно четкое назначение. Он напоминает читателю, что образ знаменитого композитора Глюка, главного и, в сущности, единственного героя повествования, фантастичен, нереален, ибо Глюк умер задолго до обозначенной в подзаголовке даты, в 1787 г. И вместе с тем этот странный и загадочный старик помещен в обстановку реального Берлина, в описании которого можно уловить конкретно-исторические приметы континентальной блокады: споры обывателей о войне, морковный кофе, дымящийся на столиках кафе. Все люди делятся для Гофмана на две группы: на художников в самом широком смысле, людей, поэтически одаренных, и людей, абсолютно лишенных поэтического восприятия мира. «Я как высший судья,- говорит alter ego автора Крейслер,- поделил весь род человеческий на две неравные части: одна состоит только из хороших людей, но плохих или вовсе немузыкантов, другая же - из истинных музыкантов». Наихудших представителей категории «немузыкантов» Гофман видит в филистерах. И это противопоставление художника филистерам особенно широко раскрывается на примере образа музыканта и композитора Иоганна Крейслера. Мифического нереального Глюка сменяет вполне реальный Крейслер, современник Гофмана, художник, который в отличие от большинства однотипных героев ранних романтиков живет не в мире поэтических грез, а в реальной захолустной филистерской Германии и странствует из города в город, от одного княжеского двора к другому, гонимый отнюдь не романтическим томлением по [70] бесконечному, не в поисках «голубого цветка», а в поисках самого прозаического хлеба насущного. Как художник-романтик, Гофман считает музыку высшим, самым романтическим видом искусства, «так как она имеет своим предметом только бесконечное; таинственным, выражаемым в звуках праязыком природы, наполняющим душу человека бесконечным томлением; только благодаря ей... постигает человек песнь песней деревьев, цветов, животных, камней и вод». Поэтому и основным своим положительным героем Гофман делает музыканта Крейслера. Высшее воплощение искусства в музыке Гофман видит прежде всего потому, что музыка может быть менее всего связана с жизнью, с реальной действительностью. Как истый романтик, подвергая ревизии эстетику Просвещения, он отказывается от одного из основных ее положений - о гражданском, общественном назначении искусства: «...искусство позволяет человеку почувствовать свое высшее назначение и из пошлой суеты повседневной жизни ведет его в храм Изиды, где природа говорит с ним возвышенными, никогда не слыханными, но тем не менее понятными звуками». Для Гофмана несомненно превосходство мира поэтического над миром реальной повседневности. И он воспевает этот мир сказочной мечты, отдавая ему предпочтение перед миром реальным, прозаическим. Но Гофман не был бы художником со столь противоречивым и во многом трагическим мироощущением, если бы такого рода сказочная новелла определяла генеральное направление его творчества, а не демонстрировала лишь одну из его сторон. В основе же своей художественное мироощущение писателя отнюдь не провозглашает полной победы поэтического мира над действительным. Лишь безумцы, как Серапион, или филистеры верят в существование только одного из этих миров. Такой принцип двоемирия отражен в целом ряде произведений Гофмана, пожалуй, наиболее ярких в своем художественном качестве и наиболее полно воплотивших противоречия его мировоззрения. Такова прежде всего сказочная новелла «Золотой горшок» (1814), название которой сопровождается красноречивым подзаголовком «Сказка из новых времен». Смысл этого подзаголовка заключается в том, что действующие лица этой сказки - современники Гофмана, а действие происходит в реальном Дрездене начала XIX в. Так пере- [71] осмысляется Гофманом иенская традиция жанра сказки - в ее идейнохудожественную структуру писатель включает план реальной повседневности. Герой новеллы студент Ансельм - чудаковатый неудачник, наделенный «наивной поэтической душой», и это делает доступным для него мир сказочного и чудесного. Столкнувшись с ним, Ансельм начинает вести двойственное существование, попадая из своего прозаического бытия в царство сказки, соседствующее с обычной реальной жизнью. В соответствии с этим новелла и композиционно построена на переплетении и взаимопроникновении сказочно-фантастического плана с реальным. Романтическая сказочная фантастика в своей тонкой поэтичности и изяществе находит здесь в Гофмане одного из лучших своих выразителей. В то же время в новелле отчетливо обрисован реальный план. Не без основания некоторые исследователи Гофмана полагали, что по этой новелле можно успешно реконструировать топографию улиц Дрездена начала прошлого века. Немалую роль в характеристике персонажей играет реалистическая деталь. Широко и ярко развернутый сказочный план со многими причудливыми эпизодами, так неожиданно и, казалось бы, беспорядочно вторгающийся в рассказ о реальной повседневности, подчинен четкой, логической идейно-художественной структуре новеллы в отличие от намеренной фрагментарности и непоследовательности в повествовательной манере большинства ранних романтиков. Двуплановость творческого метода Гофмана, двоемирие в его мироощущении сказались в противопоставлении мира реального и фантастического и в соответствующем делении персонажей на две группы. Конректор Паульман, его дочь Вероника, регистратор Геербранд - прозаически мыслящие дрезденские обыватели, которых как раз и можно отнести, по собственной терминологии автора, к хорошим людям, лишенным всякого поэтического чутья. Им противопоставлен архивариус Линдхорст с дочерью Серпентиной, пришедший в этот филистерский мир из фантастической сказки, и милый чудак Ансельм, поэтической душе которого открылся сказочный мир архивариуса. В счастливой концовке новеллы, завершающейся двумя свадьбами, получает полное истолкование ее идейный замысел. Надворным советником становится регистратор Геербранд, которому Вероника без колебания [72] отдает свою руку, отрешившись от увлечения Ансельмом. Осуществляется ее мечта - «она живет в прекрасном доме на Новом рынке», у нее «шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль», и, завтракая в элегантном неглиже у окна, она отдает распоряжения прислуге. Ансельм женится на Серпентине и, став поэтом, поселяется с ней в сказочной Атлантиде. При этом он получает в приданое «хорошенькое поместье» и золотой горшок, который он видел в доме архивариуса. Золотой горшок - эта своеобразная ироническая трансформация «голубого цветка» Новалиса - сохраняет исходную функцию этого романтического символа. Вряд ли можно считать, что завершение сюжетной линии Ансельм Серпентина является параллелью филистерскому идеалу, воплощенному в союзе Вероники и Геербранда, а золотой горшок - символом мещанского счастья. Ведь Ансельм не отказывается от своей поэтической мечты, он лишь находит ее осуществление. Философская идея новеллы о воплощении, царства поэтической фантастики в мире искусства, в мире поэзии утверждается в последнем абзаце новеллы. Ее автор, страдающий от мысли, что ему приходится покидать сказочную Атлантиду и возвращаться в жалкое убожество своей мансарды, слышит ободряющие слова Линдхорста: «Разве сами вы не были только что в Атлантиде и разве не владеете вы там по крайней мере порядочной мызой как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!» Не всегда, однако, фантастика Гофмана имеет такой светлый и радостный колорит, как в рассмотренной новелле или в сказках «Щелкунчик и Мышиный король» (1816), «Чужое дитя» (1817), «Повелитель блох» (1820), «Принцесса Брамбилла» (1821). Писатель создавал произведения очень различные по своему мироощущению и по использованным в них художественным средствам. Мрачная кошмарная фантастика, отражающая одну из сторон мировоззрения писателя, господствует в романе «Эликсир дьявола» (1815-1816) и в «Ночных рассказах». Большинство «Ночных рассказов», такие, как «Песочный человек», «Майорат», «Мадемуазель де Скюдери», не отягощенные в отличие от романа «Эликсир дьявола» религиозно-нравственной [73] проблематикой, выигрывают по сравнению с ним и в художественном отношении, пожалуй, прежде всего потому, что в них нет такого намеренного нагнетания сложной фабульной интриги. Сборник рассказов «Серапионовы братья», четыре тома которых появились в печати в 1819-1821 г., содержит неравноценные по своему художественному уровню произведения. Есть здесь рассказы чисто развлекательные, фабульные («Синьор Формика), «Взаимозависимость событий», «Видения», «Дож и догаресса» и др.), банально-назидательные («Счастье игрока»). Но все же ценность этого сборника определяется такими рассказами, как «Королевская невеста», «Щелкунчик», «Артусова зала», «Фалунские рудники», «Мадемуазель де Скюдери», свидетельствовавшими о поступательном развитии таланта писателя и заключавшими в себе при высоком совершенстве художественной формы значительные философские идеи. Именем пустынника Серапиона, католического святого, называет себя небольшой кружок собеседников, периодически устраивающих литературные вечера, где они читают друг другу свои рассказы, из которых и составлен сборник. Разделяя субъективные позиции в вопросе о соотношении художника и действительности, Гофман, однако, устами одного из членов Серапионова братства объявляет неправомерным абсолютное отрицание реальности, утверждая, что наше земное бытие определяется как внутренним, так и внешним миром. Отнюдь не отвергая необходимости обращения художника к увиденному им самим в реальной действительности, автор решительно настаивает на том, чтобы вымышленный мир изображался настолько четко и ясно, как если бы он предстал перед взором художника в качестве мира реального. Этот принцип правдоподобия воображаемого и фантастического последовательно реализуется Гофманом в тех рассказах сборника, сюжеты которых почерпнуты автором не из собственных наблюдений, а из произведений живописи. «Серапионов принцип» толкуется и в том смысле, что художник должен отгородиться от общественной жизни современности и служить только искусству. Последнее же, в свою очередь, являет собой мир самодовлеющий, возвышающийся над жизнью, стоящий в стороне от политической борьбы. При несомненной плодотворности этого эстетического тезиса для многих произведений [74] Гофмана нельзя не подчеркнуть, что само его творчество в определенных сильных своих сторонах далеко не всегда соответствовало полностью этим эстетическим принципам, о чем свидетельствует целый ряд его произведений последних лет жизни, в частности сказка «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819), отмеченная вниманием К. Маркса. К концу 10-х годов в творчестве писателя наметились новые существенные тенденции, выразившиеся в усилении общественной сатиры в его произведениях, обращении к явлениям современной общественно-политической жизни («Крошка Цахес». «Житейские воззрения Кота Мурра»), от которых он продолжает принципиально отгораживаться в своих эстетических декларациях, как мы видели на примере «Серапионовых братьев». Одновременно можно констатировать и более определенные выходы писателя в своем творческом методе к реализму («Мастер Мартин-бочар и его подмастерья», 1817; «Мастер Иоганн Вахт», 1822; «Угловое окно», 1822). Вместе с тем вряд ли правильно было бы ставить вопрос о новом периоде в творчестве Гофмана, ибо одновременно с общественно-сатирическими произведениями в соответствии со своими прежними эстетическими позициями он пишет целый ряд новелл и сказок, далеких от общественных тенденций («Принцесса Брамбилла», 1821; «Маркиза де Ла Пивардиер», 1822; «Ошибки», 1822). Если говорить о творческом методе писателя, следует отметить, что, несмотря на значительное тяготение в отмеченных выше произведениях к реалистической манере, Гофман и в последние годы своего творчества продолжает творить в характерно романтическом плане («Крошка Цахес», «Принцесса Брамбилла», «Королевская невеста» из Серапионова цикла; явно преобладает романтический план и в романе о Коте Мурре). В. Г. Белинский высоко ценил сатирический талант Гофмана, отмечая, что он умел «изображать действительность во всей ее истинности и казнить ядовитым сарказмом филистерство... своих соотечественников». Эти наблюдения замечательного русского критика в полной мере могут быть отнесены к сказочной новелле «Крошка Цахес». В новой сказке полностью сохраняется двоемирие Гофмана в восприятии действительности, что опять нашло отражение в двуплановости композиции новеллы, в характерах персонажей и в их расстановке. Многие основные действующие лица новеллы-сказки [75] «Крошка Цахес» имеют своих литературных прототипов в новелле «Золотой горшок»: студент Балтазар Ансельма, Проспер Альпанус Линдхорста, Кандида Веронику. Двуплановость новеллы раскрывается в противопоставлении мира поэтической мечты, сказочной страны Джиннистан, миру реальной повседневности, тому княжеству князя Барсануфа, в котором происходит действие новеллы. Двойственное существование ведут здесь некоторые персонажи и вещи, поскольку они совмещают свое сказочное волшебное бытие с существованием в реальном мире. Фея Розабельверде, она же канонисса приюта для благородных девиц Розеншен, покровительствует маленькому отвратительному Цахесу, наградив его тремя волшебными золотыми волосками. В таком же двойственном качестве, как и фея Розабельверде, она же канонисса Розеншен, выступает и добрый волшебник Альпанус, окружающий себя различными сказочными чудесами, которые хорошо видит поэт и мечтатель студент Балтазар. В своей обыденной ипостаси, только и доступной для филистеров и трезвомыслящих рационалистов, Альпанус всего лишь доктор, склонный, правда, к весьма затейливым причудам. Художественные планы сопоставляемых новелл совместимы, если не полностью, то очень близко. В идейном же звучании при всей своей схожести новеллы довольно различны. Если в сказке «Золотой горшок», высмеивающей мироощущение мещанства, сатира имеет нравственно-этический характер, то в «Крошке Цахесе» она становится более острой и получает социальное звучание. Не случайно Белинский отмечал, что эта новелла запрещена царской цензурой по той причине, что в ней «много насмешек над звездами и чиновниками». Именно в связи с расширением адреса сатиры, с ее усилением в новелле изменяется и один существенный момент в ее художественной структуре - главным персонажем становится не положительный герой, характерный гофмановский чудак, поэт-мечтатель (Ансельм в новелле «Золотой горшок»), а герой отрицательный - мерзкий уродец Цахес, персонаж, в глубоко символичной совокупности своих внешних черт и внутреннего содержания впервые появляющийся на страницах произведений [76] Гофмана. «Крошка Цахес» - в еще большей степени «сказка из новых времен», нежели «Золотой горшок». Цахес - полнейшее ничтожество, лишенное даже дара внятной членораздельной речи, но с непомерно раздутым чванливым самолюбием, отвратительно уродливый внешне,- в силу магического дара феи Розабельверде выглядит в глазах окружающих не только статным красавцем, но и человеком, наделенным выдающимися талантами, светлым и ясным умом. В короткое время он делает блестящую административную карьеру: не закончив курса юридических наук в университете, он становится важным чиновником и, наконец, всевластным первым министром в княжестве. Такая карьера возможна лишь благодаря тому, что Цахес присваивает чужие труды и таланты - таинственная сила трех золотых волосков заставляет ослепленных людей приписывать ему все значительное и талантливое, совершаемое другими. Так в пределах романтического мировосприятия и художественными средствами романтического метода изображается одно из больших зол современной общественной системы. Однако несправедливое распределение духовных и материальных благ казалось писателю фатальным, возникшим под действием иррациональных фантастических сил в этом обществе, где властью и богатством наделяются люди ничтожные, а их ничтожество, в свою очередь, силой власти и золота превращается в мнимый блеск ума и талантов. Развенчивание же и свержение этих ложных кумиров в соответствии с характером мировоззрения писателя приходит извне, благодаря вмешательству таких же иррациональных сказочноволшебных сил (чародей Проспер Альпанус в своем противоборстве с феей Розабельверде покровительствующий Балтазару), которые, по мнению Гофмана, и породили это уродливое социальное явление. Сцену возмущения толпы, врывающейся в дом всесильного министра Циннобера после того, как он лишился своего магического очарования, конечно, не следует воспринимать как попытку автора искать радикальное средство устранения того социального зла, которое символизируется в фантастическисказочном образе уродца Цахеса. Это всего лишь одна из второстепенных деталей сюжета, отнюдь не имеющая программного характера. Народ бунтует не против злого временщика-министра, а лишь насмехается над отвратительным уродцем, облик которого [77] наконец предстал перед ними в своем подлинном виде. Гротескна в рамках сказочного плана новеллы, а не социально-символична и гибель Цахеса, который, спасаясь от бушующей толпы, тонет в серебряном ночном горшке. Положительная программа Гофмана совсем иная, традиционная для него - торжество поэтического мира Балтазара и Проспера Альпануса не только над злом в лице Цахеса, но и вообще над миром обыденным, прозаическим. Как и сказка «Золотой горшок», «Крошка Цахес» завершается счастливым финалом - сочетанием любящей пары, Балтазара и Кандиды. Но теперь этот сюжетный финал и воплощение в нем положительной программы Гофмана отражают углубление противоречий писателя, его возрастающую убежденность в иллюзорности того эстетического идеала, который он противопоставляет действительности. В этой связи усиливается и углубляется в новелле и ироническая интонация. Большое социальное обобщение в образе Цахеса, ничтожного временщика, правящего всей страной, ядовитая непочтительная издевка над коронованными и высокопоставленными особами, «насмешки над звездами и чинами», над ограниченностью немецкого филистера складываются в этой фантастической сказке в яркую сатирическую картину явлений общественно-политического уклада современной Гофману Германии. Если новелла «Крошка Цахес» уже отмечена явным смещением акцентов с мира фантастического на мир реальный, то в еще большей степени эта тенденция сказалась в романе «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1819- 1821). Болезнь и смерть помешали Гофману написать последний, третий том этого романа. Но и в незаконченном виде он является одним из самых значительных произведений писателя, представляющим в наиболее совершенном художественном воплощении почти все основные мотивы его творчества и художественную манеру. Дуализм мировоззрения Гофмана остается и даже углубляется в романе. Но выражается он не через противопоставление мира сказочного и мира действительного, а через раскрытие реальных конфликтов последнего, через генеральную тему творчества писателя - [78] конфликт художника с действительностью. Мир волшебной фантастики совершенно исчезает со страниц романа, за исключением некоторых второстепенных деталей, связанных с образом мейстера Абрагама, и все внимание автора сосредоточивается на мире реальном, на конфликтах, происходящих в современной ему Германии, причем их художественное осмысление освобождается от сказочно-фантастической оболочки. Это не значит, однако, что Гофман становится реалистом, стоящим на позиции детерминированности характеров и развития сюжета. Принцип романтической условности, привнесенности конфликта извне по-прежнему определяет эти основные компоненты. К тому же он усиливается и рядом других деталей: это и история мейстера Абрагама и «невидимой девушки» Кьяры с налетом романтической таинственности, и линия принца Гектора - монаха Киприяна - Анджелы - аббата Хризостома с необычайными приключениями, зловещими убийствами, роковыми узнаваниями, как бы перемещенная сюда из романа «Эликсир дьявола». Своеобразна и необычна композиция романа, основанная на принципе двуплановости, противопоставлении двух антитетических начал, которые в своем развитии искусно совмещаются писателем в единую линию повествования. Чисто формальный прием становится основным идейнохудожественным принципом воплощения авторской идеи, философского осмысления морально-этических и социальных категорий. Автобиографическое повествование некоего ученого кота Мурра перемежается отрывками из жизнеописания композитора Иоганнеса Крейслера. Уже в совмещении этих двух идейно-сюжетных планов не только механическим их соединением в одной книге, но и той сюжетной деталью, что хозяин кота Мурра мейстер Абрагам - одно из главных действующих лиц в жизнеописании Крейслера, заложен глубокий иронический пародийный смысл. Драматической судьбе подлинного художника, музыканта, терзающегося в атмосфере мелких интриг, в окружении высокорожденных ничтожеств химерического княжества Зигхартсвейлер, противопоставлено бытие «просвещенного» филистера Мурра. Причем такое противопоставление дается и в одновременном сопоставлении, ибо Мурр - это не только антипод Крейслера, но и его пародийный двойник, пародия на романтического героя. [79] Ирония в этом романе получает всеобъемлющее значение, она проникает во все линии повествования, определяет характеристику большинства персонажей романа, выступает в органическом сочетании различных своих функций - и художественного приема, и средства острой сатиры, направленной на различные явления общественной жизни. Весь кошачье-собачий мир в романе - сатирическая пародия на сословное общество немецких государств: на «просвещенное»филистерское бюргерство, на студенческие союзы - буршеншафты, на полицию (дворовый пес Ахиллес), на чиновное дворянство (шпицы), на высшую аристократию (пудель Скарамуш, салон левретки Бадины). Мурр - это как бы квинтэссенция филистерства. Он мнит себя выдающейся личностью, ученым, поэтом, философом, а потому летопись своей жизни он ведет «в назидание подающей надежды кошачьей молодежи». Но в действительности Мурр являет собой образец того «гармонического пошляка» , который был так ненавистен романтикам. Но еще более острой становится сатира Гофмана, когда объектом ее он избирает дворянство, посягая на высшие его слои и на те государственно-политические институты, которые связаны с этим классом. Покинув герцогскую резиденцию, где он был придворным капельмейстером, Крейслер попадает к князю Иринею, к его воображаемому двору. Дело в том, что когда-то князь «действительно правил живописным владеньицем близ Зигхартсвейлера. С бельведера своего дворца он мог при помощи подзорной трубы обозревать все свое государство от края до края... В любую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у Петра в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс и Кунц». Наполеоновские войны лишили князя Иринея его владений: он «выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну». Но князь Ириней решил сохранить свой маленький двор, «превратив жизнь в сладкий сон, в котором пребывал он сам и его свита», а добродушные бюргеры делали вид, что фальшивый блеск этого призрачного двора приносит им славу и почет. Князь Ириней в своем духовном убожестве не является для Гофмана исключительным представителем; [80] своего класса. Весь княжеский дом, начиная с сиятельного папаши Иринея,- люди скудоумные, ущербные. И что особенно важно в глазах Гофмана, высокопоставленное дворянство в неменьшей степени, чем просвещенные филистеры из бюргерского сословия, безнадежно далеко от искусства: «Вполне может статься, что любовь великих мира сего к искусствам и наукам есть лишь неотъемлемая часть придворной жизни. Положение обязывает иметь картины и слушать музыку». В расстановке персонажей сохраняется характерная для двуплановости Гофмана схема противопоставления мира поэтического и мира будничной прозы. Главный персонаж романа - Иоганнес Крейслер. В творчестве писателя он является наиболее полным воплощением образа художника, «странствующего энтузиаста». Не случайно Крейслеру в романе Гофман придает многие автобиографические черты. Крейслер, мейстер Абрагам и дочь советницы Бенцон Юлия составляют в произведении группу «истинных музыкантов», противостоящих двору князя Иринея. В старом органном мастере Абрагаме Лискове, который некогда обучал музыке мальчика Крейслера, мы сталкиваемся с примечательной трансформацией образа доброго волшебника в творчестве Гофмана. Друг и покровитель своего бывшего ученика, он, как и Крейслер, причастен к миру подлинного искусства. В отличие от своих литературных прототипов архивариуса Линдхорста и Проспера Альпануса, мейстер Абрагам проделывает свои занимательные и таинственные фокусы на вполне реальной основе законов оптики и механики. Сам он не испытывает никаких волшебных превращений. Это мудрый и добрый человек, прошедший нелегкий жизненный путь. Примечательна в этом романе и попытка Гофмана представить себе идеал гармонического общественного устройства, в основе которого лежит общее преклонение перед искусством. Это Канцгеймское аббатство, где ищет приюта Крейслер. Оно мало чем походит на настоящий монастырь и скорее напоминает Телемскую обитель Рабле. Однако и сам Гофман сознает нереальную утопичность этой идиллии. Хотя роман не завершен, читателю становится ясной безвыходность и трагизм судьбы капельмейстера, в образе которого Гофман отразил непримиримый конфликт [81] подлинного художника с существующим общественным укладом. Художественный талант Гофмана, его острая сатира, тонкая ирония, его милые чудаковатые герои, одухотворенные страстью к искусству энтузиасты снискали ему прочные симпатии современного читателя. http://etagofman.narod.ru/kritikatoje.html Гофман Автор: Наум Берковский Помните, в прошлый раз я уже говорил о первой большой повести 1813 года, о «Золотом горшке», — повести, в которой все коренные особенности искусства Гофмана обнаружились. «Золотой горшок» — это Гофман, как таковой. Вы там можете найти почти всего Гофмана. То, что было дальше, — развито, варьировано, усложнено. Я говорил о том, что эта повесть отличается характерным для всего будущего Гофмана свойством: она странно, непостижимо переплетает крайности обыденщины (обыденщины в ее очень сгущенном виде; такой густо настоянной обыденщины) с фантастикой, порою самой безумной. Это бытовая современная повесть, вся освещенная огнями «Шехерезады». Вот что здесь поражает: это сочетание очень точной и часто очень густой бытовой реальности с «Шехерезадой». Как это так получается, что означает это сочетание? — в этом нам предстоит разобраться. Гофман создает особый вид фантастики. До Гофмана фантастика такого рода почти не имела развития. Это, можно сказать, его изобретение — фантастика этого типа. Как ее назвать? Фантастика самой обыденной жизни. Фантастика, извлеченная из недр обыденной жизни; самая обыкновенная, даже пошлая жизнь — она поставляла для Гофмана фантастику. Гофман умел увидеть фантастичность, иррациональность самой обыкновенной жизни. Как все романтики, он постоянно так или иначе воюет с филистерами, с филистерскими представлениями. Филистер — это одно из самых бранных слов у романтиков. Не дай бог, с точки зрения романтика, быть филистером. Филистер — это обыватель, мещанин. Человек, который живет мещанской жизнью, по-мещански мыслит и чувствует. Весь ушел в свой халат. В трубку, которую он курит. Весь занят тем кофе, который он пьет. Занят своими домашними делами, и только. И делами службы, если служит; служебным преуспеянием. Само слово «филистер» появилось в языке немецких студентов. Студенты назвали обывателя филистером. Понемецки это значит филистимлянин. Библейский Самсон воевал с филистимлянами. По-немецки филистимляне — это филистеры. И вот почему-то в студенческом немецком жаргоне обыватели получили название филистимлян. Вот народец, с которым они, Самсоны, воюют. Война с филистерами у Гофмана многоразличная. Прежде всего, Гофман их изображает. Изображает безжалостно. И конректор Паульман, и регистратор Геербранд — это все филистерский цветник. Но вот еще особая война. Филистеры свысока говорили о всякой романтике. Что романтика — это бред, безумие, в ней нет смысла. А вот вам месть романтика филистерам: романтик показывает, что эта обыкновенная, трезвая жизнь (филистер считал, что его жизнь — это норма, его быт — разумная реальность), жизнь филистеров, — если чуть-чуть ее копнуть, то она-то и оказывается сплошным безумием. И ничего разумного в ней нет. Она являет собой смешную, некрасивую фантастику. Вот это чрезвычайно важная и характерная тема для Гофмана: фантастична сама обыденная жизнь. Ну давайте посмотрим, что происходит в «Золотом горшке». Студент Ансельм. Этот скромный красивый юноша занят поэтическими мечтами. Настолько ими занят и поглощен, что опрокидывает у Черных ворот корзину яблочной торговки. Какие перспективы у Ансельма? Конректор Паульман и регистратор Геербранд, друзья Ансельма, говорят, что он может дойти до коллежского асессора или даже до надворного советника. Вот какие у него перспективы. Вся ставка у него — на красивый почерк. Его друзья и покровители рассчитывают, что каллиграфией он проложит себе дорогу в жизни. Ради этой каллиграфии он поступает на работу к архивариусу Линдхорсту. Вот вам первый пример фантастики Гофмана: живой человек, юная душа, душа не чуждая даже поэзии, — вот что ей уготовано. Лучшее, на что может рассчитывать Ансельм, — это стать коллежским асессором, сидеть в канцелярии и выводить страницу за страницей казенные бумаги. Это падение, если смотреть на вещи не по-филистерски. Мы говорили, что позиция романтиков — это позиция возможного, заключенного в жизни. Романтики всегда спрашивали о возможностях. И когда они трактовали человека, первый вопрос о нем — это вопрос о его возможностях. А по Ансельму видно: человеку суждено жить куда ниже его возможностей. Как может осуществить себя Ансельм? В качестве какой-то пишущей крысы. Вот его возможности. Вот реальность его возможностей. Всякое осуществление есть падение — вот как это получается у Гофмана. А возьмем другой персонаж. Архивариус Линдхорст. Он более яркое явление, чем Ансельм. Такой независимый господин. Живет богатым домом. И у него замечательная, причудливая библиотека с восточными манускриптами. Он человек очень дерзкий и ведет себя вызывающе. Но в сравнении с возможностями, когда-то заложенными в нем, — это тоже падение. Он превратился в городского чудака. Чудаки — это тоже типаж Гофмана (Sonderling). Чудаки — люди, особняком стоящие. А чем был когда-то архивариус Линдхорст? Он был Саламандром — а стал чудаком. Он когда-то отстаивал себя в космическом поединке с вражескими силами. Их представляла та торговка, что встретилась Ансельму у Черных ворот. Она была страшной колдовской силы. Боролась с Линдхорстом за мировой примат. А сейчас что она делает? Торгует яблоками. Да еще приватно занимается гаданием. Вот вам, — что ни персонаж, то падение. Один мог быть поэтом, а в лучшем случае будет заниматься чистописанием. Другой был Саламандрой, а сейчас стал архивариусом. И даже эти жалкие личности, Паульман и Геербранд, даже эти отпетые филистеры — ведь и они могли бы быть чем-то другим. А они так педантичны, чиновны, аккуратны, как будто Господь Бог создал их только для выполнения служеб-ных обязанностей. А ведь и у них была особая минута в жизни. Значит, и у них могла бы быть душа, но не получилось. Гофман изобразил в этой повести мир возможностей, которые превратились в обывательщину, в канцелярщину. Когда живая человеческая душа превращается в советника коммерции, и только, — это великое искажение природы для Гофмана. Это фантастика. Это до фантастичности уродливо. Какие-то погребенные, погибшие возможности у Гофмана изображены не только в людях. Они даны во всем. Они даны в природе вещей. Они даны в обстоятельствах, в вещах. У Гофмана происходят странные превращения, странные метаморфозы. Шнур, на котором висит колотушка у архивариуса Линдхорста, превращается в страшную змею. Из кляксы на манускрипте вдруг появляются молнии. Из чернильницы вырываются страшные черные коты с огромными глазами. Архивариус Линдхорст носит очень яркий восточный халат, с которого вдруг снимает загорающиеся вышитые цветы, как если бы они были живые, и швыряется ими. Когда Вероника приходит к старухе Лизе гадать, старуха говорит: «Ты хочешь узнать, любит ли тебя Ансельм?» Та ужасно изумлена. А старуха объясняет: «Ты сегодня утром сидела за кофе и все про себя говорила — любит или не любит тебя Ансельм. А на столе стоял кофейник — так вот это и была я». Кофейник оказывается старухой. Из чернильницы выскакивают коты, цветы горят. Это какая-то необык-новенная жизнь, которая вдруг обнаруживает себя в обыкновенных вещах. В основе всей бытовой обстановки филистеров лежит живая природа. Ведь все эти вещи сделаны из живой природы. Они сделаны из чего-то качественного, индивидуального. А получились стандартные, безличные предметы. Во всех этих вещах была какая-то личность, а когда их сделали предметами быта, они всякое лицо, всякую качественность утеряли. Для Гофмана и в вещах похоронены возможности. Эта тема была намечена уже у Тика. У него в «Принце Цербино» есть сцена, где вдруг заговорил стул, стол заговорил, скатерть заговорила. Ведь стулья и стол — это же бывший лес, бывшие зеленые деревья — обструганные, изуродованные, стандартные. Эта тема возможностей, которые захлебнулись в вещах быта, была существенна для Гофмана. Что такое фантастика Гофмана? Это возможности, которые взбунтовались, задавленные филистерским бытом, филистерским строем жизни. Это бунт возможностей. Возможности бунтуют против формы, которая им придана, против реальностей, которые им навязываются. Возможности не хотят того осуществления, которое им дают. Даже конректор и регистратор взбунтовались. Естественно, что и чернильница, и кофейник бунтуют. Они. тоже хотят нестандартного существования. В этой же повести Гофман впервые и очень тонко намечает одну из тех тем, которые в мировой литературе связаны с его именем: тему двойника. Гофман почти изобретатель этой темы. Она чуть-чуть существует в фольклоре. Двойник. Давайте попробуем разобраться, что означает гофмановский двойник. Попробуем найти семантику двойников. Каково их значение? Я буду идти к ним издалека. Вероника Паульман не на шутку задумала выйти замуж за Ансельма. Ей нравится Ансельм, а кроме того, она слышала, как все говорят, что Ансельм может далеко пойти по государственной службе. Но Ансельм отбивается от рук. Она не понимает, что происходит с Ансельмом. А Ансельм влюблен в золотую змейку, Серпентину. Вместо того чтобы обратить свою любовь на дочку конректора — вот кого полюбил Ансельм. Золотую змею. Эту золотую змейку Серпентину с синими глазами, которая в полдень упражняется на клавесине. И Вероника ведет борьбу за свою любовь. Вот она пошла к этой старухе-гадалке. А когда старуха Лиза ей указывает, какая ворожба нужна, чтобы вернуть Ансельма, Вероника (она была девушка храбрая) не испугалась полночи, вышла на перекресток с черным котом, развела костер и проделала все нужное. Но ничего не получилось. Там есть один эпизод. Вероника погружена в мечтания о будущем своем семейном счастье с Ансельмом. Она представляет себе будущее так: Ансельм стал надворным советником, она — госпожой надворной советницей. Муж, одетый по последней моде, возвращается домой и достает из кармана прелестные сережки — в подарок жене. В конце повести эпизод повторяется: Геербранд, получивший чин надворного советника, приходит к конректору Паульману, просит у него руки Вероники и дарит ей на именины точно такие же сережки, какие ей уже пригрезились. Это и есть источник темы двойника. Эти два эпизода совпадают друг с другом. Разница только в чем? Разные действующие лица, разные герои. И оказывается, это совсем безразлично. Оказывается, ну что ж — не получилось с Ансельмом, получится с Геербрандом. Один надворный советник заменился другим надворным советником. Вот это и есть семантика двойников. Геербранд оказался двойником Ансельма. Кто такой двойник? Буквальное повторение одного человека другим. Геербранд по всем точкам совпадает с Ансельмом. Кто такой двойник у Гофмана? Это феномен обезличенной жизни, которая строится на том, что лицо, индивидуальное, в ней лишено всякого значения. Лицо заменимо. Абсолютно заменимое лицо — вот что такое двойник. Вместо одного человека можно подставить другого. И никто не заметит подстановки. Все пройдет спокойно, как если бы ничего не произошло. Есть положение, занимаемое человеком. Оно что-то значит. А сам он ничего не значит. Сам он легко и незаметно обменивается на кого угодно. Вероника не страдает оттого, что ее забыл Ансельм. Все, что ей надо было получить от Ансельма, она получила от Геербранда. Я всегда вспоминаю по поводу гофмановских двойников одну замечательную японскую сказку, которой, конечно, Гофман не знал. Сказка звучит так. Дело было к вечеру. Один купец вышел на набережную погулять. И видит, что на самом берегу какая-то женская фигура, стоящая к нему спиной, размахивает руками. Ясно, что эта женщина собирается утопиться. Он к ней подбегает и кладет ей руку на плечо, чтобы остановить ее. И она к нему оборачивается. Что увидел он, мы не знаем, но, не помня себя, он бежит по улице и видит освещенную лавку. Он вбегает туда, и купец спрашивает у него: «Что случилось? На тебе лица нет». И он начинает рассказывать об этой женщине. Когда он говорит: «Я ее остановил, она обернулась, и я увидел...» — «А,— говорит купец,- вот что ты увидел». И он проводит ладонью по своему лицу. И вот -- ни глаз, ни бровей, ни носа, ни рта. Вот что увидел этот человек. Это и есть гофмановский двойник. В «Золотом горшке» Гофман несколько иронически, комедийно трактует тему двойника. Но по сути это высокотрагедийная тема. И она трактуется так самим Гофманом в «Эликсирах дьявола». Там эта тема дана трагически. И вообще является там центральной. Вот вам верховная фантастика обыденной жизни: в обыденной жизни лица не считаются. Нет лиц. Вместо лиц какие-то безбровые сущности. Безбровые, безносые сущности. Легко заменимые одна на другую. Это самое страшное явление для Гофмана, для романтиков. Из жизни вынимается индивидуальная человеческая живая душа. До живой души, до индивидуальности нет никакого дела. Живая душа — она присутствует, но не играет никакой роли. Знаете, как в игре говорят: это не считается. Так вот, живая душа присутствует, но она не считается. Она ни в каких раскладках и выкладках не участвует. На деле ее нет. И это для Гофмана, конечно, самое скандальное из обстоятельств обыденной жизни. Здесь, в «Золотом горшке», он подбирается к этой теме. Я сразу забегу вперед, тем более что мне об этом в дальнейшем уже не придется говорить. Есть другая характерная гофмановская тема. Тема куклы. Автомата. Гофмановский мир. Когда говорят о гофмановском мире, сразу себе представляешь двойников, кукол, автоматы. Вы знаете балет «Коппелия»? Написан он по рассказу Гофмана «Песочный человек». Коппелия - у Гофмана ее зовут Олимпия, — дочь профессора физики Спаланцани. Это кукла-автомат, которую ради забавы, ради того, чтобы посмеяться над людьми и потешить себя, известный профессор выдал за свою дочь. И это отлично проходит. Он устраивает у себя на дому приемы. Молодые люди ухаживают за Олим-пией. Она умеет танцевать, она умеет очень внимательно слушать, когда ей что-то говорят. И вот некий студент Натанаэль до смерти влюбляется в Олимпию, нисколько не сомневаясь в том, что это живое существо. Тут у Гофмана очень много иронии по поводу этого молодого человека. Он считает, что нет никого умнее Олимпии. Она очень чуткое существо. У него нет лучшего собеседника, чем Олимпия. Это все его иллюзии, эгоистические иллюзии. Так как она научена слушать и не перебивает его и говорит все время он один, то у него и получается такое впечатление, что Олимпия разделяет все его чувства. И более близкой души, чем Олимпия, у него нет. Все это обрывается тем, что он однажды пришел в гости к Спаланцани не вовремя и увидел странную картину: адвокат Коппелиус дрался со Спаланцани. Дрались они из-за куклы. Один держал ее за ноги, другой за голову. Каждый тянул в свою сторону. При ближайшем рассмотрении оказалось, что драка произошла из-за девицы Олимпии. Тут и обнаружилась эта тайна. А вы понимаете, почему мотив куклы, символика куклы и двойников — родственны друг другу? Они — одного семантического корня, сидят в одной семантике. Двойник — это синоним обезличивания. Кукла — это тоже обезличенность. Обезличенность — двойник, обезличенность в квадрате — кукла, автомат. Гофман был крайне неравнодушен к этому мотиву автоматов. Он рассказал о целом оркестре из автоматов. О дирижере автоматическом. Гофман вообще (как и другие романтики) страшно интересовался всякими механическими игрушками. Как видно, внимательно их изучал, рассматривал, потом вводил их в свой рассказ. Он любил всякие фокусы с механическими штуками. Итак, куклы, автоматы — это обезличение, возведенное в крайние степени. С другой стороны, здесь видно, что Гофмана очень интересовала индустрия, еще мало из-вестная в Германии, но уже вторгшаяся в нее. Индустрия с ее механизацией труда. Современная индустрия, она у него раздребезжилась в воображении на эти эпизоды с куклами, автоматами. Кукла, автомат — это падение человека в современной жизни. Из зеленых деревьев у Тика смастерили столы и стулья, а из живых людей сделали автоматы. И это, разумеется, тоже пример фантастики обыденной жизни. Вы воображаете, что имеете дело с живыми людьми, — на самом деле вы имеете дело с механизмами. От Гофмана темы двойников, кукольные темы широко пошли по литературе. Их можно найти во французской литературе. По-своему ими пользовался Бальзак. В Англии — Диккенс. У нас в России — Гоголь прежде всего. Достоевский. Правда, Достоевский своеобразно разрабатывает эти темы, это собственные трактовки Достоевского, но, ра-зумеется, они появляются под каким-то воздействием Гофмана. Вообще, значение Гофмана для мировой литературы еще до сих пор не оценено. Он писатель, имеющий значение для всей мировой литературы. И менее всего для немецкой. Гофман у них шел до недавнего времени за какого-то развлекателя. Гораздо лучше Гофмана понимали французы и у нас в России. «Крошка Цахес» — одна из очень значительных повестей Гофмана. Она тоже вобрала в себя многое из гофманианы. Действие происходит в Керепесе. Очень странно звучащее для немецкого уха название. Ничего похожего на слово Керепес в немецкой географии вы не найдете. Гофман любит изобретать такие комические города. Целые города, населенные комическими персонажами. И комические государства. Такое комедийное княжество изображено и в «Крошке Ца-хесе». В нем все смешное — начиная с князя, с его мини-стров до обывателей. Тут сначала царствовал князь Пафнутий, а потом князь Барзануф. Пафнутий вводил просвещение в Керепесе. И по особому эдикту князя Пафнутия феи из этой страны были изгнаны, потому что от фей шла всякая фантастика. Больше в стране нет никаких фей. Все чисто. Князь Пафнутий ввел в своей стране оспопрививание, ввел всякие рациональные понятия. Феи, сказки — все это находилось под запретом, все это было забыто. http://www.ad-marginem.ru/article45-page6.html Генезис двойничества Категория двойничества впервые философски и эстетически осмысливается в литературе романтизма. Следует сказать, что проявление феномена двойничества в культурном сознании романтизма связано прежде всего с социально-политическими потрясениями в Европе. На рубеже XVIII-XIX веков происходят буржуазные революции в Голландии и Англии, промышленный переворот в Англии. Но наибольшее влияние на развитие идей романтизма оказала Великая Французская революция, которая объединила истории отдельных стран в историю общеевропейскую и общемировую /29/. Литература и искусство в это время, пожалуй, впервые ставят новую для себя задачу создать теорию, способную отразить весть комплекс вопросов бытия человека, природы и всей вселенной. Теоретик иенской школы романтизма Ф. Шлегель подчеркивал значение для романтизма французской революции, которая, с его точки зрения, выдвинула на первое место отдельную личность. Абсолютизируя отдельную личность, «бесконечный индивидуализм», по определению Ф. Шлегеля, романтизм создает совершенно новый тип героя /28/. Новый тип героя определил и характер конфликта в литературе романтизма: у романтиков индивидуализм сам диктует окружающей действительности свои законы. Но одновременно в концепции романтической литературы у Ф. Шлегеля содержатся требования объективности изображения: принцип историзма, согласно которому каждое явление должно рассматриваться в развитии, а также требования связи литературы с действительностью. В этом противоречии и рождается конфликт субъективного и объективного, бесконечного и обусловленного (с одной стороны, неограниченные возможности творца художника, с другой объективная реальность, живущая по собственным законам) /29/. Таким образом, в романтизме наблюдается конфликт между существующей действительностью и индивидом, романтическим героем. В силу этого происходит своеобразное раздвоение мира разделение его на мир реальный, действительно существующий и мир нереальный, фантастический, иррациональный или мир мечты, грез, существующий в сознании романтического героя: художественный мир романтиков развиваясь порождает и раздвоение их героев. Действительность представляется романтикам низкой, приходящей, они стремятся бежать от этой пагубной действительности любыми способами, и чаще всего спасаются от нее уходом в мир мечты, грез, в мир своих фантазий, в мир, который они сами создают, противопоставляя его миру реальному. Это раздвоение мира в сознании и художественной практики романтиков не могло не сказаться на сознании отдельно взятой личности. Двоемирие обуславливает разлад личности, ее сознания, распад ее целостности, что в свою очередь приводит к раздвоению личности. В литературе романтизма феномен двойничества решается на уровне личности, сознание которой под давлением расколотого, двоящегося мира также двоится, порождая тем самым появление своеобразных образов двойников романтических героев. Особенно ярко мотив двойничества ( как расщепление сознания личности, его раздвоение, и как раскол мира) выражен в творчестве одного из крупнейших немецких романтиков Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Когда говорят о гофмановском образе или сюжете, прежде всего имеют ввиду причудливое соединение элементов реальности с фантастической игрой авторского воображения. В отличие от ранних романтиков, которым окружающий мир рисовался лишь неким отсветом мира надреального, Гофман воспринимал действительность как объективную реальность. Однако этот мир представляется ему иррациональным, так как невозможно обретение мировой гармонии в существующих конкретных обстоятельствах /23/. Гофман не пытался игнорировать реальность, заменяя ее художественным воображением. Создавая фантастические картины, он осознавал их иллюзорность. Фантастика служила Гофману средством постижения условий жизни. В фантастических происшествиях, которые случаются с героями Гофмана, отражается реальность, законы развития которой были во многом недоступны автору. Но он чутко ощущал неправильность общественного порядка, его враждебность развитию личности. Силы, чуждые его современникам, выступали, как правило, в фантастическом обличье. Вообще фантастика в художественном сознании романтиков утверждается как антитеза отвергаемой ими действительности, и как осмысление ее враждебности человеку. Фантастика и мир искусства являются для романтиков теми смежными сферами, в которые они устремляются в своем отрицании окружающей действительности. И Гофман во многих своих произведениях в полном соответствии с принципами романтического мировоззрения и эстетики утверждает несовместимость идеала с действительностью, несовместимость подлинно высокого искусства как наиболее полного отображения этого идеала с реальной, обыденной жизнью. Его первая полуфантастическая новелла «Кавалер Глюк» развивает одну из основных идей творчества писателя неразрешимость конфликта между художником и обществом. Все люди делятся для Гофмана на две группы: на художников в самом широком смысле людей, поэтически одаренных, - и людей, абсолютно лишенных поэтического восприятия. «Я как высший судия,- говорит alter ego автора, его излюбленный герой музыкант и композитор Иоганнес Крейслер,- поделил весь род человеческий на две неравные части: одна состоит только из хороших людей, но плохих или вовсе не музыкантов, другая же из истинных музыкантов» /16/. Итак, гофмановское двоемирие, лежащее в основе его творчества, - это прежде всего разрыв между мечтой и действительностью, который самим героем воспринимается как непреодолимый. Конфликты разыгрываются на земной почве, в реальной действительности, сопровождаясь феерией чудесных и жутковатых превращений, где жизнь воплощается во множестве вариантов зеркальных отражений. По мнению М.П. Михальской, «Для Гофмана несомненно превосходство мира поэтического над миром реальной повседневности. И он воспевает этот мир сказочной мечты, отдавая ему предпочтение перед миром реальным, прозаическим». /29/. Такой принцип двоемирия отражен в целом ряде произведений Гофмана. Такова прежде всего сказочная новелла «Золотой горшок». Это сказка из новых времен как определил автор жанр своего создания. Сказочные происшествия случаются в знакомых, привычных местах Дрездена. Рядом с обыденным миром жителей этого города существует постоянный мир чародеев, волшебников и злых колдуний. Это двоемирие определяет атмосферу произведения. Герой новеллы, студент Ансельм чудаковатый неудачник, наделенный «наивной поэтической душой», и это делает доступным для него мир сказочного и чудесного. Столкнувшись с ним, Ансельм начинает вести двойственное существование, попадая из своего прозаического бытия в царство сказки, соседствующее с обычной, реальной жизнью. В соответствии с этим новелла и композиционно построена на переплетении и взаимопроникновении сказочно-фантастического плана с реальным. Двуплановость творческого метода Гофмана сказалась и в соответствующем делении персонажей на две группы. Конректор Паульман, его дочь Вероника, регистратор Геербранд прозаически мыслящие обыватели. Им противопоставлены архивариус Линдгорст с дочерью Серпентиной, пришедшие в этот мир из фантастической сказки, и чудак Ансельм, душе которого открылся сказочный мир архивариуса. В счастливой концовке новеллы получает полное истолкование ее идейный замысел. Ансельм женится на Серпентине и, став поэтом, поселяется с ней в сказочной Атлантиде. При этом он получает в приданное поместье и золотой горшок, который он видел в доме архивариуса. Золотой горшок у Гофмана это явная трансформация «голубого цветка», знаменитого романтического символа возвышенной мечты, введенного ранним немецким романтиком Новалисом и ставшего неким хрестоматийным каноном /17/. Таким образом, Ансельм находит осуществление своей поэтической мечты, и мир фантастический, сказочный всетаки одерживает победу над неприглядной реальностью. В произведениях Гофмана нередко происходит и раздвоение внутреннего мира его героев, раздвоение на уровне сознания. Появление двойников связано с особенностями романтического миросозерцания. Двойник в авторской фантазии возникает от того, что писатель замечает отсутствие целостности личности сознание человека разорвано, устремленный к добру, он, подчиняясь таинственному импульсу, совершает злодейство. Гофман был первым среди писателей XIX века, открывших двойственность человеческой натуры. У Гофмана противоречивые черты человека выступают раздельно, не смешиваясь, и материализуются в творческом сознании в образах двойников /29/. Тема раздвоения внутреннего мира человека наиболее ярко проявляется в новеллах Гофмана «Песочный человек» и «Мадемуазель де Скюдери». Так, в новелле «Песочный человек» раздваивается сознание главного ее героя Натанаэля. Здесь Гофман утверждает факт, что человеческая психика это нечто неоднородное. Существуют как дневные, так и ночные стороны человеческой души, которые в определенный момент под влиянием различных обстоятельств могут спровоцировать раздвоение личности, ее самоотрицание, что и происходит с героем новеллы Гофмана. Для Натанаэля придуманный им же самим образ Песочного человека становится страшным призраком, который постоянно преследует его. Натанаэль погружается в некий фантастический мир, где царит придуманный им Песочник, воплощающийся в сознании Натанаэля в образе старого адвоката Коппелиуса. Этот образ постоянно и всюду преследует Натанаэля, приводя его в ужас. Но на самом деле все страшное и ужасное происходит лишь в душе героя новеллы, а темная сила, воплощенная в образе Коппелиуса является лишь фантомом его собственного «я», его двойником, в котором концентрируются темные, «ночные», стороны души Натанаэля. Раздвоение его внутреннего мира происходит под влиянием того, что Натанаэль, как истинный «музыкант» не может примириться с существующей действительностью, с непониманием окружающих, в том числе и близких ему людей. Даже его возлюбленная Клара по определению самого героя новеллы, является «бездушным автоматом» /16/. Натанаэль все глубже погружается в мрачную мечтательность, и Коппелиус его враждебный, злой двойник неотступно преследует его, все более затягивая в свои сети, что, в конечном счете, окончательно губит Натанаэля. В новелле «Мадемуазель де Скюдери» подобным образом раздваивается сознание Рене Кардильяка, который ведет двойственное существование. Днем он является известны, уважаемым всеми ювелиром, а под покровом ночи, подчиняясь некоему таинственному импульсу, становится жестоким убийцей, абсолютно не контролирующим собственные поступки. Таким образом, можно утверждать, что феномен двойничества характерен для творчества Гофмана, мотив двойничества воплощается во многих его произведениях. Двойничество у Гофмана реализуется как на уровне раздвоения мира на реальный и идеальный, что происходит вследствие протеста поэтической души против быта, действительности, так и на уровне раздвоения сознания романтического героя, что в свою очередь обуславливает появление своеобразного двойника. Здесь нужно сказать, что данный тип героя с его двоящимся сознанием, скорее всего отражает сознание самого автора и в какой-то мере его герои являются его же собственными двойниками. http://cityref.ru/prosmotr/6717-2590.htm Д. Чавчанидзе РОМАНТИЧЕСКИЙ МИР ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА (Гофман Э.Т.А. Золотой горшок и другие истории. - М., 1981) Книга прочитана, и перед вами открылся сверкающий яркими красками мир сказок Гофмана. Вы, наверное, заметили, насколько необычны эти сказки, насколько отличаются они от всех тех, которые вы читали до сих пор. Под пером Гофмана необыкновенное, фантастическое возникает из реальных вещей и событий; источником чудесного становится обыденная жизнь. И потому сказочное, волшебное открывает нам другой, еще более необычайный мир - мир человеческих чувств, мечтаний, стремлений. Только на первый взгляд кажется, что действие в повестях Гофмана происходит, как это бывает в сказке, "в некотором царстве, в некотором государстве". На самом деле все, о чем он пишет, несет на себе отпечаток того тревожного времени, свидетелем которого был писатель. Гофман родился 24 января 1776 года в городе Кенигсберге. Этот город был одним из центров культурной и духовной жизни Германии. В стенах кенигсбергского театра звучали оперы Моцарта и симфонии Гайдна. В Кенигсбергском университете знаменитый мыслитель Иммануил Кант знакомил студентов со своей философской системой, в которой были отражены идеи Просвещения. Эти идеи волновали тогда всю Европу. Просветители утверждали, что мир должен быть перестроен силой человеческого разума, что все люди равны независимо от того, к какому сословию они принадлежат, что свобода - единственный справедливый закон, и потому ни человеком, ни страной не должны управлять тираны. В 1789 году, когда Гофману было тринадцать лет, под лозунгом "Свобода, равенство, братство!" произошла Великая французская революция, подготовленная идеями Просвещения. А еще через десять лет бывший капитан Бонапарт стал императором Наполеоном. Революция окончилась. Для французской буржуазии, интересы которой защищал Наполеон, он сумел захватить едва ли не половину Европы. Не избежала участи покоренных стран и Германия. Когда в 1806 году войска Наполеона вошли в Варшаву, находившуюся тогда под властью Пруссии, тридцатилетний Гофман служил там чиновником. По семейной традиции он стал юристом, но сердце его принадлежало искусству. Дороже всего ему была музыка. Большой знаток и восторженный почитатель великих композиторов, он даже переменил свое третье имя - Вильгельм - на одно из имен Моцарта Амадей. Незаурядное музыкальное дарование давало основания Гофману мечтать о славе музыканта: он превосходно играл на органе, фортепьяно, скрипке, пел, дирижировал. Еще до того, как пришла к нему слава писателя, он был автором многих музыкальных произведений, в том числе и опер. Музыка скрашивала ему печальное однообразие канцелярской службы в городах, сменявшихся по воле начальства буквально через каждые два года: Глогау, Позен, Плоцк, Варшава... В этих скитаниях музыка была для него, по его собственным словам, "спутницей и утешительницей". С приходом Наполеона в Варшаву Гофман, как и все прусские чиновники, остался без места и сначала даже радовался освобождению от постылых обязанностей. Он мечтал отныне посвятить все свое время музыке. Однако нужен был постоянный заработок, чтобы кормить жену и маленькую дочь, и он уехал в Берлин, рассчитывая получить работу в театре или музыкальном издательстве. Это оказалось нелегко; с первых же дней в столице на него обрушилась горькая нужда. "Вот уже пять дней я не ел ничего, кроме хлеба", - писал оттуда Гофман своему близкому другу. Но в Берлине у него были свои удачи и радости. Он сочинил несколько музыкальных пьес. "С тех пор, как я пишу музыку, мне удается забывать все свои заботы, весь мир. Потому что тот мир, который возникает из тысячи звуков в моей комнате, под моими пальцами, несовместим ни с чем, что находится за его пределами". В этом признании - вся натура Гофмана, его необыкновенная способность чувствовать прекрасное и благодаря этому быть счастливым вопреки жизненным невзгодам. Этой чертой он наделяет впоследствии любимейших из своих героев, называя их энтузиастами за огромную силу духа, которую не могут сломить никакие беды. В Берлине Гофман знакомится со многими замечательными людьми - писателями, музыкантами, философами. Общение с ними помогло ему глубже ощутить дух своего времени, настроения, которыми жила немецкая интеллигенция, горячо откликавшаяся на все, что происходило за пределами Германии. За два десятилетия, прошедшие после Великой французской революции, в Западной Европе в полной мере обнаружились страшные стороны нового, буржуазного уклада. Мечты о свободе, равенстве и братстве так и остались мечтами; если раньше свобода была привилегией знатных, то теперь стала достоянием тех, в чьих руках было больше золота. В жертву золоту приносилось все: человеческие чувства, честь и совесть. Революционные события почти не коснулись Германии. Она все еще продолжала оставаться страной, раздробленной на множество государств, иногда до смешного мелких. В своем романе "Житейские воззрения кота Мурра" Гофман с едкой иронией скажет о владельце одного из таких "карликовых" княжеств: "...он с помощью хорошей... подзорной трубы с бельведера своего дворца... мог обозреть все свои владения... В любую минуту он мог без малейшего труда узнать, каковы виды на урожай, скажем, у Петера, посеявшего пшеницу в отдаленной части его страны..." В маленьких немецких землях особенно остро ощущались противоречия сохранившейся феодальной системы: произвол титулованной знати и бесправие тех, кто не принадлежал к ней. Однако в крупнейших из германских государств, и прежде всего в Пруссии, где протекала большая часть жизни Гофмана, были проведены некоторые буржуазно-демократические реформы. Немецкая буржуазия была еще слишком слаба, чтобы полностью взять власть в свои руки, но и в Германии уже нетрудно было заметить, как расцветает культ золотого тельца, как стремление разбогатеть становится единственной целью жизни. Наблюдая это, лучшие умы того времени вновь и вновь задумывались, почему высокие идеи, во имя которых свершалась революция, получили столь уродливое осуществление. Горькое разочарование в буржуазной действительности заставляло многих забыть о том, что 1789 год принес и великие перемены. Казалось, что человеческая мечта и реальная жизнь - два полюса и сближение между ними невозможно. Эти настроения легли в основу нового мировоззрения, которое породило мощное направление в литературе, музыке и живописи - романтизм. Романтики были убеждены, что человек создан для мира светлого и гармоничного, что человеческая душа с ее вечной жаждой прекрасного постоянно стремится к этому миру. Идеал романтиков составляли незримые, духовные, а не материальные ценности. Они утверждали, что этот идеал, бесконечно далекий от уныло-деловой повседневности буржуазного века, может осуществиться лишь в творческой фантазии художника - в искусстве. Ощущение противоречия между тягостной низменной суетой реальной жизни и далекой чудесной страной искусства, куда увлекает человека вдохновение, было хорошо знакомо и самому Гофману. Его деятельность в искусстве была многогранной, разнообразной. В Берлине ему наконец удалось получить место театрального капельмейстера (дирижера оркестра и хора), и начался новый, более отрадный, хотя не более легкий этап его жизни: служба в театре, уроки музыки и пения в богатых домах. Закулисные интриги, самоуверенная снисходительность филистеров - немецких обывателей, - глухих к настоящему искусству, безденежье, голод. "Вчера заложил старый сюртук, чтобы поесть", - записывает Гофман в дневнике. Опять замелькали города: Бамберг, Дрезден, Лейпциг, снова Берлин. Но среди всех трудностей не ослабевал его творческий энтузиазм. Свою работу в театре он не ограничивал обязанностями капельмейстера. Он сам подбирал репертуар, и благодаря его вкусу и таланту бамбергская сцена сделалась одной из лучших в Германии. Он делал эскизы, а часто и сам писал декорации к спектаклям, к которым сочинял музыку. Кистью и карандашом он владел в совершенстве, очень любил и блестяще рисовал карикатуры: на прусские власти, на духовенство в Бамберге... Некоторые из них причинили ему много неприятностей - так метко и хлестко били они в цель. В 1816 году в Берлине с триумфом прошла его опера "Ундина" - первая романтическая опера. А после четырнадцатого ее представления вспыхнувший в театре пожар уничтожил партитуру и декорации "Ундины". К этому времени Гофман опять служит чиновником берлинской судебной палаты, - он вынужден был принять эту должность, когда из-за военных событий 1813 года вместе со всей театральной труппой остался в Лейпциге безработным. Но в эти годы главным делом его жизни становится литературное творчество. Его первое литературное произведение появилось еще в 1809 году, когда он жил в Бамберге. Это была новелла "Кавалер Глюк" - поэтический рассказ о музыке и музыканте. Герой рассказа - современник автора. Виртуоз-импровизатор, он называет себя именем композитора Глюка, умершего в 1787 году; его комната убрана в стиле времени Глюка, изредка он облачается в одеяние, напоминающее костюм Глюка. Так он создает для себя особую атмосферу, помогающую ему забыть об огромном суетном городе, где много "ценителей музыки", но никто не чувствует ее по-настоящему и не понимает души музыканта. Для берлинских обывателей концерты и музыкальные вечера - лишь приятное времяпрепровождение, для гофманского "Глюка" - богатая и напряженная духовная жизнь. Он трагически одинок среди обитателей столицы, потому что за их невосприимчивостью к музыке чувствует глухое безразличие ко всем человеческим радостям и страданиям. Только музыкант-творец мог так зримо описать процесс рождения музыки, как сделал это Гофман. Во взволнованном рассказе героя о том, "как поют друг другу цветы", писатель оживил все те чувства, которые не раз охватывали его самого, когда очертания и краски окружающего мира начинали превращаться для него в звуки. То, что безвестный берлинский музыкант называет себя Глюком, - не простое чудачество. Он сознает себя преемником и хранителем сокровищ, созданных великим композитором, бережно лелеет их, как собственное детище. И потому сам он как будто становится живым воплощением бессмертия гениального Глюка. Герои Гофмана чаще всего люди искусства и по своей профессии - это музыканты или живописцы, певцы или актеры. Но словами "музыкант", "артист", "художник" Гофман определяет не профессию, а романтическую личность, человека, который способен угадывать за тусклым серым обликом будничных вещей необычный светлый мир. Его герой - непременно мечтатель и фантазер, ему душно и тягостно в обществе, где ценится только то, что можно купить и продать, и только сила любви и созидающей фантазии помогает ему возвыситься над окружением, чуждым его духу. С таким героем мы встречаемся и в повести "Золотой горшок", которую автор назвал "сказкой из новых времен". Читая эту сказку, трудно предположить, что она была написана под гром артиллерийских раскатов, человеком, сидевшим без денег в городе, где шла война. А между тем это именно так. "Золотой горшок" Гофман написал в 1813-1814 годах в Дрездене, в окрестностях которого кипели бои с Наполеоном, уже потерпевшим поражение в России. О том, как он писал эту сказку, Гофман рассказывал в одном из писем: "В эти мрачные, роковые дни, когда со дня на день влачишь свое существование и тем довольствуешься, меня тянуло писать как никогда - будто передо мной распахнулись двери чудесного царства; то, что изливалось из моей души, обретая форму, уносилось от меня в каскаде слов". Герой повести студент Ансельм - предмет всеобщих насмешек. Он раздражает обывателей, среди которых живет, своей способностью грезить наяву, неумением рассчитывать каждый шаг, легкостью, с какой он отдает последние гроши. Но автор любит своего героя именно за эту неприспособленность к жизни, за то, что он не в ладу с миром материальных ценностей. Не случайно одно из злоключений Ансельма, нечаянно опрокинувшего корзину уличной торговки, и оказывается началом чудесных происшествий, в результате которых его ожидает необыкновенная судьба. Юноша вовсе не равнодушен к простым жизненным благам, однако по-настоящему он стремится только к миру чудес, и этот мир с готовностью открывает ему свои тайны. И именно поэтому, когда Ансельм на минуту забывает о зеленой змейке Серпентине и поддается обыденным соблазнам - подумывает о том, чтобы стать надворным советником, жениться на хорошенькой дочке своего покровителя, - его ждет наказание. Сидя в своеобразной тюрьме - стеклянной банке, он понимает, что не имел права изменять себе, своей поэтической натуре. В эпизоде кратковременного "отступничества" Ансельма отразилось одно из важнейших наблюдений Гофмана над "новыми временами": буржуазная действительность цепкой рукой может притянуть к себе даже мечтателя, обратив его помыслы к банальным житейским целям. Еще ярче передает эту мысль писатель в истории Вероники. Вероника тоже мечтает, она влюблена в Ансельма и даже борется за него. Но мечта ее весьма прозаична и банальна. Ей хочется стать женой солидного чиновника, жить в комфорте и почете; предел счастья для нее - золотые сережки, подарок состоятельного мужа. Вот почему избранником Вероники в конце концов становится надворный советник Геербранд. В филистерской среде, где живут герои Гофмана, царствует расчет. Он накладывает отпечаток и на фантазию и на любовь - на тот идеальный мир человека, который романтики противопоставляли действительности. Гофман понимал, что эта действительность сильна, что идеал под ее воздействием постепенно блекнет и принимает ее окраску. Заманчиво-фантастическое в повести Гофмана внезапно переходит в разочаровывающе-реальное, а в безобидно-привычном таится колдовская сила; вспомним хотя бы, как хихикающий кофейник оказался старухой колдуньей! Наиболее чудовищным выглядит у Гофмана быт, размеренное существование филистеров, уверенных, что только они рассуждают и живут правильно. И все-таки вся повесть "Золотой горшок" словно пронизана мягким золотистым светом, смягчающим нелепые, непривлекательные фигуры обывателей. Действительность еще не вызывает у Гофмана горького чувства. Ведь подлинный "энтузиаст" Ансельм сумел устоять перед ее дешевыми приманками. Он сумел поверить в невероятное настолько, что оно стало для него реальностью, он преодолел притяжение унылой житейской прозы и вырвался из ее круга. "Ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив", - говорит Гофман своему герою. Писатель уверен, что чудо может произойти с каждым, надо только оказаться достойным его. Эта мысль звучит во всех гофманских произведениях. Об этом написана и сказка "Щелкунчик и мышиный король", напечатанная в 1816 году. С радостью погружается писатель в чудесную страну детства - страну замысловатых игрушек, затейливых пряников и конфет, удивительных и увлекательных историй. В "Щелкунчике" много ярких красок и движения; тщательно, как на широком полотне, выписаны разнообразные изделия искусных немецких мастеров, куклы, одетые в костюмы разных народов. Рассказ автора как будто сопровождается музыкой, в нем, кажется, ощущается ритм танца. Спустя много лет, уже после смерти Гофмана, по мотивам "Щелкунчика" был создан балет, музыку к которому написал Петр Ильич Чайковский. В этой детской сказке, как и в самых больших и значительных произведениях писателя, ярко выступает на общем фоне романтическая личность. Маленькая Мари отличается от всех остальных тем, что ее внутренняя жизнь выходит за узкие рамки окружающего быта. Как и Ансельм, она видит мир, незримый для других. Простые объяснения всем чудесам приводят ее в отчаяние, и девочка отвергает их - иначе для нее исчезнет вся красота жизни. Жить без веры в неожиданное, фантастически-прекрасное ей неинтересно и невозможно. И скромный, уступчивый Ансельм и ласковая послушная Мари обнаруживают непоколебимое упорство, когда у них пытаются отнять мечту, посягают на идеал, который их манит. Потому они и добиваются осуществления своей мечты. Кроме девочки Мари, в сказке "Щелкунчик" есть еще один герой. Он стоит как бы в стороне, но именно благодаря ему в жизнь приходит сказка. Это старый Дроссельмейер, смастеривший Щелкунчика. У него, как у Линдгорста в "Золотом горшке", два облика: он давний друг семьи Штальбаум, крестный Мари, старший советник суда и в то же время он тот самый королевский часовщик и чудодей, который нашел средство вернуть красоту принцессе Пирлипат. В лице Дроссельмейера воплощен любимый образ немецких романтиков - человек, достигший в своем искусстве такого совершенства, что сделанное его руками оживает и продолжает жить независимо от своего создателя. Прообраз его - замечательные ремесленники-умельцы, которыми славился на протяжении веков старинный немецкий город Нюрнберг. Люди творческого труда, влюбленные в свое дело, были жизненным подтверждением идеи писателей-романтиков: искусство - единственное настоящее призвание человека, только в искусстве может найти воплощение красота мира, гармония, идеал. Поэтому так привлекла внимание Гофмана гравюра, изображавшая средневековых мастеров за работой. Она называлась "Мастерская бочара" и была выполнена современником писателя Карлом Вильгельмом Кольбе. Ею и был навеян сюжет повести "Мастер Мартин-бочар и его подмастерья", в которой воспроизведена атмосфера Нюрнберга XVI века - века Дюрера и Кранаха, величайших художников немецкого Возрождения. В отличие от большинства произведений писателя, в этой повести нет фантастики, и счастливая развязка наступает без всякого вмешательства волшебных сил. Вместо добрых чародеев здесь торжествуют мастера-художники. Каждый из них до конца отдает свою душу искусству, которое ставит выше всех других искусств на свете. Но хотя на страницах повести "Мастер Мартин-бочар" не происходит ничего невероятного, она не меньше, чем другие, напоминает сказку. Художников здесь окружает особый мир, нисколько не похожий на реальную обстановку, в которой живут современники Гофмана, посвятившие себя искусству. Гофман прекрасно знал, что в средние века в феодальной Европе не могло быть идиллии, что это было время острых сословных противоречий; полон ими был и патриархальный быт немецких ремесленников. И писатель сумел почти неуловимыми линиями изобразить различие в общественном положении персонажей: вот высокомерный рыцарь Конрад, вот своенравный богатый горожанин, вот зависимый подмастерье. Желание знатного господина жениться на девушке низшего сословия - лишь каприз, который нельзя принимать всерьез, это понимает и сама девушка, но нисколько не чувствует себя оскорбленной. Такие штрихи - тревожные тени на светлом полотне. Очевидно, что всеобщее благоденствие в этой повести, так же, как и Атлантида в "Золотом горшке", придумано по контрасту с окружающей автора действительностью, к которой он питает непримиримую вражду. К тому времени, когда был написан рассказ о бочаре и его подмастерьях (он появился в 1818 году), в произведениях писателя все заметнее начинает звучать насмешка над окружающей жизнью - насмешка уничтожающая и вместе с тем печальная. Жизнь западноевропейских стран все более входила в буржуазную колею. Все меньше оставалось надежд на возможность новых перемен, которые принесли бы иное, более гуманное мироустройство. Именно в эти годы усиливаются трагические ноты в творчестве всех романтиков. На страницах гофманского дневника мы встречаем грустное восклицание: "Такого, как "Золотой горшок", мне уже не написать". Действительно, в поздних сказках Гофмана герои обретают свой идеал не в стране чудес, как Ансельм из "Золотого горшка". В фантастической повести "Маленький Цахес, по прозванию Циннобер" поэтичный юноша Валтазар находит свое счастье с шумно-жизнерадостной, домовитой девицей Кандидой, не имеющей ничего общего с романтической змейкой Серпентиной. И самое большое чудо, которым может наградить молодую чету добрый волшебник, - горшки, где не подгорают и не перекипают кушанья. Валтазар со своей возлюбленной остаются благополучно существовать в мире жалком и недобром. Здесь тупоумие воспринимается как мудрость, здесь пресмыкаются перед высокопоставленным ничтожеством, здесь боятся даже чрезмерной длины сюртуков, усматривая в этом крамолу и вольнодумство. И в "Маленьком Цахесе", и во всех фантастических историях, созданных Гофманом в последние пять лет его жизни, ясно ощущается, что рядом со счастливой сказочной развязкой притаилась невеселая правда. В эти годы появились самые крупные его произведения: повести "Принцесса Брамбилла", "Повелитель блох" и роман "Житейские воззрения кота Мурра", один из лучших в литературе прошлого столетия. Удивительное название этого романа возникло благодаря такому обстоятельству: у Гофмана был кот по имени Мурр, очень красивый и очень умный. Писатель часто шутил, что Мурр, пожалуй, читает его рукописи, когда в отсутствие хозяина просиживает часами на его столе. Отсюда и родился замысел - построить повествование от лица кота, будто бы занимающегося сочинительством и философией. Но неповторимый кот Мурр - не главное лицо последнего гофманского романа. Подлинный его герой - капельмейстер Иоганнес Крейслер, вдохновенный музыкант, непримиримый противник несправедливости и пошлости. Этот образ не раз появлялся в творчество Гофмана. В уста Крейслера писатель вкладывал свои мысли, в его переживаниях отображал свои собственные: судьба Крейслера была во многом зеркалом его судьбы. Однако в романе "Житейские воззрения кота Мурра" образ капельмейстера приобретает особую силу, особое значение. Герой Гофмана находится здесь в гуще загадочных и страшных обстоятельств, окружающих двор маленького княжества, где он состоит придворным музыкантом. Интриги, обман и насилие держат в своих цепях не одну человеческую жизнь, и Крейслер не может быть равнодушным свидетелем этого. Он вступает в открытый бой с таинственными роковыми силами, разоблачая стоящих за ними людей, родовитых и высокопоставленных. Гофман показывает, что это неравный бой, что одному человеку не сломить столь глубоко укоренившегося зла. Но тем не менее Крейслер остается у него борцом, потому что назначение истинного артиста - не только поклоняться прекрасному, но и сражаться за него. Глядя в лицо современному миру, видя полностью его искаженные черты, Гофман всегда верил, что искусство может и должно нести в себе то, чего не хватает этому миру, - добро и правду. Последние годы жизни Гофмана - годы напряженной и разносторонней деятельности. Обладавший огромным обаянием, вкусом и умом, Гофман умел отличать незаурядных людей и привлекать к себе сердца. Он был душою небольшого кружка, спаянного общими взглядами, интересом к искусству, к развивавшейся науке. Он продолжал писать музыкальные произведения, которые хотя и не принесли ему мировой славы, но уже тогда были известны и за пределами Германии. При всей своей интенсивной творческой работе Гофман продолжал оставаться на государственной службе. Теперь это имело и свою положительную сторону. Гофман не раз смело - и не без успеха - защищал обвиняемых в подрыве государственных устоев, благодаря чему нажил себе врага в лице прусского министра полиции. Когда появилась повесть "Повелитель блох", читатели сразу догадались, что прототипом сатирического образа чиновника, настолько же нетерпимого к каждой свежей и живой мысли, насколько глупого, послужил автору министр полиции. Дерзость писателя не осталась безнаказанной. Против него было возбуждено судебное дело: он обвинялся в оскорблении должностного лица, ему грозила тюрьма. Сначала Гофман с юмором относился к своим служебным неприятностям. Сохранилась его забавная карикатура: "Гофман в борьбе с бюрократией". Но министра полиции активно поддержал министр внутренних дел Пруссии. Ситуация становилась все более опасной. Тяжелые переживания окончательно подорвали и без того слабое здоровье писателя. Известие о прекращении судебного дела пришло уже после смерти Гофмана. Он умер сорока шести лет, в 1822 году. С тех нор в мир пришло немало замечательных мастеров, чем-то похожих и совсем непохожих на Гофмана. И сам мир изменился неузнаваемо. Но Гофман продолжает жить в мировом искусстве. Многое открылось впервые пристальному и доброму взгляду этого художника, и потому его имя часто звучит как символ человечности и одухотворенности. Для великих романтиков, среди которых Гофман занимает одно из самых почетных мест, остались загадкой больно ранившие их противоречия жизни. Но они первые заговорили об этих противоречиях, о том, что борьба с ними - борьба за идеал - самый счастливый удел человека. И едва ли не громче всех звучал среди них голос Гофмана. http://philology.ru/literature3/chavchanidze-81.htm