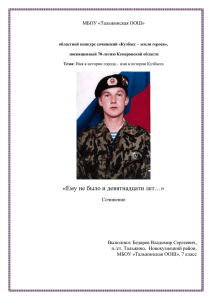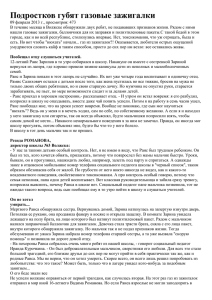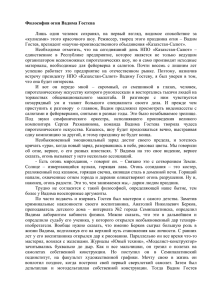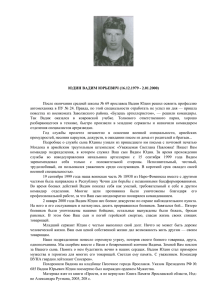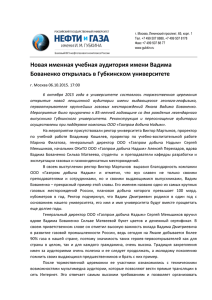«Индийский» пласт в романе Л. Леонова «Пирамида
advertisement
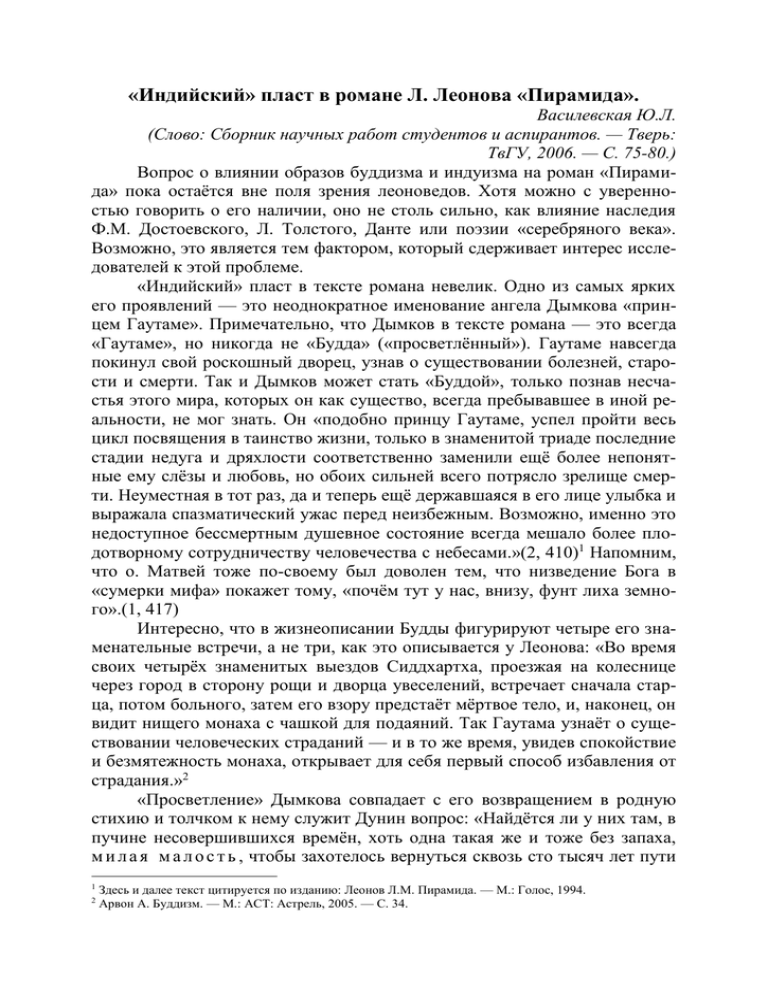
«Индийский» пласт в романе Л. Леонова «Пирамида». Василевская Ю.Л. (Слово: Сборник научных работ студентов и аспирантов. — Тверь: ТвГУ, 2006. — С. 75-80.) Вопрос о влиянии образов буддизма и индуизма на роман «Пирамида» пока остаётся вне поля зрения леоноведов. Хотя можно с уверенностью говорить о его наличии, оно не столь сильно, как влияние наследия Ф.М. Достоевского, Л. Толстого, Данте или поэзии «серебряного века». Возможно, это является тем фактором, который сдерживает интерес исследователей к этой проблеме. «Индийский» пласт в тексте романа невелик. Одно из самых ярких его проявлений — это неоднократное именование ангела Дымкова «принцем Гаутаме». Примечательно, что Дымков в тексте романа — это всегда «Гаутаме», но никогда не «Будда» («просветлённый»). Гаутаме навсегда покинул свой роскошный дворец, узнав о существовании болезней, старости и смерти. Так и Дымков может стать «Буддой», только познав несчастья этого мира, которых он как существо, всегда пребывавшее в иной реальности, не мог знать. Он «подобно принцу Гаутаме, успел пройти весь цикл посвящения в таинство жизни, только в знаменитой триаде последние стадии недуга и дряхлости соответственно заменили ещё более непонятные ему слёзы и любовь, но обоих сильней всего потрясло зрелище смерти. Неуместная в тот раз, да и теперь ещё державшаяся в его лице улыбка и выражала спазматический ужас перед неизбежным. Возможно, именно это недоступное бессмертным душевное состояние всегда мешало более плодотворному сотрудничеству человечества с небесами.»(2, 410)1 Напомним, что о. Матвей тоже по-своему был доволен тем, что низведение Бога в «сумерки мифа» покажет тому, «почём тут у нас, внизу, фунт лиха земного».(1, 417) Интересно, что в жизнеописании Будды фигурируют четыре его знаменательные встречи, а не три, как это описывается у Леонова: «Во время своих четырёх знаменитых выездов Сиддхартха, проезжая на колеснице через город в сторону рощи и дворца увеселений, встречает сначала старца, потом больного, затем его взору предстаёт мёртвое тело, и, наконец, он видит нищего монаха с чашкой для подаяний. Так Гаутама узнаёт о существовании человеческих страданий — и в то же время, увидев спокойствие и безмятежность монаха, открывает для себя первый способ избавления от страдания.»2 «Просветление» Дымкова совпадает с его возвращением в родную стихию и толчком к нему служит Дунин вопрос: «Найдётся ли у них там, в пучине несовершившихся времён, хоть одна такая же и тоже без запаха, м и л а я м а л о с т ь , чтобы захотелось вернуться сквозь сто тысяч лет пути 1 2 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Леонов Л.М. Пирамида. — М.: Голос, 1994. Арвон А. Буддизм. — М.: АСТ: Астрель, 2005. — С. 34. ради единственного к ней прикосновенья?»(2, 676). Этот эпизод можно интерпретировать как «сатори» Дымкова, мгновенное постижение сути бытия под воздействием некоего «толчка» извне, — приём, практиковавшийся в некоторых буддийских сектах. Гаутаме в «Пирамиде» именуется и Вадим Лоскутов: «С годами суровая пристальность к окружающему лишь усиливалась, почти всё печалило чистого и впечатлительного юношу подобно принцу Гаутаме, только знаменитую триаду последнего — недуг, старость и смерть, несколько расшатанную врачебными достижениями, сменила более современная — нужда, невежество, — насчёт третьей кандидатуры были колебания пока.»(2, 27) Только в отличие от Дымкова Вадиму не суждено стать «Буддой». Заметим, что в жизнеописании Будды отсутствуют сюжеты, связанные с его физическими истязаниями во имя проповедуемого учения. Собственно «испытание» и конечное «просветление» Гаутамы связаны не с гонениями и притеснениями, а с полным отказом от того, что принято считать «жизненными благами». Дымков в отличие от Вадима Лоскутова подвергается всем соблазнам жизни, но ни разу — физическим мучениям, в то время как Вадим узнаёт весь ужас сталинских лагерей. Именование его «Гаутаме» указывает лишь на «чистоту» и «впечатлительность» Вадима, на фоне которых резче выделяются пороки и кошмары окружающего его мира. Оказавшись частью «западни» на ангела, Вадим даже после смерти продолжает служить Шатаницкому (эпизод с возвращением «блудного сына»). Он остаётся несвободен ни физически, ни духовно. Очень показателен небольшой эпизод из Вадимова путешествия на сверхсекретную стройку, где он видит простого деревенского мужичка, сидящего «под гигантским карнизом брови» статуи Вождя. Вскоре Вадим замечает, что мужичок там не один, а с конвоиром. Но, к его удивлению, «ни сожаления о былом благополучии не читалось в его лице, ни присущего голодухе собачьего искательства, ни напрасной надежды, через которую обычно и врывается в душу отчаянье».(2, 193) И тогда Вадим предположил, что «не кроткое христианское принятие крестного страдания было тому причиной», а «нечто гораздо древней и тоньше, верней всего — бесстрастие азиатского ламы, привыкшего сквозь земное бытие с маньякальными в нём дурачествами детей и владык видеть иной, пофазно переливающийся мир, где только что побывавший синим озером горный хребет таинственно, стаей розовых птиц, сливается с пламенеющим небом для перехода в ещё более неведомые м н е , грозные и совсем не страшные сущности, потому что я сам в них и они тоже — я сам.»(2, 193) Здесь кратко напомним: буддизм полагает, что «бытие безначально и бесконечно, а наш мир — ничтожная пылинка в этом бытие. В своих размышлениях о смысле жизни Будда пришёл к выводу о том, что жизнь приносит человеку неудовлетворённость и страдания, что источником страдания является эгоцен- тризм, на удовлетворение которого бессмысленно растрачивается жизнь человека…<…> Цель учения Будды — пробудить сознание человека для преодоления эгоцентризма, расчленяющего бытие на полезное и бесполезное, материальное и духовное, живое и неживое с тем, чтобы человек осознал своё единство с бытием и его сознание слилось с мирозданием, стало его неотъемлемой частью.»1 Однако Вадим понимал «произвольность присвоения описанных ощущений русскому крестьянству, настолько ему [крестьянству] чуждых, что кабы предъявить ему, то и присяжные грамотеи не раскусили бы, в чём там суть. Потому что простому народу, так же как и дереву, не менее трудно осознать свои корни, чем человеку при жизни увидеть собственное сердце, а там становится поздно.»(2, 193). Таким образом, Вадим не отрицает наличие у русского крестьянства такого глубинного «слоя», который внешне находит выражение в «бесстрастии азиатского ламы», а лишь полагает, что этот «слой» настолько фундаментален для менталитета русского народа, что не осознаётся им. Гид «представляет» заинтересовавшего Вадима мужичка как «доморощенного б у д д и с т а из-под Воронежа»(2, 194) Журналист, также сопровождавший Вадима в обходе стройки, отвечает на эту характеристику словами самого Вадима (в этом эпизоде гид и журналист являются его «двойниками»): «И главное, ведь он [Вадим] абсолютно прав, прав насчёт национального характера русских.<…> Ведь мы, пока не разуверились, всегда искали с В о с т о к а с в е т , но по тогдашним дорогам тащится за верой в Индокитай никаких сапог не хватит, а Византия под боком, позавчера щит на ворота прибивали, вот она. Правда, христианская финикийщина мужицкому уму была не ближе буддийской нирваны, да ведь в стихийном устремлении души суть, а не в догмате. Русские во всю свою историю пренебрегали настоящим ради будущего и сквозь миражно проистекавшую жизнь провидели нечто совсем иное, чудесное, не так ли?..<…> И в случае чего всегда есть возможность укрыться в безграничных просторах внутри себя, и пускай убивают то, что осталось снаружи: вот смысл русского непротивленья. Словом, откуда пришли, из степей азиатских, туда и глядим, чтобы по вырубке ненавистных лесов снова, Бог даст, стать степняками. Мы потому и страшные в мире, что по нашим повадкам нам ничего не жаль, себя в том числе, никаких руин не боязно, как завтрашней, желанной фазы на пороге всемирно обетованного освобождения от напрасности земной…»(2, 194) В этом монологе сосредоточено, по сути, представление Вадима о русском национальном характере, в котором важен не «догмат», а «стихийное устремление души». И «стихийно» русский народ, по мысли Вадима, ближе к Азии, Индокитаю, а не к «христианской финикийщине». 1 Корнев В.И. Буддизм — религия Востока. — М.: Знание, 1990. — С. 4. Представляется интересной и сама ситуация, в которой происходит этот разговор. Для Вадима это взгляд в будущее во всех смыслах: вопервых, это своеобразное предсказание его дальнейшей судьбы (он тоже вскоре станет, как и тот «пленительный» для него мужичок, заключённым«лагерником»); во-вторых, это и видение возможного Вадимова будущего, которое тем не менее никогда не станет явью («Гаутаме»-Вадиму не суждено стать «Буддой»). «Индийский» пласт в «Пирамиде» находит также выражение в таких определениях, как «тысячерукость» и «тысячеликость». Так, например, Дюрсо, склоняя Дымкова к сотрудничеству, «походил на тысячерукое индийское божество»(1, 205). О. Матвей видит сон, предрекающий скорый приход «тысячеликого Антихриста»(1, 410) «Тысячерукость» и «тысячеликость» могут быть связаны сразу с несколькими персонажами индийских мифов. Так, «многоликость» Антихриста, возможно, отсылает к десятиголовому царю ракшасов (демонов) Раване, одному из главных действующих лиц эпоса «Рамаяна». Но, скорее всего, эти два определения являются указателями вообще на «индийский» колорит того или иного образа, поскольку они часто становятся традиционными элементами в изображении многих бодхисатв. Например, одно из изображений Авалокитешвары, одного из главных бодхисатв в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны, который олицетворяет сострадание, имеет одиннадцать ликов и тысячу рук (Экадашамукха Авалокитешвара). Итак, в целом «индийский» пласт в «Пирамиде» предстаёт не как противостоящая христианству религия (буддизм или индуизм) со своим набором догматов, а, скорее, как один из типов мировидения, ещё более древний и фундаментальный, чем христианский. «Индийское» и «христианское» здесь не противостоят друг другу, а накладываются друг на друга, что усиливает глобальность самой концепции леоновского романа.