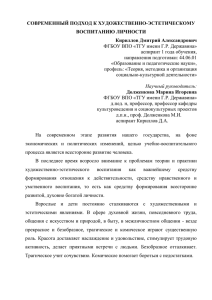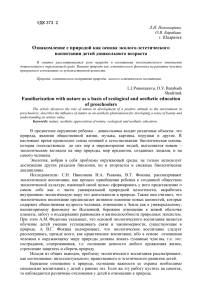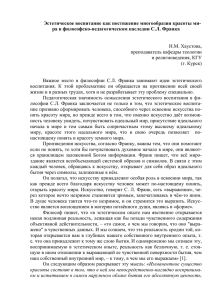Гартман Н - Кафедра эстетики и философии культуры СПбГУ
advertisement
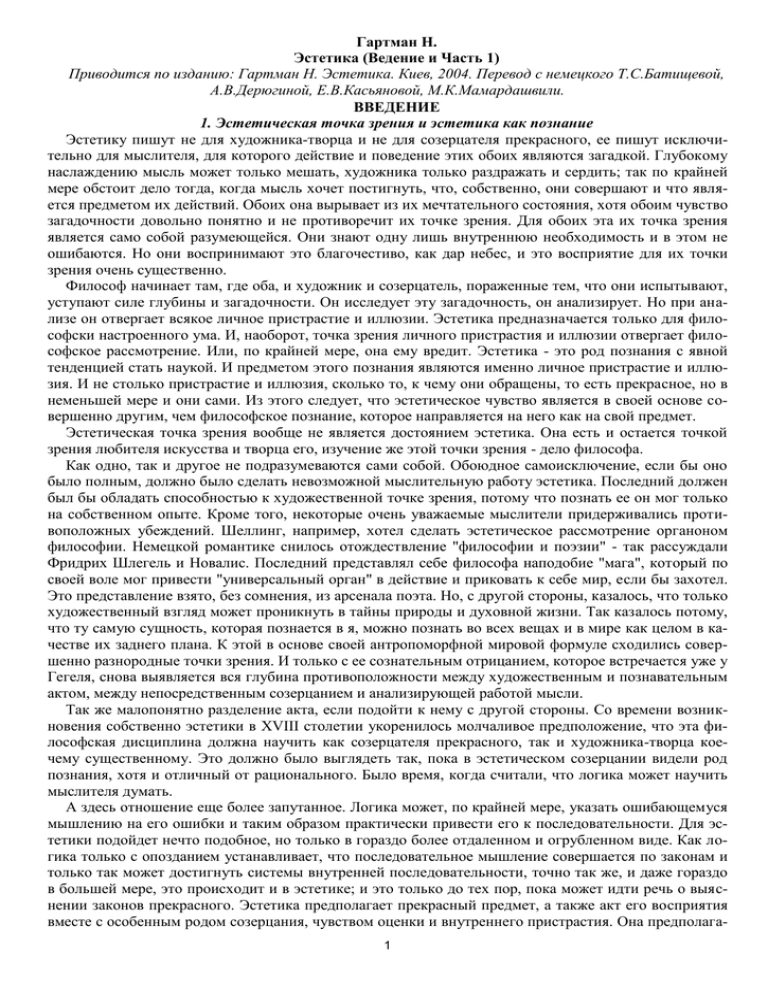
Гартман Н. Эстетика (Ведение и Часть 1) Приводится по изданию: Гартман Н. Эстетика. Киев, 2004. Перевод с немецкого Т.С.Батищевой, А.В.Дерюгиной, Е.В.Касьяновой, М.К.Мамардашвили. ВВЕДЕНИЕ 1. Эстетическая точка зрения и эстетика как познание Эстетику пишут не для художника-творца и не для созерцателя прекрасного, ее пишут исключительно для мыслителя, для которого действие и поведение этих обоих являются загадкой. Глубокому наслаждению мысль может только мешать, художника только раздражать и сердить; так по крайней мере обстоит дело тогда, когда мысль хочет постигнуть, что, собственно, они совершают и что является предметом их действий. Обоих она вырывает из их мечтательного состояния, хотя обоим чувство загадочности довольно понятно и не противоречит их точке зрения. Для обоих эта их точка зрения является само собой разумеющейся. Они знают одну лишь внутреннюю необходимость и в этом не ошибаются. Но они воспринимают это благочестиво, как дар небес, и это восприятие для их точки зрения очень существенно. Философ начинает там, где оба, и художник и созерцатель, пораженные тем, что они испытывают, уступают силе глубины и загадочности. Он исследует эту загадочность, он анализирует. Но при анализе он отвергает всякое личное пристрастие и иллюзии. Эстетика предназначается только для философски настроенного ума. И, наоборот, точка зрения личного пристрастия и иллюзии отвергает философское рассмотрение. Или, по крайней мере, она ему вредит. Эстетика - это род познания с явной тенденцией стать наукой. И предметом этого познания являются именно личное пристрастие и иллюзия. И не столько пристрастие и иллюзия, сколько то, к чему они обращены, то есть прекрасное, но в неменьшей мере и они сами. Из этого следует, что эстетическое чувство является в своей основе совершенно другим, чем философское познание, которое направляется на него как на свой предмет. Эстетическая точка зрения вообще не является достоянием эстетика. Она есть и остается точкой зрения любителя искусства и творца его, изучение же этой точки зрения - дело философа. Как одно, так и другое не подразумеваются сами собой. Обоюдное самоисключение, если бы оно было полным, должно было сделать невозможной мыслительную работу эстетика. Последний должен был бы обладать способностью к художественной точке зрения, потому что познать ее он мог только на собственном опыте. Кроме того, некоторые очень уважаемые мыслители придерживались противоположных убеждений. Шеллинг, например, хотел сделать эстетическое рассмотрение органоном философии. Немецкой романтике снилось отождествление "философии и поэзии" - так рассуждали Фридрих Шлегель и Новалис. Последний представлял себе философа наподобие "мага", который по своей воле мог привести "универсальный орган" в действие и приковать к себе мир, если бы захотел. Это представление взято, без сомнения, из арсенала поэта. Но, с другой стороны, казалось, что только художественный взгляд может проникнуть в тайны природы и духовной жизни. Так казалось потому, что ту самую сущность, которая познается в я, можно познать во всех вещах и в мире как целом в качестве их заднего плана. К этой в основе своей антропоморфной мировой формуле сходились совершенно разнородные точки зрения. И только с ее сознательным отрицанием, которое встречается уже у Гегеля, снова выявляется вся глубина противоположности между художественным и познавательным актом, между непосредственным созерцанием и анализирующей работой мысли. Так же малопонятно разделение акта, если подойти к нему с другой стороны. Со времени возникновения собственно эстетики в XVIII столетии укоренилось молчаливое предположение, что эта философская дисциплина должна научить как созерцателя прекрасного, так и художника-творца коечему существенному. Это должно было выглядеть так, пока в эстетическом созерцании видели род познания, хотя и отличный от рационального. Было время, когда считали, что логика может научить мыслителя думать. А здесь отношение еще более запутанное. Логика может, по крайней мере, указать ошибающемуся мышлению на его ошибки и таким образом практически привести его к последовательности. Для эстетики подойдет нечто подобное, но только в гораздо более отдаленном и огрубленном виде. Как логика только с опозданием устанавливает, что последовательное мышление совершается по законам и только так может достигнуть системы внутренней последовательности, точно так же, и даже гораздо в большей мере, это происходит и в эстетике; и это только до тех пор, пока может идти речь о выяснении законов прекрасного. Эстетика предполагает прекрасный предмет, а также акт его восприятия вместе с особенным родом созерцания, чувством оценки и внутреннего пристрастия. Она предполага1 ет также еще более удивительный акт художественного творчества, и оба эти акта она предполагает без требования препарировать их закономерности, хотя бы приблизительно, в той же самой мере, как логика препарирует законы правильного мышления. Уже поэтому эстетика не может сделать для эстетического созерцания ничего подобного тому, что делает логика для мышления. 2. Законы прекрасного и наше знание о них К вышесказанному присоединяется еще другое различие. Законы логики всеобщи, они лишь немного варьируют в зависимости от области предмета. Законы же прекрасного в высшей степени специализированы и в основном для каждого объекта другие. Это означает, что законы прекрасного индивидуальны. Кроме того, существуют также и общие законы - такие законы, которые касаются или всех эстетических предметов, или же по меньшей мере целых классов предметов. И эстетика может пытаться познать их в известных границах. Насколько ей это удается, это другой вопрос, нельзя в этом отношении питать слишком большие надежды. Но эти всеобщие законы являются только предпосылкой, может быть, категориальной или иначе даже конститутивной. Сущность прекрасного в его неповторимости как особенной эстетической ценности лежит не в них, а в особой закономерности единичного предмета. Эта особая закономерность принципиально не поддается какому бы то ни было философскому анализу. Ее нельзя раскрыть средствами познания. В самом ее существе заложено то, что она остается скрытой и ощущается как находящаяся там принудительно, но не могущая быть понята предметно. Ее не схватывает и художник-творец. Он творит в соответствии с ней, но не открывает ее и поэтому о ней не высказывается. Он не может о ней ничего сказать, потому что не имеет предметного знания о ней. Еще меньше об этом осведомлен созерцающий наблюдатель. Он знает о ней, но только как о какой-то тайне, которую он не может открыть. Он со своей стороны, не схватывает ее. Созерцающий наблюдатель может в известных случаях найти, как далеко она действительно завладевает вещью или как сильно она нарушена нехудожественными стремлениями, то есть насколько она не удалась. Но и тогда структура закона ускользает от его знания. Настоящего знания законов прекрасного не существует. Кажется, в их сущности заложено то, чтобы они оставались скрытыми от сознания и составляли бы только тайну совершенно скрытого заднего плана. В этом причина того, почему эстетика принципиально может сказать, что такое прекрасное, и также может указать на его роды и ступени вместе с их общими предпосылками, но эстетика не может научить практически определять, что именно прекрасно и почему именно данный вид какого-либо изображения прекрасен. Эстетическая рефлексия при всех обстоятельствах запаздывает. Она может начаться после того, как эстетическое созерцание и непосредственно получаемое наслаждение прекрасным совершились. Но она не должна ни в коем случае следовать за ним, а если и следует, то едва ли что-нибудь добавляет к нему как таковому. Эстетическая рефлексия может в этом помочь еще меньше, чем искусствоведение, которое, по крайней мере, может указать на незамеченные стороны произведения искусства и благодаря этому сделать его доступным неадекватно воспринимающему сознанию. И еще меньше она может дать правильное направление художнику-творцу. В известных границах она может дать возможность изучить художественно невозможное как таковое и уберечь искусство от ложного пути. Но дать что-либо позитивное, указать, что и как искусство должно изображать, - это также находится за пределами ее возможностей. Все теории, которые придерживались этого направления, и все невысказанные надежды этого рода, которые так легко соединяются с философскими потугами эстетики, давно оказались тщетными. Надо с самого начала и раз навсегда отказаться от претензий такого рода, если хотят всерьез исследовать проблему прекрасного в жизни и в искусстве. Заканчивая, можно добавить к этому еще следующее. Существует предрассудок еще более радикального рода, касающийся вообще связи искусства и философии. Согласно ему, художественное восприятие есть только предварительная ступень знания и полного понимания. Гегелевская философия со своим последовательным развитием "абсолютного духа" по ступеням высказала этот взгляд так: только на ступени понятия идея достигает своего полного "бытия для себя", то есть своего собственного знания о себе самой. И хотя сегодня вряд ли кто-нибудь защищает эту духовную метафизику, все же широко распространено представление, будто искусство есть такая форма понимания, в которой чувственная видимость существует как момент неадекватности. То, что при этом собственно "эстетическое", то есть чувственное в художественном восприятии, по существу не признается, в то время как именно чувственная наглядность и есть то, что доказывает в 2 искусствах их превосходство над понятием, не нуждается больше ни в каких объяснениях. Но роковая ошибка заключается во мнении, что якобы эстетическое восприятие (созерцание) вообще является родом познания, находится на одной линии с познанием. При этом основательно ошибаются в трактовке ее сущности. Старая эстетика довольно долго носилась с этой ошибкой. У Александра Баумгартена существует еще род cognito, и даже Шопенгауэр в своей платонизированной эстетике идей еще не освободился от схемы познания, несмотря на то, что он эту рациональность, конечно, сознательно отклоняет. Но эстетическое созерцание содержит известные моменты познания. Уже чувственное различение, на котором оно зиждется, приносит их с собой, потому что различение в первую очередь есть ступень схватывания предметов. Но эти моменты не составляют своеобразия созерцания, они являются подчиненными моментами в нем. То, что составляет особенность созерцания, этим совсем еще не затронуто. Выяснить это может только обстоятельный анализ, потому что здесь играют роль моменты актов совсем другого рода, чем моменты понимания, а именно моменты оценки (так называемого суждения вкуса), увлекательного и устойчивого бытия, пристрастия, наслаждения и восторга. Само созерцание также получает здесь другой характер, чем в теоретической области. Оно весьма далеко от того, чтобы быть только чувственным созерцанием. И высшие ступени созерцания уже не являются больше просто воспринимающим пониманием, но указывают на сторону творческого созидания, которое не имеет и не может иметь связи с познанием. Искусство не является продолжением познания. Не является таковым и созерцание наблюдателя. С другой стороны, эстетика не является продолжением искусства. Она не является какой-то высшей ступенью, на которую искусство должно или только могло бы перейти. Она также не является высшей ступенью искусства, как психология не является целью поэзии, а анатомия – целью пластики. Ее задачей в известном смысле является как раз противоположное. Эстетика пытается открыть тайну, которая существует в искусствах в самых разнообразных формах. Она пытается проанализировать акт дающего наслаждение созерцания, который может продолжаться только до тех пор, пока он остается неразгаданным и не затронутым мыслью. Своим предметом она делает сам акт созерцания, то есть то, что в этом акте не является и не может быть предметом. Поэтому для эстетики предмет искусства - это нечто отличное от предмета мысли и исследования. Предмет мысли и исследования не может быть предметом эстетического созерцания. Здесь лежит причина того, почему позиция эстетика не есть эстетическая позиция, так что первая может следовать за второй, но не может совпасть с ней, а тем более не может предопределяться ею. 3. Прекрасное как универсальный предмет эстетики Прежде всего надо выяснить, является ли "прекрасное" действительно всеобъемлющим предметом эстетики. Или такой вопрос: является ли красота универсальной ценностью всех эстетических предметов, подобно тому как добро считается универсальной ценностью всех нравственных добродетелей? Оба мнения большей частью молчаливо признавались, но в то же время и оспаривались. Поэтому если хочешь придерживаться такого взгляда, то нужно его доказать. На чем основывается возражение против центрального положения прекрасного? На соображениях троякого рода; и, по существу, речь идет о трех различных мнениях. Первое гласит: художественно удачное далеко не всегда является прекрасным; второе - существуют целые роды эстетически ценного, которые не относятся к прекрасному; третье - эстетика имеет дело также и с безобразным. Из этих возражений легче всего опровергнуть третье. Конечно, в эстетике мы имеем дело также и с безобразным. В некоторой степени оно входит во все роды прекрасного. Ведь везде бывают границы прекрасного, и здесь, так же как и в других областях ценности, существен контраст. Вследствие этого существуют градации прекрасного, целая шкала от совершенной красоты до явно некрасивого. Само по себе это не является проблемой, но в области прекрасного такая проблема уже содержится. В сущности всех ценностей заложено именно то, что они имеют противочлен, представляющий антипод ценности. Предметом дискуссии никогда не является ценность сама по себе, а ценность и соответствующая ей неценность. Опыт анализа ценности учит, что определением ценности дается также и оценка неценного, и наоборот. На этом покоился еще метод Аристотеля - определять род добродетели через род "дурного". И то, что имеет значение в этической области, широко распространено и в области эстетической. Основным феноменом как здесь, так и там является целая шкала или градация ценности, полюсами которой являются ценность и неценность. Конечно, остается проблематичным, дается ли во всех специфических измерениях прекрасного 3 также и безобразное. Относительно произведений человека это никогда не оспаривалось, спорили только о предметах природы. Может быть; все, что представляет природа, имеет свою сторону красоты, даже если она не так легко осознается. Эту возможность надо признать в противоположность устаревшим теориям, которые оставляют широкий простор естественному уродству (например, Гердер в своем "Калигоне"). Но в проблеме безобразного такая возможность мало что изменила бы. Она гораздо больше доказывала бы то, что природные картины не содержат ничего безобразного. Проблема заключалась бы тогда в своеобразии природы, например в ее закономерности или типичности форм, а не в сущности прекрасного. Иначе обстоит дело с первым возражением: художественно удачное не всегда бывает прекрасно. Мы чрезвычайно легко и просто отличаем в портрете очень некрасивого человека художественное качество произведения от наружности изображенной личности, и это даже в том случае, если представленное изображение бессердечно реалистично. То же самое различие воспринимается нами и в поэтическом изображении слабого или отталкивающего характера или в бюсте античного бойца с безобразно разбитым носом. И тогда мы говорим: художественное выполнение замечательно, но сам предмет отнюдь не прекрасен. Для эстетически зрелого человека различение не представляет труда. Но спросим себя: можно ли все в целом назвать "прекрасным"? Предмет изображения не делается прекрасным благодаря изображению, даже если оно действительно гениально. И все же что-то от красоты остается в этом произведении. Оно лежит в другой области и не скрывает некрасивости изображенного. Оно находится в самом изображении. Это собственно художественная красота, поэтическая красота, красота живописи или рисунка. Здесь, очевидно, взаимно переплетаются два совершенно различных рода прекрасного и безобразного. Они относятся к двум различным родам предмета. Само художественное или поэтическое изображение имеет предметом то, что оно изображает. Но для созерцателя предметом является уже само изображение. Это относится не ко всем искусствам, не относится, например, к орнаментике, архитектуре и музыке, но имеет значение для пластики, живописи и поэзии. Предметом здесь везде является в первую очередь произведение художника, изображение как таковое, так же как и различия, вытекающие из особенностей придания формы. Только во второй линии выступает изображенный предмет, конечно, не в смысле временной последовательности, а в смысле "опосредованного бытия". И удачное произведение мы с полным правом оцениваем как прекрасное, а неудачное, пошлое или невыразительное (последнее, например, часто случается в поэзии) - как безобразное. Ведь ценность или неценность художественного достижения лежит именно здесь, а не в качествах изображенного. Прекрасное в том и другом смысле, очевидно, свободно варьирует в широких границах. Но, тем не менее, плохо нарисованная картина действует, в конце концов, все же как некрасивое, а хорошо написанное некрасивое действует как художественно прекрасное. Но даже в хорошо написанном прекрасном есть и остается ясно различаемая двоякая красота, а в плохо написанном некрасивом – двоякая некрасивость. Тот, кто путает одно с другим - и не только в рефлексии, но и в самом созерцании, тому не хватает художественного чувства. Возможности, даваемые изображением, не имеют ничего общего с приукрашиванием под прекрасное; напротив, там, где это примешивается, оно скорее является минусом в красоте и может довести до художественно некрасивого, до неудачи, до банальности и халтуры. В этом смысле вполне уместно придерживаться мнения о прекрасном как универсальной эстетической основной ценности и все художественно удачное и действенное подводить под него. В чем заключается удачное, составляет совершенно другой вопрос; он покрывается основным вопросом всей эстетики: что же, собственно, является красотой? Из трех вышеназванных возражений остается разобрать еще второе. Оно гласит: прекрасное есть только один из родов эстетической ценности. Рядом с ним стоит возвышенное как таковое, общепризнанное в своем своеобразии. А дальше присоединяются другие качества ценности, даже если они в своей самостоятельности не являются бесспорными: привлекательное, приятное, трогательное, прелестное, комическое и трагическое и многое другое. Если входить в специфические области искусства, то находишь еще более специализированные богатства в эстетических качествах ценности. И в каждом случае легко находится соответствующая неценность, если даже язык не всегда умеет подобрать ей название. Но полагали, что поскольку их ряд очень длинный и поскольку они все могут заявить претензию на внимание эстетики, то нужно дать также и всеобщую категорию оценки, которая бы всех их охва4 тывала и имела достаточно места для их разнообразия. Можно, конечно, спорить о том, целесообразно ли эту категорию оценки обозначать как красоту. Потому что "красота" есть, в конце концов, слово обиходного языка и как таковое многозначно. Но помимо внеэстетического словоупотребления здесь, очевидно, всегда имеется еще одно узкое словоупотребление с широким значением, придаваемым в споре. Первое находится в противоположности к возвышенному, привлекательному, комическому и т. д.; последнее охватывает их всех без исключения; конечно, так происходит только в том случае, когда эти названия понимаются в их чисто эстетическом смысле, потому что все они имеют также и внеэстетическое значение. Такое условие должно считаться установленным, потому что оно является также предпосылкой противоположности красоте в узком смысле. При таком взгляде спор о значении превращается в спор о словах. Никому нельзя запретить узко толковать понятие прекрасного и противопоставлять его специальным понятиям, но никому нельзя запретить понимать его и широко, как высшее понятие всех эстетических ценностей. Нужно только строго придерживаться раз принятого значения и не путать незаметно одно с другим. В последующем за основу должно быть взято широкое значение. Оно должно удерживаться и там, где специальные роды проталкиваются на передний план. Эти последние оказываются тогда родами прекрасного. Практически это имеет то преимущество, что самое употребительное эстетическое понятие делается основным понятием и забота об искусственно образованном высшем понятии делается излишней. 4. Эстетическое действие и предмет. Четыре способа анализа Существует множество путей для исследования, но не все они одинаково доступны, тем более в данном явно проблематическом положении. Все методы руководствуются тем, какие стороны исследуемого общего феномена в это время стали доступными. В эстетике это имеет особое значение, потому что в ней до сих пор применялся малопригодный анализ феномена и весь комплекс вопросов сообразно со своей трудностью еще мало апоретически расчленен. Этим не должны быть снижены достижения заслуженных исследователей. Однако положение дела гораздо больше свидетельствует о том, что эстетика все еще находится в начале пути и движется осторожными, нащупывающими шагами. Так, по крайней мере, обстоит дело с серьезными эстетическими исследованиями. Ведь в смелых проектах и конструкциях недостатка нет, но они поучительны только благодаря своим недостаткам. Так как прекрасное по своему существу постоянно соотносится с наблюдающим субъектом, у которого предполагается особая действенная позиция, то с самого начала намечаются два направления возможного исследования: объектом анализа можно сделать эстетический предмет, но им может быть и тот акт, предметом которого последний является. Оба направления подразделяются в свою очередь. В предмете можно исследовать или его структуру и образ бытия, или же характер его эстетической ценности. Точно так же и анализ акта можно направить или на воспринимающий акт созерцателя, или же на производительный акт созидателя. Насколько можно отделить друг от друга эти направления исследования, само по себе является вопросом и может пока не приниматься во внимание. И все же существуют четыре вида анализа. Из них первые три имеют какие-то пути, доступные для исследования, в то время как в четвертом с самого начала возникают непреодолимые препятствия. Нет ничего темнее и таинственнее, чем действие творящего художника. Даже собственные высказывания гения о своих действиях мало, что вносят в понимание существа дела. В большинстве случаев эти высказывания доказывают только то, что о чуде, которое в нем и через него совершается, и он знает не больше, чем другие. Производительным актом, по-видимому, является такой, который исключает сопровождающее его сознание. Поэтому мы знаем только его внешние стороны и можем делать заключение о его внутренней сущности лишь по его достижениям. Но заключения такого рода небезопасны и легко переходят в фантазию. Они предоставлены произволу, как и все заключения о метафизических предметах. Их нельзя контролировать и также мало можно защищать или опровергать. Некогда, во времена романтики, были предприняты попытки такого рода; эти попытки совершались поэтами и соответствовали энтузиазму романтической радости творца, но они клали в основу спекулятивную картину мира, о доказательстве которой не могло быть и речи. В настоящее время попытки такого рода могут соблазнить только легковерных, а обладающих более зрелым мышлением - лишь скептически настроить. Если критически рассмотреть всю метафизику искусства, то все же остаются три других пути. Из них анализ ценности находится в самом затруднительном положении, потому что эстетические ценности, взятые конкретно, в высшей степени индивидуализированы, и все разделение их по родам и видам касается только известных внешних сторон. Искусствоведение и литературоведение достигли 5 кое-чего в этом направлении, провели анализ стиля, в котором вырисовываются направления и оттенки, осознаются связи и постигаются важные противоположности. Но если посмотреть поближе, то такие определения касаются больше структуры произведений искусства, а также прекрасного вне искусства и гораздо меньше – собственных компонентов ценности как таковых. Подобно тому как язык не имеет для этих компонентов ценности названий - это будут совсем поверхностные названия для некоторых родов, - так и мышление не имеет для них никакого понятия. А когда выдумывают для них понятия и дают им имена, согласно свободному выбору, тогда они обыкновенно по-настоящему не удовлетворяют художественного чувства. Даже такие вышеназванные ходячие понятия, как возвышенное, комическое, трагическое, привлекательное и так далее, страдают этим недостатком: они многозначительны и необходимы как структурные понятия, но как понятия ценностей они умалчивают о главном. Это соответствует положению вещей в других областях ценностей, например в этической. И здесь анализ может прямо описать только содержательное, но характер оценки он не в состоянии уловить. Тут он может апеллировать только к живому чувству ценности, привлечь его как бы в качестве свидетеля. В эстетике сюда присоединяется еще тот факт, что этот вызов свидетеля исходит в большей степени от самого прекрасного - от созданного произведения художника или от естественного предмета - и лишь в незначительной степени от описательного анализа структуры. Несмотря на это, нужно в известных границах придерживаться указанного пути, по крайней мере, он должен оставаться открытым, потому что для специального исследования ценности не имеется ничего другого. Только теперь все его существование делается не самостоятельным, а тесно связанным несвойственным ему анализом предмета и акта. Этим самым подчеркивается и то, что вся тяжесть того, что может совершить эстетика, падает на два еще оставшихся пути исследования: во-первых, на анализ структуры и способа существования эстетического предмета и, во-вторых, на акт наблюдения, созерцания и наслаждения. С этими двумя родами "исследования мы будем иметь дело почти всюду - даже там, где встает проблема ценности. Было бы неправильно предпочитать только один из них, так как они постоянно перекрещиваются в проблеме прекрасного. Оба они недостаточны и во всех деталях нуждаются во взаимной поддержке. Это может внести некоторую неравномерность в ход исследования; при теперешнем состоянии проблемы этой неравномерности нельзя избежать. И это представляет все-таки меньшее зло, чем тяжелая односторонность, в которую неизбежно впадают при радикальном предрешении вопроса. В известном смысле главная задача выпадает все-таки на долю структурного анализа предмета, так как он в настоящее время менее разработан и в некоторых частных областях не идет в ногу с предшествующим анализом акта. Эстетика XIX столетия была преимущественно субъективной; в ней широко развились неокантианский идеализм и психологизм. Такое положение в эстетике имело своим последствием не только ошибки и односторонности, но принесло с собой также и некоторые успехи в анализе акта. Поэтому речь идет о том, чтобы наверстать то, что было упущено в анализе предмета. Но было бы совершенно ошибочно заботиться только об этом. Лишь при сочетании обоих путей можно надеяться преодолеть мертвую точку, к которой привели нас односторонности прошлого. 5. Обособление и связь с жизнью Уход от предмета является при этом само собой разумеющимся. Уже выражение "прекрасное искусство", которым мы, не задумываясь, пользуемся, в основе своей вводит в заблуждение. Прекрасным ни в коем случае не может быть искусство, а только произведения искусства. Столь же мало оснований мы имеем для того, чтобы называть прекрасными созерцание или наслаждение независимо от того, являются ли эти последние продуктами искусства или естественными картинами природы. Прекрасным при наблюдении является только предмет, исключая всякое участие и вмешательство наблюдающего сознания. Однако при рассмотрении с точки зрения акта предмет образует естественную точку присоединения. Ведь наблюдающий и наслаждающийся всецело обращен к предмету созерцания и может отдаваться ему до полнейшего самозабвения. Это состояние акта является чем-то совершенно другим, чем познающее состояние эстетика, но в то же время оно имеет с ним одно общее, а именно то, что оно в одинаковой степени обращено к предмету. Эстетический анализ, конечно, не ограничивается только одним предметом, но распространяется и на акт. Но впоследствии он обращается к предмету просто потому, что находит обращенным к нему акт созерцания. В этом обращении заключается проблема, которой занимается эстетика с самого своего зарожде6 ния. Мы знаем это как проблему выделения предмета из совокупности других предметов. И в самой тесной связи с выделением предмета находится выделение наблюдающего акта из жизни и совокупности актов определенного лица. Углубление в прекрасный предмет - это непосредственное забвение своего я, забвение всего того, что ему в жизни в высшей степени необходимо, актуально, важно или, наоборот, действует на него угнетающе. Предмет предстает в извлечении из жизненной связи, и человек, который отдается своему впечатлению, испытывает на своей собственной персоне то же самое извлечение из повседневности, забот, беготни по мелочам и ничтожества. Окружающий мир для него исчезает, и кажется, что он вместе со своим предметом образует свой собственный, далекий от действительности мир. Этот феномен, очевидно, действительно существен для настоящего наслаждения искусством, и в некоторых случаях, например при слушании хорошей музыки, он может стать подавляюще сильным, так что впоследствии наступает прямо-таки болезненное пробуждение от восторга. Эстетическая приподнятость является формой настоящего экстаза. Эстетическая приподнятость, особенно сильно проявляющаяся прежде всего у людей с глубокими натурами, привела к мнению, что сущность и задача искусства состоят в создании царства восхищения и возвышения над жизнью, царства, которое имеет свой чистый смысл и цель в себе самом и исключает всякий другой интерес. Тогда кажется возможным, что жизнь служит искусству, а не искусство жизни, потому что жизнь подчинила бы искусство внехудожественной цели. В настоящее время такое заострение собственной ценности в художественном произведении и в художественной жизни кажется нам весьма относительным. Но это не всегда так было. Поэтому в данном месте необходимо остановиться на этом заострении. Оно сыграло большую роль в движении сторонников теории "искусство для искусства". Здесь OHG превозносилось не только в теории, но оказало также значительное влияние и на художественное чувство и само творчество. Здравомыслящему человеку кажется ясным и неоспоримым, что искусство, которое отвергает жизнь с ее требованиями и противостоит ей, теряет почву под ногами и витает в воздухе. Но вопрос о том, как именно оно должно быть связано с жизнью и выполнять какую-то задачу в духовной ситуации своей эпохи, не теряя при этом характерной эстетической самостоятельности, еще далеко не ясен. Эта апория здесь еще не может быть разрешена; она должна быть рассмотрена в другой связи, потому что только в поздней стадии анализа предмета представляется возможность разрешить эти дополнительные пункты проблемы. Здесь нужно только указать на них как на таковые. Ведь нам нужно будет говорить не об эстетстве и не о дешевом тенденциозном искусстве. Гораздо большее значение имеет правильное соединение этих двусторонних требований, то есть соединение их в правильном синтезе. В дальнейшем будет показано, что здесь существует гораздо более глубокая связь, что как раз только искусство, выросшее из интенсивной культурной жизни, способно создавать произведения, которые возвышаются над своей эпохой и подобно этому только та духовная жизнь, которая порождает такие произведения, в состоянии разобраться в своих актуальных тенденциях. Именно из тесной связи с жизнью черпают силу духовные творения, чтобы подняться к неповторимой целостности и истинному величию, и только по сравнению с ней выделяется их собственная возвышенная приподнятость; и наоборот, только такие творения будут в состоянии придать жизни как индивидуума, так и общества достаточное сознание их еще скрытой силы и глубины. 6. Форма и содержание. Материя и материал Ничто в эстетике не употребляется так часто, как понятие "форма". Все прекрасное, что нам встречается, будь это. в природе или в творении художника, с самого начала представляется нам как оформление определенного рода, и мы как созерцатели непосредственно чувствуем, что малейшее изменение формы может разрушить прекрасное как таковое. Единство и целостность картины, ее неповторимость и завершенность зависят полностью от формы; и мы знаем, не будучи, однако, в состоянии доказать этого, что речь идет при этом не только об одной наружности, очертании или ограничении и даже не о видимости или же чувственно данном, а о внутреннем единстве и оформлении, о расчленении и соединении, об устойчивой закономерности и необходимости. Обычно мы говорим о "прекрасной форме" как о чем-то хорошо известном и даже не вызывающем сомнения, но подразумеваем под этим самые разнообразные вещи. Мы судим одинаково хорошо о благородных пропорциях классики, о распределении массы в постройке, о ритме и следовании интервалов в какой-нибудь мелодии, а также о композиции музыкальной пьесы или искусной постановке спектакля. Не менее хорошо мы судим об игре линий той местности, на которой мы находимся, о внушительном виде дерева-великана или тонких прожилках листа. И мы всегда подразумеваем при 7 этом фигуру, порожденную изнутри, и форму, существенную для всего и выразившемуся через саму себя. Именно поэтому в противоположить случайной внешней форме вещи это назвали "внутренней формой"; и это было так же неопределенно и темно, как нечто подобное старому аристотелевскому "эйдосу", который как движущая внутренняя сила в то же время должен был выражать и принцип внешней фигуры. Но что представляет собой "внутренняя форма"? Обращение к исторически устаревшей метафизике дает здесь почву для размышления. Вряд ли наш современник желает ради эстетической проблемы формы признать идеальное царство предсуществующего бытия и сделать зависимой от него загадку непосредственно проявляющегося в наблюдателе чувства формы. Этим он поставил бы себя в опасную близость к теоретическому исследованию и соответствующему ему оптическому построению вещей, потому что принципом такового построения вещей предполагался эйдос. И даже без такой метафизики нарушение границ обычного простого отношения бытия является опасностью для эстетического понятия формы. Конечно, эстетическое понятие формы предполагает отношение сущности в построении вещи. Но это в еще большей степени распространяется и на вещь как предмет познания: на организм, на космос и физические структуры, из которых он состоит, на человека как характер и как тип, на государство как способ оформления существующего человеческого общества. Внутренняя форма говорит слишком мало, ее понятие слишком всеобще, слишком бесцветно. Специфически эстетическая проблема формы этим, очевидно, еще совсем не затронута. Да и как могло быть иначе? Ведь "прекрасная форма" по существу мало чем отличается от другого выражения для красоты, то есть она является почти тавтологичным определением. Это могло бы быть иначе, если бы удалось установить, в чем же должна заключаться особенность "прекрасного" в прекрасной форме. В этом плане высказывались различные точки зрения. Эту особенность искали в единстве, в гармонии частей или членов, в преодолении разнообразия; ее искали также (и это было более субъективно) в вежливости, в непосредственном озарении, в воодушевлении или одухотворении предающегося чувственному созерцанию. Но это все только очень общие и ничего не говорящие определения, если за ними не будет стоять действительно основополагающее определение. Одни из них не подходят ко всем случаям, другие не раскрывают собственно эстетического в форме, потому что они гораздо больше свойственны всем формам бытия, особенно более высоким. К этому присоединяется и ряд других затруднений. Исключается ли из понятия прекрасного содержание поэтического произведения, например портрет головы, или настроение, возникающее на лоне природы? Или, может быть, правильно мнение о том, что все так называемое "содержание" в этом смысле принадлежит также и форме? Это было бы вполне возможно. Но почему тогда говорят только о форме; как будто понятие формы должно обозначать противоположность чему-то содержательному, которое только при помощи формы изображается. Возможно, что причина этой несогласованности лежит в неопределенности понятия "содержание". Мы, следовательно, пытаемся заменить его чем-то более определенным. Опору для этого дает категориальный анализ: дополнительно к форме стоит категория "материи". Под ней онтологически ни в коем случае нельзя понимать просто занимающее пространство вещество; материя в широком смысле слова - это все то, что неопределенно и недифференцировано в себе, поскольку оно способно к формированию вплоть до простых измерений пространства и времени. Последние ведь тоже играют в эстетическом предмете явно материальную роль, ибо существуют же пространственные и временные искусства. Но в эстетическом понимании существует еще материя в узком смысле слова. Под этим подразумевают область чувственных элементов, из которых складывается образ. В этом смысле камень или металл являются материей пластики, цвет - материей живописи, тон - материей музыки. Здесь материя означает не нечто последнее и неразрывное, не говоря уже о чем-то субстанциональном, а представляет только вид чувственных элементов, которые в художественном образе получают формообразование собственного рода. Это отношение, без сомнения, является основополагающим для всех дальнейших анализов предмета прекрасного. Оно присуще уже первым шагам анализа. Легко увидеть, что способ оформления в искусствах сильно зависит от рода материи, в которой происходит это оформление. Здесь оказывается пригодным всеобще-категориальный "закон материи", который гласит, что во всех областях предметов материя и форма вообще взаимно определяют друг друга, поскольку не каждый род формы возможен в каждой материи, но определенный род формы воплощается всегда в определенной материи. 8 Это, конечно, ни в коем случае не отрицает автономию формы, но лишь ограничивает ее. Здесь коренятся те хорошо известные из проходившего в XVIII столетии спора о Лаокооне ограничительные феномены, которые могут быть представлены в отдельных искусствах. Пластика не может оформлять в мраморе все то, что без труда передает поэзия в материи слова. Это не что иное, как явление ограничения областей искусства, и их закономерности, однажды открытые, ни в коем случае не могут оспариваться. В категориальной противоположности материи как принципу, указывающему на определенную сферу, эстетическое понятие формы получает первое ясное определение. И это без труда можно утверждать относительно всех областей искусства, потому что каждая из них как раз имеет свою определенную материю. Можно даже сказать, что все разделение прекрасных искусств заимствовано прежде всего из их различия по материи. Но принцип дифференциации, данный здесь, частично переходит также и на широкую область внехудожественного прекрасного. Между тем это отношение касается только одной стороны понятия формы. Это видно уже из того, что как раз "содержание" произведения искусства, то есть то, что неадекватно обозначают таким термином, не входит в такое понятие материи. Ведь понятие материи им едва затрагивается. Значит, можно дать еще другую противоположность форме, чтобы понятие содержания вообще сохранило здесь ясный смысл. Эта другая противоположность ясно выступает всюду там, где речь идет об изображении, то есть там, где формообразование совершается с чувственной наглядностью из чего-то такого, что имеет или могло бы иметь существование в мире уже по эту сторону искусства. Так, поэтическое искусство изображает человеческие конфликты, страсти, судьбы, пластика - формы тела, живопись - почти все видимое. Эти области содержания сами по себе не художественны, только искусство благодаря формообразованию делает их таковыми. Но они дают для такого формообразования темп, "сюжет", и в этом смысле, следовательно, "материал", который приводится творцом в чувственно-наглядное состояние. "Материал" в этом смысле имеется не во всех искусствах; например, его нет в музыке (по крайней мере, в чистой), в архитектурном искусстве, в искусстве орнамента. Особенно сомнительным становится понятие "материал" применительно к прекрасному в природе, хотя для изобразительных искусств, включая искусство поэзии, оно представляет конститутивный момент; однако и этого достаточно, чтобы сохранить за ним место в эстетике. Но в таком случае нужно, по крайней мере, признать, что в этих искусствах категория формы выступает в двойном противоположном отношении: с одной стороны, в отношении к материи, "в которой" они формируются, с другой стороны - к материалу, "который" они формируют. И, очевидно, здесь должно существовать определенное отношение между оформлением в первом смысле и оформлением во втором смысле. Проблема этих оформлений очень широка. И едва ли удастся решить ее одним махом. Разве вообще бывает оформление двоякого рода у одного и того же образа? Разве оформление материи и оформление материала в основном не должно быть одним и тем же? И между тем одно формообразование от другого не только отличается, но и по существу является совершенно различным. Если поэт, с одной стороны, формирует характеры и жизненные судьбы, а с другой - слова, в которых выражает последние, то одно формообразование невозможно отождествить с другим. Но в созданном произведении, например в уже напечатанном диалогически построенном сценическом действии, оба формообразования настолько переплетаются в единстве, что они не только неразделимы, но и даны как одно целое, хотя и выражают двустороннее формообразование. Действительно ли существуют такие двусторонние формообразования или это заблуждение? Первое означало бы, что одно и то же формообразование двояко бесформенно или двояко способно к оформлению. Возможно, что как раз в этом двойном отношении и нащупывается тайна прекрасного, и если не сразу же целиком и полностью, то, может быть, существенная ее часть. Теперь как на ладони видно, что в этом случае сама категория формы не могла бы быть достаточна и что на ее место выступают также категории структуры предмета, при помощи которых можно понять характерное совпадение двух явно разнородных отношений, то есть их соединение в единстве наглядного многообразия, или, лучше сказать, в наглядном единстве двух разнородных сторон. 7. Созерцание, наслаждение, оценка и продуктивность В то время как проблема эстетического предмета уже при первом поверхностном изложении заметно усложняется и позволяет догадываться о задних планах, которые хорошо чувствуются наблюдателем, хотя и не осязаются, проблема воспринимающего акта оказывается, со своей стороны, не менее запутанной. 9 Об этом свидетельствует хотя бы уже тот факт, что воспринимающий акт имеет больше чем одно название. Это происходит потому, что каждое название соответствует какой-то стороне сущности акта, хотя эти стороны сущности не менее разнородны, чем стороны сущности предмета. В акте ясно различаются по меньшей мере моменты созерцания, наслаждения и оценки. Из них сторона наслаждения - самая замечательная, но в то же время она наиболее отличительная в актах одинаково духовной высоты и своеобразия. Этот момент замечали уже и раньше. Первым говорил об этом Плотин, а Кант в своей "Аналитике прекрасного" основывался почти исключительно на нем. Он выражал его понятиями радость и удовольствие. Оба эти понятия были избраны в сознательной противоположности к интеллектуальной точке зрения, но оба были также строго объективны и благодаря этому понимались так, что включали в себя рассматриваемый момент. Они должны были также содержать момент оценки, потому что то, что Кант называет "суждением вкуса", есть не что иное, как выражение этого самого чувства удовольствия, а не какого-то второго акта помимо него. Так, в кантовской эстетике можно найти соединенными все три стороны, но для их дифференцирования сделано еще мало. Взамен этого особенно сильно выступает на заднем плане восприятия четвертый момент, подобный самостоятельной вставке или спонтанному проявлению, которое противостоит самозабвенной отдаче удовольствию и как будто приближается к удовольствию воспринимающего акта творящего художника. У Канта он имеет форму реактивно вступающей, но протекающей по собственным внутренним законам "игры душевных сил", "силы воображения" и "разума" и носит характер ярко выраженного внутреннего творчества, которое при рассмотрении оказывается восстановленным первоначальным творчеством художника. XIX столетие всесторонне восприняло эти кантовские определения и подражало им, но вместе с тем пыталось многое в них изменить и улучшить. Однако далеко от них не ушло. Самой значительной частью из этих кантовских определений было проникновение оценивающего акта в акт наслаждения, или, как выражает это Кант, "суждения" в "радость". Известный главный пункт его анализа состоял в доказательстве того, что эстетическое удовольствие возвышает претензию на всеобщую значимость, но без подобного же рода претензии основываться на "понятии". Эта всеобщность "без понятия" является уникумом кантовской философии и поэтому всегда особенно обращала на себя внимание эпигонов. И в самом деле, именно здесь лежит фундаментальная часть сущности этого странного строения акта в эстетически созерцающем сознании. Но что здесь почти обойдено, так это момент созерцания, именно тот момент, который находился на видном месте в интуитивной эстетике Платона и Плотина. Именно созерцание является самым важным или по крайней мере значительным членом в этом строении акта. Радость или наслаждение и скрытое в них суждение оценки скорее имеют характер реакции на впечатление, полученное от созерцания, характер ответных моментов, и поэтому в составе акта, взятого в целом, они не являются первыми. Они могут выступать только там, где имеется уже образно данное, следовательно, только через посредство созерцания. И трудно сомневаться в том, что эта инстанция акта восприятия является интуитивной. Этому соответствует уже прочно внедрившееся выражение "эстетический". Эго слово означает не что иное, как "чувственный", и под этим подразумевается, что внешние органы чувств - глаза и уши являются орудиями восприятия прекрасного. Этим только еще раз подчеркивается противоположность интеллектуальному пониманию. И чувство здесь выступает не просто как посредник уже существующего в ежедневном восприятии, а как возбудитель только что начинающегося процесса высшего порядка. Смысл этого отношения обнаруживается тогда, когда начинаешь размышлять, что при этом из деятельности чувства переходят к моменту собственно "созерцания". Эго явление не идентично с рецептивностью, хотя в восприятии неразрывно связано только с ней. Но восприятие сохраняет ее наглядность также и там, где она включается в общую связь акта, которой полностью покрывается рецептивность, как это в той или иной мере случается в строении познания. Восприятие не теряет характер созерцания также и в совершенно другом строении акта эстетического наблюдения. Как раз здесь оно становится доминантой; и изобилие характерных моментов созерцания, которые скрыты в отношениях познания благодаря претензии на познание бытия и которые умышленно обходятся, здесь оказывается существенным. Свет и тень там являются только средством распознания формы вещей, сами же они едва замечаются, но с точки зрения живописца получают предметную самостоятельность, становятся главными. Точно так же обстоит дело с перспективой, красками и контрастами цветов. Соответственно это относится и к другим областям худо10 жественного восприятия. Поэт в своем художественном восприятии также придерживается незамечаемой в жизни невесомости человеческого движения и жестикуляции. Не имея возможности представить эту невесомость наглядно, он все же заставляет ее предстать пред внутренним взором обходным путем, через слово. И все же этим созерцание не исчерпывается, его роль значительно шире. Эстетическое созерцание - это только наполовину чувственное созерцание. Оно возвышается над чувственным созерцанием в качестве созерцания второго порядка, такого созерцания, которое совершается через чувственное впечатление, но не растворяется в нем и существует в явной самостоятельности по отношению к нему. Эго другое созерцание не является чем-то вроде созерцания сущности, или платоновского понимания всего общего, или интуиции в смысле высшей ступени познания. Оно, скорее всего, остается обращенным к единичному предмету в его неповторимости и индивидуальности, но оно видит в нем то, что не схватывается непосредственно чувствами: в ландшафте - момент настроения, в человеке момент душевного состояния, страдания или страсти, в какой-нибудь разыгрываемой сцене - момент конфликта. Вопрос о том, относится ли это ко всем видам эстетического понимания, пока еще остается неразрешенным. К искусствам в более узком смысле слова и к открытому созерцанию прекрасного в жизни и в природе это должно, конечно, относиться целиком. И по этим центральным областям феномена нужно ориентироваться. Для этого созерцания второго порядка прежде всего важно то, что оно не является чем-то запоздалым; не является оно и делом рефлексии, которая может и не наступить. Конечно, иногда может быть и так, что содержание художественного произведения или прекрасного человеческого лица только постепенно открывается этому созерцанию. Но это не менее широко распространено и в созерцании первого порядка и поэтому не может быть ему противопоставлено как особый признак. Характерным, скорее всего, является то, что созерцание второго порядка тесно связано с созерцанием первого порядка и постоянно происходит одновременно с ним. По крайней мере, в зародыше оно могло там уже быть, даже если потом оно продвигается дальше и углубляется. Но часто отношение переворачивается так, что от него взгляд обращается сначала к чисто чувственным единичностям, как будто они нуждаются в том, чтобы на них обратили внимание, что происходит благодаря большому значению созерцания второго порядка. Но еще неизвестно, каким образом это созерцание второго порядка может быть осуществлено до предметного анализа. Эго еще нужно исследовать. Но, прежде всего, должен быть сделан вывод, который остается руководством для всего последующего: речь идет, прежде всего, о последовательном включении в эстетически воспринимаемый акт двух родов созерцания, и только их совместное действие выражает особенность художественной созерцательной позиции. Отсюда легко видеть, что оба рода созерцания образуют неразрывное целое, в котором они различным образом взаимодействуют и обслуживают друг друга. И надо полагать, что носителем наслаждения ("радости") и суждения вкуса о предмете не является ни тот, ни другой в отдельности, а обязательно оба вместе в их взаимодействии. Это проливает первый свет на характер спонтанности в строении акта восприятия, потому что здесь открывается поле действия для внутренне продуктивного содержания, существование которого в воспринимающем акте созерцания мы смутно чувствуем, но с трудом можем точно выразить. Созерцание второго порядка является, очевидно, творческим, по крайней мере позднее превращающимся в творческое. Это значит, что оно не дается восприятием, а только побуждается благодаря ему, в остальном же развивается самостоятельно. Оно существует поэтому только как представление для созерцающего сознания - конкретно и пестро, как только что пережитое, - но все же не пережитое, а как спонтанно внезапно прорывающееся ("силой воображения", - как говорил Кант), как плод фантазии, но такой, который крепко связан с чувственным впечатлением. В "Критике способности суждения" предпринимается попытка толкования этого внутреннего отношения двоякого рода созерцания. Кант назвал это отношение "игрой душевных сил" и выразил этим характерное единство противоположных инстанций в сознании. Но он обозначил обе "силы", о которых идет речь, как "силы воображения и разума" и благодаря этому слишком высоко поднялся в последовательности ступеней "возможного". Тем самым он слишком далеко удалился от чувственности, так как совершенно очевидно, что один из членов двойного созерцания - чувственный. Второй же член не может быть определен так интеллектуально, как это подчеркивается выражением "разум". Если понимание воспринимается как функция разума, то этим отрицается созерцательный характер второго члена. Гораздо лучше поэтому оставить здесь разум в стороне и понимать игру обоих членов 11 как нечто от чувственного и сверхчувственного созерцания; причем последнее вовсе не является впаданием в мистику, а означает просто спонтанно-внутреннее и продуктивное созерцание, которое к непосредственно чувственно данному присоединяет что-то новое. Для этого кантовская сила воображения была бы действительно адекватным выражением. Как бы то ни было, остается твердо установленным факт взаимообусловленности обоих родов созерцания, что является основополагающим для всей структуры воспринимающего акта эстетического рассмотрения. При этом чувственное созерцание является первичным, внутреннее - вторичным; последнее обусловливается чувственным созерцанием и только после этого вступает с ним в отношение взаимодействия. Ибо лишь второе созерцание поднимает первое над обыденным восприятием и придает ему особый эстетический характер. Оба вместе составляют основной элемент акта радости, удовольствия или наслаждения, поскольку он может иметь место только там, где чувственное созерцание внутренне озаряется сверхчувственным созерцанием. И опять-таки, поскольку эти озарение и озаряемость в самом созерцании ощущаются не как озарение моментов акта - его отношение к созерцающему сознанию остается скрытым,- а как отношение моментов или слоев предмета, которому подчинены моменты акта, то рассматриваемый предмет кажется прекрасным. Этому прекрасному явлению дает выражение эстетическая оценка. Оценка как момент акта также зависит от взаимоотношения двух родов созерцания. Это не может быть иначе и там, где сама радость зависит от этого взаимоотношения. Потому что суждение вкуса есть только мысленное выражение того, что радость делает непосредственно осязаемым. 8. Прекрасное в природе, человеке и искусстве Существует немало эстетических опытов, которые в действительности являются только философией искусства. Это и понятно, потому что существуют искусства, в которых вопросы прекрасного и его понимания выступают в весьма четкой форме, и именно поэтому там, прежде всего, подвергаются анализу такие установки, которые высказывают суждения в пользу прекрасного в искусстве, притом прекрасного такого рода, которое решительно возвышается над всеми другими как высший род прекрасного. Ведь до сегодняшнего дня самым обычным делом является известное преувеличение художественной ценности у тех людей, которые что-то в этом понимают. При этом всякая естественная красота, конечно, невольно снижается. Что такие взгляды являются крайностью, совершенно несомненно. Никто не будет оспаривать, что в искусствах существуют также компоненты ценности особого рода, которых не бывает во всех других родах прекрасного: существует же умение самого художника, - это, собственно, ведь и означает смысл слова "искусство", то есть фактор, который воспринимается в художественном произведении как мастерство и оценивается как настоящее ценное качество. Но отсутствие этого качества у прекрасного вне искусства не дает права считать это его недостатком. Сначала нужно исходить из прекрасного вообще, безотносительно к тому, где и как оно выступает. И уже потом рядом с художественным произведением должно найти свое место прекрасное в природе и прекрасное в человеке. Обыкновенно при этом говорят, разумеется, только о природе. Но человек и многое из сферы его жизни и отношений также имеет эстетическую сторону. Человек - это ведь не только природа, но и целый духовный мир, который наслаивается на природное. И если верно то, что самое существенное в моральном характере заключается в его поступках и отношениях, которые составляют содержание человечески прекрасного, то из этого еще далеко не следует, что здесь эстетика превращается в этику, а прекрасное превращается в благо. Человечески прекрасной может быть также игра страстей там, где она не сдерживается, но здесь она ни в коем случае не может быть названа добродетельной. Конфликты и борьба, страдания и поражения дают настоящее драматическое напряжение и разрядку, и не только для поэта, который ищет их как материал, чтобы его оформить в искусстве, но для каждого человека в жизни, который, пренебрегая расстоянием и покоем, старается видеть их в настоящем драматизме. Очень вероятно, что все это может дать не только драматическое искусство сцены, потому что имеется драматическое в жизни, которое также может быть, как таковое воспринято эстетически. То же самое и даже в еще большей степени относится, конечно, и к комическому в жизни, которое точно так же процветает и воспринимается без поэтического оформления. Бывают юмористы и вне литературы, прямо в жизни, и отнюдь не только там, где юмор проявляется в метких выражениях. Это зависит от душевного состояния, от рода виденного и пережитого, от смысла сверхчеловеческого (Allzumenschliche). Появление невольного комизма в человеческой жизни зависит от точки зрения 12 наблюдателя, от дистанции, от его превосходства над предметами комизма, от того удовольствия, которое он испытывает от комизма. Эти условия мы приводим, конечно, не просто только в качестве принимающих участие и относящихся сюда. Общность возможных эстетических предметов благодаря этому значительно расширяется. Спросим себя серьезно, существуют ли вообще на свете предметы, которые не имеют эстетической стороны. Если это отрицается и все существующее подпадает под альтернативу "прекрасного" или "безобразного", то и в этом случае необходимо выделить из этого множества опять-таки то, что в узком или широком смысле имеет право на эстетическую ценность. Но для этого недостаточно рассматривать произведение искусства лишь само по себе, пренебрегая всем остальным. Ведь и художественные произведения могут быть малоценными, могут быть уязвимыми во всех желаемых направлениях, а произведения природы могут быть эстетически высокоценными и убедительными помимо всяких масштабов. Более того, возникает вопрос: не следует ли искать безобразное или плоское вообще только в области искусства, именно в художественно неудавшемся, не является ли в природе все прекрасным? И затем можно спросить: не точно так же ли обстоит дело в царстве человеческого? Может быть, это зависит только от недостаточного понимания наблюдателем родов прекрасного, и поэтому он не везде это может видеть. Ссылка Гердера на пример "отвратительного крокодила" как доказательство наличия безобразного среди форм живого кажется нам сегодня весьма субъективной. Подобным же образом обстоит дело с человеческими лицами и фигурами: так называемые классические эпохи скульптуры и живописи создали известные идеалы красоты, которые господствовали во вкусах в течение столетий, и то, что им не соответствовало, считалось некрасивым. Но наступили другие времена, появились другие вкусы, и образцовыми стали другие типы идеала. Все нормы такого рода оказались обусловленными временем, преходящими и релятивными. Так по какому же праву мы должны считать безобразными встречающиеся нам в жизни формы, которые нам не нравятся? Вопросы последнего рода прямо наталкивают на мысль об относительности эстетической ценности. И тогда кажется, будто прекрасное является не чем иным, как только непостоянной и весьма произвольной нормой, обусловленной внеэстетическими факторами, социальными отношениями, господствующими практическими тенденциями, жизненной необходимостью, или же биологически возникшими преимуществами, которые ищут выражения в определенном роде идеалов. Факт исторического колебания, безусловно, здесь должен быть признан. Не нужно игнорировать феномены этого рода, чтобы видеть, что ими и им подобными сущность прекрасного еще не затронута - затронуты только ее особенности. Поэтому основной вопрос - существует ли безобразное в царстве природы - все еще остается в силе, если даже смысл прекрасного в природе сильно варьирует и исторически проявляется вообще только релятивно и с запозданием. В соответствующем месте этот вопрос также будет рассмотрен. И тогда будет выяснено, может ли выявляться в разнообразии обусловленного временем чувства природы нечто всеобщее и фундаментальное, что вообще предметно конструктивно для "как-прекрасно-чувственного" ("AlsschönEmpfinden"). В наши дни к этому также имеются известные подходы, которые не могла найти интеллектуалистская и психологическая эстетика. Они лежат в области новой онтологии и антропологии и отклоняют известные категориальные фундаментальные отношения. Ведь вопрос о прекрасном в природе по своему содержанию граничит с еще очень плохо исследованной к настоящему времени областью натурфилософии, точно так же как проблема человечески прекрасного граничит с проблемой антропологии. Надо принять во внимание, что как здесь, так и там возможно смешение границ, но нельзя доводить это рассмотрение проблемы грани до полного разрыва. Придерживаться одной-единственной получившей широкое распространение линии среди многих окольных путей было бы на самом деле задачей большой трудности. Старые онтологические представления о совершенстве в том виде, как их повсюду распространяло XVIII столетие, здесь вряд ли могут быть достаточными. Но было бы допустимо извлечь и из них устойчивое зерно сущности, чтобы спасти его в новом, более интересном феноменологическом анализе. Универсальная точка зрения для этого дана, поскольку становится ясным, что так называемая "природа" существует не только в своей системе законов, но также и в иерархии образцов, которая по своему характеру строения зависит от внутреннего единства и целостности безотносительно к тому, имеют последние динамический или органический характер. Ибо природные структуры есть нечто уязвимое, нарушаемое и разрушимое, и всякое нарушение в них есть нечто негативное и чувствуется как негативное, объективно в вещах и субъективно в созер13 цании, как modus deficiens. Здесь следовало бы дать место и безобразному в царстве природных форм. Предпосылкой для этого являлось бы, конечно, признание того, что существует непосредственно чувственно-созерцающее сознание цельности и совершенства, так же как и разрушение этих форм. Это, конечно, можно было бы установить в известных границах при соответствующем анализе феномена. 9. Идеалистическая метафизика прекрасного. Интеллектуализм и точка зрения материала Здесь вновь возникает вопрос о выдвижении эстетики на передний план. Не потому, однако, что это позволило бы нам указать общие черты некой методологии. Наоборот, здесь нужно придерживаться мнения, что стремление создавать метод всегда второстепенно по сравнению с живо функционирующим и направленным только на свой предмет методом1. Разумеется, существуют известные вопросы, которые могут быть разрешены на основе исторического опыта разнообразных попыток и усилий. Для решения указанных вопросов сделано пока весьма немногое ввиду отставания эстетики в области, которую мы подвергли выше четырехкратному анализу. Как ни молода эстетика, она охватывает все же ряд весьма различных направлений, которые ни в коей мере не растворяются в противоположности анализа действия и предмета. Уже у Баумгартена и Канта оба указанных вида анализа переходят друг в друга, оставаясь недифференцированными. У Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра они и вовсе опускаются в угоду основной метафизической концепции почти до простых моментов. Центр тяжести целиком переносится на искусство, которое празднует здесь грандиозный триумф превосходства, и прекрасное в посюстороннем мире искусств оказывается предметом второго ранга. Это имеет свои основания в значительно более общей метафизике идеализма и особенно в той роли, которая отводится искусствам во всем комплексе духовной жизни. Если в основании всего сущего лежит "неосознанный интеллект" или "абсолютный разум", если конкретные образования природы являются односторонним выражением этого разума, а духовная жизнь - его постепенно реализующимся самосознанием, то искусства не могут быть ничем иным, кроме как ступенями этого самосознания; хотя они и не являются высокими ступенями, поскольку пребывают в пределах чувственного, все же для ограниченного определенными рамками человека они необходимы и не могут быть заменены пониманием. Но для Шеллинга это отношение переворачивается, ибо он ставит созерцание над понятием и в конце концов возвышает его до универсального средства в философии; художник становится благодаря этому не только зрителем, но также судьей духа, а философ - превосходным художником в соответствии с идеалом романтики. Гегель, наоборот, твердо придерживается принципа превосходства понятия, а неспособность искусства проникнуть в понятие считал недостатком искусства. Это все имеет смысл лишь в том случае, если допустить верность основной идеи этого идеализма или допустить, что в основе всего лежит абсолют, который в творениях искусства познается в созерцаемых образцах. Эта метафизика красоты относительно безразлична к другой стороне идеалистической предпосылки, а именно к тому, что абсолютное должно быть "разумным" принципом. Это доказывает эстетика Шопенгауэра, которая построена по той же самой схеме, но имеет в своей основе мировую волю, лишенную разума и интеллекта. Именно здесь становится ясной общая картина, так как не только сознание, но также и интеллект остаются делом человека. В этой теории старый платонизм переживает свое позднее возрождение. Природа - это твердо установленное царство форм; каждая видовая форма конкретных образований природы имеет в основе "идею", согласно которой формируются отдельные вещи. Искусство выражает эти идеи в своих произведениях, и это явление в единичном есть отблеск прекрасного. Но еще глубже захватывает музыка, которая не образует никаких предметных форм, но чувственно выражает первоначальную сущность, "мировую волю". Но и в этой теории художественное творчество пытается превращать в акт сознания то, что само по себе существует и без искусства. Последнее, без сомнения, является остатком того интеллектуализма, который с давних времен свойствен размышлениям об эстетике, - конечно, не интеллектуализма в узком смысле слова, который все сводит к мышлению, понятию и суждению, но интеллектуализма в широком смысле слова, который считает эстетическое восприятие видом концептуального познания. Тот факт, что Шеллинг ставит созерцание выше понятия, ничего не изменяет в этой ошибке. Вообще основной тезис индифферентен к порядку расположения родов и ступеней распознавания произведений искусства; схема по1 Ср. здесь "Aufbau der realen Welt", 2. Aufl., 1950, Кар. 62, a,b. 14 знания во всех этих случаях остается той же самой. Это распознавание неразрывно связано с эстетическим актом, хотя теория и протестует против этого. Более важен при этом второй момент. Теории прекрасного, понимающие акт созерцания по аналогии с познанием, по своему существу направлены преимущественно на содержание искусства и поэтому не могут по достоинству оценить момент формы, то есть все собственно структурное и изобразительное в творениях искусства. Такой критикой мы не намерены брать под защиту разделение "формы и содержания"; это было бы оправдано, если бы новые исследования показали, что специфически художественное содержание состоит как раз в придании формы. Но от такого взгляда эти метафизические теории искусства очень далеки. Более того, содержательным для них является непосредственно данный "материал", и именно в указанном выше смысле темы или сюжета. Конечно, сам материал очень расширен, преувеличен и возведен в метафизически-мировоззренческое. Но это ничего не меняет в том факте, что момент придания художественной формы, а именно и прежде всего саму внутреннюю формированность здесь обходят. По крайней мере нужно сказать, что автономия и ценность формы в той мере, в какой они характерны для каждого акта художественного творчества, не познаны в их значении. Тут можно привести бесчисленные примеры из широко задуманной эстетики Гегеля. Всемирно известным является его толкование трагического при анализе "Антигоны" Софокла, где конфликт трактуется как чисто моральный конфликт между писаным и неписаным законами. С "материальной" точкой зрения тесно связано широко распространенное мнение о том, что во всяком искусстве продуктивное творчество является функцией нравственной и религиозной жизни. Это понимание не связано с отдельными периодами времени и теориями. Сегодня оно так же жизненно, как и 150 лет назад. Нельзя не признать, что большое искусство исторически вырастало преимущественно на почве высокоразвитой религиозной жизни, даже возникая первоначально как ее выражение. Но заключения, которые из этого были сделаны, весьма сомнительны и порождают размышления об опасностях гегелевской метафизики духа. Ибо казалось, будто это отношение не только конститутивно для всякого искусства, но вместе с тем является внутренним принципом самой художественной продуктивности. Правда, благодаря этому эстетическая проблема формы была вовсе отодвинута в сторону и автономия эстетической ценности поставлена под вопрос. Единственно приемлемым в этом следовало бы считать то, что художественная продукция прежде всего возникает там, где человеком движут большие идеи и где страстность идеи стремится к выражению, или, можно сказать, к объективации. Это относится прежде всего к высокоразвитой духовной жизни, если она однажды уже пробудилась. Но религиозная жизнь более всего другого нуждается в выражении при помощи искусства, потому что ее содержание невыразимо средствами непосредственного познания. Искусства обладают волшебным свойством придавать зримый облик неведомому, они выражают то, что простая проповедь или иная формулировка - собственно говоря, догма выразить не могут. Они делают чувственно воспринимаемыми сверхчувственное и никогда не увиденное и благодаря этому сообщают человеческому сердцу силу, которой обладают только близкое и только что воспринятое. Однажды проснувшаяся религиозная жизнь не может совершить ничего другого, как взывать к искусству, и она взывает к нему, наполняет его своей силой, своей страстью, своими идеями. Но однажды проснувшееся искусство находит в мире еще нечто другое, что также взывает к нему: нравственную и социальную жизнь со своими конфликтами и судьбами, глубину человеческого сердца с его мытарствами и борьбой, с неисчерпаемым многообразием индивидуальной специфики и в конце концов царство природы с его непознанными чудесами. Для духовного существа, каким является человек, духовная жизнь имеет очень большую актуальность. Поэтому круг проблем духовной жизни стоит на первом месте; стремление к изображению в ней особенно сильно. Но само художественное придание формы, удовлетворяющее это стремление, есть и остается поэтому чем-то совершенно другим и никоим образом не может быть понято из чисто материальных условий. Оно не может быть понято и тогда, когда духовные движущие силы при создании образа должны были бы искать исключительно в материальном. 10. Эстетика формы и выражения Вполне понятно, что реакция на эти содержательно-метафизические опыты должна была впасть в другую крайность. Вспоминали о самостоятельности художественной формы и пытались понять прекрасное из чисто формальных принципов. Этим вполне логично нацеливались на структурную сторону в прекрасном предмете, прежде всего в художественном произведении. Этот способ исследования 15 сам по себе также является объективистским, как и содержательный способ, но он видит сущность предмета не в чем-то предсуществующем и находящим свое выражение в художественном произведении, а в особых качествах самого этого выражения. Благодаря этому он, разумеется, значительно приближается к пониманию сущности прекрасного. Все же нужно сказать, что эта задача оказалась значительно труднее, чем думали первоначально. Потому что только теперь мы оказались перед действительной загадкой прекрасного; прежние средства познания очень скоро оказались несостоятельными. Они давали лишь общие очертания проблемы, но были неспособны проникнуть в ее глубину. Можно сказать, что только здесь проявилось, сколь мало эстетическая форма вообще может являться предметом возможного познания. Нам теперь можно, конечно, оглядываясь на новые неудачи, воскликнуть: "Как же могло быть иначе! Ведь форма дана только созерцанию, а не пониманию". Но именно это было туманно для тех, кто предпринимал новые усилия в этом направлении. Случилось так, что и на этот раз были выдвинуты на первый план сначала внеэстетические моменты, чтобы до некоторой степени восполнить ставшие уже видимыми пробелы понимания. Но все же это не означало выхода за пределы наиболее общих определений, таких, как гармония ритма, симметрия, порядок частей целого, единство разнообразия и многое другое. Понятия этого рода перечислялись почти исчерпывающим образом и разнообразно изменялись с тем, чтобы напасть на след тайны прекрасного со стороны объекта. Нельзя также не признать, что во всех них в силу тенденции заложено нечто правильное. Однако легко видеть, что они слишком общи и что специфически эстетическое в качествах формы затрагивается, в конце концов, только поверхностно. Единство различий свойственно каждому явлению природы, точно так же как порядок частей, а во многих случаях и симметрия. В противоположность им гармония и ритм, поскольку они хотят выражать большее, чем указанные выше определения, заимствованы из совокупности черт одного из видов искусства - музыки (которая, конечно, является прототипом чистой формы красоты). Поэтому в отношении этого вида искусства они являются тавтологией, не будучи для него исчерпывающими, но по отношению к другим видам искусства применимы только по аналогии и поэтому, разумеется, еще менее исчерпывающи. Огромное разнообразие форм искусства и не меньшее разнообразие форм прекрасного в природе всем этим еще совсем не затронуто. Но как раз только здесь начинается действительная проблема формы. Она начинается с вопроса: почему же определенные формы видимого или представляемого посредством слова являются прекрасными, другие же, отличающиеся от них лишь незначительно нет. Ибо безобразное есть не просто бесформенное, но не приобретшее определенной чувственной формы или просто неудавшееся. Здесь, таким образом, несмотря на достойные внимания суждения, недостает все же главного. И сомнительно, чтобы оно вообще могло быть найдено, если мы пойдем по проторенной дороге. Нисколько не лучше обстоит дело и тогда, когда эстетическую форму определяют как выражение. В этом случае тотчас же встает вопрос: "выражением чего" она должна быть? Ответ гласит: выражением жизни, выражением души, выражением человеческого, духовного, значительного, даже выражением смысла, целесообразности или ценности. Все эти определения дают нам сведения, которые нельзя отбрасывать. Они, безусловно, имеют отношение ко многим сторонам прекрасного в искусстве и вне его. Но вряд ли они относятся ко всему прекрасному. Кроме того, здесь возникают сомнения троякого рода. Во-первых, существует также внеэстетическое отношение выразительности, например в разговорном языке, в жестикуляции и мимике. Во-вторых, не все является выразительностью, что художники именуют прекрасным. И, в-третьих, с постановкой вопроса о художественно выраженном содержании проблема все-таки снова сдвигается с формы на вещное содержание. Сама проблема формы, таким образом, оказывается не в состоянии добиться своих прав. Не помогает также и то, когда нам говорят, что здесь речь идет о единстве формы и содержания, или о "соответствии формы содержанию" (Вильгельм Вундт), или о "форме идеи в реальном проявлении". Ибо при таких рассуждениях остается неясным, в чем должно состоять указанное соответствие, каким образом достигается единство формы с содержанием, что приводит "форму идеи" к проявлению. Значительно дальше продвинулась в этом направлении научная теория отдельных видов искусств, как, например, у Ханслика в области музыки, а у А. фон Гильдебранда в области изобразительного искусства. Несомненно, что кое-что, касающееся сущности формы и выразительности, можно выяснить и в проблеме стиля искусств и отдельных эпох его развития. Все же здесь преимущество достигается за счет недостатка специализации, и мы удаляемся от основного тем дальше, чем конкретнее рассматриваем особенное. 16 Таким образом, здесь, как и всюду в эстетике, мы наталкиваемся на одну и ту же методологическую трудность: проявление в искусстве налицо только в индивидуальном единичном, но в единичном всеобщее непознаваемо; а там, где оно становится познаваемым, там конкретная форма проявления разрывается и разрушается. Это есть оборотная сторона отношения, обнаружившегося уже в начале: там, где действует созерцание, там нет понимания, там же, где вступает в свои права понимание, разрушается созерцание. Как можно выйти из этого негативно диалектического отношения, покажет дальнейшее исследование. То, что действительно скрывается в принципе выразительности, могло бы быть скорее отношением форм художественного проявления, и притом отношением особого рода. Но оно не должно быть проявлением "идеи", или жизни, или же чувства. Однако при определении формы художественного проявления нужно искать специфику прекрасного предмета. Но этим освобождается арена для другого, специфически эстетического понятия формы. Ибо нужно же каким-то образом говорить о форме проявления как таковой. И надо полагать, что для нее окажутся необходимыми правила совсем иного рода, чем правила, существующие для других формообразований. 11. Психологическая и феноменологическая эстетика Параллельно с объективно-формальным толкованием прекрасного, отчасти в противоположность ему, отчасти с чудесными превращениями соединяясь с ним, идет развитие психологическисубъективного понимания прекрасного. Оно примыкает к общему движению психологизма и разделяет с ним тенденцию сводить все к душевным проявлениям. Естественно, что при трудностях, на которые натолкнулся анализ формы, некоторое время казалось, будто в нем - будущее эстетики. Речь здесь идет, разумеется, о чистом анализе акта. Но это еще не составляет существа вопроса, ибо без анализа акта развитие эстетики немыслимо вообще. Более того, центр тяжести ложится на попытку объяснить эстетический предмет и его ценность, исходя из акта. Теодор Липпс, например, считал предмет полностью зависимым от наблюдателя именно в том смысле, что он целиком пронизывается действием субъекта. Он делается эстетическим предметом только потому, что человек "чувственно" вкладывает в него свое внутреннее отношение и тем самым переживает в нем себя. Прекрасное поэтому есть качество, которое приобретает предмет благодаря перенесению в него чувств наблюдателя. Наслаждение прекрасным в конце концов оказывается самонаслаждением субъекта,конечно, не прямо, а через объект, в который он вложил свои чувства. Рядом с теорией "вчувствования" можно поставить целый ряд других толкований, которые сходны с ней в главном, а именно в том, что прекрасное ни с точки зрения формы, ни с точки зрения содержания не должно существовать в свойстве предмета и что оно должно заключаться в поведении, действии или состоянии субъекта. Конечно, приведенные нами формулировки кажутся более субъективными, чем показали их создатели, ибо при господствующем тогда психологизме считалось почти бесспорным положение, что предмет является носителем чувств субъекта. Но серьезнейшие трудности, возникшие именно из этого положения, не уменьшаются от кажущейся бесспорности его. Трудность состоит отнюдь не в том, чтобы определить, каким образом можно приписывать объекту собственное действие, считать последнее ценностным качеством предмета и наслаждаться им как предметным качеством. Потому что прекрасным во всем этом отношении выступает не я и не его деятельность, а лишь предмет. Теории такого рода становятся тем более сложными и искусственными, чем усерднее их попытки понять действительно данные явления в искусстве и оценить их по достоинству. Так было и с психологической эстетикой; ее перестраивали, улучшали, несколько подправляли, но дело не сдвигалось с места. Ситуация тупика, уже давно предвиденная противниками, стала явной, конечно, без того, чтобы кто-нибудь мог правильно объяснить ее внутренние причины. Но сейчас, по прошествии достаточного исторического срока, нельзя не признать одного: действительно существует определенная зависимость эстетического предмета от созерцающего его субъекта. Эта зависимость, распознанная еще Кантом и оспариваемая им, была превращена в теорию "вчувствования", вновь вытащена на свет и превращена в предмет дискуссии. Ибо эта теория внесла ясность по крайней мере в то, что прекрасное не присуще самому бытию вещи независимо от точки зрения и способности восприятия субъекта, а обусловлено исключительно весьма определенным для каждого искусства и почти для каждого отдельного объекта различным отношением и точкой зрения субъекта. Выводы, которые можно отсюда сделать, содержат нечто основополагающее, лишь слегка связанное с особым психологическим объяснением и ни в коем случае не разделяющее его судьбу. Точка 17 зрения, основанная на этих выводах, означает, что не существует никакой красоты в себе, а только "для кого-нибудь" и что эстетический предмет сам по себе, безразлично в природе он или в искусстве, существует не в себе, а только "для нас". И это тоже лишь постольку, поскольку мы приносим с собой определенное промежуточное звено, которое можно увидеть в характере поведения или в какомнибудь активном действии. Нет никакой необходимости тотчас же впадать в субъективизм идеалистических или психологических канонов: здесь утверждается не субъективность прекрасного, а только частичная обусловленность его через субъект, которая вполне может согласовываться с объективными требованиями эстетики формы, так что только в синтезе с ними возможно получение единой картины. Если бросить взгляд назад, на Канта, то в его "Аналитике прекрасного" 2 можно найти весьма ясно выраженной эту основную мысль. Она заключается в "игре душевных сил", и в зависимости оттого, наступает эта игра или нет, предмет кажется прекрасным или не прекрасным. Спрашивается, почему эта мысль не пробила себе дорогу в эстетике. Причина этого понятна. У Канта предмет познания, то есть все без различия "вещи", точно так же обусловлен соучастием субъекта - в этом ведь и состоял "трансцендентальный идеализм"; такая обусловленность не делает у него никакого различия между "эмпирически реальными предметами" и прекрасными предметами. И, если даже вносимая субъектом лепта существенно различна, основное отношение остается, однако, тем же. Это был именно идеалистический подход, который стирал и не оценивал по достоинству своеобразие формы существования в эстетическом предмете. Идеализм, в его такой весьма осторожной и уравновешенной форме как трансцендентальная, не является той почвой, на которой могли бы быть выработаны различия форм существования бытия. Здесь как раз выявляется, что без такого рода различия (в конечном счете онтологического) нельзя подойти близко к решению эстетических проблем формы. В столкновении различных мнений возникла мысль о приемлемом синтезе субъективистских и объективистских толкований. В известном смысле ее можно увидеть в эстетике "выражения", например у Бенедетто Кроне: выражается не действие, а предмет; выражение предмета, однако, существует не само по себе, а "для" понимающего субъекта; так же обстоит дело и с красотой. Прекрасно не созерцание, а также не художественное умение, но только предмет, однако опять-таки взятый не сам по себе, а только в связи с субъектом, поглощенным его созерцанием. Здесь остается выяснить кое-что относительно анализа действия, а именно что он способен совершать, не касаясь при этом задач предметного анализа, который должен надлежащим образом идти ему навстречу. Следует считать неоценимым преимуществом то, что оба вида анализа обладают известной самостоятельностью, исходят из различных сторон общего феномена и следуют своей собственной дорогой. При таком положении вещей все, что согласуется друг с другом или поддерживает друг друга, находит такое подтверждение, которое приближается к смыслу критерия истины. Если на эту ситуацию проблем смотрят непредубежденно, то есть не с точки зрения той или иной теории, способствовавшей ее становлению, но независимой от нее, то нельзя не признать, что положение дела в целом стало благоприятным. Вопрос только в том, как пользоваться сложившимся положением. И надо сказать, что для этого сделано еще мало. Некоторые успехи, имевшие место в конце XIX столетия, касались скорее отдельных сторон проблемы и не привели к познанию синтеза, а также тех преимуществ, которые он дает. Самый значительный шаг вперед был сделан феноменологией. В этом способе исследования по крайней мере были даны методологические условия возможного успеха. Ибо здесь ничто не могло так помочь, как тенденция подойти как можно ближе к самому феномену, понять его более основательно, чем это делалось до сих пор, и научиться видеть его во всем его многообразии, чтобы потом снова возвратиться к общим вопросам. Если бы феноменологии в те первые десятилетия нашего века, в которые она пережила поразительный расцвет, удалось исследовать проблему одновременно с обеих сторон, то на ее долю выпал бы большой успех и в эстетике. Но поле для деятельности, открывавшееся ей одновременно во многих областях, было слишком обширно; число же учеников Гуссерля, которые могли бы заняться всем этим, было слишком мало. Представители феноменологии предполагали создать новые принципы во всех областях философии, а эстетика не казалась им самой неотложной из них. Поэтому и здесь уже назревшая проблема также не была оценена по достоинству. Анализ все же вступил в свои права, но только со стороны субъекта и акта; к тому же он оставался еще в известной степени односторонним, потому что только момент наслаждения или кантовское 2 Название раздела из работы И. Канта "Критика способности суждения". - Прим. ред. 18 удовольствие было более или менее серьезно исследовано. Аналитическим исследованием занимался Мориц Гайгер. То, чем мы обязаны анализу, есть действительно нечто новое и в своем роде значительное. Но психологическая эстетика, поскольку феноменология вообще возникла на почве психологии, еще не в состоянии постигнуть основную проблему прекрасного. Чистый же анализ акта наслаждения, раскрывающий эстетический предмет, пролил только незначительный свет на него и ничего большего сделать не смог. Способ бытия, структуру и ценность эстетического предмета он не мог охватить. Но существо дела говорит нам, что вновь созданный метод может быть применен плодотворно к проблеме красоты только там, где основные стороны акта, эстетическое созерцание в своей двойной форме было бы доступно описанию и где одновременно результаты описания были бы дополнены результатами параллельно проведенного анализа предмета. Здесь опять-таки проявляется то, на что было уже указано раньше: анализ действия делает шаг вперед, а анализ предмета отстает. Из этого вытекает необходимость ликвидировать отсталость последнего. Для этого в настоящее время шансы благоприятны. Именно грех забвения феноменологии указывает здесь одновременно путь и средства продвижения вперед в решении проблемы, потому что трудно понять, почему сущность акта может быть проанализирована лучше, чем сущность объекта. Ведь как раз вторая доступна сознанию в естественном проявлении (intentio recta), тогда как первая может стать доступной только в художественном отражении сознания объекта (intentio obliqua). Для феноменологии уже при ее возникновении характерно предубеждение, что, наоборот, непосредственно дан именно акт. Она еще разделяла характерные для имманентной философии предпосылки психологизма и неокантианского идеализма, из которых она исходила, отказавшись только от их наиболее грубых ошибок. Недоставало во всех областях только требуемого проникновения в действительно близлежащее царство данного, то есть царство предметного феномена. Поэтому и здесь остался невыполненным провозглашенный Гуссерлем лозунг: "Назад к вещам". И поэтому в теоретической области не удалось продвинуться до сущего, в этической - до настоящего анализа ценностей, в эстетической - до сущности самого прекрасного. С тех пор произошли новые изменения. Открылись широкие пути. В учении о сущем они уже давно стали доступными, а в этике повели к новому содержательному анализу ценности. Только эстетика еще серьезно не вступила на этот путь. 12. Способ бытия и структура эстетического предмета Так как прекрасный предмет обращается к чувствам, то предполагают, что он должен быть такой же вещью, как и другие вещи: видимой, осязаемой и такой же реальной, как и другие. Правда ли это? Почему же тогда он не оценивается всеми, кто его видит, и почему не наслаждаются им все, а только избранные, для которых он является чем-то другим, а не только вещью? С восприятием это, очевидно, не связано. Вот по проснувшимся весенним полям и лесам идут вместе два человека. Оба молчат, увлеченные открывшейся картиной. Один при взгляде на нее определяет, плодородны ли поля, какова может быть цена стволов деревьев; у другого же душа переполняется через край и хочет выскочить из груди от вида молодой зелени и синей дали, от запаха земли. Чувственные впечатления те же самые, вещи, из которых они возникают, одинаковые, но предмет, который выражается посредством них, совершенно различен. Что отличает ландшафт, который развертывается перед глазами первого спутника, от ландшафта, который видит второй? Если говорить о двух родах предметов, то будет сказано весьма мало. В действительности земля со всем тем, что на ней растет, в обоих случаях одна и та же. Следовательно, все зависит исключительно от рода видения - так это всегда по крайней мере утверждалось. Но этим эстетический предмет совершенно сводится к функции акта, и субъективизм побеждает. Почему же тогда нуждаются еще в прогулке по реальному ландшафту и в ее восприятии? Очевидно, тот, кто наслаждается эстетически, не может просто "созерцать" ландшафт в фантазии, где и когда ему захочется, но связан с его реальным существованием и восприятием. Но точно так же, как к практическому сознанию присоединяется рефлексия, а вместе с ней другая предметная область связи, к эстетическому сознанию присоединяется вызванное теми же самыми вещами другое созерцание и другое реально увиденное. Человек здесь оказывается отброшенным назад к "сознанию второго порядка", о котором уже шла речь выше. И только в этом, кажется, находится решение задачи. Но это снова уводит нас от проблемы предмета к проблеме акта. Положение дел меняется только тогда, когда замечают, что чувство счастья созерцающего и наслаждающегося является не совсем личным и индивидуальным, что он гораздо больше делится с людьми, родственными ему по духу и по своей восприимчивости, что здесь даже при одинаковых духовных предпосылках существуют известная объективность, общая закономерность и необходимость; 19 так же обстоит дело с созерцанием ландшафта: мы созерцаем и наслаждаемся не каким угодно ландшафтом, а только ландшафтом определенного рода. Как одно, так и другое ясно указывают на объективные корни прекрасного в природе, сколько бы ни присоединялись сюда субъективная точка зрения и субъективный способ видения. Здесь не следует дискутировать о том, в чем состоит этот объективный корень. Было бы также ошибочно применить к нему ту или другую ранее примененную категорию, скажем форму воспринятого или функцию его выражения. С этим нельзя будет продвигаться дальше; точно так же было бы ошибочно привлечь сюда "вчувствование" со стороны субъекта или родственную ему функцию толкования. Более того, следует рассматривать феномен прежде всего с точки зрения его формы бытия и структуры предмета. К тому же мы еще до ближайшего анализа можем сказать нечто такое, из чего впоследствии станет ясным, насколько оно себя оправдает позднее. Тот, кто эстетически наслаждается весенним ландшафтом, так же как и тот, кто лишь практически его оценивает, очевидно, имеют дело не только с чувственно данной реальностью. Помимо этого оба видят еще и нечто другое. За непосредственно видимым им мерещится нечто невидимое, что для них и является самым важным; они смотрят, следовательно, на это другое и погружаются в него - один в хозяйственнорасчетливую рефлексию, другой предоставляет полную свободу своим чувствам. Легко догадаться, что представляет собой это нечто другое у первого. Относительно второго это сказать гораздо труднее. Но оно существует и существует предметно - быть может, как великий ритм всего живого в природе, который полностью господствует как в нас, так и вне нас, хотя мы его так же мало видим, как и первое. Это - предварительный результат. Остановимся на мгновенье на нем и посмотрим, как строится эстетический предмет природы в целом. Двоякое созерцание наступает последовательно; первое посредством чувств направлено на реально существующее, второе - на нечто другое, что существует только для нас, созерцающих. Но и это нечто другое проецируется не произвольно, а находится в явной зависимости от чувственно созерцаемого. Оно не может нам явиться в каждом воспринимаемом предмете, но только в определенном предмете и, следовательно, обусловлено этим последним. В то же время оно означает большее, чем господствующая здесь простая обусловленность: наблюдаемое с точки зрения его содержания в значительной мере определено видимой реальностью, "способность воображения" господствует здесь не свободно, а посредством восприятия; поэтому в предмете внутренне видимое также не является чистым продуктом фантазии, оно есть нечто, вызванное к жизни, именно чувственной структурой увиденного. Эстетический предмет в природе, таким образом, строится из двух слоев, которые, очевидно, также следуют друг за другом, как две ступени созерцания. Взаимная связь двух слоев при этом так тесна, что мы воспринимаем и наслаждаемся весенним настроением, как если бы это весеннее настроение исходило от самого ландшафта, и приписываем настроение существованию ландшафта. Так, эстетический предмет является нам в виде единства, без каких-либо недостатков, хотя мы хорошо знаем, что в действительности настроение принадлежит не ему, а нам. Это единство вовсе не так просто; оно далеко еще не исчерпано всем сказанным, а тем более не объяснено. Это единство - специфически эстетическое явление и составляет, собственно, сущность эстетического предмета. Каким образом это совершается, остается большой загадкой, загадкой прекрасного в природе. Ведь с эстетическим предметом дело обстоит вовсе не так, как это нам представляли теории перенесения чувств в предмет; здесь мы не имеем дела с деятельностью собственной души, которую мы проецируем на этот предмет. Но, во всяком случае, существует какое-то знакомство с полем, лугом и лесом, которое не возникает исключительно ассоциативно, а дает знать о себе как жизненное чувство, находящееся в нас, и указывает на связь между человеком и природой, от которой все мы исходим даже в том случае, если ее утрачиваем. Стремление к солнцу, самодвижение и произрастание одинаково свойственны и человеку и всему другому, произрастающему под небом. Человеку не нужно вчувствоваться в это, он находит все это перед собой, и оно пробуждает в нем мощный резонанс. И связь со всем живущим захватывает его как чудо, именно его, отступника, в своей обыденной жизни так далеко ушедшего от первоисточника, в то время как этот последний все еще крепко держит на старой земле этого равнодушного человека, несмотря на его забывчивость. При рассмотрении отношения природы в нас и природы вне нас, конечно, нужно будет остерегаться всех тех полных чувства аналогий и идентификаций, которые были некогда распространены в 20 немецкой романтике; чрезмерность может только помешать пониманию феномена. Правда, эти иллюзии романтиков очень родственны эстетическому созерцанию природы и, может быть, могут рассматриваться как граничащие с ними феномены в имеющемся комплексе фактов, рассматриваемых исторически. Но как раз поэтому их нельзя привлечь одновременно для объяснения фактов. Здесь вовсе несущественно, в какой степени сможем мы объяснить прочувствованный и пережитый резонанс психологически или антропологически (или даже метафизически); важно только то, что в созерцании второго порядка будет пережито или интенсивно прочувствовано также нечто другое, которое предметно дано, как и первое (непосредственно воспринимаемое), и что первое кажется крепко связанным со вторым. Тем самым определена схема, по которой можно понять как структуру, так и способ существования прекрасного предмета. Прекрасное есть предмет двоякого рода, но оно едино как единый предмет. Существует реальный предмет, который дан чувствам, но он не превращается в чувства. Но вместе с тем в такой же мере является ирреальным, проявляющимся в реальном или обнаруживающимся на его фоне. Прекрасное не является только первым предметом или только вторым, но, пожалуй, оба они мыслятся вместе. Значит, правильнее будет сказать, что существует появление одного в другом. Ясно, что при такой структуре способ существования эстетического предмета не может быть простым. Подобно тому как в нем находится предмет двоякого рода, в нем скрыто и двоякое бытие: реальное и нереальное и только кажущееся. Здесь оригинально то, что эта двойственность существования, несмотря на ее полную гетерогенность, не служит основанием раскола или раздвоенности предмета. Отношение между двумя частями здесь должно быть совсем внутренним, можно сказать - функциональным. Своеобразием, от которого зависит красота предмета, является определенная роль реального (чувственно данного) в нем, дающая возможность проявиться совсем другому - ирреальному. В этом лежит причина того, почему форма существования целого должна мыслиться раздвоенной, в то время как; структурно предмет действует как нечто единое и совсем нерасколотое. Единство - в явлений. То, что является причиной, должно быть реальным, но являющееся не может быть реальным, потому что существует только в этом своем явлении. Поэтому в способе существования прекрасного все перемещается: оно там налицо, и вместе с тем его там нет. Его существование колеблющееся. В созерцании и наслаждении мы ощущаем это колебание как волшебство красоты. Если бы мы сам предмет воспринимали как бы расколотым, то волшебство исчезало бы. Только тогда, когда мы переживаем его как ненарушенное единство и все же чувствуем в нем противоположность бытия и небытия, мы можем познать магическую силу отношения явлений. 13. Реальность и видимость. Потеря реальности и явление В эстетике XIX столетия много говорилось о явлении. Но всегда предполагали, что речь идет о явлении "идеи" независимо оттого, понимали ее метафизически, как Шопенгауэр, или как человеческие мысли, образы фантазии, воображаемый идеал и т. д. При всех условиях отношение схватывалось слишком узко. В природной красоте идею не так легко увидеть; еще труднее ее увидеть в художественно прекрасном. Поэт заставляет являться такие образы, которые, конечно, должны быть продуктом фантазии, но вовсе не должны быть идеалами (скажем, моральными); их явление вполне удовлетворяет требованиям эстетической ценности, если только оно действительно наглядно и ясно, то есть жизненно правдиво. Потому что из языка, в котором поэт формирует образы, оно не вытекает само собой. Итак, первое, что здесь становится ясным в противоположность идеалистической эстетике, - это следующее: то, что является, не должно быть этическим или чем-то идеальным. Возможно, им может быть любой отрезок жизни. Это повлияет только на род явления. Это должно быть твердо установлено, даже если практически нужно производить известный отбор подходящего материала для изображения, ибо здесь речь идет о "материале" в вышеуказанном смысле. Второе замечание касается самого явления. Со времен романтики говорят, при поддержке гегелевской эстетики, о "видимости" как способе бытия прекрасного. Этим хотят сказать: изображенное не существует в действительности, не имеет реальности, но представляется наблюдающему так, как будто оно реально. Это видно в конкретном многообразии, богатстве деталей, в растворении созерцающего в воспринимаемом. Потому что эстетически созерцающий не отделяет чувственно видимое от духовно созерцаемого, но видит обоих в одном, думая, таким образом, что он воспринимает невоспринимаемое. Если это проводить последовательно, то к сущности эстетического созерцания должен 21 присоединиться момент обмана или иллюзии, а к сущности предмета - обманчивость в его содержании. Конечно, имеется техника сценического искусства и возможно также искусство рассказа, которые пользуются иллюзией как средством и достигают при помощи ее реалистического воздействия. Только здесь возникает вопрос, является ли это настоящим художественным действием, не приближается ли тут искусство к трюку, не превращается ли действие в нечто сенсационное и апеллирует поэтому к совсем другим, отнюдь не художественным чувствам. Обычно зритель очень хорошо знает о недействительности происходящего на сцене, знает о "раздвоенности", ясно отличает актера от представляемого им лица и как раз поэтому может наслаждаться его исполнением. Если бы он считал триумф интригана или страдание и падение героя реальными, то было бы морально невозможным, чтобы он сидел тут безразлично как зритель и наслаждался происходящим на сцене. Поэтому в сценическом искусстве есть ограничение реализма, стилизация речи при помощи стиха, стилизация сценической картины при помощи декораций и рампы и многое другое. То же самое относится к рассказу и вообще к изобразительным искусствам. Замена действительности как раз совершенно чужда настоящему искусству. Теория кажущегося и иллюзии, которая идет этой дорогой, не учитывает одной важной особенности сущности художественного стремления, а именно той, что последнее не заменяет действительности, что являющееся скорее может быть понято именно как являющееся и не включается как член в реальный ход жизни, а, наоборот, вычленяется из него и противопоставляется авторитету действительности. Эти вычленение и противопоставление встречаются во всех искусствах, которые изображают чтото взятое из действительности или по ее образу свободно созданное. Лучше всего это известно в живописи, где к тому же действует еще изолирующее оформление. Ни одному зрителю не приходит на ум принимать картину ландшафта за реальный ландшафт, а портрет - за реальное лицо. И именно это важно для того, чтобы понять отношение явления к действительности. Противоположность к окружающей реальности здесь необходима, хотя бы изображение было так правдиво, что всецело отдающийся созерцанию наблюдатель забывал бы реальный окружающий мир и сам, так же как его предмет, из него выключался. Замечательно то, что забвение окружающего мира и сознание выключения из него не противоречат друг другу, хотя последнему принадлежит остаток от сознания окружающего мира. Здесь отношение также неустойчиво; но этого достаточно для того, чтобы мы были счастливы от чувства приподнятости над самими собой, отвлечением от чувства обыденности и забот, счастливы освобождением и облегчением; мы как бы скрываемся в это неопределенное состояние, когда хотим избежать нужды и душевных тягот. Заблуждение вкрадывается только тогда, когда мы хотим истолковать это состояние как бегство в мир кажущегося. Если бы здесь речь шла действительно о кажущемся или об иллюзии, то мы перемени ли бы только одни тяготы на другие: мы принимали бы являющееся за реальное и благодаря этому впадали бы в новые заблуждения. Поэтому здесь нужно строго придерживаться понятия явления в его нейтральности к способу бытия являющегося и не смешивать его с видимостью. К видимости относилась бы иллюзия действительно существующего. Ведь именно намечающаяся здесь противоположность к действительности является самым существенным. Уже выше мы могли увидеть, что получилась многослойная структура и в высшей степени своеобразный, как бы неопределенный, колеблющийся способ существования эстетического предмета. Последнее примыкает к в корне различным способам существования обоих слоев в нем: реальности на Чувственно данном переднем плане и явлению на заднем плане; "бытии в себе" там и "бытии для нас" здесь. Этого не стали бы оспаривать и даже ставить под сомнение, если бы проводили различие между иллюзией и кажущимся, с одной стороны, и являющимся задним планом - с другой. Наоборот, кажущееся лишь повредило бы характер чистого явления, потому что он представил бы нам лишь обманчивую реальность. Его исключение как раз является условием, при котором последовательное расположение обоих способов бытия создает стабильную картину единства. Ибо способы бытия не смешиваются друг с другом. Для этого они слишком разнородны. И даже в эстетическом созерцании они не сливаются друг с другом, но остаются раздельными, хотя и связанными друг с другом, и воспринимаются как неразрывное целое. Целое, таким образом, исключительно только объективно. Это должно означать следующее: чисто объективная картина противоположна ко всем моментам акта созерцания и наслаждения, хотя она в своей важнейшей составной части обусловлена субъектом и его актом и без его содействия вовсе не совершается и поэтому существует только "для" адекватно созерцающего субъекта. 22 Объективное, таким образом, существует еще далеко не независимо от субъекта. Сама предметность здесь только частично реальна, частично же ирреальна. Только таким образом создается возможность того, что что-то, являясь "в" действительном, в то же время удаляется от действительного и не возвращается более к нему. При этом это нечто дается конкретно созерцаемым, то есть таким, каким обычно является действительное. Такое удаление от действительности является потерей реальности, дематериализацией. Вместе с последней выступает новая основная черта прекрасного предмета как колеблющегося между двумя разнородными способами бытия. Этот момент зависит прежде всего от действия художника, если он этим еще не разгадан, ибо здесь навязывается противоположность к действию человека в жизни и к тяжелой нравственной ответственности. Поступок здесь является осуществлением. Намерение или цели еще недействительны, они поставлены сознанием в качестве цели, пока мы их ощущаем как предполагаемые или должные, но они превращаются в действительность через поступки людей. И свобода, с какой мы решаемся на это, есть способность соответствовать идеальной необходимости долженствования, где ей еще недостает реальной возможности. Осуществление недействительного состоит тогда в возможности его осуществления. На первый взгляд кажется, что творчество художника также является неким осуществлением, осуществлением какой-то идеи или того, что ему представляется идеальным. Если же посмотреть ближе, то получается как раз противоположное. Его творчество не является осуществлением и, следовательно, не представляет возможности для этого. То, что перед ним является, вовсе не существует в действительности, но только представляется ему. А это значит, что оно должно являться. Действие художника-творца есть удаление от действительности, потеря реальности. Ему не нужно создавать недостающие "условия возможности, ему не нужно приводить в движение всю косность реальности, ему нужно только представить ирреальное как таковое наблюдающему. Реальное нужно ему для этого только как соединяющий член, в котором может явиться ирреальное. И только в создании такового он является осуществителем. Но то, что в нем выявляется, остается при этом непременно недействительным и настолько решительно отделенным и несомненно недействительным, что явление в чувственной осязательности дает нам иллюзию вместо действительности. Поэтому свобода художника также отличается от свободы просто действующего субъекта. Художника не подгоняет никакая обязанность, на нем не лежит никакая ответственность. Для этого ему открыто безграничное царство возможного, которое не связано никакими реальными условиями. Свобода художника не только отличается от моральной свободы, она значительно больше последней. Она точно соответствует дематериализации, как модусу бытия художественного созидания, и является чистой свободой, не связанной никакими внешними узами. 14. Подражание и творчество В эстетике ни о чем не спорили так много, как о подражании в искусствах. С Платона начинается теория "мимезиса", в Аристотеле она находит своего классика, и до сего дня ее можно встретить в различных толкованиях, хотя большинство тех, которые кладут ее в основу схемы, не называют ее больше по имени. Сначала эту теорию рассматривали как подражание вещам, реальным лицам и их стремлениям; но позднее ее начали считать подражанием идеям, согласно которым должны были быть оформлены вещи. В обоих случаях художнику заранее предписывалось, что именно ему нужно изобразить, и лишь от его возможности зависит то, насколько он может приблизиться в своем творчестве к идеалу. Его творчество здесь очень ограничено. О том, что художник мог бы показать миру нечто новое, такое, чем мир еще не обладает, здесь не может быть даже и речи. Мало что меняется и от того, что смысл мимезиса пытаются передавать понятием "изображение". В этом понятии также в первую очередь и сильнее всего звучит момент копирования. Но тот, кто более остро воспринимает верхние тона, находит в нем, конечно, еще и другой момент; это момент явления, о котором уже говорилось, - и именно в гетерогенной по отношению к изображенному материи: в слове, в тоне, в краске, в камне. Если же сущность прекрасного предмета перекладывается, когда оказывается необходимым, не в являющееся, а в само явление, то самостоятельность творческого выполнения в действии художника поднимается благодаря этому сразу на значительную высоту и становится главным в создаваемом произведении, потому что теперь легко увидеть, что художественное представление есть нечто иное, чем само являющееся, и тогда настоящим носителем эстетической ценности является именно художественное выполнение, и особенный "материал", который оформляет это выполнение, отходит на второй план. 23 Но и этого еще недостаточно. Указывают ли изобразительные искусства со своим материалом на готовые оригиналы, берутся ли эти оригиналы из природы или из сферы жизни человека? Не имеет ли художник и в этом отношении некоторую свободу? Не может ли он сам дать больше того, что ему дается, не может ли он сам материал создаваемого произведения поднимать над областью познаваемого и таким образом показывать наблюдателю нечто такое, чего он в жизни не находит? Нечто подобное пред-полагала эстетика Плотина, Шеллинга и Шопенгауэра, когда она говорила об "идеях", которые являлись. Только здесь сами идеи понимались как нечто предшествующее и предначертанное художнику, так что последнему в качестве продуктивных моментов оставалось только созерцание и последующее изображение. Но что будет в том случае, если метафизика идей как предпосылка окажется здесь несостоятельной, если эти "первообразы", которые якобы существуют до понимания и до явления, вовсе не существуют и если все же имеется возвышение сформированного художником над всем эмпирическим и проникновение в идею и символику? Не должен ли творящий художник сам создавать являющееся содержание и прежде всего возвысить его над данным в жизни? Простое рассуждение показывает, что на этот вопрос нужно ответить утвердительно. Если правда, что искусство поэзии может быть также поучительным, что оно может сделать осязаемым ценное и разумное содержание человеческой жизни и даже может пробудить серьезное желание его удовлетворить, - никто не будет этого оспаривать, и это нельзя понять иначе, как в смысле практического указания пути. Это не нужно сейчас же объяснять как педагогическую тенденцию; напротив, как раз там, где не существует никакой тенденции, действие такого рода совершается вернее всего. Но тогда поэт должен также выявить то, что находится надданным, что имеется сверх существующего. Прохождение человека через искусства не является, в сущности, больше эстетической проблемой, но оно проливает свет на основные вопросы эстетики, и как раз там, где искусство не делается фальшивым "из педагогических соображений" и не "расстраивает" наблюдателя. Ибо эта форма руководства человеком имеет то преимущество перед всякой другой, что она убеждает непосредственно, то есть так, как обычно убеждает только настоящий жизненный опыт; и именно по этой же самой причине поэзия обращается к нам не с поучениями, а с конкретно видимыми лицами, которые освещены как таковые и пробуждают наше общественное чувство ценности и открывают нам глаза на глубину жизненных конфликтов, которую мы сами в жизни не замечаем. Внутренний рост и зрелость при таком действии не являются иллюзией. Каждый, кто приобщается к большому искусству, испытывает это на себе. Но здесь настоящее искусство, которое всегда лишено тенденции, радикально отличается от продукции, сделанной по заказу и на злобу дня, которая действует нехудожественно и с течением времени достигает результатов, противоположных тем, к которым стремились. Только действительно наблюдаемое и конкретно-образно оформленное доставляет людям ту движущую силу, которая доказывает, раскрывает, указывает дорогу, потому что она свободно выступает из сущности вещи. На этом зиждется высокое призвание поэзии, а в какой-то мере и других искусств. Целые поколения и эпохи, таким образом, могут быть определены через произведения высокого искусства. С древних времен знали о тайне поэзии, знали о ее власти над человеческими сердцами, которая направлена на то, чтобы возвысить их до великого и воодушевить их на то, что наставительная мораль может только трезво предлагать или требовать. Именно здесь лежит главная причина того, почему искусства не могут оторваться от реальной жизни, хотя они, без сомнения, имеют своего рода автономию. По крайней мере в том случае, если они не хотят потерять свою собственную жизнь. Из жизни, то есть из того, что волнует души людей, вытекают темы различных искусств, их материал, и именно к этой жизни снова обращено их действие. Они по своему существу могут находиться только в рамках исторической действительности, на почве которой они возникают, а не в чисто эстетическом (asthetizistischen) призрачном бытии наряду с ней, как это позднее расписывали бессильные эпигоны былых, богатых творчеством времен. Как раз здесь возникает задача, которую могут решить только они, и прежде всего потому, что их творческая деятельность - не осуществляющая. Хорошо известно, как продуктивна древность в познании этой задачи и как высоко она чтила идейность художника - до такой степени, что поэта считали очевидцем и ссылались на его свидетельства спустя целые столетия. Однако надо иметь в виду, что эта задача не является задачей эстетики. Она относится к искусству, потому что никакая другая функция духовной жизни не может ее выполнить, а также потому, что она является делом художественного выполнения; но это не эстетическая, а культурная сторона. Совсем отделить одну от другой - значило бы вырвать искусство из его жизненных связей, лишить его различных жизненных движений и импульсов, без 24 которых оно не существует. Такова уж природа человека: к творческому оформлению его влечет только то, что больше всего побуждает его в жизни и борьбе, в желаниях и стремлениях. Совокупность всех жизненных условий, в которых существует человек, является питательной почвой и одновременно ареной его действия. Его действия очень далеки от того, чтобы быть только эстетическими. Отсюда вытекают двоякого рода выводы также и для чисто эстетического деяния художника. Один из них заключается в следующем: внеэстетическое действие есть доказательство творческого, поскольку оно также заключено в содержании великих художественных произведений; этот факт является доказательством выхода за пределы всякого подражания и доказательством автономного усмотрения идейности. Ибо без такого усмотрения возвышение над известными нам жизненными оригиналами является вещью невозможной. Почему это содержательное творчество так тесно связано с формальными и чувственными фигурами - в этом, есть еще много загадочного. То, что никакое другое творчество не осуществляет этого, еще ничего не объясняет. Оно могло бы быть не под силу человеку; и то, что оно ему доступно и в некоторых счастливых случаях ему удается, является одним из больших чудес творческого духа. Может быть, само это чувственное оформление также поднимает гениальное по содержанию над данным. Мы можем придерживаться только того факта, что великие художники живут в море воображаемых образов и что художник-творец действительно отрывается от собственного я, одержимый своей идеей как внутренней судьбой, которую он считает собственной и которую он изображает в своем творении. Второе, что вытекает отсюда, - это взгляд на выдающуюся художественную свободу, которая господствует в самом творении. Как уже было показано, она основывается на том, что художнику не нужно что-то осуществлять или делать реальным, а нужно ограничиться только простым явлением. Но в области явления он - неограниченный властелин. Здесь он не сталкивается с жесткими препятствиями реального; здесь ему открываются неограниченные возможности реально невозможного. Здесь существует только им самим же созданный закон, который не стесняет его в выборе форм материала, так как то, что он наблюдает, не только автономно, но и автаркично, - рядом с ним не существует никаких богов. Эта единственная в своем роде сила творящего художника является в определенном смысле, по выражению Гельдерлина, его "свободой идти туда, куда он хочет". Часть первая. Отношение проявления РАЗДЕЛ I Эстетическое строение акта ГЛАВА 1 О ВОСПРИЯТИИ ВООБЩЕ а. Проникновение внутрь Название "эстетика" говорит о том, что форма данности прекрасного предмета является формой данности восприятия. Это - исходное положение. Но уже в самом начале обнаруживается, что не любое понятие восприятия достаточно для задач эстетики. Значит, нужно пытаться сначала образовать это понятие, оставаясь верным явлению, имея в виду эстетическую структуру акта, основание которой в сознании наблюдателя образует восприятие. Довольно долго считали, будто восприятие содержит только элементы видимого, ощутимого, слышимого, содержит лишь цвета, пространственные формы, звуки и так далее, короче говоря, будто оно заключается в совокупности ощущений. Новая психология показала, что оно не только не заключается в совокупности ощущений, но даже не знает элементов ощущений как таковых. Только анализирующая психология вспомнила об этом задним числом; последняя может экспериментально изолировать его таким образом, что оно становится действительно осязаемым. Ведь для этого нужны искусственно созданные условия, которых не бывает в жизни. В действительном восприятии, с точки зрения содержания, всегда дано комплексное образование, картинное Целое, совокупность многих частностей, полное контрастов и переходов, безразлично, есть ли это только одна "вещь", которая воспринимается, или целая система связей вещей - практически оно всегда таково, - положение дела или нечто большее; к этому относится то, что мы воспринимаем при созерцании внутренне, то есть то, что чувственно непосредственно уже не дано, но что является естественным добавлением; ведь мы никогда не видим чисто оптически точно все видимое в вещи, но мы связываем его без дальнейших суждений, уподобляем одно другому и даже не замеча25 ем этого своего действия. В восприятии исчезает граница между оптически данным и добавленным. Ибо то, что происходит в восприятии синтетически, совершается по эту сторону всякого рефлективного познания, конечно, на основе опыта, но не путем выводов, сравнений, комбинирования или сходных последующих операций. Но это еще далеко не все. В повседневном восприятии содержится много такого, что вообще не может быть чувственно воспринято. Мы видим дерево и жука, но мы видим также и жизнь в обоих и видим ее дифференцированно, как жизнь различного рода. Мы входим в комнату и видим бедность или богатство, неопрятность или хороший вкус обитателей. Мы видим лицо, фигуру в движении, может быть, даже только сзади, и все же уже непосредственно знаем нечто о духовной жизни человека, о его характере, о его судьбе. И как раз это, то есть невидимое, является, собственно, тем, ради чего мы воспринимаем, ради чего мы обращаем свой взор на вещи или на некоторое время останавливаем на них свой взгляд. На одно лишь внешнее мы, возможно, совсем не обратили бы внимания, не говоря уже о том, что мы не остановились бы на нем. Так смотрим мы на лица людей: восприятие проникает через видимые формы, по существу, в совершенно иное, во внутренний духовный мир; и это настолько сильно, что мы в дальнейшем, как правило, прилагаем много усилий, чтобы только вспомнить видимые формы, чтобы воспроизвести их в своем воображении, в то время как одновременно воспринятое невидимое встает перед нашим взором в ясно выраженной конкретности. Мы сознательно восприняли прежде всего это, а то едва только заметили, как будто только слегка задели как нечто несущественное, прозрачное. Здесь не нужно слишком рано ставить вопрос, означает ли это уже "видеть". Фактом является только то, что мы в жизни совсем не знаем, что такое "видеть" без такого проникновения внутрь. И не так, будто последнее только потом добавляется в рефлексию или в следующее за ней размышление; значительно чаще происходит одновременно с чувственным видением как бы само собой понятное и свободное добавление вещественного. Акты - если это вообще два один за другим включающихся акта - выступают неразделенными во времени. Как это объяснить? Каким образом невоспринимаемое становится самым важным в восприятии? Это не так парадоксально, как кажется, если только принять во внимание, что наше сознание является не только воспринимающим и что оно является смелой абстракцией, изолирующей при созерцании восприятие таким образом, как если бы это последнее было когда-либо единственно существующим. Как раз наоборот. Каждое восприятие уже отходит на задний план связи акта и содержания, которое каждый раз строится из двух ступеней: как мгновенная связь переживаемого и как далеко идущая во времени связь опыта. Обе эти ступени связи составляют всегда расчлененное единство, в котором уже заранее существует порядок разнообразного. И в этом единстве по определенному порядку распределяется все, что представляется сознанию как сообщенное ему, так и пережитое им самим, как собственная мысль или догадка, так и воспринятое. Но внутри этого единства, как правило, доминирует узкий круг предметных моментов, с которыми связан интерес воспринятого: лица и их особенности, жизненные ситуации, душевное настроение, мысли и намерения людей, их благосклонность, их вражда, их зависть, их отказ и признательность и многое другое. Вокруг этих моментов группируется главным образом все остальное. И благодаря им внешняя оболочка восприятия легко наполняется внутренним содержанием, которое не было чувственно воспринято, но каждый раз присоединяется и действует как данное вместе с восприятием. Поэтому удивительный феномен "проникновения внутрь" через наружное так всеобщ и для всех нас так привычен, что мы этому больше не удивляемся, хотя разочарования, которые мы при этом испытываем, могли бы сделать нас более вдумчивыми. И в этом причина того, почему мы воспринимаем только внутреннее, в то время как мимо внешнего только скользим, хотя оно как раз и есть чувственно данное и способствует апперцепции. В этом смысле мы можем сказать: "я вижу" гнев, тоску, недоверие в выражении лица; но мы еще долго оказываемся не в состоянии объяснить, "как" все это выражается в мимике. По отношению к этим феноменам становится второстепенным то, как оценить их по характеру акта: считать ли восприятием или нет. Это является лишь спором о терминах. Речь идет только о правильном понимании фактов, и даже не при всяком восприятии, а, прежде всего, при таких, которые имеют дело с лицами, ситуациями и обстоятельствами или которые разыгрываются в практической жизни. О последних было бы правильно сказать, что с каждым восприятием связано включение в определенную зависимость пережитого и испытанного столь неразрывно, что мы без него совсем 26 не можем считать, что имеем дело с восприятием, но чувствуем лишь, что ничего не воспринято. Самое существенное для нас есть именно это проникновение внутрь того, что воспринято не чувственно. б. Практическая выбираемость области восприятия Хотя нигде нет никаких путей обхода вооруженного логическим арсеналом сознания, все же появляются всеобщие представления различного рода. Так, например, это имеет место уже в простом дополнении чувственной перцепции к вещественному представлению: схема вещи существует как готовая, не в форме понятия и не в "строгой" всеобщности, как того потребовало бы научное сознание, но в более свободной форме и нередко с принудительной силой. Это всеобщее есть просто осадок опыта и проявляется в нашем понимании предметов как "эмпирическая аналогия", которая как таковая совсем не обязательно должна быть понята, можно было бы сказать: вроде наезженной колеи представления, по которой нет надобности идти дальше для знания нового и которая поэтому находится в некоторой индифферентности по отношению к объективному соответствию или несоответствию. Потому что, если сомнительны заключения по аналогии, насколько более сомнительными должны быть незаметно совершаемые аналогии! Так складывается для нас, например, известный характерный облик уже на основе лишь однажды пережитого (или даже только отдельные черты характера, а именно доброта, верность, легкомыслие, слабость). И эта картина играет роль готовой схемы, когда нам снова встречаются сходные внешние черты лица. Это называют со времен Юма ассоциациями, но оно отличается от юмовских феноменов тем, что всегда уже выполнено самим восприятием. Хотя этому роду всеобщего и противопоставлено много заблуждений, на нем покоится все же большее, а именно наши жизненные познания относительно душевных состояний других лиц. И опытным человеком в жизни является тот, в ком такое знание находит более широкую базу. С широтой базы проникает в сознание всеобщее как таковое, и тогда оно принимает форму понятия и становится контролируемым. От этой, очевидно, высшей ступени ясно отличается схваченное самим восприятием, и именно только с ним мы имеем здесь дело. Позади описанного здесь феномена стоит, как уже указывалось, практический интерес, установка на то, что до некоторой степени необходимо. Но мы живем, испытывая необходимость ориентироваться в окружающей жизни и в особых ситуациях. Опять-таки понимание ситуаций невозможно без известного понимания намерений, стремлений и настроений окружающих. Потому что они в жизни являются противниками и как раз их намерения и определяют характер ситуации. Все практические ситуации внутреннего порядка, понятые в этом смысле, являются игрой невидимых душевных сил, и это самое существенное в них. И как раз эти силы являются предметом широкого восприятия через всеобщий опыт. Восприятие невидимого теряет большую часть своей загадочности, когда видишь, что оно и в отношении более простых предметов играет важную роль. При этом думают о прогрессирующей заменимости в зрелом сознании чувства осязания через чувство лица. В каждой вещи мы видим очень много невидимого: мы "видим" в вещах их твердость или эластичность, их тяжесть или же косное сопротивление импульсам движения. И то же самое относится mutatis mutandis к чувству слуха: мы слышим шаги в соседней комнате, но при этом внутренне "видим", как движется человеческая фигура, подходит к известным предметам; или же мы слышим тихий шум стула, но при этом внутренне видим, как сидящий делает определенное движение. И в этих случаях восприятие также направлено безотносительно к границам чувственно данного, на то, что нам важно с точки зрения определенного интереса. При этом одновременно возникает мнение, что все наше поле восприятия предопределено практическим интересом. Само восприятие и вместе с ним пережитое подчинено принципу отбора благодаря тем оценкам, которые мы сами вносим нашей заинтересованностью. Из всего пережитого, которое входит в наше поле зрения, вполне осознается только то, что несет эти акценты. От них зависит направление внимания. Таким образом, выделенное и оттененное, оно является существенным не в себе, не само по себе, но только для нас. В высокоразвитом теоретическом сознании оно может, конечно, приблизиться к существенному в себе; но тогда сознание резко отделяет чувственно данное и не данное чувственно и восприятие приобретает форму сознательно совершаемого наблюдения. В этом случае возникает совершенно другой взгляд, который очень далек от восприятия обыденного. За акцентированием и удовлетворенностью в восприятии стоят ясно выраженные оценки: вся за27 интересованность падает именно на компоненты ценности, которые мы вносим с нашей стороны и переносим на круг воспринятого. Так увидел Макс Шелер в свое время этот феномен и в первый раз описал его. Это можно понять и по его собственному сочинению: область восприятия дает нам удовлетворение по ценностям. При этом речь ни в коем случае не идет о высоких этических ценностях или же только о них, но только во втором плане; на первом месте это гораздо больше касается ценностей в виде благ (включая разнообразные ценности вещи и жизненные ценности). Ведь господствуют точки зрения самоутверждения личного успеха. Такие точки зрения, так же как и сами стоящие за ними ценности, являются моментами, которые по своей сущности исключены из восприятия. Мимоходом здесь можно сказать несколько слов о знании людей. Оно покоится не на собственном знании, а на обостренном интуитивном взгляде, то есть, собственно говоря, на созерцании невидимого. Поэтому оно принадлежит как раз к феномену восприятия. Оно также обусловлено практически и руководствуется точкой зрения ценности. Наряду с пластичностью пережитого искусное обобщение однажды испытанного (то есть эмпирическая аналогия) проявляет свою сущность. В силу этого она имеет в себе также слабости аналогии в сознании: страдает всеобщностью, образует схемы и верна только постольку, поскольку эти схемы оказываются пригодными. Поэтому взгляд знатока людей касается только типического и оказывается беспомощным перед действительно личным, то есть перед тем, что неповторимо и требует более пристального взгляда. в. Компоненты чувства Все эти компоненты выходят далеко за пределы восприятия. И все же все они относятся к восприятию, теснейшим образом и внутренне связаны с ним, связаны так, что в отрыве от него мы не имеем никакой возможности познать их. Решение загадки дано выше в утверждении, что не существует просто воспринимающего сознания, по крайней мере у обычного человека, а у духовно высокоразвитого не существует вовсе. Благодаря этому все, что дает восприятие, попадает уже на почву широкой, всеохватывающей взаимосвязи. То же самое можно рассмотреть с другой стороны, и тогда оно выглядит так: восприятие "трансцендирует" самое себя. Дословно это можно выразить таким образом: восприятие перешагивает через самое себя, переступает свои собственные границы, указанные ему его чувственной функцией. Оно выходит за свои пределы, переходит на другое, которое ему непосредственно не дано, и присваивает его себе, почти не считаясь со своим действительным происхождением. Так оно навязывается единству, целостности, взаимосвязи, заднеплановому - и притом так элементарно и непосредственно, что нам кажется, будто мы переживаем их в восприятии и принимаем за данные. Происходит так, что мы видим как бы тайные намерения человека на его лице, и в известном смысле мы действительно можем их видеть. Следовательно, это есть "самотрансценденция" восприятия. Оно не остается у себя, но расширяется. И поэтому феномены восприятия не могут быть психологически изолированы. Их знают только в соединении с большим количеством более высоких функций, и, строго говоря, все время приходится иметь дело со всем сознанием. Ни в коем случае нельзя сказать, что это верно исключительно лишь для высокообъективных и предметных элементов в нем; это верно также и для эмоциональных элементов. Речь идет как раз о последних, потому что здесь связь еще более тесная и в большей степени коренится в элементарном. Чисто предметное восприятие, как мы это знаем по наблюдению, генетически есть более поздний продукт культурного сознания и существует даже в современном человеке только при известной его зрелости. Для детского или близкого к природе примитивного сознания предметы восприятия отягощены еще различными аффективными акцентами: так, неизвестное связывается с возбуждающим страх и ужасным, что может быть, между прочим, перекрыто самым удивительным образом моментом, возбуждающим любопытство. Какое-нибудь место может быть воспринято как жуткое и отталкивающее или же, наоборот, как уютное и близкое при простом взгляде на него, при простом восприятии. Вещи, также как происшествия, могут быть угрожающими, подстерегающими, коварными, а также благотворными, благонамеренными, добродушными, любвеобильными. Ребенку свойственно воспринимать безобидные вещи как "добрые" или "злые"; последние не в смысле морально злого, но как враждебные или злонамеренные. Светлый солнечный луч, журчащий ручей, темнота леса, ночная прохлада, сучковатый ствол дуба, одним словом, весь воспринимаемый мир наполнен такими чувственными акцентами. Многое из этого зависит от какой-либо действительной угрозы человеку со стороны сил природы; то же самое можно сказать о расположении к человеку окружающей природы. Такой опыт может сохраниться в инстинктивных реакциях чувства. В этом отражается также анимистическое мировоз28 зрение ранних культур; став чуждым нашему мышлению, оно все же сохранилось в воспринимающих сферах нашего сознания, неравномерно распределяясь соответственно типу человека и в известных границах, имея все еще чувственный характер. Человек действительно живет в этой сфере своего сознания, находясь вплоть до сегодняшнего дня в плену укоренившихся телеологических представлений. В те мгновения, которых не бывает при трезвом размышлении, они снова обнаруживаются, проявляются, нападают на него. Воспринятое тогда неравнодушно к нему, "чего-то от него хочет" независимо от того, находится ли это в добре, или зле, или же по сю сторону всех мифических реминисценций. Первобытные моменты страха, возможно, играют при этом главную роль. Такие компоненты чувства не навязаны восприятию в ходе развития, но являются первоначальными, и от их господства объективное восприятие освободилось сравнительно поздно. Поэтому при случае они все еще звучат в восприятии трезвого и успокоенного сознания. Они выступают тогда из темной глубины подсознательного и присоединяются к восприятию. В повседневной жизни современного человека еще сохраняются эмоциональные компоненты восприятия. Здесь также бывают известные моменты веселья или уныния, которые определяют настроение. Мы говорим о "радостном взгляде" или об "отвратительном впечатлении" также там, где дальнейший интерес к вещи отсутствует. Рука с видимым удовольствием гладит мягкую кошачью шкуру, но боится тронуть жабу или паука. Несомненно, что здесь в основе лежат жизненные реакции. Подобное бывает и тогда, когда мы слышим пугающие или режущие звуки или успокаивающие, ритмические, убаюкивающие шорохи; уже слова выражают определенную направленность чувства. Надо также иметь в виду, что обоняние гораздо более подвержено изменениям и благотворным чувствам. То же самое в еще большей степени относится к чувству вкуса. Аналогия в большой степени зависит также от взгляда человека. Личность может произвести сильное впечатление уже с первого взгляда, может вызвать отвращение или же, наоборот, нравиться и располагать к себе. Это уже чувственные реакции, которые стоят на границе морального. Они все еще непосредственно и совсем нерефлективно тяготеют над восприятием. На них покоится тайна "первого впечатления". Вообще граница предметного и аффективного восприятия неопределенна. Первоначально оба могли существовать как бы одно в другом, может быть, даже с превалированием аффективного. И эти феномены также можно обозначить как род "самоперехода" восприятия. Однако этот переход идет в другом направлении: не на дополнение или обогащение предмета, а на многотональность звучания впечатления, явления как такового, одним словом, в направлении его "бытия для нас". Если смотреть со стороны субъекта, то он имеет форму возврата к первоначальному впечатлению, к оттенкам чувств, от которых объективное восприятие только освободилось. И когда возражают, что эти оттенки чувств совсем не относятся к предмету, то на это можно ответить так, как однажды уже ответил Демокрит, правда, на совсем другие возражения: и окраска и оттенки не принадлежат предмету, но существуют только для нас. Как окраска, так и оттенки чувства приписываются предмету, причем само приписывание в обоих случаях имеет одинаковую непосредственность, так что опятьтаки не является настоящим приписыванием; вернее сказать, угрожающее и приятное в восприятии ощущается так же непосредственно, как ощущаются такие качества предметов, как красный или зеленый цвет. Только относительно позднее сознание оказывается способным отличать здесь объективное от субъективного. Мир вещей в восприятии как и в непосредственном переживании является отягощенным этими относящимися к нам оттенками чувства. И самым удивительным является то, что последние даже там, где их "бытие для нас" уже давно обнаружено и они совсем уже не могут быть всерьез приписаны вещам, все же могут присутствовать в восприятии и при случае даже становиться преобладающими. Поэтому нужно сказать, что они даны нам в форме свойств предмета, но не в форме субъективных примесей, не как моменты акта, но непременно как содержательные моменты предметов. При этом не нужно забывать: они являются и в широких границах - по крайней мере по своему источнику - обязательно признаками объективно существующих отношений, опасностей, угроз, возможностей и т. п. Так, очевидно, происходит везде, где еще ясно ощущается это происхождение из полных чувства жизненных реакций. Отнесенность вещей к нам коренится в нашей зависимости от них. Это не видимость, а суровая действительность. Она остается в сущности также и там, где в единичных случаях она только воображается, потому что, хотя отношения бытия и господствуют над всем предметным царством, никто 29 не давал человеку в готовом виде верного критерия определения действительного и воображаемого. ГЛАВА 2 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ а. Возвращение к первоначальной точке зрения Все то, что касается восприятия вообще, в еще большей степени относится и к эстетическому восприятию. Здесь становится существенным параллельно увиденное и прочувствованное. В обыденной жизни современного взрослого человека чувственные восприятия или выключены, или по меньшей мере оттеснены. Современный человек имеет в высшей степени объективные установки, только существующее имеет для него вес и значение. И он в известных границах научился отличать действительное от воображаемого. Первое останавливает его дыхание, второе еще только иногда его стесняет в виде исключения. Распознавание имеет в его мировоззрении больший вес также именно в практическом отношении, ведь в этом как раз и состоит превосходство духовного сознания над пошлым сознанием, что оно берет вещи такими, какими они являются сами по себе, то есть независимо от понимания. Оно делает это, конечно, настолько, насколько это возможно для него, но тенденция здесь налицо. И этого одного уже достаточно для того, чтобы радикально изменить взгляд на окружающий мир, Дать ему то основоположение объективности, которое сознание называет сверхпредметностью всех предметов познания3. И это сознание распространяется "вниз" до восприятия. Совсем иначе обстоит дело в эстетическом восприятии. В нем первым и притом важнейшим моментом является обращение тенденции, то есть возвращение к первоначальной установке. Речь не идет о каждом отношении, но о чувственных тонах, присущих воспринятому. Для них "прохлада" зеленовато-синих красочных тонов, "теплота" красноватых и желто-коричневых весьма существенна; таинственное и страшное в лесной темноте, жуткое в завывании ветра, заброшенность среди голых скал снова выразительно воспринимается и при соответствующих обстоятельствах становится самым главным. То же самое относится и к угрожающему и устрашающему, к уютному и возвышенному, к стесняющему форму предмета, поскольку восприятие показывает в ней возвышенность или приниженность. Речь идет и об освобождении, которое дает взгляд вверх, и о стесненности узких проходов. Эстетическое восприятие не справляется о праве субъективности или очеловечивания, которое, возможно, находится в нем. Оно вообще не спрашивает и не рассуждает. Для него все это участвует в игре без рефлексии, но существенно и в предмете природы так же хорошо, как в художественном произведении; в увиденном им дан целый ряд своеобразных качеств: для пейзажа, интерьера, церковной архитектуры, но, возможно, сильнее всего для музыки, звуковых красок и гармонии, а также и для языковой формы поэтического произведения. Это не возврат к обыденному сознанию. Последнее считало бы реальным каждое данное чувственное качество; более того, оно считало бы, что страх, испуг, угроза относятся к нему, и чувствовало бы себя действительно охваченным страхом, испуганным, подвергшимся угрозе. Эстетическое восприятие этого ни в коем случае не делает, оно вовсе не является познающим восприятием реальности, оно походит на первоначальное восприятие только тем, что вообще воспринимает такие качества, некоторые из них пронизывает и получает возможность вновь видеть и чувствовать чрезвычайно богато окрашенное разнообразие предметов, но не в том, что оно подменивает действительный мир вещей этим разнообразием или смешивает их. Здесь как раз господствует строгое и чистое разделение. Возврат к первоначальному восприятию не есть возврат к примитивному пониманию окружающего мира. Однажды полученная объективность остается полной и целой. От того, что удовольствие от прекрасного проходит через сознание, объективность вообще не затрагивается, а тем более не ущемляется. Эстетическое восприятие скрещивается с ним без трений. Оно смотрит в другом направлении, и предметы их различны даже тогда, когда это те же самые вещи, которые одновременно представляются как одному, так и другому восприятию. Понять эту суть дела утвердительно не так просто. То, что прежде всего делается в нем понятным, является только отступлением познающего сознания, в частности рационального мышления и его объективного способа понимания, а также практического сознания с его целесообразными намерениями. Рациональность и трезвое стремление к цели радикально разделываются с чувственными тонами восприятия в духовном сознании. Это очищение происходит ради объективной ориентировки в мире. Как раз именно эта ориентировка отпадает в эстетическом сознании. Равнение происходит здесь не на актуальность, не на вещи и отношения вещей, а на объект, выделенный из них обоих. О бездушном сознании см. "Das Problem des geistigen Seins", Aufl. 2, (1949), Кар. 9, a-c. О понятии сверхпредметности "Grundlegung der Ontologie", Aufl. 3, (1948), Кар. 25. 30 3 В эстетическом сознании не происходит также восприятия объективной связи вещей, воспринимается только другая, в отношении к субъекту и его способу рассмотрения существующая связь. Но в этой другой связи ни в коем случае не исчезают все достижения духовного сознания: остается сама предметность и с ней остается и дистанция до предмета. Оба делаются еще более сильными и оттененными, потому что в эстетическом восприятии друг против друга остаются наблюдатель и его предмет. Но исчезает выключение чувственных тонов; эмоциональность в восприятии опять вступает в свои права, она опять освобождается и проявляется свободно. Здесь выступает необозримое богатство верхних и нижних тонов, и границы выразимого передвигаются. Разве могло бы быть иначе? То внутреннее, что проявляется в произведении художника, есть явление того же рода, имеет то же духовное бытие, двигается в той же самой области, что и эти тона восприятия, и то, что приводит восприятие к полноте, жизненности, близости чувств, к созвучию, вышло из этого внутреннего. С другой стороны, эта объективация субъективного возможна только в эстетическом восприятии, потому что она не давит на реальность, или, точнее, потому что она не включает свой объект в окружающий реальный мир, а как раз из него извлекает, изолирует, в каждом единичном случае показывает его как мир для себя, как если бы он был охвачен другого рода созерцанием. Мировая связь, которая отражается во всех прочих связях восприятия, благодаря этому не нарушается, но она держится в стороне от содержания этого созерцания, а созерцание при эстетическом восприятии держится обособленно и нейтрально. Если бы возврат эмоционального в восприятии был связан с претензией на познавательную ценность, так что этот возврат исказил бы действительность воспринятого, то можно было, во всяком случае, говорить о возврате к обычному сознанию. Но он не предъявляет этой претензии. Он не выдает себя за отношения познания, но ясно и сознательно выделяет себя из познания. Поэтому одушевление неодушевленного, очеловечивание нечеловечного может вновь безнаказанно вернуться. Злобное и преисполненное любви приписывается нереальному предмету, но только виденному как таковому; "тоска" по голубой дали или еще более сильное желание увидеть закат солнца не зависят от воздушной перспективы и различных условий поглощения солнечных лучей. Мы говорим в одинаковом смысле о "веселом небе" и "смеющейся лужайке", но нас не покидает знание того, что небо не весело, а лужайка не смеется. Здесь нигде нет никакого обмана чувственных компонентов восприятия, нигде нет иллюзий. И этим эстетическое восприятие отличается от первоначального восприятия, потому что оно не отрицает ни дистанции, ни объективности как таковых. Но оно ставит рядом с объективностью познания (и рядом с практически актуальным) другую, собственно эстетическую объективность, которая не смешивается с первой. Форма бытия этого предметного мира состоит в том, что она существует только для эстетически воспринимающего. Но в таком ограничении предметный мир составляет собственную область предметов, которая утверждает себя возле области реального и по своему разнообразию и полноте - даже над ней. В эстетической жизни природы и человечества это играет определяющую роль. Первоначальное отношение к окружающему миру звучит в нем, проникает в глубь рационализированного переживания мира, но не делает его фальшивым и само остается также нетронутым им. Смутное ощущение скрытого заднего плана протискивается между суровыми фактами. Но оно не сливается с ними, не деформирует их и ими тоже не деформируется. В этом царстве возле реального есть простор - без границ и без препятствий. Это подтверждается, если посмотреть на "играющих" детей. В игре действует сознание, близко стоящее к первобытному сознанию; это есть одновременно в высшей степени творческое сознание, родственное эстетическому. Вещи здесь еще наделяются чувственными тонами восприятия, выглядят весьма антропоморфно, имеют мнения, являются "добрыми или злыми". Поэтому кукла, как бы примитивно она ни была сделана, может быть человеком, то есть обладать характером и пороками, упрямством, конфликтами, виной, наказанием; несколько штрихов на земле составляют дом, известные правила игры являются правилами жизни в этой сфере объектов. Но сознание действительности, из которой возникла игра, существует; и ребенок также без смешения сфер возвращается назад в действительность, если она зовет его назад. В известных границах то же самое происходит в игре взрослого, в которую он вступает, чтобы "отдохнуть" от жестокости и тяжести жизни. Он также придерживается правил игры, как он их понял; поступает согласно этим правилам, вступает в мир фантазии, выходя за пределы реального. Раз31 ница между ним и ребенком только та, что для него игра как таковая является сознательной и что он не может уже благодаря игре забыть окружающий мир реального. Для него игра остается фикцией. б. Сопутствующее и откровение Еще важнее в эстетическом отношении другая сторона трансценденции восприятия: сопутствование предметных моментов и всех сторон или слсев предмета, которые как таковые не могут быть даны чувственно, потому что они не доступны чувствам (невидимы, неслышимы и т. д.), но все же ощущаются так, как будто они непосредственно восприняты (глава 1, а, б). То, что происходит всегда при обыденном восприятии, но в дальнейшем не замечается, потому что оно включено в цепь переживаний и привычно представляется нам как дополнение, нам легче понять; в эстетическом восприятии оно становится существенным. Потому что здесь речь идет как раз об отношении наслоения двух или нескольких слоев предмета восприятия, так что одно может "проявиться" в другом. Так, например, в прыжке убегающей козули воспринимаются одновременно грация, легкость, преодоление пространства и несколько неясно - также целесообразность живого. Это говорит о том, что эти вещи бывают поняты не только в позднейшей рефлексии; тотчас же при взгляде на грацию прыжка мы захвачены ею, и это захватывание принадлежит эстетическому созерцанию. Но оно при этом так тесно связано с восприятием, что мы думаем, что восприняли непосредственно саму грацию. В точности то же самое бывает и при взгляде на летящую хищную птицу, а также на движения человеческого тела. В импульсивном обороте, в легком наклоне головы, в слабом движении губ мы непосредственно воспринимаем то, что само по себе невоспринимаемо: душевную реакцию, внутреннее, чувственное. Движение есть выражение, а выражение уже само о себе говорит, само себя доказывает. Открывается целый внутренний мир, освещается как бы светом молнии или погружается в полную предчувствия мглу; но всегда скрытое делается очевидным. Восприятие "трансцендируется", оно становится "откровенным". И когда откровение превосходит узнаваемое в жизни или же доступное чувствам, ломает границы понятия и, следовательно, представляет характер "явления" в непривычном смысле, то мы его ощущаем не как обогащение понимания, а как красоту. Это понятие откровения оказывается в центре эстетического восприятия4. Но этим оно еще не определено более ясно. Это будет дальнейшей задачей. Эта задача неразрешима при одних феноменах восприятия; она охватывает самое главное во всеобщей "эстетике" и будет нас занимать больше во всем последующем. Достигнутое посредством откровения также индивидуально ограничено, как и непосредственно чувственное данное. Оно связано с моментами "здесь" и "теперь" в восприятии и разделяет неповторимость переживания и воспринятую данность предмета как "случайность". Это яснее всего показывают примеры, особенно тогда, когда обращают внимание на момент поразительного, проявляющегося в них в самой различной степени. Но этот момент осознается скорее как всеобщее, даже если он и не является универсальным, то есть чем-то типичным. По крайней мере сознание всеобщего может быть не совсем ясно. Это легко проследить на примере. При взгляде на полные силы, эластичные движения животного, которое резвится на свободе, мы все же знаем непосредственно о том, что грация, покоряющая уверенность в движении не связана с данным мгновением, что она вообще присуща животному, выражает его постоянную ловкость и совершенство и свойственна всем особям этой породы. Здесь, таким образом, открывается нечто от большой тайны органической природы, целесообразность живого. Это раскрывается перед нами молниеносно и заставляет мысль неустанно работать; но вначале это дано только как момент в восприятии с неожиданностью, которая может показаться пугающей. Мы смотрим как бы через узкую щель в царство чудес, которое открывается на один миг. Удивление от виденного есть уже удивление от принципиального в нем и поэтому ошеломляющее впечатление от чего-то высшего, всеохватывающего, необозримо значительного. И оно может дойти до настоящего волнения, до почтительного оцепенения перед предчувствуемым. Но это также сковано моментом образности в восприятии. В нем есть и в нем дана полнота содержания видимого, как будто бы она сама по себе была также воспринята. Да, даже в дальнейшем видимое остается связанным с исчезнувшей, но все еще внутренне существующей картиной. Беглость явления в этом ничего не меняет. Тот, кто воспринимает выражение "откровения" как слишком высокое выражение, пусть вспомнит, как употребляет его в своей этике Шлейермахер для обозначения могущества человека без слов возвестить о себе. 32 4 Это явление можно назвать "непосредственностью опосредованного" в эстетическом восприятии5. Опосредование происходит благодаря внешнему чувственному впечатлению; но непосредственность есть растворение опосредованного в воспринимающем сознании. Благодаря этому опосредованное в сознании существует непосредственно и ощущается как таковое. Это отношение, очевидно, совпадает с отношением двоякого рода созерцания в эстетически воспринимающем акте, о котором уже шла речь вначале (введение, раздел 12): второе созерцание присоединяется к первому, но так, что оба включаются одно за другим и все же одновременно здесь существуют. Второе в созерцании не отделено от первого и все в целом составляет только одно созерцание. Самым важным при этом могло бы быть то, что опосредованное всеобщее наглядно дано в полной непосредственности, хотя и непродуманно и неабстрагированно. К этому походит эстетическое восприятие обыденного в практической жизни. Оно только идет еще дальше и не ограничено актуальностью или чем-либо, продиктованным интересами. В этом оно вообще не имеет границ, границы действительного также не существуют для него. То, что здесь кажется сопутствующим, есть также недействительное, если только оно кажется наглядным. Это существенно для искусства - для сказок, басен, образов фантазий. Здесь коренится свобода эстетического созерцания от узости опыта и его вторжения в царство возможного. в. Пребывание в "картине" Вновь встает вопрос, как, собственно, отличить эстетическое восприятие от обыденного восприятия. После всего только что сказанного могло показаться, что разница между ними только количественная. С этим нельзя согласиться. Здесь должно существовать принципиальное различие. Иначе обычное восприятие в жизни должно было бы быть только "менее прекрасным". Вопрос может быть поставлен и так: что такое эстетическое отношение явлений? Уже было показано, что отношение явлений содержится вообще во всех восприятиях или, по крайней мере, им свойственно. Но в чем выражается своеобразие этого отношения в случае эстетического созерцания? На это нельзя ответить сразу. Первое, что можно сказать, - это следующее: в эстетическом восприятии отношение явлений выражено как таковое, втиснуто в сознание, в известном смысле даже предметно схвачено. Этого нельзя сказать об обыденном восприятии: там явления суть только переход к чему-то другому, средство цели (в жизни именно практические цели определяют восприятие), а само средство совсем не замечается. Здесь же речь идет о понимании сущего. В эстетическом восприятии, напротив, средства становятся существенными; взгляд не скользит по чувственной картине восприятия, а останавливается на ней. И в то время, когда он на ней останавливается, он воспринимает являющееся в ней как нечто вложенное в нее. Он воспринимает это как нечто только в нем ощущаемое и только благодаря этому ставшее чувственно наглядным, но не как идентичное ей. Созерцание здесь автономно. Оно здесь не подчиненная, а господствующая инстанция и присутствует здесь только благодаря самому себе. Поэтому оно близко к восприятию и включено в него, не отбрасывает его, а сохраняет во всех случаях возвышения над ним при созерцании чувственно данного. Ведь оно даже на своих высших ступенях не развивается в понятие, так же как не становится пониманием и суждением. И где понятие все же в него прокрадывается, потому что в конечном счете оно есть тоже род созерцания, там его роль в большей мере подчинена простому средству, которое исчезает, когда цель достигнута. Эстетическое созерцание обретает покой в самом созерцании. Поэтому оно как бы застывает в созерцании. И это уже осязаемо в восприятии, потому что высшее созерцание не отделено от восприятия, а существует вместе с ним и включено в него. Таким образом, восприятие не остается в стороне при духовном возвышении созерцания; скорее можно было бы сказать, что оно вместе с ним подтягивается вверх. Это то, что не выпадает на долю обыденного восприятия: оно строится на опыте, но потом покидается и забывается. Почему это так, становится понятным опять-таки из противоположности к отношению познания. При эстетическом восприятии речь идет не об отношении и понимании и еще менее о цели, будь она даже самой высокой. Созерцание не имеет здесь тяжести долженствования и не ставит своей задачей обнаружение истины. Оно свободно идет туда, куда его влечет. Ему достаточно картинности, связанности полноты многообразия, единства, замкнутости, округления, членения в целом; и происходит именно так, что это единство охватывает чувственно данное и все сопутствующее ему. В такой Выражение является свободным преобразованием известного гегелевского термина vermittelte Unmittelbarkeit (опосредованная непосредственность), который, однако, употребляется в другом отношении. 33 5 картинности остается также самое отдаленное и самое общее, которое созерцается вместе как близкое и непосредственное, относящиеся к данности. И многое, что остается непонятым при помощи понятия, может быть дано в этой непосредственности "картины". То, что составляло в "Критике способности суждения" первый пункт "Аналитики прекрасного", сохраняется здесь в измененном виде как освобождение от всякой заинтересованности в вещи. Практическое или теоретическое желание, руководя и выбирая, предписывает направление обыденному восприятию. Эстетическое восприятие не направлено ни на желаемое, ни на действительное (истину); оно не направлено также на человеческое знание, что все-таки близко к нему, потому что часто им обусловлено. Область восприятия не предопределяется ценностями. Ни важное само по себе, ни важное для нас здесь не авторитетно. Ценности такого рода могут играть роль направляющего мотива. Точно так же эстетическое восприятие проникает в водоворот жизни и только тогда выдвигает свой предмет именно благодаря своему функционированию. Но в нем самом эта точка зрения ценности не является определяющей. Эстетическое восприятие движется в процессе выбора существующего, как и в обнаруживании несуществующего, по другим, собственным законам, свободно паря, играя, отрываясь, вновь соединяя, присоединяя и выключая. Ее соединительные нити одновременно протягиваются к соединительным нитям реальной жизненной связи, но, по крайней мере, при известном безразличии к ней. Это отражается в измененном отношении к чувственной картине восприятия как таковой, о которой говорилось как о первом отличительном признаке. В обыденном восприятии исчезает "картина", если она создается посредством невидимого. Сама картина не важна, важно, только одно средство, которое забывается - и часто просто мгновенно - ради вещи, к которой проявляется интерес. Кто запомнит точно формы лица, на которое он смотрит и в которое он, рассматривая его, углубляется? Никто, кроме разве в высшей степени искусного в рисовании и прошедшего соответствующую школу. Однако он воспринимает все это не совсем "обыденно", а с точки зрения рисования, то есть эстетически. То, что в нас остается от данного лица, то, что мы, прежде всего, действительно апперципируем, есть его духовное выражение, то есть доброта, недоверие, сдержанная ярость; кроме всего этого, останется еще нечто от психофизической динамики игры выражений, но и это принадлежит уже скорее области невидимого. В эстетическом восприятии, напротив, картина остается не только существенной, но составляет также самостоятельное единство формы и существует для эстетического восприятия ради себя самого. Не ради того, чтобы это опосредование было незамечено или созерцаемо ради него самого; оно становится гораздо больше предметом созерцания, но не отделяется и не делается чем-то самостоятельным. Обе ступени созерцания остаются соединенными, и истина состоит в том, что общая картина, в которой как первое, так и второе созерцание суть только члены, смотрится как единая. Все вместе взятое с его чувственным и нечувственным содержанием представлено в эстетическом созерцании. Так смотрим мы на нарисованную картину, создание художника: сама техника красок и штрихи кисти для нас не безразличны. Оба, по существу, принадлежат к художественно созерцаемому, точно так же, как художественно представляемое, ландшафт или человеческие фигуры вместе с их духовным выражением. И как раз это переплетение Двояко созерцаемого и есть собственно предмет эстетического созерцания. Тот, кто видит только фигуры, сцену или эффект, тот не смотрит как художник, тот стоит на точке зрения человечески-содержательного; он смотрит только так, как в жизни смотрят на человеческие фигуры, его восприятие - это, по существу, обыденное восприятие. Точно так же тот, кто видит только пятна красок и не замечает на полотне ничего, кроме их пестроты, видит только поверхность вещей. Как тот, так и другой не видят художественного произведения, для них не существует своеобразного колебания обозреваемого предмета, они переживают явление как таковое. Соприкосновение с материалом, даже если оно выражается в форме самого глубокого сочувствия изображаемым лицам и судьбам (в драматическом произведении), не делает обыденное созерцание художественным. Здесь созерцание еще проникает через картинность, как через медиум, который оставляют позади себя, когда мимо него проходят. Только там, где чувственная картина будет схвачена как таковая и при проникновении внутрь будет удерживаться, причем без нарушения этого проникновения внутрь, данное отношение явлений само вступит в свои права. Только здесь оно ощущается как адекватность картины для явления нечувственного и некартинного. Это можно выразить еще так: к художественному созерцанию относится прежде всего то, что составляет сущность 34 художественного произведения. Это положение вещей прослеживается вплоть до эстетического созерцания, потому что, если в нем чувственная картина не является предметно, то нет ни пути, ни способа довести нечувственное до действительного, чтобы потом вновь представить его чувственно. Пусть кто-либо попытается представить себе конкретный внутренний облик какой-нибудь личности не так, как это передает восприятие или удачный портрет, но другим способом, как это мы иногда делаем, когда хотим сообщить наше впечатление кому-нибудь другому письменно. При этом удивительно быстро наталкиваются на предел того, что в состоянии дать слова и тонко сформулированные понятия. Эго оказывается невозможным. То, что может делать чувственная картина, просто незаменимо. г. Управление восприятием в эстетическом отношении С этим связано многое другое. В обыденном восприятии взгляд скользит не только по "картине" воспринимаемого в целом, но также по деталям; так происходит по крайней мере тогда, когда они не выделяются благодаря особенным практическим интересам воспринимающего. Единичности, едва взглянешь на них, уже забываются. Только в картинах восприятия "эйдетика" они удерживаются на некоторое время, так что и то и другое можно отметить еще и позднее. В эстетическом восприятии и с этим дело обстоит иначе. Деталь становится существенной; причем хотя и не все детали, но очень многие. Представляющаяся картина наделяется таким богатством, которое чуждо вульгарному видению и слышанию. Не может быть сомнения, что это богатство, со своей стороны, зависит от повышенной интенсивности самого восприятия. Видимое и слышимое по силе восприятия превышает обыденную меру, хотя лишь особенным образом и не в направлении остроты чувств. Моряк видит гораздо острее, чем художник, охотник слышит лучше, чем музыкант, но оба видят и слышат только нечто определенное из симфонии воспринимаемого, все остальное подавлено и остается незамеченным. Эстетическое видение и слышание усилено в другом отношении, оно качественно расширено: оно замечает незамеченное, то, что обычно ускользает от чувств. Благодаря этому оно вносит в сознание разнообразие другого рода. Можно войти в комнату и видеть только то лицо, с которым хочешь говорить; но можно видеть также падающий солнечный луч, можно видеть сумерки, игру красок и блеск свечей. Далее, естественно спросить, на чем это основано. И наталкиваются на новый основной феномен эстетического восприятия - очевидно, и здесь также существует направление восприятия и оно совершенно другое, чем в обыденном отношении к предмету. В обыденной жизни видение и слышание управляются практически и со временем совершенствуются в направлении этого управления. Эго происходит не только в таких исключительных случаях, как в примере с моряком и с охотником, то же самое происходит при свободных отношениях в обществе. Мы различаем, например, шепотом сказанное слово среди шумного хора голосов, потому что мы обращаем на это внимание ради определенной личности или ради самого сообщения. Эстетически восприятие управляется иначе. В голландском натюрморте выступают как существенные предметные детали светотени и тона, которые обычно остаются незамеченными сами по себе. В ландшафте, и не только в нарисованном, в сознание входит перспектива, которая в обыденном видении совершенно растворяется в предметности, потому что она подвержена быстрой реобъективации6. Это зависит как от геометрической, так и от воздушной перспективы; обе воспринимаются совместно и совместно смотрятся. То же самое зависит, конечно, и от бесчисленного множества других событий: от звуковых красок речевых интонаций, а также от музыкальных инструментов, от звука человеческих голосов; зависит как в жизни, так и в поэзии от мимики и поведения людей. Все это становится существенным, важным, значительным, поэт извлекает это из того, что для него разумеется само собой; однажды появившись на свет, оно становится многозначительным, изменчивым. Но также и наблюдатель красоты в живом человеке и в природе делает это видимое и слышимое сознательным и существенным. Спрашивается: что является руководящим в этом направлении эстетического восприятия? Почему так сильно выступают в нем чувственные детали и становятся существенными? На это можно было бы ответить так: потому что незамечаемое в обыденной жизни стоит того, чтобы быть замеченным. Оно само есть прекрасное, и только обычный поверхностный взгляд скользит мимо него; эстетическая точка зрения, а искусство тем более делают его очевидным. Откровение как ценностная точка зрения является руководящим принципом. Этим была бы тогда привлечена для ответа на вопрос уже О сущности феномена реобъективации см. "Aufbau der realen Welt", Aufl. 2, 1950, Кар. 38, с; см. также "Philosophie der Natur", 1950, Кар. 8, с, S. 15f. 35 6 чистая эстетическая ценность, эстетическая ценность как таковая. Из всех ценностей этого рода следует предпочесть эстетическую область восприятия, точно так же как среди практических ценностей предпочитается повседневная область восприятия. В этом должно быть нечто безусловно правильное. И все же ответ пропускает целый ряд моментов, которые в этом рассуждении выступают на первый план. Потому что эстетическая ценность зависит от отношения проявления, а здесь перед нами стоит еще одно условие, а именно осознание чувственной детали. Поэтому надо искать еще другое решение. Здесь раскрывается новая сторона в существе детали, выступающая как направляющая сила: а именно маленькие чувственные частности, однажды воспринятые в сознании, имеют огромную опосредствующую силу. Они действуют в двух направлениях. Они извлекают на свет сознания все новые детали, действуют как точки кристаллизации восприятия и одновременно заставляют являться нечувственное, скрытое на заднем плане - жизненность, духовное и морально человеческое, а вместе с тем и всеобщее в физическом мире. Но это значит, что они очевидны в некоторой степени, в какой не может быть очевидным плохо выявленное содержание повседневного восприятия. Но там, где речь идет об отношении явлений, сила откровения является определяющим моментом. И там, где эта сила больше всего сказывается, туда тяготеет и эстетическое восприятие; здесь уже появляется определенный момент направления, который существует только в эстетическом акте созерцания. Но то, что передается и доводится до явления, очень от проникновения в детали, не говоря уже о проникновении в индивидуальность и неповторимость. Оно может, скорее всего, охватить всеобщее. И не только общечеловеческое, но и все общее в природе. Так может стать ощутимым в особенной игре света чувственно данное всеобщее чудо света и красок, то, что является видимым вообще и как таковое осязается. Такое откровение не может быть точно определено. Но эстетический опыт учит, что оно фактически имеется, что оно совсем не является редкостью как при созерцании художественного произведения, так и в свободно парящем взгляде эстетического восприятия. С другой стороны, здесь обнаруживается парадокс. Именно то, что является самым близким для восприятия и, как можно было бы предположить, что должно было бы быть прежде всего в нем замечено, то есть чисто чувственная единичность, находится от него в чрезвычайном отдалении и открывается только в очень поздней стадии зрелости духовного сознания. Поэтому эстетическая предметность является последней в исторической последовательности, и во многих областях ее мог открыть только взгляд творящего художника. Тайну управления нужно было бы искать уже на границе обыденного и эстетического восприятия. Эта граница проходит каждый раз посреди нашего "мира восприятия" и в большинстве случаев расплывчата; только в уже созданном и ясно выраженном произведении художника она становится нам понятна. Только очень наблюдательный человек может найти ее непосредственно в жизни: он замечает ее, когда где-нибудь в его поле восприятия неважное и лишнее захватывает его, трогает, удерживает при себе, когда эфемерное делается очевидным, а лишенное ценности ценным, когда свет и краски вещей начинают игру, которая не имеет ничего общего с вещами, или когда серьезные события человеческой жизни, обычно вызывающие заботу или досаду, вдруг оборачиваются другой стороной, и, показывая нам свой улыбающийся профиль, заставляют нас самих улыбаться. Тогда деталь делается видимой, становится предметной. И тогда проявляется ее своеобразная обратная сила, потому что в ней сказывается присутствие и нечувственного. Что касается высшей дифференцирующей силы выражения, то она может выразиться только в высоко дифференцированной детали, даже если деталь была бы совсем другой и не имела бы никакого сходства с этой силой. Поэтому в эстетическом восприятии центр тяжести всегда падает прежде всего на внешнее, близстоящее и второстепенное. Так поэт своим особым путем ведет читателя к внутреннему и значительному лучше всего через внешнее в поведении, действии, разговоре действующего лица, через то, как оно проявляет себя и как скрывает себя в своем вечном самообмане и неожиданном нахождении верного. И можно было бы почти утверждать: чем меньше и ничтожнее бывают частности, тем больше сила откровения, которая кроется в них. Здесь можно все же задать встречный вопрос: каким образом функция опосредования и откровения, которая имеет осознание детали уже как предпосылку, со своей стороны, должна направлять к нему восприятие? Этот вопрос вполне правомерен. Но при этом вопросе не считаются с тем, что здесь господствует не простая временная последовательность, что в созерцающем сознании все взаимно обусловлено и взаимозависимо, что всякий обмен между ступенями и фазами сознания весьма 36 часто меняет свое направление. В этом вопросе не считаются также с тем, что все содержательное в сознании уже вначале бросает свои тени, и то, чем оно вызвано, только благодаря этому доходит до полного осознания. При такой форме духовной связи последующее во времени может приниматься за непосредственно предшествующее, потому что его начало уже содержится в незаметном и последнее может только развернуться. В современной психологии еще мало замечают эти вещи, не говоря уже о том, что они мало исследуются. Они могут быть также с трудом понимаемы, пока категории духовного бытия не разработаны. Но до этого при сегодняшнем положении дела и направлении интересов еще очень далеко. ГЛАВА 3 СОЗЕРЦАНИЕ И НАСЛАЖДЕНИЕ а. Сохранение динамически-эмоционального в эстетическом восприятии То, что в первых двух главах было рассмотрено под общим названием "восприятие", не принадлежит, конечно, ни в коем случае только одному восприятию. Повсюду включаются моменты высшего созерцания, также как момент пребывания, удовольствия, оценки и многое другое. Однако все они связаны с восприятием, имеют в нем свой общий исходный пункт и не освобождаются от него при дальнейшем развертывании. Само высшее созерцание, которое мы теперь рассматриваем, по своему характеру является близким к восприятию, родственным ему. Восприятие играет для них всех роль первичного феномена. Но, как уже обнаружилось, как раз в качестве первоначального феномена оно еще не является эстетическим восприятием, и точно так же первоначальный феномен в нем как таковой не есть эстетический феномен. Первичное в нем - это не дистанция, не предметное отношение и не пассивное созерцание, а связь, внедрение в жизненные реакции организма и психофизического целого. Отсюда преобладание эмоций, моментов возбуждения, страха и требовательности. Организм активно-реактивно включается в окружающий мир, вступает с ним в обмен веществом и силой, и восприятие является органом ориентировки в мире. Восприятие само по себе не есть чистое созерцание, оно не безучастно. Оно опосредует в человеческой жизни вещи как "действующие". Созерцание вторично, оно покоится уже на выключении эмоционального. Восприятие с самого начала не является ни теоретическим, ни эстетическим. Оно становится тем и другим только благодаря освобождению от актуальности. Но, в то время как в теоретическом "наблюдении" реактивность совсем исключена, в эстетическом взгляде что-то от нее все же, по-видимому, остается. Потому что здесь существует чувственный оттенок восприятия, приятный или неприятный. Но чувственный оттенок обусловлен через реактивное отношение. Ведь в предмете ощущается тяжелое и легкое, дают себя чувствовать скованное и свободное, играющее и с трудом передвигающееся, полнота и недостаток, сила и слабость. Являющееся при этом динамическое "нечто" выступает как носитель этих моментов. Но даны они восприятию в форме чувственного. Однако в этом смысле, то есть исключительно предметном смысле, здесь эмоциональное еще не выделено. И этому соответствует то, что в воспринимающем субъекте господство чувств еще не заменено созерцанием; возбуждение проявляется здесь еще как у ребенка, но оно больше не является господствующим, тем более всецело господствующим. Жизненная серьезность все еще подвергающегося опасности существа перешла в наслаждение неизвестным, в манящее любопытство, но тем не менее все отношение является еще только игрой со всем этим. Конечно, это еще не все, что составляет истину. Скорее здесь имеет место синтез противоположных установок: в созерцании, которое теперь вступает в силу, с одной стороны, действительно выигрывается дистанция к вещи, но, с другой стороны, эмоционально-динамическое первоначального восприятия не уничтожается, а только "снимается". Эта снятость есть отрицание в гегелевском смысле: оно больше не есть то, чем было, оно "сохранено", но одновременно и "поднято" на новую ступень. Эти три характерных момента - отрицание, сохранение и поднятие на высшую ступень - ясно видны в новом отношении и существенны для него. Они воспринимаются еще все вместе при созерцании прекрасного человеческого тела. Тело сначала познается практически (в его действиях), вызывает восхищение или желание (эротическое); это отношение к нему нейтрализуется при созерцании формы как таковой и одновременно закрепляется, но вместе с тем поднимается до чувства удовольствия высшего порядка. Во всяком случае, здесь нет противоречия в том, что при этом на первой ступени остаются чувственные тона, в то время как актуальность, от которой они происходят, теряется и в конце концов совсем устраняется. Теплота ощущения не идентична первоначальной реактивности или жизненному влечению. Созерцающее сознание становится контемплятивным; оно нарушает реакцию и заставляет ее исчезнуть, в то время как духовный чувственный тон остается в предмете. 37 б. Восприятие и высшее созерцание С выделением деталей и расширением картинности сферы действия восприятия оказываются превзойденными. Точно указать его границы невозможно. Но это и не так важно. Ступени акта сознания не разделены барьерами, они без скачка переходят одна в другую. Несмотря на это, здесь вступает в действие другой тип созерцания. Это именно тот, который непрерывно и без переходов образует продолжение дополнительно схваченного, которое незаметно включается в восприятие. Это другое созерцание не менее конкретно, но оно больше не чувственно, то есть его предмет не дается чувствам; оно направлено на то, что было в восприятии "воспринятого вместе", но что в строгом смысле не есть воспринятое. Оно касается, таким образом, в воспринимаемом "являющегося" и внутри являющегося опять-таки того, что является предметом откровения. И поэтому оно само имеет характер откровения. Ведь в известном смысле все это созерцание имеет характер откровения, и этим не сказано ничего нового. Но язык связывает с "откровением" представление об обнаружении того, что в жизни остается скрытым, в особенности там, где оно, уже давно предчувствуемое, разыгрывается в фантазии. Смутно предчувствуемое отношение к чему-то неизвестному, всегда стоящему позади, уже давно содержится в восприятии; в сопутствовании (im Mitgegebensein) можно найти все ступени этого отношения. В высшем созерцании это неопределенное становится определенным. Потому что оно направляется на все, что начинает обнаруживаться как бы из-под чувственно данного: на жизненное, на движение души и скрытые стороны духовной жизни, на тайны природы и космоса, словом, на совершенно всеобщее, начиная от человека и кончая вселенной. Высшее созерцание не знает границ, поэтому ему испокон веков так близки религиозные представления; и на этом основывается то, что все, что касается божественного откровения, очень сильно тяготеет к художественному представлению. Ведь это есть не что иное, как сила обнаружения для каждого, обнаружения именно того, что не каждый в состоянии себе конкретно представить. Не случайно, что большое искусство в большинстве случаев исторически вырастало из религиозного убеждения и черпало из него свои темы. Но нельзя сделать вывод, что историческое происхождение якобы определяет и его границы. Историческое происхождение определяет только временно преобладающее направление искусства. Здесь уже наталкиваются на первый главный момент высшего созерцания. Оно составляется из того, что витает перед ним, полное значения и чувства, и из того, что определено согласно смыслу и ценности. Оно получает свое направление не из чувственного, но из другой сферы, а в этой сфере властвуют другие силы, которые охватывают сознание другим способом. Отсюда исходит, в конце концов, и то таинственное направление восприятия в эстетическом отношении, о котором шла речь выше, потому что в чувственном материале оно составляется из всего того, что более всего способно быть передатчиком значительного, значит, преимущественно из незаметных в ежедневном восприятии деталей. Из сказанного ясно, что созерцание высшего порядка не есть что-то запоздалое, а всегда совершается одновременно с эстетическим восприятием. Почему дело обстоит так, что восприятие, выступающее вместе с созерцанием, руководствуется последним? Оно не совершается в своем особенном виде как созерцание первого порядка без одновременного соединения с созерцанием второго порядка, и можно высказаться только предположительно о том, что оно благодаря этому способно лишь к детальной образности, которая отличает его от вульгарного, связанного с реактивностью и ею управляемого восприятия. Возможно даже, что здесь находится причина эстетического выделения предмета из реальной связи, а также причина экстаза созерцающего это явление наблюдателя. Но оно еще требует исследования и, возможно, будет опровергнуто. Здесь мы уже вправе спросить, что представляет собой содержательно-позитивное высшего созерцания. Если исходить из акта, то немногое. Так как содержание является нам в предмете, то только анализ эстетического предмета может разъяснить нам это. Опережать его было бы напрасным трудом - раньше нужно объяснить бытие предмета. Более того, только исходя из предмета, становится понятно, как совершается высшее созерцание и в чем его сущность. Здесь не годится взятый сам по себе анализ акта. Настоящее чудо, которое происходит в акте, есть тесная связь с восприятием того, что постигается созерцанием, а также обмен между обоими родами созерцания, которые наслаиваются одно на другое и в то же время выступают одновременно. Между прочим, забегая вперед, можно сказать следующее: все идейное содержание эстетического предмета подчинено высшему созерцанию и бывает полностью охвачено только им; и именно поэтому безразлично, предстает оно "осуществленным" в реальной картине - в человеческой красоте 38 или в красоте природы - или только перед глазами, вызванное, как по волшебству, в произведении художника. Ведь здесь речь идет не о познании реального. Всякое созерцание как таковое может быть понято спонтанно действующим. Это касается также и высших ступеней эстетического созерцания. Идейное содержание эстетического предмета, как и все, что им определяется, может быть также продуктивно-синтетически созерцаемым, и тогда оно существует только по милости акта, притом безразлично, касается ли это оригинального художественно-созидающего акта или следующего за ним акта наблюдения. Далее, можно сказать: высшее созерцание также не должно быть простым или одночленным. Оно само может быть многослойным, так что целая лестница ступеней из моментов акта все более высокого созерцания возвышается позади восприятия и над ним. Само восприятие есть только первый член. Близлежащие ступени созерцания еще схожи с ним и поэтому кажутся принадлежащими ему. Высшие же ступени созерцания, которые раскрывают преимущественно идейное содержание, удаляются от него, спонтанно продуктивный элемент в них повышается и ведет к творческому созиданию. Если достигнута известная высота, то созерцание снова приближается к сознанию, вступает с ним в контакт и, тесно переплетаясь, может соединиться с ним; но его сущность и направление остаются иными, хотя оно может делить с познанием претензию на истину. В конце же концов оно удаляется от познания и ведет дальше. На самой высшей ступени стоят настоящие формы "интуиции" в том зародышевом смысле видения (visio), которое уже в древние времена считалось превосходящим мышление (cogitatio). С этим согласуется то, что последними внутренними силами, определяющими изнутри все вплоть до самого восприятия, безотносительно к оформлению особого материала - силами направляющими, выбирающими и определяющими, - являются силы чувства ценности, потому что если данные сознанию ценности понимаются предметно, то они понимаются интуитивно, то есть не в форме понятия, а в формах созерцания. Это есть связь, возможно, даже закономерность, которая свойственна не только эстетическому строению акта, но всему человеческому сознанию, поскольку оно определяется ценностями. Этот закон более знаком в практических отношениях, а именно без различия групп ценностей, которых это как раз касается. Мы знаем очень точно феномен нравственного сознания как направляющую силу ценностей; мы знаем также тонкую и высоко дифференцированную реакцию чувства ценности на нее. Сверх того, обнаруживаются весьма своеобразные пути, на которых они из чисто чувственных сил становятся объективно созерцаемыми сущностями. Эти пути не являются путями позднейших анализов, как их определяет феноменология ценности, а прокладываются в самой гуще жизни и именно под давлением реальных ситуаций, и при этом само рассмотрение содержания ценности всегда интуитивно. Основная схема восходящего сознания ценности в эстетическом акте остается той же самой. Только здесь род интуиции другой и другие обстоятельства, которые позволяют ей функционировать. Интуиция также входит в некоторые особенности, не доступные практическому сознанию. Как бы то ни было, для эстетического строения акта, во всяком случае, результируется так много, что определяемые ценностями компоненты в нем не выпадают из содержания созерцания, но всецело входят в него. в. Роль жизненного и нравственного чувства ценности Сами ценности, однако, о чувствовании и созерцании которых здесь идет речь, не являются еще ни в коем случае эстетическими ценностями. Скорее они представляют собой ценности нашей практической жизни и даже теоретической деятельности. Это прежде всего жизненные и нравственные ценности. Не отсутствует здесь также широкая область материальных ценностей, отодвинутая на задний план, но разумеющаяся сама собой. Все они не должны быть смешаны с ценностями, которые делаются ощутимыми в эстетическом "удовольствии", в наслаждении красотой и в восхищении созерцающего. Что касается самых известных вещей, то здесь можно сказать следующее: в области пластики и многих предметов природной красоты речь идет о таких ценностях, как полнота сил, полнота жизни, здоровье, расцвет и созидательные силы, физическое уменье и целесообразность; здесь речь не идет еще о грации движений, прелести или гармонии формы. Подобным же образом обстоит дело в области поэзии и в области человеческого, где преобладают ценности доброты, любви, верности, честности и справедливости, способности жертвовать собой, храбрости и рыцарства; к этому нужно, во всяком случае, прибавить также их противоположное: неценное, несправедливость, жестокость, не39 искренность, коварство. Ведь здесь проявляется вся человеческая жизнь всеми своими сторонами. По этические образы без этих компонентов ценности и неценности так же мало понятны, как образы жизни. Героям свойственно мужественное самопожертвование, и оно должно быть дано в восприятии ценности, иначе зритель в театре и в жизни может не понять героя. Самое важное здесь состоит в том, что эти ценности являются предпосылкой для эстетического созерцания и отнюдь не являются эстетическими ценностями. Жизненные ценности есть и остаются жизненными, нравственные ценности есть и остаются только нравственными ценностями. Но они должны быть восприняты живыми, чтобы в предмете была освещена совсем другая эстетическая ценность. В этом смысле можно сказать, что эстетическое сознание ценности обусловлено способностью созерцающего узреть внеэстетические ценности. И здесь ясно ощущается высшая ступень интуиции в эстетическом созерцании. Она выступает в строении акта созерцания столь властно, что ею определяются все низшие ступени вплоть до направления восприятия. Это и есть направление на ту деталь видимости, которая обнаруживает нам значительное, находящееся в этих ценностях. Насколько это важно, мы отчетливо видим в жизни на том факте, что чувство ценности, со своей стороны, благодаря эстетическому созерцанию делается очень сильными обостренным, а часто только впервые пробуждается. Вопрос о точной характеристике того, как эстетическая ценность наслаивается на этическую и жизненную ценности - в одном и том же предмете и в одном и том же созерцании, - относится к эстетическому анализу ценности и будет разобран в соответствующем месте. Здесь пока нужно только твердо установить, что существует отношение условий, которое вплоть до созерцающего акта является определяющим. В изобразительных искусствах созерцание всегда направлено прежде всего на содержательное, которое является. Но содержательное есть оформленный материал. Для материала действителен закон, согласно которому его может составлять все разнообразие природы и этической жизни, включая сюда законы и ценности последних. Но только новая форма должна быть выше, точно так же как эстетическая ценность лежит выше практической и жизненной ценности. Здесь заключается одна из причин того, почему все изобразительное искусства начинают с "подражания" чтобы, лишь постепенно продвигаясь вперед, перерасти его. И уже в этом есть предвосхищение. г. Радость, удовольствие и наслаждение От этих вещей нельзя отделять радость в эстетическом строении акта. Она есть субъективная обратная сторона созерцания и всех его ступеней, но "субъективно" она является только чистым чувственным тоном; то, что она опосредует и на что указывает, есть нечто весьма объективное - именно то, что образует содержание "суждения вкуса". Но суждение вкуса высказывает лишь то, что говорит ему радость при созерцании. Значит, в строении акта радость занимает центральное место. Несмотря на эту устойчивую взаимосвязь, она является в своем роде вполне самостоятельным моментом в эстетическом отношении, не дает себя перевести на что-нибудь другое и поэтому может также самостоятельно анализироваться. Кант из старших и Мориц Гайгер из новых теоретиков эстетики посвятили ей глубокие исследования; результаты их принадлежат к лучшему, что вообще было достигнуто в области эстетики. Но все же опасность состоит в том, что самостоятельность чувственного момента в радости увлекает анализ в субъективность и этим отодвигает эстетику на те психологические рельсы, от которых отказались уже в XIX столетии. Настоящий эстетический Момент в радости наступает только тогда, когда схватывают ее отношение к предмету. Потому что самым важным в эстетической радости является то, что она не менее объективна, то есть не менее связана с предметом, чем созерцание. Ведь она указывает ценность, и притом именно эстетическую ценность. Она, пожалуй, является даже инстанцией, указывающей ценность в эстетическом строении акта, потому что рядом с ней ничего подобного нет. Поэтому можно сказать, что она есть первая и непосредственная форма эстетического сознания ценности. Что это означает, можно понять сейчас же, как только мы примем во внимание, что в этом "обнаружении" или ощущаемости эстетической ценности речь идет не только о всеобщем, не только о прекрасном вообще, но и об их особенностях, о невидимых многообразных нюансах ценности. Ведь этим последним соответствуют нюансы тонко дифференцированных оттенков чувства и радости, а также нюансы глубины ощущения (от легкого удовольствия до блаженства восторга) и глубины качества. Здесь открывается широкое поле эстетического сознания ценности, целое царство разнообразных ценностей, не меньшее, чем разнообразие предметов и действий. Но при этом нужно сказать, что оно 40 открыто только чувству, а не мысли и что данная радости полнота дифференциации не достигается путем анализа и не может быть передана в понятиях теории или даже в приблизительно адекватном словесном выражении. Именно здесь философская эстетика наталкивается на непреодолимые границы, о которых она должна знать и с которыми должна считаться. Если в наблюдении радость и ценность не могут быть оторваны друг от друга, хотя первая принадлежит субъекту, а вторая - объекту, то то же самое непосредственно относится и к радости и к предмету, потому что ценность принадлежит исключительно предмету. Поэтому ценностная сторона в радости становится очевидной только в своем отношении к предмету. Здесь господствует строгое отношение соподчиненное; именно об этой стороне эстетического чувства и идет речь. С этим считаются более объективные понятия "удовольствия" и "наслаждения" (первое предпочитается Кантом, второе - Гайгером). Нравиться может только "что-то", а наслаждаться можно только "чем-то". Как то, так и другое выражение означает не только причину, действием которой было бы чувство, но и предмет, ярко интендированный в удовольствии и наслаждении. Выражение "эстетическая радость есть удовольствие (или наслаждение)" означает прежде всего то, что они подчинены объекту, направляются им, ориентируются на него и определяются им, следовательно, в этом смысле "объективны". Для художественно воспринимающего человека это должно быть понятно. Кто задумается над этим, тот сразу же увидит, как за этим само собой разумеющимся скрывается нечто загадочное. Это загадочное лежит в самом характере чувства, свойственного только радости; можно было бы сказать - в состоянии, раз удовольствие и наслаждение не отрицают момента состояния. Но момент состояния в эстетической радости является явно второстепенным моментом, а объективнее отношение - первостепенным. Это психологически существенно для особой формы самой компетентности и нуждается в специальном феноменологическом анализе. Но эстетически в этом смещении центра тяжести лежит специфика строения акта в сознании наблюдателя. Речь идет при этом о характере чувства, обнаруживающего ценность. А это возможно только тогда, когда момент состояния в нем имеет свой вес вне себя, в чем-то другом, что дано ему в зависимости от обстоятельств. Эстетическое удовольствие не есть обращенное в себя удовольствие, эстетическое наслаждение не есть самонаслаждение. Напротив, там, где оно превращается в самонаслаждение (а это, конечно, также бывает), - там оно не является уже больше эстетическим наслаждением, и художественное чувство ценности предмета затемнено и в конце концов может быть совсем нарушено. Но теперь мы не имеем уже никакого другого масштаба оценки и вообще никакого другого сознания ценности прекрасного, кроме своеобразного наслаждения предметом или удовольствия, получаемого от него. Поэтому все значение эстетического чувства радости лежит в его объективной стороне, то есть в обнаруживающем ценность характере чувства. Эта сторона выражается в оттенках глубины и качественной особенности наслаждения, вызываемого созерцанием предмета. д. Учение Канта об эстетическом удовольствии Говоря об эстетическом удовольствии в "Критике способности суждения", Кант учил нас трем вещам. Они содержатся в обоих первых пунктах его "Аналитики прекрасного" и должны быть сопоставлены здесь в свободно избранном порядке с другими точками зрения в соответствии с вышеуказанными пунктами проблемы. 1. Эстетическое удовольствие "всеобще субъективно" (интерсубъективно) и необходимо. Это не должно означать, что каждый человек непременно должен был бы его ощущать, если только дан предмет; ощущать его должен только тот, кто обладает условиями его понимания. Эта субъективная всеобщность существует при полной индивидуальности предмета, потому что она не касается переноса на другие объекты. 2. Существует удовольствие без понятия, без подчинения всеобщему или правилу, которое должно быть понято как таковое. И его собственная всеобщность ("субъективная") меньше всего является всеобщностью понятия. Это означает радикальное отрицание интеллектуалистической эстетики. Удовольствие должно уже потому выступать без понятия, что оно ощущается прямо в восприятии и в чистом созерцании. И можно прибавить: потому что в нем нет знания о всеобщем, нет понимания закономерности, оно вообще не является познанием и поэтому не имеет вне себя или над собой никакого критерия. 3. Существует "лишенное интереса удовольствие". Это знаменитое определение не говорит, конечно, о том, что наслаждающийся не имеет никакого интереса к эстетическому предмету как таковому. Можно быть эстетически очень, даже в высшей степени заинтересованным в предмете, но не 41 терять при этом правильную точку зрения; так, можно, например, испытывать высший интерес к создаваемому произведению художника, так же как и к готовому произведению и его дальнейшей судьбе среди современников, которые могут понять или не понять его. Все это здесь не подразумевается, потому что такой интерес уже обусловлен эстетической радостью, доставляемой предметом, является ее следствием. Здесь подразумевается исключительный интерес, который, со своей стороны, определяет радость, практический интерес к предмету, как это бывает, когда предмет должен служить средством для чего-нибудь другого. Этот интерес исключен из эстетической радости; это был бы интерес к внеэстетической ценности. Наслаждающийся не знает ничего подобного, если бы даже это касалось высших нравственных ценностей. Первый из этих кантовских моментов - интерсубъективная всеобщность - ясно указывает на глубокие корни удовольствия в предмете: кто может видеть предмет в правильном (эстетически адекватном) виде, необходимо должен испытывать ту же самую радость, как любой другой, выполняющий то же самое условие созерцания. В этом отношении убедительное в эстетической радости подобно убедительному в практическом и теоретическом a priori, ибо оно зависит от того же самого условия: ведь и математическая формула может быть понятна только тому, кто вообще способен ее понять. Второй момент, напротив, указывает на отличие проявляющегося в радости вкусового суждения от априоризма. Последний связан с объективно всеобщим, значит (по Канту), с законом и понятием. Ничего подобного не содержится в феномене эстетического удовольствия, так как предмет радости всегда индивидуален (то есть объективно не всеобщ). Поэтому Кант говорит: "Само суждение вкуса не постулирует согласия каждого... оно только требует от каждого этого согласия..." Наконец, третий момент является моментом совсем другого рода. Под "лишенным интереса удовольствием" подразумевается независимость суждения вкуса, его самостоятельность по отношению к определенным внеэстетическим факторам, одним словом, его автономия. И поскольку оно проявляется в радости, то подразумевается автономия эстетической радости по отношению к предмету. Здесь, следовательно, речь идет уже о своеобразии и несводимости чувства ценности, а косвенно - и о своеобразии и несводимости самой эстетической ценности. Если понимать это кантовское определение в указанном смысле, то есть не принимая во внимание идеалистические предпосылки кантовской системы, то в нем можно найти содержание, имеющее очень большое значение. Сегодня благодаря материальной этике ценностей стало возможно увидеть данную инстанцию для всего сознания ценности в чувстве ценности. Но Кант впервые отнес сознание ценности в эстетическом отношении ("суждение вкуса") к удовольствию (как и к радости) как данной: инстанции. Значит, здесь нужно искать - задолго до установления феноменологически правильного понятия ценности - настоящий источник всей последующей теории ценности, потому что радость и удовольствие определенно признаны здесь как моменты чувства, эстетически указывающие на ценность, с их своеобразной объективностью и всеобщностью в субъективном одеянии. С другой стороны, в кантовском отрицании всех внеэстетических интересов снова ясно выражается выделение эстетического сознания из жизненной связи. "Интерес" в кантовском смысле зависит от актуальности и от ситуации; положение, лишенное "интереса", есть отрыв от них обоих. Это будет еще более правильно, если включить сюда понятие наслаждения: в наслаждении мы лучше осязаем момент чистой отдачи предмету; и там, где наслаждение глубже, оно переходит в удаление наблюдателя от реальной среды и повседневности. Мы говорим тогда о "самозабвении", не думая при этом, что правильнее говорить о забвении реальной связи и настоящего с их требованиями. Этот отрыв, словно некое состояние нерешительности, сам воспринимается как радость и может доставлять наслаждение; но это приписывается предмету, его чудесной силе, потому что, пока акт наблюдения есть настоящий эстетический акт, предмет, а не собственное состояние будет являться источником наслаждения. Восхищающий предмет, а не восхищение является "прекрасным". И с этим согласуется то, что выключение из реальной жизненной связи соответствует проникновению в другую связь - в тот мир, который открывает предмет. Так определения Канта, от которых не следует отклоняться, сами выводят нас за свои пределы. Чистая радость именно от предмета при всей объективности основана непременно на собственном участии, она всегда выражается как род собственного участия. И здесь, очевидно, находится граница лишенности интереса. Она будет ощущаться в эстетическом наслаждении как привлекательность, которая может развиться в увлечение. Это личное участие между тем слишком незначительно, чтобы 42 уничтожить дистанцию, отделяющую субъект от предмета. Дистанция есть и остается существенной, предмет неустранимо противопоставляется субъекту - не менее чем в чистом отношении познания, но только по-другому. Эстетическое наслаждение никогда не отрицает созерцательного отношения. Но созерцание предполагает противостоящий ему объект. Эстетическое наслаждение не есть "вхождение" в объект, не есть слияние с ним, unio mystica (мистический союз). Его нет даже в музыке, в которой эмоциональная реакция есть, по существу, сторона проявления. Это не противоречит феномену захваченности предметом (в противоположность обычному схватыванию), феномену состояния захваченности, плененности, а также феномену освобождения и вторжения в его мир. Эти картины подтверждают, что нет исчезновения противостоящего и дистанции; они означают только сильное проникновение внутрь и "интимность" чувства, которые являются своеобразием радости, связанной с чистым созерцанием. В эстетической радости мы имеем дело именно с синтезом противоположности дистанции и внутренней захваченности. Язык не имеет слов для выражения этого отношения. Диалектически это можно описать через гегелевское "снятие"; ударение в этом отрицании дистанции должно иногда лежать на втором значении слова, на "сохранении", в то время как третье - "снимание" в нового рода отношение выражает синтез, но как таковое не может быть выражено понятием. Если считать, что этот род синтеза невозможно охватить, то смысл кантовского понятия отсутствия интереса обнаруживается еще раз с другой стороны. Интерес необходимо указывает на ценность. Но внеэстетические ценности, как оказалось, представлены в содержании эстетического предмета почти во всем своем многообразии, но все же не определяют эстетическую радость, а играют роль только условий. Точнее, правильное чувствование их есть условие эстетического чувства ценности. Эстетическая радость - это не радость в условных компонентах ценности, не радость в этических или жизненных компонентах, хотя они также даны сознанию в форме чувства радости (позитивная реакция ценности). И здесь, следовательно, мы имеем дело с отношением отрицания. Эстетическое наслаждение не относится к этим обусловливающим ценностям, как бы высоки они ни были; но так как они содержатся в нем и являются его предпосылками, то и эстетическое наслаждение направлено на них, оно возвышается над ними и непосредственно касается только сопутствующей им эстетической ценности. Эстетическое наслаждение, следовательно, наслаивается на внеэстетические чувства ценности. Момент радости в нем образует синтез снимания (нейтрализации) и сохранения и этим ясно отличается от них. Эстетическое наслаждение указывает только на эстетическую ценность. И это имеет центральное значение в эстетическом строении акта, потому что мы совсем не можем узнать и почувствовать эстетическую ценность другим способом. Поэтому специфически эстетическое в радости также никоим образом не растворимо в компонентах - оно не растворимо и в определенных формах чувства, хотя они очень хорошо представлены и могут постепенно проявиться в условных чувствах внеэстетической радости. Если взгляд даже ничтожно мало сдвигается в сторону и еще раз от ценности и радости возвращается ко всеобщему отношению, то все положение вещей представляется следующим образом. Аффирмативное чувство ценности имеет характер радости: обыденное повседневно обнаруживается в вещах и их содержании, жизненное - преимущественно в сексуальном и этическое - в радостном согласии, признании, возвышении, удивлении, воодушевлении, приподнятости; точно так же негативное чувство ценности имеет характер, противоположный радости (характер отказа, подавленности, презрения, отвращения). Все акты, указывающие на ценность (ответные ценности), имеют форму удовольствия и неудовольствия, как бы различны они ни были. Характерные компоненты удовольствия в эстетически воспринимающем строении акта не являются уникальными. Особенное эстетической радости проявляется только через наблюдение (созерцание). Этот акт есть акт созерцания, преимущественно высшего созерцания, но в известных границах уже и акт эстетического восприятия. Если бы было возможно созерцание отделить от радости, то мы имели бы дело с простым соединением актов. Но это как раз не так: созерцание, по существу, наполнено радостью и радость, по существу, наполнена созерцанием. Само погружение в созерцание, интенсивное тонкое чувство невесомой детали, на которую обычно никогда не обращается внимание, определяется радостью, а она есть чувство ценности - и исключительно эстетической ценности, которая наслаивается на все практические ценности. Таким образом, эстетическое созерцание со своим особенным состоянием благодаря свое43 му единству с радостью способно к тому синтезу потерянности предмета с дистанцией к нему, который, как оказывается, образует соединение до сих пор разрозненных моментов духовного содержания. Если бы погруженность была бы погруженностью в обусловливающие компоненты ценности (жизненные и этические), то она должна была бы отрицать созерцание, потому что она устранила бы и дистанцию. Тогда радость была бы определена интересами. Устранением интереса, однако, не уничтожается чувство ценности с обусловливающими компонентами ценности, можно также удержать созерцательное отношение к предмету, потому что оно соединяется с чувством ценности высшего порядка. Наконец, сюда нужно присоединить также еще незаметный переход эстетического наслаждения в самонаслаждение. Само эстетическое наслаждение есть нечто ценностное. Поэтому субъект может наслаждаться им как состоянием (собственным состоянием). Почему это самонаслаждение не является эстетической радостью, было уже показано, как и то, почему оно так близко некоторым огрубевшим людям и почему мешает настоящей эстетической радости от предмета, как мешает и связанному с ней созерцающему отношению, вытесняет их или даже фальсифицирует. Если считают это соскальзывание в самонаслаждение связанным с обратным соскальзыванием в наслаждение обусловливающими ценностями (этическими, жизненными и т. д.), то видно, как настоящее эстетическое наслаждение держится на рубеже двух близких, но совершенно различных форм наслаждения. Обе не достигают его и "лишены интереса" (не в кантовском смысле слова). Ведь в обеих не хватает дистанции, в обеих предмет другой. И в обеих нет характерного эстетического синтеза наслаждения и созерцания. Созерцатель прекрасного должен выполнять два высоких требования: освободиться от наслаждения практической ценностью содержания объекта, а также от наслаждения ценностью своего собственного состояния. Возможно, что двойная внутренняя свобода полностью достижима очень редко. Но мы, вероятно, в жизни не всегда замечаем отклонение в ту или другую сторону. Бывает именно так, что мы легко ошибаемся в чистоте и правдивости собственного эстетического наслаждения. Но требование существует. Оно со всей строгостью выставляется со стороны произведения искусства по отношению к созерцателю. Даже самое совершенное произведение искусства не может до конца удовлетворить это требование Сила, которая от него исходит, захватывает не каждого. Наблюдатель, со своей стороны, должен обладать способностью отдаваться произведению искусства со всеми ее духовными предпосылками. Раздел II СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА ГЛАВА 4 ВКЛЮЧЕНИЕ В АНАЛИЗ АКТА а. Два рода созерцания и двоякого рода слои предмета Предварительный анализ строения акта касается, видимо, только некоторых его сторон. Кроме того, стало ясно, что он должен придерживаться моментов предмета и его ценностей. Это не удивительно, потому что каждому моменту акта соответствует момент предмета. Но это есть отношение, которое может расцениваться иначе, конечно, только тогда, когда мы больше знаем о предмете. Анализ акта, таким образом, не закончен. Однако сформулировать новые точки зрения можно только на основе анализа предмета. Следовательно, с вопросом о структуре эстетического предмета мы вступаем в область нашего основного исследования. Предыдущий анализ акта этому не противоречит. Акт дает все же отправную точку, и в теперешней стадии проблемы он является более исследованной стороной целого. Пункты проблемы как таковые становятся в нем более ощутимыми. Но только в нем одном они не разрешимы. Об этом свидетельствуют уже многочисленные загадки, а еще больше - таинственное присоединение наслаждения "к", определенным моментам предмета; это опять-таки идентично синтезу созерцания и наслаждения. Таким образом, здесь должен начаться новый род исследования, но сначала для этого нужно уяснить, с каких сторон предмета можно начинать его. Здесь первые указания дает детальная, структура акта: 1) два рода созерцания включаются друг за другом, восприятие и высшее созерцание невоспринимаемого, причем одно влияет на другое, и 2) воспринимаемое реально существует; то, что дано высшему созерцанию, не реально или не должно быть реально, оно созерцается как бы побочно и при этом с ясным налетом спонтанности. Это является ясным указанием на слои в самом эстетическом предмете, но из чего состоят слои, 44 как они друг от друга отделяются и как соединены - простое раскалывание на два члена об этом еще ничего не говорит. В этой общей форме мысль очень стара. И так же стары ответы на вопрос, что представляет собой это "другое", которое стоит позади воспринимаемого. Платон в этой связи говорил следующее: другое есть "идея", которая охватывается высшим созерцанием. Всеобщее в противоположность реальному считается чем-то вроде прототипа, который существует в Чистом и совершенном (идеальном) виде. В таком случае "прекрасное", по сути дела, есть только идея, и в вещественной единичности она лишь неясно проскальзывает; но если бы можно было совершенно освободиться от восприятия, то можно было бы понять прекрасное как таковое, ни с чем не смешанное и чистое. Согласно тенденции дело сводится к разъединению созерцания и его реального предмета. Нечто подобное есть и у Плотина и у его позднего ученика Марсилио Фичино. Задача наблюдателя, следовательно, состоит в том, чтобы совершить выключение и подняться от чувственной к "интеллигибельной красоте", что значит внутренне подняться к "чистому", чувственно не опосредованному созерцанию. Это явно противоречит чувственному моменту в эстетически воспринимающем акте. Но этот момент как раз существен и должен быть понят в своем своеобразии. Все отношение здесь объясняется по роду отношений познания и, кроме того, рассматривается интеллектуалистически, так как в эстетическом созерцании речь идет не о чем ином, как о проницательности, о созерцании сущности. Этому соответствует расплывчатое значение слова καλον у древних: оно означает и доброе (ценное, совершенное) и прекрасное, следовательно, не покрывается смыслом эстетического предмета. Последнему меньше всего подходит созерцание идеи. В подлинно эстетическом отношении чувственно данный предмет является как "прекрасный". Значит, красота идеи, если она существует, вовсе не является красотой в эстетическом смысле. Из этого тупика эстетику вывел только немецкий идеализм. Какой путь здесь проложил Кант, было уже показано. Шеллинг и Гегель следовали по нему дальше. Теперь это выражается так: не сама идея есть прекрасное, но "чувственное явление идеи". Формула исходит от Гегеля, но мысль является почти общим достоянием идеалистов; Шопенгауэр также сознательно защищает ее как род "улучшенного" платонизма. Но что нового в "чувственном явлении идеи"? Это можно выразить в трех пунктах: 1) не идея есть прекрасное, а "видимость", и если даже это явление "идеи", то это вовсе не она сама; 2) явление чувственно; поэтому предмет как таковой признается предметом восприятия, от которого он не отделяется благодаря высшему созерцанию; 3) так как сама идея не чувственна, но является, в чем-то чувственном, предмет должен быть двояким; он должен, таким образом, состоять из чувственновещественного образа как его переднего плана и "идеи" как заднего плана. При этом то, что задний план существует в совершенно другой форме, чем передний план, в дальнейшем, пока придерживаются его идеальности, не бросается в глаза. Этим совершен решающий поворот в проблеме прекрасного. Речь не идет больше о высокопарной метафизике прекрасного, а о значительно менее претенциозной и гораздо более трудно выполнимой феноменологии прекрасного. И одновременно раскрывается двойное лицо эстетического предмета. Только теперь можно серьезно начать с анализа его сущности. Зерно этой сущности стало уже видимым: оно находится в отношении явлений. Между тем этим сделано только начало. Тотчас же встают вопросы: 1) что такое идея, которая должна явиться, и 2) в чем заключается явление? Под "идеей" здесь везде понимается еще всеобщее и принципиальное (более или менее в духе Платона); предпосылка все еще та, что природа и мир человека сформированы по идеальным прототипам (Шеллинг, Шопенгауэр). Но имеется ли это в действительности? Ведь это тоже, несомненно, остаток старой метафизики. Если красота должна быть не чем иным, как совершенством таких идей, то она связана здесь еще и с явлением совершенства; и постольку эстетическая ценность все еще зависит от ценностного характера совершенного, - в поэзии, например, от мужества героев и степени моральной чистоты человека. Но именно это является ошибкой в данной теории: сущность прекрасного составляет не то, что являющееся есть совершенство (прообраз, идеальный тип), но то, что "оно является", а именно: 1) что оно является "чувственно" и 2) что оно является равнодушным по отношению к реальности и ирреальности. Чем должно быть являющееся по содержанию, еще не видно, это еще вопрос. По другому же вопросу, в чем состоит "явление", можно, прежде всего, сказать, что само это выражение неудачно. "Явление" всегда наводит на мысль о заблуждении и иллюзии. И как раз этот факт и вводит в заблуждение. Потому что, как уже было показано, здесь ничто не было ошибкой: ни 45 совершенство, ни прототипность, ни также действительность недействительного (например, в поэтическом искусстве, которое изображает лица и конфликты). Наоборот, только нечто доступное высшему созерцанию передвигается в сферу чувственной видимости вследствие того, что высшее созерцание тесно связано с восприятием. Но эта связь не создает никакой видимости реальности там, где ее нет, - и не строит догадок по поводу того, что представляет собой то, что доступно лишь высшему созерцанию. Значит, ни "идея", ни "явление" здесь не подходят. Оба понятия могут быть заменены более точными и подходящими. б. Необходимая поправка к гегелевскому "явлению идеи" Нужно ввести еще вторую поправку в определение эстетического предмета; первой поправки, которую сделал Гегель к платоновскому определению, недостаточно. Но если просто вычеркнуть из "явления идеи" "идею", то вскоре обнаруживается, что этим ничего не сделано. "Идея" идеалистов не была взята из ничего. Существуют также идеи, которые играют большую роль в искусстве. Характернейшим примером этого рода являются религиозные идеи, которые нашли отражение в творениях большого искусства: образы богов древности, мадонны итальянцев, храмы, церкви, гимны и оратории, даже трагедии. То же самое относится к некоторым моральным идеям, например в героической поэзии, в драме, в искусстве портрета и даже в музыке. Все это есть и остается существенным. Но это очень далеко от того, чтобы составлять единственное, являющееся содержанием художественных произведений. К нему относится еще многое, а именно как раз неидеальное, индивидуальное, единичное, а также типическое, которое поэтому еще долго не входит во всеобщность идейного. Сюда относятся характеры поэтических образов, которые не даны чувственно, но только чувственно опосредованы и не имеют претензии на реальность; они причисляются к являющимся, но не входят во всеобщие идеи и в типическое. Сцены, которые изображаются, конфликты, судьбы, действия, страсти сначала являются как сцены единичных лиц и воспринимаются также как таковые. То же самое происходит с лицами в искусстве портрета, даже с особенными образами и чертами лица в свободно набросанных сценах живописи; то же самое происходит и с ландшафтом на картине, даже если он не взят из действительности. Все это существенно не только для искусств, но оно причисляется без остатка к являющемуся в искусствах, даже к ирреальному; оно дано высшему созерцанию и только до тех пор, пока оно совершается, поднимает обыденное восприятие до эстетического. В дальнейшем, пока оно созерцается, посредством него может возникнуть еще более высокое созерцание, которое потом действительно направляется на всеобщие идеи - религиозные, моральные и др. Идеализм опускает в слоях предмета весьма существенный член, возможно, даже несколько членов. Подобно тому как в слоях воспринимающего акта средний член созерцания должен находиться между созерцанием и восприятием идей, так и в эстетическом предмете средний слой должен находиться между чувственно Данным в нем и совсем чуждой восприятию идейностью. Эта междуслойность должна принадлежать, подобно идейности, к являющемуся, но, подобно чувственно данному, должна быть конкретной, наглядной и индивидуальной. Если подходить с этой стороны, то сделанная поправка "явления идеи" получит довольно значительный вес. Формула идеалистов была еще слишком .проста. Она прямо соединяла противоположности, содержащиеся в предмете, но не заботилась обо всем том, что составляло предметное. Одни крайности ведь не составляют целого. Действительную полноту предмета составляет именно это целое. Предмету также принадлежит больше, чем один средний член, и богатство созерцаемого должно состоять как раз в пестром разнообразии, которое наполняет этот промежуток. Этим действительно открывается новый путь структурного анализа эстетического предмета; и можно предвидеть, что настоящая сущность его структуры еще лучше понимается в отношении слоев друг к другу. Нельзя предвидеть,- как далеко это ведет, можно ли, например, по этому пути вообще дойти до сущности прекрасного; в еще меньшей степени можно предвидеть, возможно ли таким образом исчерпать ее. Но так как на этот путь мы едва только вступили, то он обещает уже новые толкования. Менее важна другая сторона "поправки". Она означает, что это, в сущности, касается не "видимости", а явления. Смысл изменения лежит в отклонении "кажущегося", поскольку оно содержит момент заблуждения. Но не одно это. За гегелевской "видимостью" скрывается все еще остаток старого интеллектуализма: кажущееся составляет противоположность истине, истина существует только в области познания. Значит, видимость существует лишь там, где речь идет о познании (в виде границы или как отказ от познания), или, наоборот, только там, где речь идет о том, что "нечто является 46 таковым", мы имеем дело лишь с видимостью, обманом или заблуждением. Но здесь речь идет не об этом. Тот, кто, читая сказку, балладу или какой-нибудь рассказ, не может отказаться от вопроса "было ли это в действительности", тот вообще не понимает художественное произведение как таковое, тот смотрит не эстетически, а наивно-реалистически, по-детски. И как раз этот реализм мешает созерцанию, полной отдаче наслаждению и полному высвобождению из реальной связи. Он тянет вниз, подобно свинцовой гире, и не позволяет - перейти к свободному эстетическому созерцанию. "Явление" как таковое, напротив, вполне индифферентно к реальному и ирреальному. То, что является, выступает без отягощения земным, без ответственности за правду и неправду, без претензии на истину. Поэтому оно воспринимается только как явление. Поэтому оно непременно предмет, но только интернациональный, то есть такой, который растворяется в своей предметности, но не имеет как предмет познания сверхпредметного бытия. То, что, несмотря на это, в поэзии имеется претензия на истину, как во всех изобразительных искусствах, означает нечто совсем другое. Об этом еще будет идти речь в другой связи. в. Место, эстетически автономного наслаждения Сказанное выше проливает новый свет на отношение явлений. Теперь видно, что оно не основывается только на структуре акта, а в конечном счете на отношении структур в предмете. Но это не единственное, что бросается здесь в глаза. Строение акта также является в новом свете – и как раз та сторона в нем, которая труднее всего понимается: радость, удовольствие, наслаждение. Относительно наслаждения мы видим, что оно не зависит от являющегося, а также от чувственно данного, "внутри" которого оно является, а зависит от самого явления. Это доказывается теперь тем, что оно не относится к содержанию идеи и уже по этой причине не является ценностным ответом на другие ценности, как и на эстетическую, но исключительно только ответом на способ, по которому являющееся (в совокупности со своими компонентами ценности) предстает сознанию. Но наслаждение есть единственный фактор, обнаруживающий ценность в эстетическом строении акта, то есть через него и только через него именно в форме наслаждения дается нам красота как таковая. Это тоже не было признано в идеалистической эстетике, хотя, по сути дела, проскальзывало у Канта. До тех пор пока придерживались чувственного "явления идеи", не был вполне оценен смысл "удовольствия, лишенного интереса". Все время казалось, что существует совершенное понимание красоты - как чувственно обусловленное, как "чувственное явление". Поэтому Гегель философское понятийное мышление ставит выше эстетического созерцания. На "явлении" тяготел недостаток несовершенности - обманчивого понимания. И это должно было быть снято в чистом понятии. Предпосылкой все же оставалось то, что являющееся должно быть понято, будто оно существует и в своем явлении не совсем находит себя. Итак, когда Гегель понимал эстетическое отношение к предмету как созерцание, то для него в этом заключалось нечто принижающее. Так это должно было выглядеть, пока вообще в основу была положена тема понимания, которая была и остается теоретической темой акта. Поэтому он мог ставить понятие выше, чем созерцание, а наслаждение отодвигать на второй план. Но наслаждение в эстетическом отношении есть нечто совсем другое, чем в теоретическом. И, разумеется, иное, чем в практическом. Дело не только в том, что оно зависит от совершенно других ценностей. Оно автономно и в совершенно другом смысле. Напротив, предмет становится только благодаря ему предметом ценности. Ценность практической удачи или мысленного проникновения объективно существует также без наслаждения; но ценность художественного произведения существует только "для" созерцающего и наслаждающегося созерцанием субъекта. Значит, наслаждение является определяющей по отношению к ценности, на которую оно указывает и которой оно определяется. В этом смысле эстетическое наслаждение автономно. К явлению принадлежит духовная сущность, "которой" "нечто" является. Так как эстетическая ценность присуща не являющемуся, но самому явлению, то духовно воспринятая сущность частично входит в эстетическую ценность. И так как та же самая сущность воспринимает, чувствует эстетическое наслаждение, то его автономия состоит не в автономии заранее данной ценности, как во всех других областях, но в его собственном участии в создании эстетической ценности. На данной основе это отношение полностью еще не может быть понято. Оно будет лучше понято позднее, при анализе предмета. Но только одна вещь дает себя знать уже здесь: эстетическое чувство ценности является тем, чем никогда не бывают другие чувства ценности, - одновременно и определителем ценности. 47 Этот феномен доказывается очень хорошо. Эстетическую ценность нельзя предвидеть; она не существует для сознания до ее появления в единичном предмете. Значит, она объективно непонятна без созерцания, которое одновременно является наслаждением в созерцании. Она вообще не существует, пока не осуществляется в созерцании. Поэтому она так крепко связана с единичным случаем, и, строго говоря, не только с ним, но даже с особенным созерцанием в единичном наблюдении; во втором наблюдении она может быть уже другой, потому что каждое наблюдение есть новое совершение синтеза, в котором существует явление. Но эстетическая ценность присуща явлению как таковому. Косвенное доказательство этого можно видеть в том, что язык почти не имеет никаких обозначений для этих ценностей. Все образы, которые мы употребляем, чтобы понять ценности, недостаточны и не касаются благодаря этому неповторимого. Эстетический смысл есть поздний продукт духа. Язык уже давно был готовой системой - когда он только что появился. Язык ориентирован практически. Поэтому именно эстетические ценности так долго не открываются; и, когда они открываются, они еще долгое время остаются непризнанными, смешиваются с этическими и жизненными ценностями - имеются в виду аксиологически неясные чувства человеческой красоты - и, таким образом, скрываются от нас за ними, в то время как в автономной радости последние скрываются за эстетическими ценностями (потому что они суть простые условия). Отсюда можно сделать вывод о характере эстетической ценности. Его можно выразить в следующих пунктах: 1. Нет ценностей в себе сущего: реального, как имущественные ценности, и идеального, как нравственные ценности. Поэтому к ним не присоединяется никакое реальное существование. Можно говорить лишь о ценностях, существующих для нас. Это - настоящие объективные ценности, то есть ценности предмета как такового; но предмет не существует сам по себе, а только для эстетически воспринимающего субъекта. Если бы он существовал только в чувственно данном, то это не было бы так, но чувственно данное в нем есть только часть от него, и одна эта часть не делает его еще эстетическим предметом. Сюда относится и являющееся, а оно может не быть реальным. Эстетический предмет есть в первую очередь нечто целое. Значит, это целое существует только "для нас", поскольку мы рассматриваем его адекватно. 2. Можно также сказать следующее: эстетические ценности суть ценности предмета как такового; не ценности акта (будь это акт созерцания или акт наслаждения) сущего как такового, которое только через акт становится предметом акта, но суть только ценности предмета как предмета. Поэтому они существуют независимо от действительности и сами являются осуществлением являющегося. 3. Это значит, что они присущи отношению явлений как таковому. Но именно ему как целому. Члены этого отношения встречаются также и разделенными, но тогда они не образуют эстетического предмета. Поэтому эстетические ценности субъективно обусловлены, хотя и в ином смысле, чем другие ценности (например, материальные ценности, существующие только "для" сущности, которой они идут на пользу). Смысл "бытия для нас" заключается здесь не в том, чтобы быть полезным, а только в "для нас" существующей предметности. 4. Поэтому эти ценности не объективно всеобщи как жизненные или нравственные ценности, но в каждом предмете они суть особенные и ему одному свойственные индивидуальные ценности. Существует бесконечно много форм явления. Для каждого "материала" и в каждой материи они не одинаковы; даже в каждом "представлении" одного и того же материала в той же самой материи. Разумеется, существуют общие черты эстетической ценности соответственно всеобщим или типическим чертам отношения явлений; но это составляет только схематические и в то же время "жиденькие" виды предметной ценности. Настоящие ценности лежат в неповторимой особенности, а все сравнимое в области прекрасного остается на поверхности. Виды и роды искусств и связывающие их стили также касаются в первую очередь структуры предмета и только косвенно-эстетической ценности. И часто общие характеры ценности общи самым различным родам и стилям искусства. Но собственно эстетические ценности, наоборот, едва затрагиваются такой дифференциацией, не говоря уже о том, что они не охватываются полностью. Эстетический характер ценностей - прекрасное и его дифференциация - не в меньшей мере присущ структуре предмета, а именно целого в его многослойности. Поэтому путь от предварительного анализа акта ведет к структурному анализу предмета; он может в лучшем случае через него и только через него вести к анализу ценности. Анализ структуры предмета занимает в эстетических изысканиях центральное положение, и дальнейшая интерпретация проблемы акта, также как и проблемы ценности в той степени, в которой мы можем себе позволить при сегодняшнем уровне знания про48 блемы, лежит в первую очередь в анализе структуры. ГЛАВА 5 ЗАКОН ОБЪЕКТИВАЦИИ а. Роль "материи" Последние объяснения привели к проблеме бытия в эстетическом предмете. Что ему присуще самостоятельное, не зависящее от субъекта бытие (бытие в себе), оказалось заблуждением. Но, с другой стороны, оказалось, что эстетический предмет частично существует совершенно независимо от субъекта. Этим ставится проблема способа бытия данного предмета. Решение ее является задачей онтологии. Эта задача возникает раньше других вопросов и должна быть решена прежде всего. Судя по дальнейшей связи, эта задача входит во всеобщую проблему духовного бытия. Ибо поскольку эстетический предмет существует только "для" сознательного существа, то в нем всегда заключено некоторое духовное содержание, по меньшей мере способность в определенной форме видеть или понимать. Это не всегда можно увидеть в предмете природы, но в произведении искусства почти всегда. Поэтому здесь речь должна идти прежде всего исключительно о произведении искусства; в нем очень хорошо видно, что оно является произведением сознательного существа, и в нем заключено нечто от человека, его создавшего. Художественное произведение принадлежит по роду к особенной форме духовного бытия, к "объективированному духу". Это есть объективация, то есть включение духовного содержания в предметность. Объективация есть не только произведение искусства, но также всякий другой продукт, который производит человеческий дух, от инструмента и прибора собственного изобретения до литературного произведения. Все, что исторически переходит от духа прежних времен в измененный дух настоящего и воспринимается настоящим как его свидетельство, имеет форму объективации. Письменность играет здесь самую большую роль. Но для этого ей не нужно быть художественным произведением. Ведь и скромное сообщение о фактах и научная литература имеют одинаковую основную форму и способ бытия объективации. Основной закон всего духовного бытия состоит в том, что оно не может существовать свободно витающим, а встречается только покоящимся на другой основе бытия. Так, персональный дух отдельной личности покоится на духовной жизни, а она в свою очередь - на телесно-органической жизни; последняя основывается на неорганическом физическом бытии. Здесь господствует цепь обусловленности "снизу", в соответствии с которой высшее всегда опирается на низшее, и, так как духовная жизнь образует высшую ступень бытия, она основывается на низших ступенях во всей их последовательности. Но то же самое, что относится к персональному духу, относится также к исторически-объективному духу, который составляет общую духовную жизнь целых народов и веков. Он так же основывается на единичной духовной жизни, как и на родовой жизни народов, и, таким образом, в конце концов на целом ряде ступеней бытия или (как гласит онтологический термин) на всем многослойном строении реального мира. Духовное бытие не может существовать без подпирающих его снизу слоев бытия. То, что относится к обеим формам живого духа (персонально-субъективной и историческиобъективной), сохраняет, однако, свое значение также для объективирующего духа. Объективация является как раз третьей основной формой духа. Она, правда, не является живым духом, а представляет собой лишь духовное содержание, продукт духа, творение духа. Но в этом своеобразии она существует в известном отрыве от "духовной жизни", а именно как от персональной, так и от объективной; она как бы выделена из "духовной жизни" и этим освобождена от ее изменения и поэтому может иметь возле нее наличное бытие для себя. Ибо самое замечательное в духовных творениях - это то, что они существуют вне и над жизнью их творца - оратора, мыслителя, писателя, поэта или скульптора, что они могут пережить не только его, но также целое столетие и его объективный дух. Перемена поколений и столетий может пройти мимо них без того, чтобы вовлечь их в судьбу всего возникающего и преходящего. Но с ними может это произойти только в том случае, если они вылились в форму долговечного, реального медиума, материала, который имеет другую силу сопротивления, чем мимолетная человеческая жизнь. И постольку это есть также дух, подпираемый объективирующим духом, покоящийся на реальном образе, который со своей стороны ни в коем случае не является духом, но по темпу существования превосходит духовную жизнь. Объективация состоит здесь, по существу, в создании реального образа времени, в котором может проявиться духовное содержание. Тем самым эстетический предмет, поскольку он создан человеком, вступает в дальнейший круг феноменов; он образует особый род объективирующего 49 духа. Одновременно он полностью подпадает и под закон объективации. Закон объективации - это двойной закон. Он гласит, во-первых: духовное содержание может существовать только постольку, поскольку оно заключено в реальную чувственную материю, то есть благодаря ее особому формированию оно приковано к ней и подпирается ею. И, во-вторых, он гласит: духовное содержание, подпираемое сформированной материей, всегда нуждается в ответном действии живого духа - как персонального, так и объективного; так как оно нуждается в созерцающем сознании, можно также сказать в понимающем или узнающем сознании, которому оно может явиться через посредство реального образа. В эстетическом предмете материя, смотря по характеру искусства, является камнем, бронзой, краской на полотне, словом, письмом или глиной. Но все они как таковые, существуя, как всегда, оформленными, были бы немы и не могли бы быть носителями духовного содержания, если бы не ответное действие живого духа. Оно же состоит в узнавании (αναγιγνωσκειν), то есть в понимании. Заключенное в материю и как бы заложенное в ней должно быть вновь извлечено, освобождено, сделано текучим, живым; оно должно быть вобрано в живой дух. Это, смотря по обстоятельствам, сложный процесс, и для этого должны быть выполнены различные условия. Живой дух не всегда их выявляет, а если и выявляет, то только в определенной стадии зрелости. Поэтому литературные произведения прошлого могут столетиями лежать забытыми и считаться пропавшими без того, чтобы их духовное содержание вновь восстанавливалось для кого-либо, пока их в один прекрасный день не выкопают, вновь откроют и пробудят к новой жизни. Ведь объективирующий дух не может существовать без реальной духовной жизни. Только у него это не собственная жизнь, а другая и как бы взятая в долг. Потому что живой дух, из которого он вышел, может быть давно прошедшим; от него он освобожден и к нему не может больше вернуться. Все это, конечно, в высшей степени относится к произведению искусства. Закон объективации также его закон. Только "покоится" объективирующий дух иначе, чем живой дух. У последнего расслоение бытия проходит снизу вверх: материя - организм - духовная жизнь - дух составляют единственную необратимую последовательность лежащего в основе и основывающегося бытия. У объективации отсутствует цепь слоев бытия; в литературном произведении и в скульптуре духовное содержание непосредственно привязано к самому низшему слою бытия реального, к материальному слою. Правда, здесь оно привязано к очень определенной форме, которая, со своей стороны, является достижением живого духа; но нельзя сказать, чтобы она как таковая была духовной. Цепь расслоения, таким образом, перескакивается, средние слои бытия отсутствуют; таким по крайней мере представляется это отношение на первый взгляд. И только благодаря вторжению живого духа они восполняются в восприятии. Все отношение в объективированном духе, таким образом, является трехчленным. В произведении как таковом сформированная материя и духовное содержание связаны друг с другом через формирование первой, но не сами по себе, а только для живого духа, поскольку он дает для этого предпосылки. Он, таким образом, составляет необходимый "третий член", благодаря которому связаны друг с другом первые два. Без этого члена духовное содержание не пробуждается из материи. Это трехчленное отношение не должно упрощаться. И из него непосредственно следует далее комплексный способ бытия объективации: она только частично реальна, то есть - реальна лишь материя вместе с ее формой; собственно духовное содержание остается ирреальным и также не превращается в реальное живым духом, оно выступает для него скорее лишь как явление. Таким образом, видно, что в отношении между явлениями речь идет о чем-то гораздо более всеобщем, а не только об одном произведении искусства. Речь идет здесь не об особенном способе бытия эстетического предмета, а о способе бытия объективированного духа. И, далее, должно быть еще показано, в чем состоит отличие отношения между явлениями в художественном произведении от отношения между явлениями в различных объективациях другого рода. б. Духовное содержание и живой дух Между тем схема трехчленного отношения еще не полна. В действительности живой дух (как персональный, так и объективный) выступает здесь двояким образом. Ибо формирование материи и придание ей духовного содержания суть также уже акты живого духа, а именно первоначальные творческие акты. Только это суть акты другого духа, а не воспринимающего и узнающего: это акты духа, который может быть давно прошедшим, если его произведение делается доступным потомкам. Итак, нужно дополнить схему, чтобы включить в нее функцию творящего духа. Тогда отношение 50 будет четырехчленным. Производящий дух формирует материю; он придает ей благодаря этому духовное содержание, но также замыкает его в ней, так что воспринимающий дух в свое время его только снова "открывает", то есть должен обратно извлечь из нее; отсюда становится ясным, что воспринимающий дух, со своей стороны, должен также сделать спонтанный вклад: он должен внутренне в понимании и в созерцании дать произведению возникнуть вновь, должен его репродуцировать. Этот вклад и это действие приводят произведение к тому, что воспринимающему духу "является" духовное содержание. Четырехчленное отношение само в себе не одинаково. Подобно тому как производящий дух не знает репродуктивного и может только слепо с ним считаться, так, со своей стороны, производящий дух скрыт и от репродуктивного, так как он не содержится в самой объективации; и там, где потомок не знает его по другим источникам (из истории), он может судить о нем только по его произведениям. Конечно, творец может изобразить в своем произведении и себя самого, но тогда это будет придание особого рода и нужно уже знать о нем как таковом, чтобы его понять. Нарисовал ли Гомер самого себя в образе Демодока, как полагали греки столетиями позднее, нельзя решить, и мало что меняется в "Одиссее", если этого и не было. Правда, в известных границах каждое изображение есть также самоизображение, даже там, где речь идет только о вещи; тот, кто формирует материю, всегда, пожалуй, невольно объективирует в произведении нечто от самого себя, даже если это является лишь способом видения. Без сом нения, это особенно относится к художественному изображению. Но этот род самоизображения есть сопровождающий феномен всякой передачи и несвойствен собственно объективации как таковой (длящейся). Именно так каждый человек постоянно открывает в жизни что-нибудь от самого себя благодаря речи, поведению, образу действия. О чем бы он ни говорил, он невольно одновременно выдает самого себя. Итак, картина определенным образом перевернулась. Сначала казалось, что объективированный дух как будто совсем освободился от живого, вышел за его пределы, свободно витая. Теперь оказывается, что он на долгое время привязан к другому живому духу и, кроме того, связан с первым производящим духом, так что и этот последний можно узнать в нем. Оба не только принципиально важны для него, но и прямо-таки существенны для эстетического предмета. Ведь он как художественное произведение также существует лишь по отношению к воспринимающему субъекту который приносит с собой условия восприятия, и больше ни для кого, но меньше всего существует в себе. Как раз в нем всегда узнает в известных границах производящий дух: скульптор, поэт, композитор, - даже тогда, когда не знают ни его имени, ни его жизни. И гораздо сильнее, чем его узнавание, есть приравнивание к нему: наблюдатель может благодаря силе произведения приобщиться к способу созерцания художника, быть им охваченным и преобразованным. При этом следует пойти еще дальше. Для эстетики важно в первую очередь восприятие, а с ним, следовательно, и чувственный реальный образ, в котором объективировано духовное содержание и в котором оно только и является. Нужно было бы предположить, что этот образ с самого начала должен быть так или иначе однороден с духовным содержанием. Но как раз здесь более точное рассмотрение указывает на противоположное. Для этого также надо ориентироваться в более простых, внеэстетических формах объективации. Наиболее пригодными здесь являются часто встречающиеся нам в жизни формы объективации: слово и письмо. Язык принадлежит к определенной области живого объективного духа. До тех пор пока этот дух "живет", язык, следовательно, действительно звучит; это "живой язык" в отличие от мертвого языка, на котором уже никто больше не говорит. Слово как член языка играет в этой области роль средства понимания; оно является также разменной монетой духовного общения. Поэтому оно мимолетно, служит только минутной ситуации и исчезает как таковое вслед за "делом", о котором оно говорит. Оно забывается. Все же слово - уже объективация, и оно показывает оба характерных слоя бытия объективации: чувственный реальный слой, слышимый звук и духовное содержание, значение, "смысл". Только оба вместе составляют "слово"; каждое, взятое само по себе, в области языка - ничто. Из этого видно, прежде всего, что уже живой дух все время пользуется объективацией без того, чтобы удерживать ее или сохранять. Он нуждается в ней на короткое время для своей собственной мгновенной потребности, для составления и сохранения общей духовной сферы, в которой состоит и движется вперед его жизнь. 51 Но каждое слово, каждое выражение вместе со своим однократным словесным звучанием может быть также удержано и сохранено в памяти живущих. Это легко случается там, где смысл речи представляется имеющим больший вес, - так, как это с древних времен случалось в анекдоте. Духовное содержание - именно потому, что оно объективировано в слове, - становится общим достоянием. И это усиливается еще в гораздо большей степени благодаря письменности, ибо ее сущность в том, чтобы не быть мимолетной, как то, что высказано, а прочно удерживать и нести дальше, так как она сама как реальный образ постоянна. Обширная литература древних, в которой собраны анекдоты, является красноречивым свидетельством этого; и речь здесь идет не об истинном содержании анекдота (которое нельзя больше проконтролировать), но о сохранении мимолетного как такового. С философской точки зрения обращает на себя внимание в этом отношении глубокая разнородность слоев бытия в объективации. Слово и письмо также самые близкие примеры этого. Звук и значение не только несравнимые образы - они не имеют близкого общего рода, - но они имеют также совершенно разнородные способы бытия. К тому же они внутри общего словесного целого весьма самостоятельны по отношению друг к другу, как это видно в различии языков и даже диалектов; их элементы также не варьируются ни в коем случае лишь в зависимости друг от друга. Скорее значения весьма условно зависят от звуков (случайная ономатопея образует только незначительные исключения). Отсюда возможность перевода, как и вообще многоязычия и множество возможных словесных выражений в одном и том же языке. Действительные границы возможности перевода имеют более глубокую причину – они лежат в различии самого объективного духа, его способов воззрения и направления мышления у различных народов и в различные времена. Но то же самое, что касается слова, в большей мере относится к письменности. Здесь несравнимость письма и смысла, как и несравнимость внешнего образа и слова, еще более непосредственно бросается в глаза, и именно как по структуре, так и по образу бытия. До известной степени она осознается даже совсем наивным человеком при обычном употреблении письма, и только привычка скрывает очень большую странность в ней. Позитивным в этом отношении, очевидно, является только твердая определенность сочетания звука и значения, соответственно письменного образа, звукового образа и значения. От нее, а не от структурного родства или иного сходства зависит понимание сказанного и написанного. Но самое странное то, что такого рода сочетание свободнее всего и совершеннее всего функционирует как раз там, где оно чисто внешне, условно и "случайно" и не подвергается влиянию сходств или структуральных совпадений (можно, пожалуй, сказать, не разрушается ими). Ибо при всей твердости в элементах такое сочетание должно иметь самую большую подвижность, чтобы подходить к самым различным смысловым содержаниям; это удается лучше всего там, где оно является простым символическим отношением и ему не мешает претензия на "копирование", будь это хотя бы лишь в самом отдаленном смысле. Ярким примером этого в высшей степени удивительного факта является высокое превосходство фонетического начертания, разлагающего звуки языка (лишь с совсем небольшим числом основных символов), над иероглифами. Обратной стороной такого превосходства является то, что "узнавание" (то есть чтение) связано с господством твердого сочетания звуков и письменных знаков, точно так же, как понимание сказанного имеет своей предпосылкой привычное господство сочетания звукового образа и смысла. Этим достигается, опять-таки согласно закону объективации, то, что все явления духовного содержания нуждаются в ответном действии живого духа, поскольку он должен приносить с собой условия понимания. в. Бытие в себе и бытие для нас в объективированном духе Во всех других объективациях духовного содержания в принципе дело обстоит так же, как в слове и письме. Только формы самой объективации очень различны - она ни в коем случае не совершает везде окольного пути через символы и сочетание, - и соответственно этому самостоятельность всего образа различается по степеням; это относится и к его исторической способности сохраняться, как и к его возможности возвращаться в лоно живого духа позднейших времен. Все это зависит от особых условий, а именно в первую очередь от условий, относящихся к материи, ее изобразительным свойствам и прочности, а также от не поддающегося учету рокового возвращения и отсутствия адекватного живого духа. Материальное условие в письме очень хорошо выполнимо, но в слове его нет. Сущностью высказанного слова является его быстротечность; что написано "черным по белому", имеет совершенно 52 другую устойчивость. Она существует также там, где ее не предвидят; письма личного содержания, написанные только для данного момента, могут благодаря особенным случаям сохраниться и тысячелетия спустя служить свидетельством какой-то давно угасшей жизни. Так случилось с известными обрывками папируса из египетской пустыни. Но всегда, идет ли речь о преходящем или постоянном, соблюдается закон объективации: общий образ двухслоен, и именно с характерной разнородностью слоев как по структуре, так и по способу бытия. Ибо только передний план, материальный, чувственный образ, реален, а являющийся задний план, духовное содержание, ирреален. Первый существует вместе со своей формой сам по себе, второй, напротив, - только "для" готового к восприятию живого духа, который при этом включает и свое и в понимании становится репродуктивным. Передний план - это всегда ясный образ. Задний план в известных границах также может быть ясным и поэтому может казаться включенным в восприятие, как это имеет место во многих произведениях искусства; например, в пластике и в живописи это живая телесность. Выражение "духовное содержание" нужно, таким образом, принимать с осторожностью. Задний план не нуждается в том, чтобы представлять собой что-то идеальное, мысленное или идеально зримое. Он не нуждается также в том, чтобы по содержанию быть взятым из высших слоев бытия (душевного или духовного бытия) или быть скопированным с них; достаточно, что он первоначально видится духовно и способ созерцания удерживается в способе его явления. "Духовным содержанием" он является скорее только в том же самом смысле, как слово и письмо: выраженным или обозначенным становится только то, что содержится в образе, взятом как целое, не реально и представляется им также как нереальное. Для способа бытия заднего плана достаточно того, что он вызывается в сознании слушающего, читающего и понимающего как представленное содержание. Большое различие между родами и ступенями объективации содержится в совсем других моментах - в том, например, с какой конкретностью и детальностью или с какой абстрактностью и только наружной символикой содержание представленного рисуется воспринимающему созерцателю. В этом имеются чрезвычайно тонкие оттенки. Уже в повседневной речи и тем более в письменности в этом отношении предоставлен широкий простор. В художественном произведении, напротив, являющееся всегда имеет высокую конкретность и полноту содержания и его связь с реальным передним планом крепкая и глубочайшая. Это имеет силу также и тогда, когда содержание представленного, понятое как духовное содержание, является всеобщим и очень отвлеченным. Загадочным в сущности объективации есть и остается при всем том следующее: "как" же, собственно, чувственно-вещественная форма переднего плана может стать носителем содержания, которое имеет совсем другой способ бытия и существует только "для" воспринимающего сознания? Ведь отношение как раз такое, что это содержание может быть увидено в чувственной форме материи и может быть получено из нее в любое время. Каким-либо способом оно, следовательно, должно все же в ней содержаться. Ибо во всем, что еще имеется в мире, действует хорошо известное правило, что только духовная сущность может "иметь" духовное содержание, все равно, как бы ни было создано это "имение". Предварительное решение загадки состоит в том, что в действительности духовное содержание также отнюдь не находится в сформированной материи без содействия живого духа. Оно вообще не находится в ней "само по себе", а только "для нас", для воспринимающих. И оно вкладывается производящим духом только "для" воспринимающего духа, но не "само по себе" и не независимо от этого запечатлевается на бытии материи. Действительно приданная ей форма сама является скорее только материальной, следовательно, формой чувственного переднего плана. Если здесь применяют вышеразвитое четырехчленное отношение, то круг замыкается: во всех объективациях, безразлично какого рода, являющийся слой заднего плана существует только "для" живого духа; он существует вообще только благодаря переменному отношению к нему. В этом - смысл "бытия для нас". Этот очень относительный способ бытия отделяет задний план от переднего плана, хотя первоначально творящий дух, который сформировал целое, реален и может проявляться в духовном содержании своего творения, ибо, поскольку он проявляется, он не является как реально присутствующий. г. Передний и задний планы Обе составные части объективированного духа имеют, таким образом, совершенно различные способы бытия, так что единство обеих с самого начала является примечательным в царстве существующего. В остальном они весьма свободно варьируют по отношению друг к другу. Но самый большой 53 размах существует внутри единства, которое они образуют в зависимости от их связи между собой. Существуют объективации, в которых связь переднего и заднего планов друг с другом только условна. Слово и письмо принадлежат к этому роду. Важно отметить, что как раз то же самое относится и к понятию. Понятие также создано произвольно - всегда так, что оно берет свое собственное содержание не из самого себя, а из определенной связи гораздо большего стиля, из целой системы понятий. Изолированное понятие для себя есть абсолютное ничто, оно не определяемо и не наполняемо созерцанием. Одним словом, понятие несамостоятельно, точно так же как и изолированное слово. Практически оба, как слово, так и понятие, совершенно не бывают изолированными: они существуют только в речи, соответственно и в связи мыслей. Реальный образ понятия есть термин; но он сам по себе ничего не говорит о духовном содержании. Последнее надо узнать уже в другом месте, чтобы можно было правильно его вкладывать. Речь идет о том, чтобы наполнить понятие созерцанием - ибо его сущность состоит в том, чтобы быть средством высшего созерцания (будь то созерцание, проникающее внутрь, или созерцание, соединяющее воедино), - и именно не любым, а правильным, в данном случае подразумеваемым созерцанием. Понятие "планеты" имеет только тот, кто наблюдал кеплеровские эллипсы и отношения движения тел на эллиптических путях. Это наблюдение должно быть произведено, чтобы понятие вообще осуществилось в собственном мышлении. Это то, что Гегель назвал "напряжением понятия". Но откуда может прийти созерцание? Легко можно видеть, что оно может прийти только из большей, вполне обозреваемой связи. Последняя всегда содержится, если мы имеем дело с научным мышлением в системе заданных понятий, если не полностью, то все же в границах данного состояния науки. Из этой системы нельзя вырвать отдельное понятие, чтобы оно не потеряло свое духовное содержание. Но такая система понятий может, будучи объективированной в литературном произведении большего стиля, сохраниться в течение столетий и вновь быть воспроизведенной в эпоху, в которую давно больше не мыслят при помощи тех же самых понятий и не рассматривают вещь посредством тех же самых путей созерцания. Система понятий аристотелевской метафизики, как и ее отдельные понятия - форма, материя, эйдос, сила, энергия, - слишком далеки от нас, но могут быть воспроизведены из сохранившегося сочинения и так точно, что в них можно ясно различить последовательность и непоследовательность. Но это возможно только в целом как таковом, а не в отдельном понятии, если брать его только само по себе. Отдельное понятие приобретает свой смысл и содержание как раз от целого. Последовательность проста: понятие, взятое как отдельное, имеет свою сущность вне себя. Если его вырывают из связи понятий, в которой оно коренится, то оно опустошается, теряет свое содержание и может быть искажено до неузнаваемости. Такое опустошение произошло исторически с бесчисленными понятиями древних, например с вышеназванными аристотелевскими понятиями. Можно, правда, воспроизвести содержание вырванных понятий, снова заполнить их Пустоту, но для этого нужно заново восстановить всю первоначальную связь; это, конечно, может произойти только на основе исторического источника - строго по тексту аристотелевской метафизики. Но это затруднительно - для этого требуется целое исследование. Стабилизация объективации в понятии также невелика. Понятия превращаются - нужно сказать, в противовес учению старой логики об их вневременной идентичности, - они имеют свою историю, то есть им присуща изменчивость значения в живом объективном духе. Под этим ни в коем случае не нужно понимать одно опустошение. Скорее с каждым новым достижением науки к понятию прибавляются новые признаки; и так как прогресс познания может продолжаться столетиями, в течение которых воззрения на тот же самый предмет коренным образом меняются, то история его понятия может вести к полнейшей перемене его содержания, хотя бы оно все еще было связано со старым термином и все еще подразумевало ту же самую вещь. Здесь изменяется именно сама объективация соответственно пониманию и потребности живого духа. Эта удивительная способность понятия изменяться (возможно, нет ничего в мире столь подвижного, как понятие) является не слабостью его, а как раз его единственной в своем роде способностью следовать за никогда не останавливающимся процессом познания. Но она в то же время является красноречивым свидетельством шаткости связи между термином и духовным содержанием в понятии. Чрезвычайно поучительно уяснить себе все это на примере понятия, ибо только в противоположении этому получит правильное освещение сущность художественной объективации. Художественное произведение имеет как раз совсем другую стабильность, несравненно более высокую историческую 54 силу устойчивости. Основа этого лежит в твердом и постоянном соединении в нем переднего и заднего планов, ибо это соединение не является здесь ни условным, ни извне обусловленным (высшими систематизированными связями), а чисто внутренним, основанным на себе самом. Оно поэтому и обращено не к понятию, а к созерцанию; и внутри созерцания оно имеет форму самой тесной связи между чувственным созерцанием (восприятием) и высшими формами созерцания. Именно художественное произведение дает в форме реального образа все детали, в которых является духовное содержание. Поэтому содержание в этих деталях переднего плана в любое время воспроизводимо, и для этого не нужна реконструкция обширных связей. В художественном произведении богато воплощен как раз передний план, материальное и чувственно реальное; такое воплощение отсутствует у понятия, поэтому оно ничего не может явить из себя, а зависит от связи, которая лежит за его пределами. Художественное произведение ни от чего такого не зависит; полнота формы в реальном образе достаточна, чтобы созерцающему явилось духовное содержание. Это значит, что в художественном произведении соединение переднего и заднего планов "тесное", крепкое и постоянное. Не привнесенному знанию вещи открывается духовное содержание, а созерцанию; и если последнее уже и не чувственное созерцание, то оно все же крепко связано с восприятием и не может без него представить себе являющееся. Это можно выразить и так: художественное произведение имеет свою сущность в себе самом, понятие имеет её вне себя. Понятие, взятое сомо по себе, не есть замкнутое целое, однако ближайшую по высоте целостность видеть в нем нельзя; художественное произведение есть целое и именно так крепко замкнутое в себе, что оно для полного обнаружения своего содержания созерцающему не нуждается ни в какой внешней для него связи. Богатство чувственной формы в его переднем плане достаточно, чтобы пробудить все связи, необходимые для являющегося заднего плана. Больше того, оно не только не зависит от связей, которые не содержит в себе, но, наоборот, со своей стороны, выделено из реальной связи жизни, знания и понимания, отдалено от нее и полностью основано на себе самом. И поэтому оно имеет силу отделять также созерцающего и переводить его в совсем другой мир являющегося. Поэтому художественное произведение не подвержено "опустошению". А что касается перемены в живом духе, то это также знакомо ему только в очень ограниченной степени. Бывает, что измененному - пожалуй, более зрелому - духу позднейшего времени открывается в нем новое содержание; но и оно остается на линии однажды в нем объективированного. На чем основывается исключительная сила соединения слоев бытия художественного произведения, благодаря которой оно сохраняет также исторически свою идентичность, может быть решено только анализом самого отношения слоев. ГЛАВА 6 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАНЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ а. К вопросу о классификации проблемы и ее исследования Уже в акте, который сам по себе является расслоенным созерцанием, проявилась двухслойность эстетического предмета. Теперь, после ориентации в противоположных формах объективации, это включается в более высокую связь феноменов. При этом на последний обсуждаемый вопрос - чем отличается эстетический предмет от других родов объективации - еще раз падает наибольшее ударение. Указания на большую крепость внутреннего соединения, на ее самостоятельность и собственную закономерность (автономию) здесь, очевидно, еще недостаточно. В дополнение к этому нужно глубже вникнуть в отдельные формы эстетического предмета. Но предварительно для ориентации внутри всего царства феноменов следует сказать следующее: все эстетические предметы состоят из слоев, но не все являются объективациями. Только художественные произведения, как созданные человеком, суть объективации. В них в первую очередь осязаемо отношение слоев, противоположность их бытия и их соединение друг с другом. Поэтому здесь должно быть исключено с самого же начала предметного анализа все, что не является художественным произведением, - следовательно, прекрасное в природе и прекрасное в человеке. Позднее нужно будет исследовать, насколько можно переносить найденное в художественном произведении на те или другие области прекрасного. Затем следует дальнейшее предварительное ограничение. Из всех искусств для целей предметного анализа подходят в первую очередь те, в создании которых осязаемо выступает духовное содержание как содержательный образ; это такие искусства, которые предоставляют изображению "материал", сюжет, тему. Их можно объединить в группу "изобразительных искусств". Это пластика, живопись и поэзия. Потом нужно будет исследовать, насколько найденное в них вновь находит себя в предмете 55 неизобразительных искусств, прежде всего в музыке и архитектуре. Здесь сохраняется известная классификация искусств по "материи", с которой они работают: с камнем или бронзой, с краской на полотне, со словами или глиной. Уже было показано, почему эта классификация не является внешней. Не каждый материал может быть изображен в любой материи, или, говоря позитивно, каждая материя допускает только определенные роды материала. И, даже если в широком смысле это тот же самый материал, она все же берет в нем другие стороны по сравнению с другой материей. Это имеет свою причину в том, что каждая материя допускает только определенный род формирования, в котором может быть выражено только определенное содержание, то есть доведено до "явления". Задний план художественного произведения не определяется передним планом, скорее второй определяется первым; но "род" возможного формирования переднего плана все же предписывает границы формирования заднего плана. При этом он делает известный отбор материалов (тем) и полностью - оформления материала. Выбор распространяется, следовательно, на то, что, собственно, может быть изображено. От этого косвенно зависит также особый род эстетической ценности, которую может иметь созданное произведение. Ведь бытие красоты лежит в способе явления. б. Расслоение в художественном произведении пластики На греческой скульптуре периода ее расцвета можно проследить всю проблематику расслоения. В стоящей фигуре Аполлона не дано прямо ничего чувственного, кроме поверхности туловища в мгновенной позе: левая рука поднята, правая опущена, голова наклонена в сторону в направлении поднятой руки. Облеченный в форму мрамор стоит тихо, он не двигается, не живет, тем не менее он выразил нечто определенное. И все же мы видим гораздо больше, чем это, когда мы стоим перед ним, погрузившись в художественное созерцание. Мы видим движение, видим жизнь в этом человеческом теле, видим действие, которое, хотя уже и совершено, все еще выражается в позе: "издалека попадающий" послал свою стрелу, напряженная левая рука еще держит лук, взгляд следует в направлении выстрела. Здесь, следовательно, изображено и передано нечто совсем другое по сравнению с тем, что может сделать видимым простое облечение в форму материи: полное действие выстрела, пульсирующая живость фигуры, динамика действия и его разрядка; в дополнение к этому - превосходная осанка божественности, ее серьезность и ее исполненная могущества свобода. Так обстоит дело всюду в пластике, безразлично, какая фаза движения показана. У метателя диска тело схвачено в момент высшего напряжения - в момент поворота для броска, и только внешняя форма этого мгновения запечатлена в камне. Но созерцающему в этом является все происшествие с его динамикой, включая полет диска в палестре. То же самое происходит и у борцов и у танцующего сатира, даже у "Давида" Микельанджело, где показано спокойное, точно рассчитанное положение тела перед броском. Всегда осязается противоположность слоев: тихо стоящий реальный образ и движение являющегося. Конь Каллеони тихо стоит на своем цоколе, и в то же время он шагает; мы видим неподвижное стояние и видим шагание; одно не мешает другому, не противоречит ему, напротив, только одна делает видимым другое. Как это возможно? Как может "являться" движущееся и живое в неподвижном и неживом? Мы так привыкли к этому явлению, оно так легко совершается в нашем эстетическом созерцании, что мы едва обращаем на это внимание. Но загадка этим только прикрыта, но не решена, ибо при этом остается то, что вообще реально существует только облеченный в форму камень в своей неподвижности, а также и то, что движение, жизнь и полное чувственности выполнение действия содержатся в ирреальном. Но остается также признать, что движение, жизнь и выполнение действия представляются в полной конкретности, следовательно, даны в их виде и не в коем случае, не должны быть сначала примыслены, скомбинированы или открыты. И к этому следует добавить, что созерцающий и то и другое, хотя и видит их соединенными воедино, все же ясно различает и ни в коем случае их не смешивает, не стирает границу между реальным и являющимся. Ведь не одному наблюдателю не придет на ум считать бронзу движущейся, камень одушевленным или заговорить с изображаемым лицом, как с живым собратом. Отношение обоих разнородных слоев основано не на обмане, а как раз на сознании, сопровождающем явление как таковое. И здесь в сущности пластического художественного произведения можно с полной ясностью и рассудительностью насчитать четыре момента отношения явлений: 1) материально-реальный передний план с чисто пространственной формой, 2) ирреальный задний план, являющийся в такой же конкретности, но без иллюзии реальности, 3) тесная связь последнего с первым для созерцающего, 4) сохранение противоположности способов бытия в созерцании без освобожде56 ния от связи и без снижения конкретности в ирреальном. Отсюда становится очевидной содействующая роль созерцателя при построении эстетического предмета: хотя задний план "является" "в" переднем плане, но это возможно только для художественно адекватного созерцателя. Только "для" него прозрачен неподвижный материальный передний план. Эта прозрачность пространственной формы для него является, очевидно, самым коренным в отношении явлений, тем, на чем зиждется все художественное произведение, ради чего пространственная форма в ее безжизненной неподвижности придается каменному материалу. Но без проникновения созерцателя внутрь она совершенно не может иметь места. Без участия созерцающего не бывает и эстетического предмета. Но есть между тем еще многое, что является в пластике. Рассудите: вылитый из бронзы всадник на своем "шагающем" коне стоит на цоколе, является движение, совершающееся при верховой езде, но оно совершенно не может иметь места как на цоколе, так и в явлении; грубо выражаясь, всадник совсем не представляется как бы едущим верхом на цоколе, и тем не менее это не представляется чемто бессмысленным. Всадник едет по равнине, по полю; но поля нет, значит, оно должно появиться. Следовательно, является другое пространство, в котором едет верхом Каллеони, также ирреальное пространство, которое не покрывается реальным пространством, в котором стоит статуя. И наблюдатель, которому он является, не смешивает его с пространством, в котором он стоит и взирает на статую. Реальное и являющееся пространство мешают друг другу так же мало, как статическая форма бронзы мешает движению, совершающемуся при верховой езде. То же самое имеет место в изображении борцов, олимпийского Апполона, дискобола. Особенно хорошо это можно видеть у последнего. Бросок и вместе с ним фаза движения бросающего бессмысленны, если их отнести к пространству музея, в котором стоит фигура. Бросок требует далекого пространства, он нуждается в палестре; да, он - принадлежность палестры. Следовательно, палестра является вместе с ним. В ирреальном слое бытия художественного произведения, таким образом, есть не только движение и жизнь являющегося, но и особое пространство, которое принадлежит им; и, может быть, можно сказать, что вместе с ними является целый кусок того мира, от которого гимнастическая жизнь античной атлетики неотделима. А теперь нужно подвести итог и сделать вывод: лишь постольку, поскольку движение, жизнь, ирреальное пространство - отрезок целого мира с его механизмом -является в молчаливо-каменной форме материи, то мы можем назвать ее пластическую форму художественным произведением. Основываясь на этом явлении, мы смотрим на произведения пластики, стоим сосредоточенными и потрясенными перед ними, погруженными в являющийся мир. И опять-таки лишь постольку, поскольку мы сохраняем, погрузившись в этот мир, ясное сознание переднего плана, каменной формы как таковой и вместе с ней переживаем явление таким, каким оно есть, как чистое явление, лишь постольку мы являемся эстетически созерцающими. И лишь поскольку мы являемся таковыми, эстетический предмет существует для нас как целый. Но другого наличного бытия, кроме как это бытие для нас, он в своей целости не имеет. Выше поставленный вопрос состоял в следующем: как возможно, чтобы движение и жизнь являлись в неподвижном и безжизненном образе? Теперь его можно если не разрешить, то все же подвинуться на шаг ближе к решению. Наше видение приспособлено в жизни к восприятию подвижных предметов, подвижных членов и фигур; мы и в жизни воспринимаем живость, хотя она и невидима. Пластика пользуется этим, когда она преподносит чувственному видению фазу движения неподвижно покоящейся в статической пространственной форме. Мы, созерцающие, знаем ее в собственной жизни, но мы знаем ее не как неподвижную, а лишь как фазу движения, видим постоянно часть самого движения. Следовательно, когда мы наблюдаем, чувственно созерцая фазу движения, то одновременно внутренне мы видим при этом все движение или по крайней мере часть его - танец, бросок, верховую езду. И таким образом мы бываем втянуты при созерцании в являющийся мир подвижного, живого, человеческого. По крайней мере так бывает, когда в оформлении камня пластически и жизненно правдоподобно схватывается и закрепляется фаза движения. Только тогда она заметна наблюдению как таковая. Мы говорим тогда о пластическом произведении: "Оно убедительно". Но мы подразумеваем под этим, собственно, силу передачи. Мы только не знаем, что она есть то, что мы подразумеваем. Ибо она выявляет себя для нас только в радости созерцания. И все же мы чувствуем расстояние между являющимся движением и неподвижной формой материи. Поэтому мы сохраняем сознание чувственно материального как такового. Но обратная сторона этого сознания есть понимание ирреальности являю57 щегося и художественного выполнения в пластике. Это понимание так же нерефлективно, как сами радость и созерцание. Оно их непосредственно сопровождает. Если подумать, что жизненная правда зафиксированной фазы является главным условием созерцания и явления, то станет понятным, что при данной адекватной позиции созерцающего все дальнейшее до самых высших ступеней явления зависит от ясной формы материального реального образа. Поэтому в этой форме все, до технических частностей выполнения, художественно существенно. в. Рисование и живопись Когда я стою перед голландским морским пейзажем и мой взгляд теряется в дали, подобно тому, как это происходит на действительном морском побережье, то мне вовсе не приходит на ум, что море со своим прибоем действительно здесь и мне нужно сделать только несколько шагов, чтобы мои ноги окатила волна. Картина вовсе не рассчитана на то, чтобы ввести в подобное заблуждение. Она не вызывает иллюзию реальности даже при самой высшей степени реалистического изображения. То, что она действительно дает, есть нечто совсем другое: не то, что изображено, но "картину" изображенного. Здесь также нужно ясно различать два главных слоя; они здесь еще более разнородны, чем в пластике, не похожи один на другой, и поэтому мы разделяем их более свободно. Реальному образу здесь принадлежит только полотно с пятнами красок - а если речь идет о рисовании, то бумага и штрихи, но виден будет ландшафт, сцена, человек, кусок жизни. Все это принадлежит заднему плану и совершенно ирреально; самим наблюдателем это также не принимается за реальное. Художник вообще может прямо сформировать только этот реальный образ, а все дальнейшее только косвенно, заставляя его являться через оформление переднего плана. Но он может так преподнести штрихи и пятна красок, что в них является вся полнота заднего плана - нередко, вплоть до того, что в принципе лишено видимости (человеческая жизнь и характеры). Большая разнородность слоев проявляется в живописи (и рисовании) уже в двойной измеримости плоскости картины, потому что она, в сущности, принадлежит "картине", в то время как являющийся задний план имеет трехмерную протяженность вещественной телесности. Первое и наибольшее достижение есть, таким образом, уже явление глубины пространства, в которую мы смотрим. Главным рисовальным средством для этого является воспроизведение перспективы, которая хотя и существует все время при повседневном видении предметов, но остается незамеченной, потому что она почти совсем дезобъективирована. Действие рисования начинается тем, что оно делается предметным. Художественных средств для передачи глубины пространства существует еще больше. Между тем самым существенным является то, что эти средства не исчезают в предметности являющегося заднего плана, а остаются сами видимыми и действуют как достижение искусства, так же как не исчезает, но все время остается видимой для художественного созерцания двумерная плоскость картины. Если бы она совсем исчезла, то картина не могла бы действовать, как картина. Здесь то же самое отношение, как в пластике, только немного измененное; там это была застывшая в неподвижности фаза движения в сформированном камне, которая еще видима в явлении движения. Здесь, как и там, реальный передний план как таковой остается предметным. Из этого следует дальше, что "пространство на картине", в которое мы заглядываем, есть полностью лишь являющееся пространство. Поэтому оно ясно отличается от реального пространства, "в" котором оно является, то есть от того пространства, в котором висит картина и перед ней стоит созерцатель, следовательно, от комнаты с ее стенами или от зала музея. Никто из тех, кто стоит перед картиной с морским пейзажем, не воображает, что море реально существует за стеной, на которой висит картина, хотя восприятие глубины пространства при созерцании должно быть близким к настоящему восприятию. Это для нас настолько само собой разумеется, что уже разговор о такой иллюзии смешит. Но ведь само собой разумеющимся здесь, как часто в жизни, является удивительное. Ибо это возможно только благодаря тому, что при взгляде на произведение живописи являющееся пространство никогда не смешивается с данным реальным пространством или также никогда не видится лишь вместе с ним, но ощущается как другое. Это тем более бросается в глаза, что являющаяся пространственность не совсем независима от реальной. "Пространство на картине" только тогда является правильно, когда наблюдатель занимает правильное реально-пространственное положение по отношению к реальной плоскости картины, то есть когда он стоит на необходимом расстоянии от нее и правильно (по правилу "центра") сориентируется по отношению к ней, иначе пространственный порядок в картине представляется искаженным. Он, правда, и при искажении остается другим порядком по сравнению с реальным, но само искажение 58 зависит от последнего. Однако в каждом случае является "другое пространство" со своим предметным выполнением; оно является не вложенным в реальное пространство, а выделенным из него, освобожденным, без смешения с ним и без настоящего перехода. Это тот же самый феномен, как и в пластике, в фигурах которой является и другое пространство. Только это выделение здесь гораздо более осязаемо и более ясно. Эта ясность дана тем, что явление ирреального пространства опосредовано через двумерную, следовательно, совершенно с ним разнородную плоскость картины. Ведь плоскость картины смотрится сознательно и, следовательно, также дана предметно. У пластической фигуры, напротив, пространственность "стоящей" фигуры того же самого (трехмерного) рода, как и у являющейся. В известном смысле можно сказать: мы смотрим через плоскость картины в являющееся пространство, в ландшафт, в интерьер. Эта плоскость имеет для эстетического созерцания особенную "прозрачность" вещественного переднего плана для явления глубины пространства, ландшафта, пространственного расположения. Но взгляд внутрь, как и прозрачность, все же должен быть понимаем только метафорически, так как ведь мы не смотрим через картину, как через какое-то отверстие, и являющееся ведь не "просвечивает", как сквозь матовое стекло, и то и другое означало бы смешение реального пространства и являющегося пространства. Напротив, прозрачность есть только картина для передачи, однако проникновение внутрь вообще нужно понимать непространственно - в том смысле, как человеку смотрят в душу через мимику лица. Второй момент, который разделяет слои, - это свет. Чувственная наглядность, в которой являются изображаемые предметы, покоится, по существу, на противоречии света и тени, и сами тона красок оттеняются светом. Ибо свет и цвет дополняют друг друга. Но "свет в картине", который падает на изображаемые вещи и оттеняет их, не есть тот же самый свет, который в окружающем реальном пространстве падает из окна или с потолка на картину. Таким образом, нужно различать реальный свет и свет, являющийся в картине, подобно тому как мы различаем реальное пространство и являющееся пространство. Свет, являющийся в картине, может быть канализированным светом (как у Рембрандта), может быть плотным солнечным светом, светом факелов, рассеянными сумерками, и в соответствии с этим изображенные вещи и предметы являются в определяемых этим светом тонах ясно очерченными, расплывающимися или лишь едва обозначаемыми пятнами света и тени. К этому можно прибавить, что свет в картине имеет свой собственный световой источник, который не совпадает с реальным световым источником; он не нуждается в том, чтобы быть видимым в картине, он все же ясно выдает себя через игру света и тени на предметах в картине, и ему не нужно быть похожим на реальный световой источник, который освещает картину. Только в одном отношении существует здесь зависимость являющегося света от реального света: последний есть условие явления для первого. Если реальный свет совсем не падает на картину, то исчезает и свет в картине; если он делается слишком слабым или неблагоприятным (так что на полотне выступают глянцевые блики), то свет в картине искажается. Но и в этой зависимости являющийся свет остается другим, чем реальный. Он сохраняет свою самостоятельность соответственно законам расслоения. Очевидно, здесь существует отношение зависимости, похожее на зависимость между реальным пространством и являющимся пространством. Но и самостоятельность являющегося света по отношению к реальному та же самая, что и самостоятельность являющегося пространства по отношению к реальному пространственному положению наблюдателя. То же самое, что было сделано по отношению к пространству и свету, можно было бы осуществить по отношению ко всему разнообразию являющихся предметов. Но от этого нужно здесь отказаться, потому что, с одной стороны, тождественность картины целиком зависит, очевидно, от явления вещей, как и от явления их пространственности и света, в лучах которого они стоят; с другой стороны, потому, что в картине может явиться еще гораздо больше, чем она сама, так что ирреальный задний план раскрывается дальше. Об этом еще нужно будет сказать в другой связи. Пока же речь идет только об отношении реального слоя и явления вообще; и это отношение в произведении художника (или рисовальщика) вполне достаточно ощутимо в моментах света и пространства. Это есть именно руководящие моменты для визуального явления. В дополнение к сказанному заметим здесь еще одно. Извлечение заднего плана из реальной связи в таком ясном искусстве, как живопись, уже само по себе является феноменом особого веса. Ведь это то же самое видение, которое воспринимает и реальные и являющиеся вещи, и в зависимости от рода в той же самой трехмерной пространственности, в той же самой перспективе, в том же самом пласти59 ческом действии света и тени - в той же самой пестроте красок. В этом ведь также коренится непреходящий момент "подражания" (мимезис), которое свойственно каждой живописи, даже если она уже очень переросла его. Извлечение в живописи нуждается поэтому во внешнем подчеркивании, в усилении выделения как такового. Это достигается подчеркиванием границ картины при помощи приметной и бросающейся в глаза рамы. При этом не обязательно нужна золоченая деревянная рама, так как по-своему эту роль выполняет окантовка рисунка белой бумагой. Действие рамы, если оно всегда будет достигаться, очень существенно и является родом пробы для отношения явлений в созданном произведении: рама выдвигает не только являющееся содержание картины, которое как раз приравнивается к видимому реально-предметному, - она отделяет являющееся как таковое от действительного как такового. Можно даже сказать и так: явление - от реального бытия, бытие для нас - от бытия в себе. Поэтому феномен рамы в живописи является не внешним, а существенным. Он служит отделению от реальности, он противодействует нехудожественной иллюзии. Он дает также возможность ясно выделить изображенные фигуры или сцены из реальности, как позволяет отделить являющийся свет от реального. Без отделения от ощущаемой реальности картина не может быть художественным произведением. Если умышленно стереть все отграничивающее от окружающего мира вещей, что может быть достигнуто приблизительно благодаря известным эффектам освещения (можно бы указать на действие кулис реалистической сцены), то это действует еще только как замена реальности. Обрамление - самое простое средство противодействовать такому фетишизму вещей. Живопись имеет для этого еще и другие средства. Самым известным средством является, пожалуй, отбор: художник не воспроизводит без отбора все видимые им детали, хотя его искусство существенно зависит от деталей. Он дает только то, что соответствует изображению и способу видения наблюдателя, что, таким образом, втягивает его в определенный род созерцания. Ибо всякое видение является отбирающим. Здесь нужно бы вспомнить о способности поля восприятия в жизни давать блаженство; дающие блаженство моменты суть практические направления интересов и в конце концов практические точки зрения на ценность. Выбор художественного видения направлен иначе; здесь определяющая ценность заключается в явлении того, что видит художник и чего человек в обыденной жизни не видит или видит только несовершенно. Это относится ко всему вплоть до самых последних частностей рисования или красок. Картина может ограничиться при известных обстоятельствах несколькими штрихами или экономными пятнами краски. Она может как раз благодаря этому быть направленной на что-то определенное, что должно явиться и отвлечь от всего остального. Так видеть, следовать ему - значит понимать художника; это значит научиться самому видеть так, как видит он, и это не только при взгляде на его произведение, но также самостоятельно в жизни. Действие выбора также есть отделение от реальности. Оно также позволяет проявиться дистанции между являющимся и реальным. Оно также вызывает отношение явлений как таковое в сознании созерцающего. г. Основное отношение в поэзии Поэтическое искусство подобно пластическому искусству в том, что оно также является изобразительным искусством, имеет сюжет и начинает с подражания реальному. "Но пластическим" в узком смысле оно не является, потому что оно не прямо оформляет свои темы в материю, в которой они потом могли бы явиться чувственно, а избирает обходный путь при помощи слова и посредством него обращается к фантазии читателя или слушателя. Этой дистанции по отношению к видимому соответствует другой круг тем, и очень большой в своей совокупности. Он охватывает всю жизнь человека. В нем доминируют душевно-духовные вещи. Но материя, в которой работает это искусство, не только иная, но даже совсем другого рода, чем материя пластических искусств, - и совсем другой силы. Это не данная природой материя, а образованная человеком: язык, слово, письмо. О том, что язык и письмо имеют характер объективации, основываются на символических системах и принципе сочетания, уже шла речь выше. В поэзии слово становится материалом для образования высшей формы и в литературных образах последняя закрепляется, получает прочность, силу сопротивления, длительность. Благодаря этому поэзия как творение приближается скорее к объективациям внехудожественного рода, к большой области духовных творений, которые можно охватить названием "литература". Ибо никакая резкая граница не отделяет прозаическое литературное произведение от поэтического произведения; это можно видеть и по искусству рассказывания древнейших историков, и по библейским рассказам, и по сагам северных 60 стран, и точно так же по поэтической форме изложения концепции чисто абстрактного блага в философии досократиков. Стих при этом, конечно, есть только украшение речи, всецело принадлежащее чувственному переднему плану, слышимому. Но он существен как оформление: он крепко держит слушателя на переднем плане, препятствует ему как бы полностью преодолеть его и без помех погрузиться в глубину являющегося заднего плана. Поэтому стих как внешняя форма речи может стать доминирующим. Это очень дает себя знать в лирике. Здесь происходит нечто удивительное: оформление простирается через речевое звучание на то, что высказано в речи, ложится, как блестящая искра от свечей, на значение слов, специализируя и интенсифицируя его. Хотя оно исходит от внешнего и по существу ему одному принадлежащего, оно служит внутреннему и самому внутреннему, которое является в слове, образует задний план, который изображается, и таким образом само является существенным моментом изображения. Так звуковая форма речи может в благоприятном случае доводить его до конца, дать как раз то - и именно дать конкретно ощутимо, - что обычное слово в своем конвенциональном значении (которое всегда есть всеобщее) не в состоянии дать. Как это происходит, является, конечно, вопросом, который эстетический анализ не может разрешить до конца. Но феномен не вызывает вопроса. Согласно основному феномену, противоположность слоев поэзии есть нечто всем известное. Никто не спутает букву с духом. Слово может быть услышано и прочитано, но построение слов является реальным образом поэтического произведения. То, что оно выражает, есть нечто совсем другое: внутреннее понятие человеческих вещей -судьбы и страсти, сами действующие фигуры, лица и характеры. Все это есть задний план, только лишь явление. Очень наивный читатель (особенно в детском возрасте) будет, пожалуй, принимать рассказанное за "действительно" случившееся", и потом, может быть, будет соответственно этому волноваться. Такой читатель читает не согласно поэзии, не конгениально, не в смысле эстетического созерцания; он наслаждается, может быть, напряженностью, сенсационностью содержания, но не произведением поэзии как таковым. Материал речи подвергается здесь как бы переоценке. Естественная точка зрения принимает высказанное за правду, ибо в этом смысл речи - сказать то, что есть, или то, что было. Речь, не отражающую правду, она принимает за извращение этого истинного смысла, за ложь или по крайней мере за невинную выдумку. В поэзии, напротив, выступает смысл речи, который стоит в стороне от правды или неправды, не касается этого противоречия и, во всяком случае, не является ни нравственным свидетельством, ни отречением от реального. Этот смысл речи есть явление ради него самого, "фантазирование", настоящее "сочинение". В реальном образе слова, в звуке при этом ничего не меняется возможно только то, что его употребление делается свободнее, - но смысл речи меняется. Он относится к обыденной речи так, как сон относится к действительности. Но в этом он похож на образование пространства в пластике и магию красок в произведении живописи, он не симулирует реальность и не стремится создать иллюзию. Поэтому поэт пользуется также известными средствами отделения от реальности. Его "стихотворная речь" есть только одно из этих средств; имеется множество стилизаций речи, которые ставят в известные границы претензию на реальность. Эффект в том, что слово, служа обычно трезвым практическим интересам, становится способным к оформлению другого порядка. И только благодаря этому оно получает высокую прозрачность, что приводит к обнаружению того, что в жизни обычно в словах не выражается. Такая повышенная прозрачность возможна только при индифферентном отношении к буквально взятым истине и неистине. Это существенно также там, где поэзия заимствует свой материал из реальности. Использование, преобразование остаются у поэта в силе. Знают об ирреальности являющейся человеческой жизни, поступков, действий и судеб и признают их за действительные, предоставляют тому, что формирует материю, свободу распоряжения ими. Только так получает он необходимый простор для движения. Противоположность реального и ирреального в отношении к слоям предмета еще более усиливается в произведениях поэзии по сравнению с первоначальным практическим смыслом речи. Она не ограничивается поверхностным различием звука и значения, которое свойственно каждой речи, но выходит далеко за пределы этого. Она становится родом разгрузки слова от его первоначальных функций свидетельствовать о действительности. В этой разгрузке содержится свобода игры в поэзии, так же как и специфически художественные достижения слова. Извлечение являющегося заднего плана из реальной связи также возвращается в поэтическое произведение. Оно более осязаемо в содержании речи, чем в живописи, даже без види61 мого феномена рамы. Поэзия дает возможность целой человеческой жизни явиться перед нашим внутренним взором; мы можем вжиться в являющийся мир, прожить с выступающими лицами известный отрезок жизни. Мы видим, как люди действуют и страдают, и сами живем вместе с ними, совсем так, как мы это делаем в реальной жизни. Но это не есть настоящая, действительная жизнь, в которой мы это делаем, но другая, являющаяся жизнь, сочиненная при помощи фантазии и облеченная в фабулу. Поэтому она не нуждается в том, чтобы быть менее значительной, но гораздо чаще даже превосходит настоящую реальную жизнь по заключенному в ней смыслу. В "большом" сочинении это превосходство является как раз самым существенным; но отношение явления из-за этого не возвращается обратно в привычное для нас реальное отношение, реальность не симулируется. Это бывает также и тогда, когда темы актуальны и почерпнуты из жизненной проблематики современности. Способ бытия заднего плана со всем его пестрым содержанием есть и остается витающим, то есть являющимся, и фигуры, которые поэт показывает, нигде не "существуют", кроме как в поэзии. Поэтому часть жизни, которая там является, изолирована, отделена от реальной жизни, как в живописи это делается феноменом обрамления; только здесь этот феномен неосязаем предметно, но содержится в различии бытия слова и образов. Ибо, не минуя слово, но только через его данность смотрим мы внутрь являющейся жизни. И этому соответствует то, что эта часть жизни существует, будучи твердо ограниченной, замкнутой в себя, представляя собой жизненное единство с осязаемым строением и осязаемой для созерцания целостностью; это та часть, которая не переливается в окружающую нас жизнь и ясно от нее отделяется. Да, здесь также есть другое пространство, в котором является эта часть жизни, и другое время; ибо поэзия, по существу, - это искусство времени. Фигуры, судьбы, действия и страсти "разыгрываются" в являющемся пространстве и в являющемся времени. Мы "переносимся" при чтении, слушании или "смотрении" в другое пространство и в другое время, и мы не смешиваем их с реальным "здесь" и "теперь", находясь в котором мы читаем и слушаем. Это бывает даже тогда, когда стихотворный материал взят из действительного настоящего и из действительного жизненного пространства. Это все-таки необитаемая земля, явление, "мир поэта", в котором "разыгрываются" события. И, наоборот, как раз к силе поэзии относится то, что она может заставить явиться другую человеческую жизнь из исторически прошедшего времени в конкретной форме настоящего и переживаемого. Мы смотрим как бы через раму написанного слова в чужую и реально больше не переживаемую жизнь. д. Предметный промежуточный слой в произведении поэзии Но в одном пункте искусство поэзии сильно отличается от изобразительных искусств. Последние обращаются прямо к чувствам, и слой бытия переднего плана, через который является задний план, есть реальное и воспринимаемое. В поэзии это не так, по крайней мере не непосредственно. Здесь хотя и есть реальный слой, но он недостаточен. Реально и чувственно дано только слово, соответственно письмо, и явление также фактически исходит отсюда. Но все же образы, их характеры, действия и судьбы являются не прямо в слове, но еще через посредство чего-то другого, можно сказать: через промежуточный слой. Имея это в виду, нужно внести здесь коррективы в данные вначале определения отношения явлений. Он, правда, ни в коем случае не отменяет основное отношение, но модифицирует его. В чем, следовательно, состоит особенность явления в поэзии? Ответ на это вернее всего находится в следующем рассуждении. Поэт редко говорит прямо о духовном, о котором у него идет речь, о внутреннем мире лиц, которых он изображает. Он охотнее придерживается, прежде всего, внешнего, того, что в жизни представляется чувством, жеста, речи, движения людей и их видимого действия или реагирования; он показывает человека так, как мы его воспринимали бы в повседневности, в его внешнем виде, вольном и невольном. Этим он достигает того, что образ становится для нас наглядным. Но эти внешние частности не есть настоящее в являющейся человеческой жизни; они не исчерпывают происходящего внутри, человеческих действий и страданий, намерений, решений, удач и неудач, тем более настроений, страстей и судеб. Но о них, в сущности, и идет речь. Почему поэтическое слово не говорит прямо об этих вещах? В повседневной жизни мы делаем это часто, когда говорим кому-нибудь о третьих лицах. На это есть простой ответ: потому что слово в прямом разговоре о духовных вещах абстрактно и беспомощно и говорит только о всеобщем. Высказывание становится отвлеченным и не наглядным. Но для поэзии важно конкретное и наглядное. 62 Только наглядное действует непосредственно и убедительно. Поэтому поэзия пытается привнести его так, чтобы мы во внешнем поведении лиц "видели" их внутреннее, подобно тому как в жизни мы видим в живущих с нами людях их настроения, волнения, страсти, без того, чтобы они об этом говорили. Ведь каждый человек постоянно раскрывает себя в видимом действии или в слышимой речи, безразлично, о чем бы он ни говорил. Он делает это помимо своего желания, он "выдает себя". Это использует поэзия: она заставляет своих лиц раскрывать себя, выдавать себя, она показывает их в меняющихся ситуациях и заставляет их самих характеризовать себя своими действиями. То, чего она этим достигает, не есть, однако, пластика этих их действий, но пластика их духовно-внутреннего, их опасений и надежд, их страха, их недоверия или чего бы то ни было еще. Поэт, подобно психологу, не говорит об этих вещах, он не препарирует духовную жизнь на столе, не анализирует ее. На месте строго определенных понятий выступают конкретные картины из жизни, сцены, которые он показывает, ситуации, в которых он дает возможность показываться лицам. Отвлеченные абстракции он призывает на помощь только очень редко. Тот, кто долгое время говорит, пользуясь ими, - не поэт. Так возникает в поэзии своеобразный промежуточный слой, который хотя и является ирреальным, как и настоящий задний план, и, строго говоря, также к нему принадлежит, но все же по роду чувственного непосредственно нагляден, хотя он и не обращается к самим чувствам, а только к фантазии. Он заставляет образ персонажа возникать конкретно в представлении, образуя тем самым род второго переднего плана, который для всего дальнейшего играет роль чувственной данности, потому что поэтическое изображение нуждается именно в таком промежуточном члене. Нет ничего меньшего, чем слой являющегося воспринимаемого. Он проявляется потому, что его ощутимость не действительна. Фактически же он вызывается только через реальный слой слова, но создается не им одним, а самодеятельно-репродуктивно вызывается фантазией. И именно поэтому он принадлежит к являющемуся заднему плану. Но, согласно его функции, он причисляется к переднему плану; он воспринимается слушающим или читающим как ему принадлежащий, хотя это по его способу бытия совершенно невозможно. Все же он все еще тесно связан со словом, и крепость этой связи дана в твердом сочетании звука и смысла слова; крепость этой связи ослабляется только там, где читающий не владеет свободно языком. В то время как слово непосредственно говорит о предметном разнообразии этого промежуточного слоя, происходит чудо, в фантазии возникает целый мир вещей, лиц и событий, которые имеют конкретную ощутимость без восприятия их. Это наглядно предметное разнообразие есть царство являющейся ощутимости. Для поэзии этот промежуточный слой существен, если даже его конкретность - смотря по художественным возможностям поэта - может иметь различную степень и иногда даже быть сокращенной до минимума. Там, где она совсем исчезает, поэзия переходит в прозаическое изложение и речь становится отвлеченной, трезвой, абстрактной. Но функция являющейся ощутимости этим не исчерпана. Она состоит скорее в том, что позволяет явиться неощутимому, духовной и душевной жизни с ее запутанностью, ситуациями, конфликтами и т. д. - совсем так, как в живописи заставляет это явиться видимый цвет на полотне. Это - определенный недостаток поэзии по сравнению с изобразительными искусствами, именно то, что она не может непосредственно обратиться к восприятию, по крайней мере к восприятию в предметной пестрой полноте, с помощью которой она "оживляет жизнь в жизни" и должна включить заменительный слой, в котором представление выдвигается на место восприятия, потому что действительно реальный передний план произведения поэзии, видимые письмена и само слышимое слово, остается все же бледным, схематичным и абстрактным. Этот недостаток, правда, частично возмещается тем, что вызванная к самодеятельности фантазия читающего в некотором роде богаче, чем восприятие, и в значительно более широких границах имеет свободу движения. Отступление чувственно-конкретного слоя переднего плана в ирреальность просто являющегося (значит, по сути дела, в задний план) приобретает тем самым преимущество большей свободы перехода и разнообразия. В поэзии искусство отходит на один шаг от подражания. Правда, оболочка абстрактности в речи, образующая единственно реальный передний план, никогда не может быть уничтожена полностью. Слова, во-первых, есть и остаются понятиями, а понятие действует ненаглядно и нехудожественно, хотя бы и было правдой то, что первоначальное в нем есть нечто наглядно образное. Первоначальное является в избитом средстве понимания как раз давно забытым и исчезнувшим. Но ирреальный передний план нуждается как раз в наглядности (речь идет о промежуточном слое). Этой неадекватности может помочь художественная форма речи, которая раз63 жижает конвенциональный смысл слова, оживляет его, освобождает его от его же прочной непрерывной подвижности (Festgefahrenheit). Для этого существуют различные средства, как и в жизни, когда употребляют остроумную или же сильно индивидуализированную, глубоко прочувствованную речь. Часто это бывает особенное, единичное значение, которое вкладывается в слово благодаря однажды создавшейся связи слов; каждое слово гибко в своем значении. Несмотря на устойчивое сочетание, на котором покоится его функция средства понимания, и смысл его в особенных нюансах меняется соответственно смыслу всей речи. Имеется даже возможность восстановить первоначальный и образный характер слова из его избитого значения. Оба средства хорошо известны поэзии и часто употребляются. Они создают своеобразную прозрачность художественной речи. Но нужна особая сила оформления поэтического выражения, чтобы поднять его над игрой и сделать действительно выразительным. е. Театральное представление и искусство актера Недостаток поэзии, о котором только что говорилось, исправляется в драматическом искусстве, но только тем, что здесь между настоящей поэзией и читателем вмешиваются второе искусство и второй художник: искусство театрального представления, искусство актера. Благодаря этому промежуточный слой перемешается в область реальности, отнимается у репродуцирующей фантазии и вводится в действительную ощутимость. Ирреальный "передний план" реализуется; предметный слой, в котором поэтические образы движутся во времени и пространстве, говорят, показывают свою мимику, - становится видимым и слышимым, начинает непосредственно переживаться. Читатель делается зрителем. Этим многое меняется. Первое - это включение интерпретирующего искусства между духовным творцом и созерцающим наблюдателем произведения. Это искусство второго порядка (что не должно быть понято в принижающем смысле); оно стоит еще совсем близко к поэзии, но все же относится к совершенно другому роду. Поэзия становится зависимой от него и должна иметь его в виду, считаться с ним (с возможностями сцены, игры, сценическим действием). Она нуждается в актере, в режиссуре, в целом реальном аппарате, нуждается в сцене, в рампе, кулисах, короче говоря, в театре. Каждый поэт, тем более начинающий, по себе знает, что значит эта зависимость: он не может прямо обратиться к своей публике. Он должен быть принят театром, следовательно, узнать сначала строгую реакцию других специалистов, представленных так называемыми драматургами. Сущность второго состоит в том, что само поэтическое произведение принимает другую форму явления. Внешняя аппаратура сцены создает ограничение своеобразного рода, родственное действию рамы в живописи. Поэзия как "представленная на сцене" нуждается в усиленном извлечении из реальной жизненной связи - и именно по тому, что она делает поэтические образы видимыми, а их речь слышимой. Сами "подмостки" действуют как выделяющий фактор. Они не "есть" мир, они только "обозначают" мир. Рампа является непереходимой границей; она никогда не переступается, даже в спектакле. Можно сказать, что отношение слоев в поэзии не усложняется благодаря исполнению пьесы, а упрощается. Только теперь, в соединении с возможностями сцены, произведение поэзии становится в точную параллель к произведению изобразительного искусства: оно больше не зависит от фантазии наблюдателя (или читателя), но обращается прямо к чувственному видению и слышанию. Являющаяся видимость заменяется действительным восприятием. И этим дается третье: произведение поэзии внутренне зависит и от искусства актера. Ведь теперь реализация промежуточного слоя является делом не поэта, а мимика. Ему, представляющему, выпадают на долю все виды чувственно воспринимаемых деталей. Он имеет свободу выбора из бесчисленных единичностей невесомого рода. Он приближается к соавтору произведения. Да, именно к соавтору. Поэтому он далек от того, чтобы быть только репродуцирующим художником. Он в своем роде и в своих границах является также продуцирующим, творящим художником. Ведь поэт не может точно определить все воспринимаемые детали действия так, как, например, художник может дать деталь видимого до конца (в границах желаемого выбора), для этого его материя - слово - слишком хрупка. Он нуждается в родственном по духу выразителе, который то, что поэт оформил в речи, но именно поэтому только наполовину оформленное, оформляет до конца, целиком наполняет жизнью. Это может сделать только актер, причем он присоединяет еще недостающую деталь, но присоединяет по своему собственному усмотрению и собственному спонтанному вчувствованию в дух поэзии (в дух "роли"); но только тогда, когда он через включение всей своей личности "играет", жестикулирует, делает чувственным. Его персона делается инструментом, его действия медиумом для явления других изображаемых лиц, увиденных и задуманных поэтом. 64 Это значит, что актер является "представляющим". И это доказывает, что его исполнение "является настоящим творческим искусством". Это яснее всего видно в неудачном представлении; ведь не каждый, кто владеет умеренным признанием, является художником. Мы говорим тогда, что роль "не удалась", и думаем при этом, что персонаж, увиденный поэтом, изображен неверно. Ведь именно потому, что актер имеет свободу воплощения (в придании формы, облика), он может также ошибиться. Только большой актер является конгениальным. Он может изобразить невесомую деталь в согласии с духом своей роли. С другой стороны, как раз при высоком искусстве представления становится видимой свобода творческого изображения. Действительно, спектакль в каждом последующем представлении становится другим. Понимание актера меняется (соответственно - понимание режиссера). И благодаря этому даже идентичность созданного поэтом "произведения", которая в других искусствах так удивительно постоянна, здесь в известных границах нарушается. Она расщепляется на ряд представлений. Но самое замечательное то, что именно эта идентичность произведения при этом ни в коем случае не исчезает, но за различием представлений остается нетронутой и для каждого знатока "вещи" несомненно существует. Этому соответствует огромная разница в роде объективации. Поэт и актер объективируют одни и те же события, конфликты, страсти, судьбы и тех же самых лиц. Но поэт формирует в слове только до полуконкретности; ведь в эпосе, так же как и в романе, он зависит от дополняющей фантазии читателя. Поэтому он формирует в долговечном материале, потому что нет ничего более прочного, чем письмо, которое может быть перепечатано и размножено и без понимания смысла произведения, он формирует как бы для "вечности". Актер формирует, изображая лишь написанное и предоставленное фантазии, то есть реализует то, что в нем можно реализовать; тем самым он формирует наполовину оформленное, которое он перенимает до конца, дает ему полную конкретность и чувственную наглядность. Но он формирует в мимолетном материале, в слышимой речи и в видимом движении, жестах, мимике. А это есть самое преходящее из преходящего. Одним словом, он формирует только для мгновения. Такова уж судьба его представления, что оно не может удержаться надолго. Конечно, в фильме сохраняется даже это мимолетнее. Эту возможность, конечно, нельзя недооценивать, потому что она является позднейшим достижением, но при этом теряется что-то от живости сцены. Здесь проявляется то, что мимолетность зависит не только от одного материала; меняются также вкус и сила убедительности представления, драматическое чувство времени переменчиво, понимание ищет новые пути там, где старое произведение поэзии все еще продолжает существовать неизменным. Отдельное представление отступает назад как раз потому, что детали до самого конца формируются посредством все нового и нового представления. Поэтому искусство актера есть и остается искусством мгновения, и "потомки не плетут для него венки". Помимо объяснений, которые он дает, произведение поэта остается в своей "половинной" конкретности незыблемым и предоставляет себя все новым интерпретациям. Поэтому поэт является тем, кто сохраняется в памяти потомства. Долговечность его имени является, как везде в искусстве, скорее долговечностью созданного им предмета, следовательно, в конце концов долговечностью объективации. ж. Реализация и уход от действительности По поводу сказанного выше можно услышать такое возражение, что в представлении актера в реальность перетягивается все действие искусства поэзии, превращаясь в действительное событие. Если бы это было так, то, очевидно, не осталось бы больше простора для ирреального заднего плана, который мог бы явиться в реальном; и закон объективации вместе с отношением явлений и условием бытия "прекрасного" - следовательно, вообще эстетического предмета - отрицается. Это возражение нужно разобрать. Оно совершенно ошибочно. Во-первых, и при полнейшей реализации действия оставалось бы еще очень много места для идеального заднего плана. А, во-вторых, ведь здесь имеется только частица того, что является в вещи, превращается в реальность и благодаря этому включается в передний план, а ни в коем случае не целое изображаемого действия. Действие не есть внешне видимое действие, его существо лежит позади в невидимом. Настоящее действие, "драма" как таковая остается в представлении как раз ирреальной. Реально только высказанное слово, мимика и некоторые движения лиц, жест, диалог, одним словом, видимое и слышимое сцены. Сама "сцена", понятая как часть действия, остается ирреальной. Действие принадлежит как до, так и после к явлению, видимое и слышимое есть только то, в чем и через что оно является. Оно само развертывается в области душевных ситуаций и решений, ненависти и любви, страданий и удач, су65 деб и того вида, в котором они преподносятся. Это, очевидно, другая область. Все это остается совершенно недействительным. Оно вовсе и не должно стать действительным. Актер не любит и не ненавидит, он не страдает, и изображенная судьба не есть его судьба. Все это только "является", "сыграно", представлено. И поэтому произведение, изображенное на сцене, называется "спектаклем", а художник как изобразитель - "актером". В том же самом смысле и созданные поэтом сценические персонажи - Валленштейн, Фауст, Ричард III - не реальны, а только представлены, "сыграны". Реален живой актер с его мимикой и речью, но никто в зрительном зале не спутает его с королями, героями или интриганами, которых он играет. Это как раз и есть решающее в актерской игре и искусстве сцены, а именно то, что реализуются не сами лица, не судьбы и поступки, то есть все то, чего, собственно, касается дело. И как раз только таким образом создается возможность того, что зритель оценивает искусство актера, да и вообще замечает его. Если бы зритель принял за реальное все то, что происходит на сцене, то для него должно было бы совершенно исчезнуть то, что достигнуто актером. И что, возможно, еще важнее: если бы он принял сыгранное действие за реальное, то ему было бы невозможно спокойно сидеть при этом, наслаждаться видимым и слышимым, быть свидетелем рафинированных интриг или даже преднамеренных и непреднамеренных убийств, а самому только глубоко душевно страдать. Сцена этим вносила бы совершенно неправильное требование. Смысл трагической игры должен был бы превратиться в нравственную суровость, а смысл комической игры - в бессердечность. Ни один театр не требует от зрителя чего-либо такого. Все теории, которые говорят здесь об "иллюзии", то есть о стремлении выдать представляемое за реально происходящее, неправильны в самой своей основе. Они действовали эстетически дезориентирующе и смысл драматического действия прямо-таки отрицали. Напротив, детское сознание, которое перед сценой действительно впадает в иллюзию, не есть эстетическое сознание. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Само собой разумеющееся, сопровождающее все видимое и слышимое знание о том, что действие на сцене разыгрывается и что оно ирреально, есть необходимое условие созерцательного эстетического наблюдения и наслаждения. Все отношение можно видеть, исходя также из "игры": из всего, что показывает сцена, реальна как раз только сама игра. Разыгрываемое действие нереально и не может быть принято за реальное, оно именно "разыграно". Это придает представленному характер невесомости. Действие же, со своей стороны, непременно серьезно. Но серьезность сыграна. Только так возможно, чтобы смысл игры мог быть важным и значительным, даже возвышенным, без того, чтобы игра перестала быть игрой. Благодаря этому игра на сцене радикально отличается от игры ребенка. Последняя совершается, далеко заходя в иллюзию: ребенок не сохраняет никакой дистанции к разыгрываемому, он полностью углубляется в него. Ясное подтверждение этого отношения мы имеем в необходимости ограничения реализма при помощи всей сценической и театральной техники. Древние имели для этого длинные песнопения и процессии между "эпизодами", хор, который, сопровождая игру, действовал недраматически, стихотворный диалог. Они изгоняли все насильственное и ужасное со сцены, предоставляя ему возможность совершаться "позади сцены". Многое из этого драматическое искусство надолго сохранило; так, например, стих в форме разговора - самое действенное средство. Современная опера делает значительный шаг вперед. Музыка здесь ни в коем случае не является только сопровождением, иллюстрацией "духовного", как предполагали, но помимо этого является самым радикальным средством лишения реальности, потому что музыка как таковая по своему существу недраматична и непредметна. Она действует наперекор всей объективной реальности. Впрочем, с музыкой вообще в поэзию втягивается чуждый элемент, который больше ей не принадлежит, искусство другого рода и синтез с ним является особой главой эстетики. Но совсем уже банальным будет понимать всякое уменьшение сценического реализма - так же в стилизации внешнего, - как художественное лишение реальности, и еще более там, где в целях уменьшения реализма пользуются сомнительными средствами. Потому что оно сознательно противодействует моменту "подражания" (настоящему мимезису). И это может зайти слишком далеко, может перейти через границы драматического - так было уже в античной комедии типов, а в современной, тем более. Далеко превзойдены они в буффонаде, в популярных образах паяцев и арлекинов. Драматическое уступает здесь место дешевому эффекту, шутовству и в конце концов совсем исчезает в шутке и шалости. В этой связи важно то, что в серьезном сценическом искусстве современности лишение реальности не касается больше собственно игры актера. Для реализма здесь остается полный простор - ясный 66 признак того, что явление духовного и внутреннего не может все же обходиться без известной убедительной естественной правды; но это может быть также признак того, что для современного зрителя больше не существует опасности иллюзионизма или, по крайней мере, она далека. Доказательством этого, прежде всего, служит выразительная сила великих изобразителей характеров, которая далеко превосходит чисто типическое. Ведь каждый живой человеческий характер есть нечто единичное, индивидуальное. Если при этом иметь в виду условную жестикуляцию китайского сценического искусства или также очень сдержанную игру на котурнах и в масках, как это было на аттической сцене, то виден весь тот простор, в котором оттенены лишение реальности и реализм. Из всего этого видно, что мы имеем в сценическом представлении то же самое расслоение, которое составляет основной закон во всем поэтическом искусстве и во всех изобразительных искусствах вообще. Только по содержанию оно передвинуто. "Игра" есть передвижка "являющейся ощутимости" в реальность и в действительную ощутимость. Первый, еще близкий к чувственному член заднего плана передвигается этим на передний план. Но только первый; все другое, само действие и действующие лица, остается только явлением. И там, где игра воспринимается как таковая, действие ясно от нее отделяется и воспринимается как ирреальное. ГЛАВА 7 ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАНЫ В НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ а. Свободная игра формы Может быть, было бы лучше сказать, что не существует никаких неизобразительных искусств. Ибо во всяком художественном оформлении человек изображает прежде всего самого себя. Это не следует понимать узко, ибо то, что открывается в произведении, не должно быть только личностью художника - это может быть также общий тип, к которому он принадлежит и особенности которого в зависимости от страны, народа и времени он имеет в себе. Нечто в этом роде должно существовать всегда. Но это "нечто" есть не то, что предполагают, когда говорят об "изобразительных" искусствах. В этом случае предполагают особую тему, сюжет. Тот же самый художник может разрабатывать всевозможные сюжеты безотносительно к своей собственной сущности, которая принимает в этом участие и которая при этом не изменяется. Кроме того, собственная сущность не изображается выразительно, а является только совместно с чем-то другим и часто только для стоящих вдали, для потомков. Она не делается темой. А там, где она становится таковой, как, например, в автопортрете, она опять-таки является только одной из многих возможных тем. Поэтому на основании этого феномена нельзя сказать, что все искусства будто бы являются одинаково изобразительными, потому что невольное изображение самого себя является второстепенным: оно подходит только к определенной обработке темы. Значит, архитектуру, музыку, орнаментику можно трактовать отдельно, ибо очевидно, что в каждой из них дело обстоит иначе. К музыке это относится только тогда, когда не принимается во внимание пение с текстом и так называемая "программная музыка"; почему это возможно и должно быть так, об этом еще будет сказано. Достаточно уже той причины, что текст и название еще "не являются" музыкой. Поэтому нельзя слишком спешить с переносом изобразительной точки зрения на музыку. Ведь существует еще и "чистая" музыка, которая не имеет внемузыкальных тем и не нуждается в них. Отсутствие таких тем является как раз общим для трех названных искусств, как бы различны они ни были. Все же это общее в них является лишь негативным. Позитивное же определить не так легко. Но предварительное, ни к чему необязывающее определение дать можно: общее в этом смысле можно усматривать в чистой, хотя и не всегда совсем свободной игре самой формы в определенной материи. Материя при этом в одном случае является тяжелой массой, в другом - тоном. Само собой разумеется, что оба допускают только очень различную игру формы. Но сама форма определена через материю только по роду, следовательно, в первом случае через размеры, в которых она выражается; противоположность пространственным и временным искусствам отделяет целые области формообразования, но между тем она еще далеко не достаточна, чтобы определить их своеобразие. Поэзия также является временным искусством, а искусство пластики является пространственным искусством. Но каждый вид материи имеет внутреннюю возможность особенного придания формы, самого по себе вполне автономного. Именно здесь начинается то, что пытаются называть "свободной игрой формой как таковой". Чистая играформы ради самой себя есть настоящее творческое действие, которое в изображении зани67 мает значительное место. Ибо "изображение" связано с предметами внеэстетического рода и начинается с подражания. Оно должно "попасть" в сюжет, но при этом может и "промахнуться". В чистой же игре формы и речи нет о каком-то попадании или промахе - во всяком случае, в том смысле, как в "изображении", здесь не дано никакого оригинала, никакой модели, никакой живой фигуры. Вообще в основе здесь нет какой-либо заранее данной формы. Поэтому оформление здесь совершенно автономно и имеет совершенно другую, более высокую, чем в изобразительных искусствах, свободу. Она является чистым творчеством без подражательных и репродуктивных моментов, чистым "творчеством из ничего". В архитектуре и во всей орнаментике эта свобода достигается за счет известной несвободы другого рода. Архитектура служит практическим целям, которые сами по себе не имеют ничего общего с красотой. Так же и там, где есть цели высшего идеального рода, она сохраняет все же свою внеэстетическую природу, как, например, в строениях храмов и церквей, а также дворцов и т. п. Первые служат идеям церковной службы, вторые - идее политической силы и ее блеска. В обыкновенном жилом доме практическая цель доминирует сильнее всего. Но самым замечательным является то, что она все же не разрушает эстетического момента ценности. Более того, она даже несет его. Ее влияние сказывается в том, что она является своего рода предпосылкой красоты, и красота формы дома там, где она удается, полностью воспринимает ее в себя, без того, чтобы взять от нее что-то. В искусстве орнаментики дело обстоит иначе. Оно само непосредственно служит не практическим целям, а предметам, в которых оно выступает: в архитектуре, в предметах потребления, в узоре на ковре. Таким образом, это не самостоятельное искусство, а вчлененное в форму целого, которую оно не может нарушить, ибо оно дает только раму. Но внутри рамы - заполненной поверхности -оно относительно свободно и может благодаря этому приблизиться к изобразительным искусствам. Когда оно имеет дело с последними, то воспринимает и некоторые темы из их круга. Но они не составляют его сущности. В первую очередь оно раскрывается в игре линий, красок или в пространственных мотивах, которые только ради него самого там существуют. Действительно свободна только музыка, и притом только чистая. Музыка также "может" служить определенным целям. Но в чистой музыке принцип "игры" достигает полной самостоятельности. Музыка есть игра в тонах, последовательности тонов, в гармонии, в звуковых красках, значит, в материи, которая в высшей степени удалена от внеэстетических целей. Поэтому музыка вообще является самым свободным из всех искусств. И свободна она как раз в двояком смысле: она свободна как от внеэстетических тем или сюжетов, так и от внеэстетической цели. Поэтому с творческим моментом здесь происходит совсем иное дело: здесь достигается такая степень продуктивности, какой не знают другие искусства. Композиция основана на инвекции - на внутренней находчивости и выдумке - в такой степени, что сама музыкальная "тема" создается свободно, является продуктом чистой музыкальной фантазии. Значит, эстетический вопрос, непосредственно касающийся сущности рассмотренных искусств, состоит в следующем: может ли вообще в них идти речь о том же роде красоты, какой имеет место в изобразительных искусствах? Или же здесь выступает второй род красоты? Это вполне естественные вопросы. Если в изобразительных искусствах прекрасное лежит в отношении явлений, то есть не в реальном переднем плане и не в ирреальном заднем плане, а только в явлении последнего в первом, то там, где противоположности этих слоев нет, положение резко меняется. Где нет сюжета, там ничего не может явиться. Есть ли еще второй тип красоты, который действительно существует только в чистом отношении формы? На этот вопрос можно ответить утвердительно по двум причинам: одна заключена в характере свободной игры формой, хотя и в определенной материи, вторая же становится понятной по аналогии с красотой в природе и человеческой красотой, в основе которых нет никакой темы (сюжета). Таковы исходные пункты двух серьезных аргументов, которые выдвигаются против понятия красоты в отношении явлений. Может быть, действительно не вся красота одинакова? Или вся красота в основе своей является красотой другого рода и тенденция чистой эстетики формы в новом смысле нашла оправдание? б. Музыкальная красота Затронутый здесь круг проблем имеет свой центральный феномен, очевидно, в музыке. Музыка является "двусторонне свободным" искусством. Значит, здесь нужно постараться найти основную проблему. 68 Нет необходимости сейчас же ставить вопрос, является ли музыкальная красота вообще красотой другого рода. Действительно, нужно сначала выяснить, есть ли в музыке отношение явлений, и если это обнаружится, то плодотворно ли оно для феномена музыкальной красоты. Для этого нужно прежде всего отвлечься от всей программной музыки; нужно также отвлечься от простой песни, которая является уже комбинированным искусством (поэзии и музыки); пусть это не смущает тех, кто считает, что в песне нужно искать начало музыки. Было бы неправильно судить о широко разросшейся духовной области с ее большими достижениями по ее примитивным началам. Последняя может оставить без внимания свои исторические источники. Далее, не нужно также облегчать себе разрешение вопроса тем, чтобы душевное настроение (горе, радость, мужество, тоска и т. д.), которое бесспорно выражается в музыке, с самого начала принимать за задний план. Так нельзя рассуждать уже потому, что настроение образует еще более глубокий и далекий слой. Кроме того, при такой постановке вопроса мы снова слишком близко подходим к программной музыке. Это должно быть рассмотрено значительно позднее. Пока же нужно доказать, что в чистой музыке, и именно еще по эту сторону всего духовного содержания, также существуют наслоение и отношение явления. Само собой разумеется, что они распространяются на всю остальную музыку, а также на положенные на музыку произведения поэзии. Но там это не составляет вопроса, как в чистой музыке. Надо исходить из того, что звучащий тон здесь образует "материю", в которой он формируется. Тогда нужно считать за реальный слой и передний план в музыке последовательность и связь тонов7. Следовательно, вопрос состоит в следующем: имеется ли в произведении тона что-нибудь такое, что возвышается над чувственно слышимыми звуками и что, порхая над ними, может быть схвачено музыкальным слухом? Или, выражаясь уже употреблявшимися оборотами: есть ли здесь что-нибудь такое, что, стоя позади звуков, отделяется от них, составляя при этом являющийся через звуки задний план, и именно так, что остается настоящее музыкальное содержание? Оказывается, что это действительно так и бывает. Только искать его нужно там, где его можно найти, - не далеко по ту сторону мира звуков, а вблизи его и еще внутри его рода. Именно музыка - музыкальная пьеса, композиция, "фраза" - не является одним только чувственно слышимым; постоянно существует "музыкально слышимое", которое существует над чувственно слышимым и которое нуждается в совсем другом синтезе воспринимающего сознания, чем может дать чисто акустическое слушание. Это "музыкально слышимое" есть большое целое, и именно оно образует нечувственный задний план. То, что можно чисто чувственно "слышать вместе", есть картина тона узкого ограничения. Соната, "музыкальная фраза", а также прелюдия весьма близки к этому. Чувственно реально (чисто акустически) слышат только ограниченную последовательность звуков, гармонию в течение такого промежутка времени, какой позволяет акустическое задержание ("звучание" только что слышанного). А задержание продолжается не более нескольких секунд, в то время музыка идет дальше, и вновь звучащее, забегая вперед, ложится на временно исчезнувшее, стирая его. Кроме того, действительно слушать вместе (чувственно акустически) всю массу тонов и гармоний "музыкальной фразы" уже потому музыкально невозможно, что это создало бы невыносимую дисгармонию. Слух есть временное чувство, а музыка есть временное искусство. "Музыкальная фраза" длится во времени, она состоит как раз в следовании друг за другом звуков, продолжающихся гораздо дольше, чем задержание. Следовательно, ни на одно мгновение своего временно протянутого звука она не существует как целое. Музыкальная фраза нуждается во времени, она проходит мимо нашего слуха, она имеет свою продолжительность; в каждое мгновение слушающему представляется только один отрывок. И все же она не будет разорванной для него, а будет воспринята как связь, как целое. Так обстоит дело по крайней мере в настоящем "музыкальном" слушании: музыкальная фраза будет воспринята, несмотря на ее растянутость по временным стадиям, как связное целое, не как временная симуляция, а как связь, как единство. Это единство всегда является все же временным единством, а не одновременностью. Следование Реальность этого "реального слоя", конечно, нельзя понимать буквально, как, например, материю поэзии, слово, которое также является звуковым образом. Звуки в строгом смысле не реальны, потому что они существуют как таковые только для слушающего. Но это можно не принимать здесь во внимание. Ведь самое существенное в "реальном слое" музыкального произведения есть и остается чувственно данное наличное бытие для восприятия, и это в полном смысле слова выполнимо. 69 7 звуков одного за другим как таковое также может быть единством. Только единство здесь представлено не в чувственном слушании, а лишь в выполнении синтеза, который должен быть дан только в музыкальном слышании. Только в этом выполнении и состоит музыкальное слышание в противоположность чувственному слушанию. Ведь не мгновенный звук, а только целое в единстве его продолжительности составляет музыкальный образ - образ музыкальной фразы. И только от всего этого целого включенная деталь получает чувственно слышимое вместе. Может быть, здесь возразят, что все это само собой разумеется, ибо совсем не бывает музыки, которая не воссоединяла бы временно разрозненное и не давала бы возможности слышать его вместе. Но это возражение есть только подтверждение тезиса; именно это музыкально само собой понятное здесь и имеется ввиду. Так обстоит дело не только здесь, но и везде: прежде философия замечает достойное быть замеченным и имеющее значение - возможно, загадочное - в само собой разумеющемся; как раз это само собой разумеющееся воспринимается без внимания до тех пор, пока оно служит только как поверхностное и пока сознание того, что оно собой представляет, еще не пришло. Эстетика прошлого также не анализировала здесь сознательно основное отношение (Grundverhaltniss) и поэтому не заметила в нем проблемы. Но в чем же состоит проблема? Для решения этого вопроса нужно вернуться назад, к категориальному анализу времени. Ибо время есть растянутость всего реального в последовательности временных стадий; человек, например, ни в один момент своей жизни не бывает соединенным в целое, потому что тем, чем он был, он уже не является, а тем, чем он будет, он еще не стал; только во времени созерцания, которое не совпадает с реальным временем, следовательно, субъективно, возможно общее обозрение в известных границах, потому что сознание имеет во время наблюдения то, чего в реальном времени ни вещи, ни процессы не имеют - свободу движения. В жизни понимание происходящего зависит всегда от момента или от узко ограниченного отрезка времени. В искусстве дело обстоит иначе8. Музыка приводит к единству и замкнутой целостности как раз то, что растянуто в последовательности времени. Этот синтез совершается в самом музыкальном слышании, а именно далеко за узкими границами акустического вместеслышимого (des Zusammenhoren). Но он совершается не мгновенно, а постепенно, в ходе чувственного слушания и как раз на основе совершенно определенного внутреннего единства и замкнутости музыкального произведения. Именно это составляет объективно расчлененную связь, строение, в котором все единичности заранее отклоняются; эти отклонения воспринимаются сами собой без рефлексии и с полной очевидностью. Ибо целостность как таковая ощущается в смене звуков лишь постольку, поскольку они воспринимаются. И только там, где она ощущается, вещь понимается музыкально. Музыкальное единство произведения имеет именно характер синтеза. Это значит, что оно является "композицией" ("композиция" есть простой перевод слова "синтез"). Такое единство чувственно не слышимо, так как оно представляет собой подлинно являющееся, именно являющееся через чувственное слышание. Оно принадлежит, следовательно, заднему плану музыкального произведения. Но если взять его предметно, то оно является синтетическим единством, в котором отзвучавшее и больше чувственно не слышимое всегда удерживается и еще как настоящее образует существенный член в музыкальном слышании постепенно строящегося целого. Синтез должен осуществлять сам слушающий, поскольку он, со своей стороны, подражает деятельности композитора. в. Феномен музыкального заднего плана Основное своеобразие произведения музыкального искусства состоит в том, что оно в своем временном течении через внутреннюю связь своих членов дает возможность слушателю услышать композиторское единство всего строения, хотя оно чувственно не слышимо. Ведь это такое единство, которое не существует ни в какой стадии акустического звучания, но все же именно оно образует настоящую композицию. Музыкальное произведение заставляет слушающего слышать "до" и "после", в каждой стадии слушания иметь ожидание приходящего, предвосхищать определенное музыкально требуемое продолжение. То же самое происходит и там, где действительное продолжение музыкальной пьесы впоследствии оказывается другим. Ибо развязка возникшего напряжения также всегда может быть другой, чем ожидали; использование неожиданных новых музыкальных возможностей явВсе отношения времени в музыке становятся понятными только на основе точного категориального анализа времени, как реального времени, так и времени созерцания, причем их противоположность в структуре и способе бытия должна быть ясно выработана. Эта задача взята на себя автором в "Philosophie der Natur" (1950). Там же см. о растянутости, гл. 12, пункт "б", а также о сущности времени созерцания, гл. 14 и 15. 70 8 ляется здесь как раз существенным моментом неожиданности и обогащения. В музыке это бывает так же, как и в поэзии (другой исход действия в романе и драме). Хорошо известно, что композитор также может широко использовать очень действенный момент неожиданности; музыка получает тогда нечто сенсационное, эффектное. Но эти эксцессы не отрицают основного феномена, именно того, что игра при отклонении от антиципации и действительного дальнейшего развития конститутивна для композиторского единства и музыкальной структуры целого, которое проявляется в возникновении звука и отзвука, соединяя мгновенные частности. Синтез, которым руководствуется слушающий, можно представить себе так: он одновременен с пониманием мгновенно слышанного и внутренне только что звучавшего, а также давно отзвучавшего и в то же время также и с будущим звучанием. Ведь каждая музыкальная фраза непосредственно представляет собой указание как вперед, так и назад. Если ее представлять совершенно изолированной, то она теряет свой музыкальный смысл. Этот смысл зависит как раз от целостности. Это заходит так далеко, что человек, тонко понимающий музыку, случайно услышав только несколько тактов, невольно дополняет отрывок целого как такового, схватывает, безотносительно к тому, подходит это схваченное к настоящей композиции или нет. С ним происходит при этом то же самое, что и с созерцающим часть разбитой скульптуры. Художественное чудо музыкального произведения состоит в том, что из временной последовательности звуков создается единство общей картины, которая постепенно наполняется, округляется и складывается определенное построение. В музыкальном слышании мы ощущаем его подъем; рост, нагромождение; и эта возвышающаяся общая картина будет завершена и собрана только тогда, когда чувственно слышимая последовательность звуков подходит к концу, то есть когда она уже прозвучала. Последние такты правильно построенного музыкального произведения воспринимаются тогда как окончание построения и как его коронация. Таким образом, фактически люди слышат больше того, что дает чувственно слышимое: они слышат музыкальные образы другого, высшего порядка, что совершенно невозможно при акустическом слушании. Этот другой образ и есть, собственно, музыкальное произведение, композиция, "пьеса", фуга, соната. И этот другой образ создает "музыкальный задний план". Нужно хорошо понять, что только музыкальный, потому что к полному заднему плану музыки принадлежит еще нечто большее. Об этом необходимо сказать еще особо. Музыкальное слушание выходит за пределы чувственного слушания. Являющееся целое музыкальной фразы как таковое не дано чувственно, оно акустически ирреально, и оно не будет реальным и в игре звуков. Ведь как совместно существующее (Beisammenseiendes) оно не может быть реальным. Его слышат "насквозь", оно заставляет явиться чувственную последовательность звуков, хотя в своих фазах оно неустойчиво; оно имеет своеобразную прозрачность (Transparenz), чтобы обращающемуся к нему слушателю явилось другое построение, которое в нем не открывается. Следовательно, то, что является в этом случае, есть ирреальный задний план в строгом смысле слова. Все его признаки имеются в этом изображении. Следовательно, в музыке, как и в изобразительных искусствах, мы имеем те же самые два слоя в предмете: та же самая двойственность и противоположность способа бытия, то же самое явление в чувственной материи, та же самая прозрачность оформленного переднего плана и та же самая роль воспринимающего субъекта, ибо только ему, если он выполняет условия музыкального слушания, может явиться эта целостность. Все четырехчленное отношение, которое характерно для способа бытия объективированного духа, повторяется. Конечно, совпадают только эти основные черты. Все остальное, относящееся к наслоению, здесь совершенно не принимается во внимание. Род связи между слоями совершенно другой, чем в изобразительных искусствах, уже потому, что передний план и первый задний план в музыке более похожи друг на друга и по роду стоят ближе друг к другу. Поэтому его двойственность дольше всего не признавалась именно в музыке. Но можно ясно проследить, как в произведении композитора передний план определяется через задний план, как единство внутреннего образа в композиции детерминирует оформление чувственно слышимого вплоть до деталей. В этом отношении музыкальное произведение также подобно произведению поэзии и живописи. Доказательство этого мы имеем в негативном - именно в неудавшемся музыкальном произведении. Есть такие типы композиций, в которых в представлении слушателя детали не объединяются, а распадаются. Частности и здесь могут воздействовать приятным образом, могут сковать, убедить, довести до антиципации; они могут даже указать на целое. Но, когда это целое все же в конце концов от71 сутствует, когда построение, являясь, не развивается, мы воспринимаем вещь как не единую, мелкую, как ничего не говорящую. В этом случае не чувствуется никакой внутренней связи, отсутствует единство внутреннего образа. Можно также сказать, что таким произведениям не хватает настоящей композиции, потому что композиция является "синтезом" единства. В этом случае игра производит поверхностно-игривое впечатление, она заставляет музыкально слушающего слушать напрасно. Ему не является никакого единства. Это не имеет ничего общего с противоположностью серьезной и "легкой" музыки. Легкая музыка, если она удалась, - я хочу сказать, когда она прекрасна, - также не отрицает единства, поэтому не отрицает и являющийся задний план. Единство по своей структуре здесь является единством другого рода и также по-другому определяет ритмы и звуки чувственного переднего плана. Но в своем роде и такая музыка может быть музыкально прекрасной. г. Композиция и музыкальная игра Подобно драме, музыка также испытывает потребность в искусстве второго порядка, которое позволяет внятно зазвучать скомпонированной и написанной музыке. Написанное музыкальное произведение нуждается в этом еще гораздо больше: ведь драму каждый может в конце концов "читать" и, если он имеет немного фантазии, может при этом и внутренне "видеть"; но "читать" музыкальное произведение есть нечто совсем другое, для этого нужно специальное образование и большое количество упражнений. В общем дело обстоит даже так, что профан в музыке всегда скорее может сам "сыграть", чем "прочитать" без игры. За малым исключением, гораздо тяжелее слушать "с листа", чем с листа играть. Во всяком случае, музыкальная публика нуждается в звучащей отдаче, представлении - в больших произведениях можно было бы сказать в "исполнении", - чтобы вообще приблизиться к музыке: Благодаря этому искусство исполняющего музыканта возвышается до эстетической необходимости. Здесь, как и в драматической поэзии, существует искусство "игры" и выступают также многие характерные признаки драматического искусства. Конечно, только с соответствующими оговорками, потому что род игры здесь другой. Прежде всего, здесь ни в коем случае не идет речь о представлении. Поэтому личность музыканта выступает не как "инструмент", подобно личности актера, который сам себя вставляет в представление в качестве медиума, и также не как у певца, хотя последний присоединяет природный инструмент человеческого голоса. Оперного певца нужно исключить, но не из-за музыки, а из-за драматической сцены, на которой он выступает. Ведь в чистой музыке не бывает никаких предметов, которые бы в ней изображались, по крайней мере, никаких внемузыкальных предметов. Поэтому здесь совершенно отпадает вопрос о реализме и его ограничениях. При пении, конечно, оба имеются, но только благодаря вступлению в игру внемузыкального момента – текста. Между тем все эти моменты являются только негативными, ограничивающими. Позитивное и основное, напротив, заключается в следующем: в музыке слой бытия произведения искусства становится ощутимым также благодаря вторичному искусству "игры", в написанной композиции он остается еще ирреальным, так как не дан чувственно, а лишь воображается, пересаживается в реальность и этим одновременно втягивается в чувственную видимость и передний план всего изображения. "Реальность", о которой здесь идет речь, есть исключительно акустическая реальность, царство чувственно слышимого. Такого же рода реальность имеет место и там, где "видимая" динамика в движении упражняющегося музыканта или даже дирижера вносит существенное добавление к музыкальному пониманию. Визуальные вспомогательные представления музыкального слушания составляют особую проблему. Но они ничего не меняют в основном, не меняют даже тогда, когда они доходят до глубокой духовной связи с личностью музыканта. Но не нужно забывать и то, что именно глубоко воспринимающий музыку слушатель иногда "не смотрит" на жестикуляцию исполнителя, чтобы она не мешала ему. Она может стать для него даже слишком неприятной, навязчивой или просто отвлекающей. Нужно также признать, что в музыке "реализация" через играющего музыканта - включая дилетантски играющего - настолько выразительна, что, в сущности, каждый только ее принимает за музыку, в то время как черные значки нот на белой бумаге служат лишь вспомогательным средством. Поэтому здесь нельзя сказать, что читатель становится слушателем (как и в драме - зрителем); читатель здесь имеется только в виде исключения. Поэтому настоящая музыка возникает объективно только при вторичном искусстве музыканта. Аппарат, необходимый для этого, не так велик, как аппарат актера; он может ограничиться одним инструментом, но может при симфонической композиции возрас72 ти до огромных размеров и охватить целую организацию художников, причем настоящий успех состоит тогда в едином действии всех вместе -в успехе дирижера. Об усилении действия рамы (Rahmenwirkung) здесь не может быть и речи. Музыка, как играемая, так и звучащая, не должна особенно выдвигаться из реальной связи; она уже достаточно выдвинута благодаря своему тоническому материалу, потому что он нигде, кроме музыки, не встречается в музыкальном порядке. Но все-таки только благодаря реальной игре возникает более точная аналогия с изобразительным искусством, и только через слышимую игру дается чувственный, еще не данный представлению передний план; только так обращается музыкальное произведение непосредственно к слуху, а не к творческой фантазии "читателя" (который едва ли здесь бывает). Просто представленное возмещается через воспринятое. Тем самым впервые правильно проводится аналогия с искусством актера: музыка становится зависимой от игры музыканта. Ведь здесь также существует промежуточный слой, который в игре становится реальным. Происходит реализация не произведения композитора, а скорее исполнения музыканта. Он свободен в придании формы бесчисленным частностям самого неуловимого характера, которые не могут быть написаны на нотной бумаге, но от которых все же существенно зависит образование целого. Он выступает сокомпозитором и вследствие этого является не только "репродуцирующим художником", но и вполне продуктивно творящим, не меньше, чем актер в спектакле. Композитор, со своей стороны, нуждается в конгениальной игре. Музыкант воспринимает от него сформированное только наполовину (еще относительно всеобщее) и формирует его до конца. Он наполняет произведение композитора жизнью и душой так, как это кажется ему нужным. Но делает он это не благодаря своей собственной персоне, а благодаря инструменту. Ведь он не изобразитель лиц, как актер, а интерпретатор музыкального произведения. Но для музыкального произведения характерно также то, что оно при каждом повторении становится другим. Каждый раз сюда присоединяется понимание музыканта, а оно может быть сугубо оригинальным. В силу этого идентичность музыкального произведения существует только в известных границах, ибо она нарушается в различных по качеству интерпретациях. Но самая большая разница между написанной и сыгранной музыкой состоит в роде объективации. Первая объективируется в долговечном материале письма - аеге perennius, - и хотя она представлена только в полуконкретности, но сформирована раз и навсегда и предоставляется на продолжительное время новым формообразованиям; музыкант же хотя и дает ей полную конкретность и наглядность, но дает ее в недолговечном материале, и хотя он формирует ее до конца, но только на мгновение. Высшая объективация не может сохраниться, она перестает звучать одновременно с данной игрой. Конечно, благодаря современной технике звуковых пластинок в известных границах она также может быть сохранена. Но техника доходит не до всех тонкостей и вследствие этого ничего не меняет в множественности и различии передач. Отдельные из них, несмотря на все попытки сохранить эти тонкости, все же постоянно меняются в зависимости от нового толкования их. Искусство музыканта-исполнителя остается, по существу, искусством мгновения. Потомки не плетут ему венки И рядом с успехом исполнителя, возвышаясь над ним, стоит непоколебимо написанная композиция в полуконкретности и каждую минуту становится предметом возможного нового завершения. Автор же ее остается жить и для потомков. И здесь также можно было бы предположить нечто подобное тому, что происходит у актера: играющий музыкант перетягивает весь задний план музыки вместе с ее духовным содержанием в реальность, так что дальше не остается простора для "ирреального" заднего плана, который мог бы явиться в реальном. В силу этого основной закон объективации и условия бытия прекрасного в этом случае отрицались бы. Это было бы настоящим недоразумением. В реальность втягивается здесь не все из музыкального произведения, а только первый близлежащий слой заднего плана, именно тот, который чувственно слышим, слой тонов и гармоний. Именно он играет здесь роль промежуточного слоя. И только он может быть вообще акустически реализован. Это важно, но в музыке это еще не все. Все остальное остается, как и раньше, ирреальным и должно сначала возникнуть в сознании слушателя. К этому относится все духовное содержание музыки, в чем бы оно ни проявлялось. Об этом здесь совершенно не говорилось, но можно легко предположить, что оно должно состоять в дальнейшей последовательности слоев, которая составляет глубину заднего плана. Как в театральном искусстве подлинное действие с ненавистью и любовью, так и в музыкальной игре настроения и чувства остаются ирреальными. 73 Но и это еще не все. Целостность композиции в игре музыканта также остается ирреальной. Сведение общего слушания (Zusammenhorens) к единству даже самая совершенная интерпретация не может совершить за слушателя; она может его ему преподнести, может его на это навести, но никакая сила в мире не в состоянии отнять у нее возможности последовательного построения целого в музыкальном слушании. Ведь не может же один "слышать" за другого, так же как один за другого думать, постигать или понимать. Но, как оказалось, единство и целостность музыкального предмета не существуют нигде, кроме как в музыкальном слушании. Таким образом, ясно, что все, что было сказано выше о "явлении" композиторского единства, относится как раз к слышимой игре музыканта, но ни в коем случае не только к написанной музыке. В этом отношении она есть, по-видимому, только промежуточный слой "чувственно слышимого", который реализуется в "Здесь" и "Теперь" однократной игре. Это означает, что в игре собственно музыкальное музыки остается явлением. Конечно, нельзя недооценивать это явление-бытие (Erscheinung-Sein); само являющееся может быть весьма объективным, может быть принуждающим и потрясающим, может увлечь массу слушающих, сделать их едиными в единстве "одного" художественного переживания. Но именно поэтому оно и остается все же явлением и не становится предметной реальностью. И как раз только таким способом выполнено в нем основное условие "эстетического предмета" и прекрасного. Вряд ли после этого нужно говорить о том, что в сыгранной музыке также отсутствует момент иллюзии. Подобно тому как музыкант не вводит в заблуждение относительно реальности своих чувств, так же он не вводит в заблуждение и относительно реальности чего-либо другого, например чередующихся звуков, или относительно целого, которое нуждается в синтезе, и относительно душевного вообще. Игра остается игрой, и серьезность того, что кажется в ней неотразимо увлекательным, остается явлением. Отношение слоев с его противоположностью реального и нереального сохраняется. Только оно действует здесь другими средствами, чем в изобразительных искусствах. Видимость его отрицания зиждется лишь на том, что чистая музыка не имеет никаких внемузыкальных тем, то есть не является изобразительным искусством. И то, что она действительно сообщает через свой передний план слушающему, не может быть высказано никаким образом - ни словами, ни понятиями. д. О являющемся заднем плане в архитектуре Общее неизобразительных искусств было представлено как чистая, хотя и не всегда свободная игра формой в определенной материи. Эта игра является чистой для себя самой, но она ограничена материей игры (известными измерениями, материальными возможностями и т. д.). Эти искусства свободны только от "сюжета". Но они могут находиться в большой зависимости от практической цели. Музыка показала себя свободной с обеих сторон. Архитектура в этом отношении составляет прямую противоположность ей: она зависит от внеэстетической цели и притом так широко, что отсутствие таковой могло бы отрицать ее самое. Архитектура, не строящая что-либо пригодное для жизни - безотносительно к тому, служит это повседневному, государственному или религиозному, - была бы пустой забавой. Главный вопрос эстетики для архитектуры состоит в том, имеется ли и здесь отношение слоев, точнее, имеется ли у нее позади ощутимой реальной данности видимого переднего плана также и являющийся задний план. А так как в ней нет ничего от рода "темы", это так легко нам не решить. Прежде всего кажется, что нужно было бы снять этот вопрос. Ведь искусство архитектуры среди прекрасных искусств, без сомнения, самое несвободное; оно вдвойне связано: во-первых, детерминацией практических целей, которым оно служит, и, во-вторых, тяжестью и хрупкостью физической материи, в которой оно работает. Спрашивается: как же здесь возможна "свободная игра" формой, когда форма имеет другие задачи, и именно в грубой материи? А как быть с явлением ирреального? Для этого нужно сначала представить себе два феномена архитектурного действия. Первый из этих феноменов лежит в аналогии к музыке. Как там позади чувственно слышимого выступает большее, слышимое только музыкально, так и здесь позади видимого непосредственно выступает большее целое, которое как таковое может быть дано только в высшем, совместном созерцании. Непосредственно видимой бывает только одна сторона произведения архитектуры, фасад или только немного больше, чем фасад. Так же обстоит дело и тогда, когда стоишь внутри здания, будь это обычный дом или церковное помещение. Целость композиции не дана ни с какой точки, по крайней мере чувственно. И все же наблюдатель имеет интуитивное сознание этого целого; и оно вырастает очень быстро, и как бы само собой разумеется, когда ходят вдоль различных частей архитектур74 ного произведения или когда при наблюдении одного какого-либо внутреннего помещения или внешнего вида меняется место обзора так, что различные виды, стороны и формы частей воспринимаются одни за другими. Здесь последовательность наблюдения произвольная, а не объективно данная, как в музыке; но она остается во времени всегда последовательной сменой отдельных, оптически очень различных картин. Но эстетическое созерцание состоит в том, что из меняющихся видимых аспектов поднимается целое с объективным сочленением, предметная единая композиция, которая как таковая не дана видимо и ни с какой точки не делается видимой, но выступает только в синтетическом представлении и поэтому является "чувственно ирреальной". Разумеется, это верно тогда, когда вся тяжесть ложится на "чувственность". Ибо оптически реальным является целостность произведения архитектуры, только чувственно оно невидимо с первого взгляда. Значит, отношение проявления здесь сдвигается. Оно приближается к явлению прекрасного в природе, где реально воспринимается вся картина. Но это еще будет разбираться. Поэтому вопрос неясности в способе бытия оставим пока в покое. В то же время здесь ясно различается внутренне художественное видение и чувственное видение. Как и в музыке, предметом внутреннего созерцания является более великое (ein Grofteres), настоящая композиция; в последовательном видении всегда чего-то являющегося соединяются аспекты общей картины; и как в музыке единичные звуки акустически не слышимы вместе, так и в архитектуре отдельные, единичные аспекты не видимы вместе. Этот феномен все еще слишком мало принимался во внимание, очевидно, потому, что это казалось само собой разумеющимся. Но именно в само собой разумеющемся и скрывается главное, настоящий феномен архитектурного видения. В нем скрывается отношение проявления. Вторым феноменом является хорошо известное, часто описываемое и все же трудно адекватно описуемое. Очевидно, потому, что созерцание одного произведения архитектуры выражает больше, чем пространственно материальная форма. Это особенно ясно видно в архитектурных произведениях древности, в которых дан весь прошедший мир. Этот другой мир не нужно познавать из другого источника, его воскрешение чувствуется и без этого, конечно, с очень различной степенью убедительности. Очень определенные формы человеческой жизни связаны не только с церковью, храмом, дворцом, лестницей или зубцами каменной стены, но также с фермой и с крестьянским домом местного типа. Как правильная скульптура окружена являющимся пространством, так и архитектурное произведение поставлено в являющееся время и с ним являющуюся жизнь, и именно с ее душевными задними планами: ее благочестивостью, ее силой и свободой, ее нравственностью, ее мещанством, крестьянством или дворянством. Нечто от этого "является" в произведении архитектуры, конечно, в очень слабой степени, большей частью только смутно, как оживляющий задний план, наполняя формы и одушевляя их. Для глубокомысленного наблюдателя все это может стать очень конкретным. Это не преувеличение и не образное выражение. Об этом отношении проявления можно кое-что высказать и в весьма прозаических словах. Дом принадлежит хозяйственной и личной семейной жизни человека, как платье принадлежит своему хозяину. О платье мы знаем, что оно составляет внешний вид человека, и в общем оно именно так и осознается; оно есть выражение того, как он хочет явиться, следовательно, выражение его понимания самого себя (хотя и здесь бывает весьма отчетливо выражена мода). Подверженность веяниям моды в этом ничего не изменяет. Но дом в известной степени является кровом для его самых тесных общественных связей (семья, род, хозяйство), поэтому он является еще более сильным выражением его самопонимания, или, можно сказать, выражением его самосознания в этом большем жизненном круге. С большим основанием это можно утверждать и потому, что он не эфемерен, как платье, а выстроен на долгое время, для поколений, и поэтому постоянно получает нечто от характера монумента. Именно поэтому исторические народы и эпохи могут "являться" в своих архитектурных произведениях и отнюдь не в собственно монументальных; последние в большинстве случаев есть лишь самые прочные. Некоторые поколения особенно ярко выражаются даже в своих постройках, которые отражают их цели, желания и идеи. Последние мы убедительно чувствуем в их монументальных постройках. Это важно еще и в другом отношении. Аналогия с модой есть, очевидно, стиль архитектуры, но вряд ли существует искусство, в котором момент стиля играл бы такую доминирующую роль, как в архитектуре. Причина этого должна лежать в моменте пользы и цели дома: не каждый нуждается в том, чтобы сочинять или рисовать, но каждый нуждается в крыше над головой, то есть может попасть 75 в такое положение, что должен будет строить, и тогда он должен это делать, даже не будучи художником. Заурядный архитектор ведь еще не является художником. Он может строить только так, "как строят", то есть он зависит от стиля времени. Уж так повелось, что люди в продуктивные в строительном отношении времена прямо-таки прикованы к своему стилю времени. И именно потому этот стиль становится таким устойчивым и выразительным, что повсюду мы узнаем его как явление времени. Тем самым в архитектуре дан целый мир являющегося заднего плана. е. Практическая цель и свободная форма До сих пор речь шла только о показе фактического в архитектуре. Но этим ее проблема еще не решена. Искусство архитектуры сковано с двух сторон: тяжелой материей и практической целью. Как это примиряется со свободой творчества в ней? Здесь отчетливо выражена антиномия свободы и несвободы. Решение этой антиномии, очевидно, может быть найдено только в синтезе обеих сторон. Практическая задача архитектуры должна быть полностью вкраплена в общую композицию, и притом именно так, чтобы она со своим решением сама становилась бы видимой в архитектурном произведении, то есть "являлась". В таком виде она не является чем-то мешающим, что следовало бы исключить, а представляет собой положительный момент, от которого ни в коем случае не следует отказываться. Практическая цель со всеми частными задачами плана строения, из нее вытекающими, играет в архитектуре роль, подобную той, которую в изобразительных искусствах играет внеэстетическая "тема" (сюжет), хотя она и не является таковой. Она отличается от темы уже потому, что избирается не свободно, а берется из данных потребностей жизни, обусловливается ими. Архитектура является не свободным искусством, а служебным. На добрую половину она является чистой техникой; только в наиболее крупных своих произведениях она возвышается над этим. Архитектура является единственным из пяти великих искусств, которая в своих произведениях тесно связана с реальной жизнью. Следовательно, ее творения выделяются не через изоляцию от жизни. Но это не мешает тому, что ее произведения действуют как замкнутые единства и целостности. Последние, конечно, имеют свою границу в тесном столкновении произведений архитектуры, например в квартале или в общей городской картине. Но и здесь большие целостности могут возвышаться. Кроме того, практическая цель отличается от "темы" еще и потому, что она не "изображается" в произведении архитектуры; скорее она реализуется, наполняясь реально-конструктивным содержанием. И только косвенно можно сказать, что в своем выполнении она также и изображается. Практическая цель, следовательно, благодаря этому является скорее позитивным предварительным условием и, по сути дела, плодотворным моментом. Красота формы в архитектуре включает ее в себя таким образом, что она по существу состоит в ее технически конструктивном выполнении. "Изящество" решения поставленной задачи, даже если эта задача весьма прозаична, образует существенный момент архитектурной красоты. Непрактичное произведение архитектуры действует неорганически, неубедительно. Конечно, несмотря на это, конфликт между практическим и прекрасным остается до самых мелких деталей. И, может быть, он не совсем преодолен. Именно отсюда вытекает требование, предъявляемое архитектору: найти необходимый синтез. Композиционная, то есть художественно архитектурная, гениальность должна проявляться именно в той мере уравновешивания, которая удовлетворяет как конструктивному, так и формосозидающему требованию. Нечто подобное относится и к другой стороне связанности архитектурной формы, именно ее связи с грубой материей. Материя имеет здесь очень большое значение, потому что материя архитектуры есть самая грубая и самая тяжелая из тех, которые мы встречаем в искусствах, и оформление в ней есть настоящая борьба с ней. Скульптура, имеющая дело с подобного же рода материей, может избрать ее для своей цели, а в известных случаях даже синтетически представить в виде сплава, который потом послушно принимает любую желаемую форму и удерживает ее. То, что не каждая форма возможна в каждой материи, а только определенная форма в определенной материи, есть общий онтологический основной закон. Он существует во всей природе, в каждом произведении человека, во всякой технике. Он существует также в искусствах. Но в архитектуре он становится роковым. Здесь материал, несмотря на его тяжесть, должен нагромождаться и при этом обеспечивать крепость формы - должен использоваться для того, чтобы служить крышей для внут76 ренних помещений. Это возможно всегда только при определенном роде оформления. Задачей такого рода здесь технически определено уже очень многое. И вообще технику архитектуры можно рассматривать как исключительно большую борьбу с материей. И там, где поставленные задачи воплощаются в великое или гениальное, также имеют место многие победы духа над тяжелой материей. Шопенгауэр в своей эстетике видел это отношение именно таким; результатом этого явилось динамическое толкование архитектонических форм - более существенное и глубокое, чем толкования современных историков искусства, которые пытаются вывести всякую форму только из пространственных очертаний. Это становится особенно выразительным там, где строение выполняется в самой прочной материи - камне, являющемся самой хрупкой и самой тяжелой материей. Преодоление тяжести при покрытии внутренних помещений есть здесь самый основной конструктивный момент. Этот принцип отчетливо проявляется уже в форме греческих колонн, которые, кроме перекрытий, фронтона и крыши, выносят еще свою собственную тяжесть и потому показывают наглядный феномен уменьшения тяжести. Тяжесть чувственно является в пространственной форме; хотя она находится здесь реально, но как таковая она не ощутима. Видимой она становится только в форме, но в то же время здесь видно также и ее преодоление благодаря оформлению, Хорошо известными примерами этого являются такие конструкции, как арка, барачный свод, купол, подпружная арка. Нагляднее всего основной феномен мог бы быть дан в принципе подпорки, потому что здесь линия нагляднее всего выражает динамику, перехват бокового среза и ее непрерывное дальнейшее следование вплоть до земли. Высший образец оформления тяжелой материи мы имеем в высоком сводчатом церковном помещении: тяжелое кажется внушительным, когда оно, паря в высоте, удерживается над пустотой. В наши времена мы уже привыкли к этому, и наш взгляд не останавливается на этом; но первоначально это парение рассматривалось как чудо. Реальным в этом является архитектурная конструкция, если угодно, и техническая, эстетическим же в этом реальном отношении является то, что конструкция и воплощенная в ней победа духа над материей "являются" в видимом и сами становятся наглядными. В каждом архитектурном изобретении являющееся в видимом и становящееся наглядным изменяется; следовательно, изменяется и стиль. Ведь архитектурный стиль всегда зависит в своем принципе формы от рода решения архитектурных задач. Здесь лежит причина для единственной в своем роде доминанты стиля в архитектурном искусстве. Ибо в архитектурном стиле речь идет не только о свободной игре формы, но и о ее внутренней обусловленности и о явлении этой обусловленности в форме. Красота архитектурной формы, поскольку она осуществляется только благодаря техническим возможностям, является только там, где преодоление тяжести в игре линий сделано действительно видимым. Но такая видимость не является просто чувственной - это уже созерцание высшего порядка. Поэтому можно сказать и наоборот: это касается уже технически конструктивного, поскольку оно зависит от формы, от являющегося заднего плана. Его содержание и есть духовное достижение архитектур ной композиции. ж. Место орнаментики Орнаментику нельзя причислить к большим самостоятельным художественным областям - об этом говорит уже ее название. Но все же она должна быть рассмотрена как придаток к неизобразительным искусствам в силу ее родства с ними. Она, с одной стороны, более свободна, чем архитектура, потому что не служит непосредственно практическим целям, а также потому, что работает преимущественно без большой борьбы с материей. С другой стороны, она менее самостоятельна, потому что присоединена к произведению архитектуры или к еще меньшему произведению человека и таким образом никогда не действует самостоятельно. Эта несамостоятельность, рассматриваемая в позитивном плане, есть ее включение в большую целую форму, в которой орнамент исполняет функцию декорации. Если он выполняет только эту функцию (как в украшении известных капитолиев), то тем самым он полностью втягивается в искусство архитектуры, становясь одной из его частей. Иначе обстоит дело, когда орнамент наряду с этим претендует еще и на собственное действие и производит его, выделяясь как нечто совершенно иное из архитектурных форм или развивая собственные мотивы и образуя целое в самом себе. Последнее может быть желательным и в архитектурном произведении, чтобы выделиться из архитектурных форм. Орнамент действует подобно фризе позади колонн и остается, как и фриза, самостоятельным произведением. Здесь будет идти речь главным образом об орнаментике в последнем смысле слова. Однако во всем остальном здесь не следует проводить резкую границу. 77 Относительно несамостоятельно выступает орнамент на горшках, вазах, посуде и оружии. Но именно здесь, по всей вероятности, должно корениться его происхождение. Во всяком случае, самое древнее в орнаментике этого рода из того, чем мы располагаем (доисторическая керамика), является самым древним из всех других искусств. Поэтому несамостоятельная орнаментика с эстетической точки зрения не лишена высокого интереса. Уже в этих началах она представляет собой ярко выраженную игру форм, а тем более там, где она совсем не свободно оформляется в какой-нибудь обыденный предмет. Между тем каждый орнамент может рассматриваться сам по себе, точно так же, как картина или скульптура. Такое допущение также является существенным для этого искусства. Арабеска, например, образует такую игру линий, которая вряд ли вызывается необходимостью. Она имеет замкнутость и геометрическую схему, часто даже симметрию; и она легко получает оттенок картинного характера. Поэтому орнаментику в ее ранге не следует переоценивать; однако в своих скромных границах она все же эстетически самостоятельна. Но подлинной проблемой орнаментики является то, имеется ли и здесь последовательное соединение различных слоев и покоится ли также и здесь на нем красота. Помимо этого, следовало бы выяснить и то, существует ли здесь вообще другой слой, помимо чувственного переднепланового реального слоя (материального), в котором развиваются игра линий, рисунок, пространственная фантазия формы. Кажется, что все говорит за то, что мы стоим здесь у конца отношений слоев и явлений. И в известном смысле это действительно так. Во всяком случае, было бы очень трудно удовольствие от орнаментального рисунка свести только к такому отношению. Поэтому не нужно совсем пренебрегать здесь этим основным эстетическим отношением. Оно существует и в орнаменте, хотя и в скрытом виде, но не заключается в так называемых мотивах. "Яркий рисунок" бухарского ковра как таковой является только поводом. Рисунки растений, животных также являются только использованными мотивами, но не изображением предметов и чего-то содержательно действующего. В них нельзя увидеть ничего являющегося. Но что просто бросается в глаза, так это повторение мотива, а также пространственный ритм в повторении. То же самое относится и к другим сходным формальным моментам: к расположению, симметрии и разновидности мотивов, так же как и к сведению целого к единству формы, которое может придать картинный характер. Этим снова внимание обращается на другой момент в сущности прекрасного, который лежит в свободной игре формой. Она явно втискивается сюда и делается господствующей. Здесь происходит примерно то же, что и в музыке, только в другой материи и не так основательно. Косвенно в ней является также нечто от продуктивного духа, от его способа видения и его чувствования, по меньшей мере от его вкуса, его чувства формы, его потребности в единстве, его способа проявления в фантазиях и способности творить красоту, отвлекаясь от пользы предмета. Конечно, из всего этого ясно видно, что красота в искусстве орнамента все же не входит в отношение проявления. Игра формой оказывается здесь вполне автономным моментом. А это значит, что имеется также и автономное удовольствие от формы, и именно от свободно играющей формы. Оно также явно имеет подлинно эстетический характер, хотя и менее глубокий, чем удовольствие, зависящее от отношения проявления. Его, вероятно, можно было бы отнести к радости в игре вообще. Но этим мало сказано. Оно могло бы зависеть и от формы объективации в игре, но последняя трудно уловима. Поэтому более целесообразно возвратиться назад, к более простым основным моментам, которые принадлежат самой видимой форме: к контрасту, гармонии, переплетению, взаимодействию и наслоению, одним словом, к известным элементам структуры, которые достаточно всеобщи, чтобы иметь категориальный характер. В действительности такими меткими выражениями, как названные, приближаются к элементарным категориям, которые присущи всему существующему и всему содержанию сознания. В частности, здесь наталкиваются на отношение единства и разнообразия, превращение которых в слоях существующего и без того чрезвычайно богато и является действительно доминирующим9. Этот вопрос можно оставить открытым. Но если бы это в дальнейшем подтвердилось, то вся игра формой подчинилась бы снова отношению явлений. Ибо являющийся задний план в орнаменте был бы тогда не менее значительным, чем 9 О месте и характере элементарных категорий см. "Der Aufbau der realen Welt", Aufl. 2, 1950, Кар. 23 - 34. 78 само царство фундаментальных категорий. РАЗДЕЛ III ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ И В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МИРЕ ГЛАВА 8 ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕКРАСНЫЙ ПРЕДМЕТ а. Человеческая красота как явление Последняя из разбираемых проблем, которая касалась границ отношения проявления, получает большое значение, когда от искусства переходят к прекрасному вне искусства. Произведение искусства есть произведение человека, хотя оформляется оно с целью бытия красоты. В искусстве понятно, что создатель во внешнем оформлении стремится показать нечто другое. Природа работает без такого стремления, без цели вообще и без сознания. Она, следовательно, не может сделать ничего такого, в чем что-то проявилось бы. То же самое относится и к человеку, какой он есть и как живет. Это относится также к целому миру событий, в котором он находится и принимает участие. Поэтому человек - это не произведение человека, а мир, который он строит, будучи им только отчасти. Итак, существует ли эстетическое отношение проявления вне произведения искусства? В том смысле, что природа хотела этим нам что-то "показать", наполовину скрывая, наполовину обнаруживая, -этого, конечно, не может быть. Но быть показанным без желания к показу, быть скрытым и быть обнаруженным также без намерений и целей - это-то существует везде и всюду. Это хорошо известно из жизни человека. Каждый человек выдает что-то о самом себе в своем действии или в бездействии, в своих речах и реакциях. И притом он этого не желает и не знает об этом. Благодаря этому он может стать для опытного или просто наблюдающего человека очень понятным. Это относится также к его тайным и сознательно скрываемым побуждениям или настроениям. Все это суть такие вещи, которые в большинстве случаев нельзя выразить в понятиях, во всяком случае, те особенные нюансы, в которых они выступают. Но это означает, что есть вещи, которые даны только интуитивно, то есть высшему, нечувственному созерцанию. Знаток людей - это тот, кто преуспевает в таком наблюдении и набрался опыта, тот, кому, следовательно, вместе с внешним выражением всегда дан и духовный образ человека. Этот испытанный в практической жизни проникновенный взгляд, который здесь всегда важен для практического использования, существует все же без практической цели. И здесь он приближается к эстетическому созерцанию. Существует наглядное проявление духовного содержания человека в его лице и в его поведении, которое выходит далеко за пределы всех практических интересов; это какоето просвечивание честности, скромности, душевной чистоты или, быть может, доброты, духа самопожертвования. Все это, правда, есть только моральные ценности. Но их способ явления представляет собой нечто другое, чем они сами. Он может быть ясным, светлым, выразительным, может доминировать в общем впечатлении личности, может пронизывать лицо и поведение или преображать его. Такое наглядное явление человечески благородного и доброго мы ощущаем в общем образе личности как прекрасное. И это есть красота в настоящем эстетическом смысле отношения проявления. Являющиеся ценности суть не ценности явления, а только их содержательные предпосылки, поэтому они не совпадают с ними и могут там, где они даны иначе, быть поняты в другой, более рациональной форме. Но одно нужно здесь сейчас же выяснить: то, что здесь "является", не входит в отношение проявления, а существует безотносительно к нему в реальной личности; оно существует и тогда, когда никто его не схватывает - ни интуитивно, ни как-нибудь иначе. Речь идет ведь о действительных моральных чертах человека вместе с их ценными качествами, о действительном настроении, действительном внутреннем поведении. Должны ли и они где-нибудь являться, здесь не может быть твердо установлено. Важно только то, что когда они являются, то в этом их явлении они не открываются, а существуют в себе независимо от возможности становиться видимыми. Поэтому отношение проявления здесь другое, чем в произведении искусства. То, что там является, - ирреально и существует только для созерцающего; здесь это нечто реально существующее, которое открывается. Только явление в другом, в чувственно данном внешнем есть как таковое то же самое. И в этом отношении здесь также существует подлинное отношение проявления. Это одно связывает человечески прекрасное в реально живом лице с прекрасным в искусстве. И поэтому отношение проявления здесь такое же, как и в произведении искусства. Иным является только способ бытия являющегося. Но в явлении как таковом это не составляет никакой разницы. 79 Поэтому в данном пункте не нужно изменять учение об отношении проявления. Оно лежит в сущности явления; реальное может являться так же хорошо, как ирреальное. В жизни это составляет очень большое различие; в эстетическом отношении различие меньше, потому что здесь речь идет не о схватывании реального (познании), а о конкретной наглядности самого явления, так же как и о тесной связи с чувственно данным. Подтверждением этого смысла человеческой красоты является разрушение такого впечатления выступлением отдельных черт, которые выдают нечто совсем другое. Так, например, обстоит дело в том случае, когда при смехе или при разговоре на лице, прежде симпатичном, появляется такое движение рта, которое выдает затаенную хитрость, бесчувственность, коварство или даже тупость; этого уже достаточно для впечатления дисгармонии, когда она разочаровывающе разрушает гармонию спокойного состояния и вместо большой линии делает видимым мелочность или слабость. Это опять-таки этические моменты. Но явление в видимом есть не этический момент, а разрушающий чувственное впечатление как таковое, следовательно, момент эстетически негативный. Эту неадекватность в самом внешнем виде мы воспринимаем как некрасивое, а когда оно становится навязчивым - как безобразное. Здесь нарушена гармония, разрушено единство, которое мы уже нашли и эстетически утвердили. А нарушенное единство есть именно единство являющегося заднего плана именно реального, но показывающегося во внешней форме. Это самопоказывание (Sich-Zeigen) и есть явление, но разрушенное действием в чувственно видимом переднем плане так, что оно разрушает его единство и мешает его гармонии. Внутренняя неадекватность во внешнем проявлении, если только она выдает сама себя как таковую, есть безобразное. б. Красота в отношении к моральным и жизненным ценностям Проблема этого отношения не так уж и проста, как это кажется на первый взгляд. Ясно, что содержание того, что в красоте является как внутреннее, не может быть ограничено моральными ценностями. Неценное также принимается во внимание. Ведь это не сами этические ценности, от которых зависит эстетическая ценность, а только их чувственное явление. Как же могут этические ценности не принимать участия в явлении, если они также принадлежат к той же самой сфере человечески внутреннего? Здесь все время существует опасность повторить ошибку древней эстетики и эстетическую ценность смешать с этической ценностью. Древние в своем понятии καλοκαγαθια (прекрасный и добрый) сделали эту ошибку. "Animus sanus in corpore sano" (здоровый дух в здоровом теле),- гласит натуралистическое выражение и предполагает прекрасную душу в прекрасном теле. Между тем прекрасное как таковое уже предполагается, и даже в обоих слоях. Поэтому таким путем нельзя объяснить нечто лежащее в его основе. И в еще меньшей степени оно может быть .заключено в отношении проявления. И вообще не следует говорить о духовной красоте. Ведь при этом всегда предполагают только моральную ценность. Ибо настоящая красота есть лишь ее видимое явление в прозрачности телесных форм и телесной динамики. А для этого мы имеем в общем тонкое чувство. Далее, человек с сомнительными моральными качествами также может быть прекрасным. Это сбивает с толку в феноменах человеческой красоты. Можно вспомнить об Алкивиаде, высокоодаренном, но легкомысленном, себялюбивом и вероломном, и о необыкновенной любви Сократа к нему. Здесь мы имеем совершенно своеобразный в своем роде характер, который также своеобразно и ясно выражается во внешнем проявлении. Можно вспомнить и о красоте молодого Нерона. И уже гомеровские образы свидетельствуют об этом разладе; не каждый, подобно Гектору вполне совершенен и в видимом и в глубоком внутреннем облике. Сила, бесцеремонность, легкомыслие могут выражаться на человеческом лице как счастливая беззаботность, моральные затруднения - как неповоротливость, обремененность, сопротивление. Красота не есть выражение нравственных качеств; она, скорее всего, является выражением внутреннего единства и цельности. Но то и другое, высшее нравственное величие и цельность, могут остаться невыраженными в наружном, скрытыми за неадекватным внешним видом. В этом очень простом и определенном смысле Сократ был безобразен. Красота человеческого облика является непременно делом отношения проявления. Последнее состоит здесь - тогда, когда являющееся есть реальное, - в адекватности внутренней и внешней формы, в проявлении одного в другом. Между тем смысл человеческой красоты этим также еще не исчерпывается. Нужно продолжить 80 рассмотрение феномена ценности и перенести основу найденного отношения на другие вещи, которые могут явиться во внешности человека так же хорошо, как и моральные ценности. К этому прежде всего принадлежат жизненные ценности. Человек есть не только моральное существо, но также - возможно, даже в первую очередь - и органическое существо. Только это само собой разумеющееся забывается слишком легко, потому что оно воспринимается как слишком, тривиальное. Но эстетически оно вовсе не тривиально. Жизненные качества также могут быть скрыты, но могут ярко выразиться и во внешнем и явиться чувственно. Ничто в эстетике не является таким вульгарно пошлым, как понятие о красивом человеке как о хорошо сложенном теле (ни в коем случае не одного только лица), возможно, что это даже самое древнее и самое первоначальное понятие о красоте. Это вульгарное понятие красоты глубоко обусловлено сексуальными чувствами. Оно подчеркивает в красоте женщин момент мягкости, нежности, юности, а в красоте мужчины - момент силы, крепости, бесстрашия (последнее понимается еще не этически, а как чувство силы). Было бы совсем неверно отклонять такую обусловленность как внеэстетическую. Она является необходимой составной частью эстетического чувства красоты. Но она так же мало идентична самой красоте, как и нравственные моменты ценности, она является только предварительным условием, чисто содержательным моментом являющегося в эстетическом отношении проявления. Эстетическая ценность только возвышается над ней и является другой. Конечно, смешение с ней происходит и имеет место в неясном или незрелом эстетическом сознании. Здесь нужно только постепенно научиться различать так же, как и по отношению к нравственному чувству ценности. Первоначальное понятие о человеческой красоте должно было связываться вообще с впечатлением силы и жизненной полноты. От этого у него многое сохранилось вплоть до времен очень высокой культуры. Здесь везде говорит сильное жизненное чувство; оно говорит и там, где оно больше не обусловлено сексуально. Только медленно наступает освобождение эстетического чувства формы и движения от естественного чувства жизни и от противоположности родов; просыпается чувство к одухотворенной красоте, к постаревшему лицу с его густой сетью морщин и следами судьбы. В мужском лице ее нашли уже древние, а в женском лице - только в более поздние времена. Все это можно понять только из длинного бесспорного преобладания жизненного чувства и основанного на нем отношения проявления. Богатство форм отдельных лиц не может это оправдать. Ведь в разговоре лицо постаревшего богаче. в. Явление типа Этот вопрос касается человека не только как индивидуума, но также и как представителя человечества. Каждый человек представляет собой человеческий род, чистый или смешанный, и всегда обладает общими чертами: чертами своего времени и своего народа, своего социального слоя или более узкой человеческой породы, человеческого типа или среды. Эти общие моменты играют в его наружном облике преимущественно навязчивую роль, поскольку они в нем выражаются. Поэтому эти моменты играют существенную роль и в отношении явления, которое заключает в себе противоположность прекрасного и уродливого. Если здесь иметь в виду, что в жизни мы смотрим только очень поверхностно, индивидуализирование и большей частью обращаем внимание на лица, которые с нами встречаются, и довольствуемся при этом относительно общим впечатлением (вспомним об опрометчивом нахождении периферических "сходств"), то эта роль типического станет очень понятной: мы всегда стремимся "классифицировать" отдельного человека, относя его к определенной категории. Сам по себе такой взгляд есть только практический мотив, разновидность жизненной экономии (Lebensokonomie). Но он предрасполагает наблюдателя к эстетическому созерцанию. Он нацеливает его на привычное или на то, что кажется ему чем-то общеобязательным, типичным. Не всегда должны быть налицо существенные черты, которые выражают предполагаемое типическое; при этом могут приобрести значение совершенно случайные ассоциации. Но могут быть и совсем незнакомые, только смутно представляемые человеческие типы, которые бросаются в глаза наблюдателю, а именно отдаленный тип предков, которых мы не знаем, но черты которых все же проявляются или в лице, или в поведении человека часто уже в детстве и обращают на себя наше внимание. Иначе обстоит дело с типичностью формы человеческих лиц, а также фигур, способов движения: мы не имеем о них никакого представления, никаких характеристик, мы можем их слегка обозначить только по сообщению других лиц (только творческий художник может их воссоздать). И все же наше 81 чувство человеческого своеобразия способно проследить их вплоть до мельчайших деталей. Эта классификация настолько обычна, что незнакомые лица, которые видим в первый раз, мы способны определить сразу при ее помощи; однажды схваченный тип предупреждает анализ. Мы ожидаем от этого типа определенную манеру разговора, жестикуляции, мимики и даже способа действий, одним словом, характер определенного склада. И все это часто бывает справедливо. Духовный тип большей частью как-то соответствует наружной форме типа. Но так как эта типическая форма является чисто интуитивной и своим неожиданным явлением ни в коей мере не связана с практическим интересом наблюдателя, то ее появление в индивидууме легко приобретает эстетический характер. Это означает то, что главным в этом становится само явление. Индивидуум со своими особенностями действует как передний план, который делается прозрачным для чего-нибудь другого. Это другое есть тип, и безразлично, есть ли это тип народа, или тип времени, или более ограниченный человеческий тип. Тип просвечивает через особенности индивидуума и дает ему сверхиндивидуальное значение. Так, в осязательной конкретности отдельной личности нам является тип профессии: горнорабочий, крестьянин, моряк, делец, офицер, священнослужитель; этот тип является нам, хотя мы в дальнейшем не имеем с ним никакого дела. Таким же образом являются и типы национальностей: англичанин, испанец, румын, китаец или индиец. По содержанию сюда относится вообще многое из того, что невидимо: выражение жизненной формы, стиля жизни, среды, определенного общего круга. Все это стоит в известной независимости от собственного ощущения и имеет место даже тогда, когда это воспринимается как чуждое и лично неприемлемое. Но в этом существует нечто такое, что мы только ради него самого ценим как явление, и именно только потому, что оно производит на нас впечатление определенно выраженной и законченной целостности формы, в то время как сама индивидуальность в чрезмерной полноте отдельных черт легко ускользает. По отношению к такому выражению целого она действует как "случайное дополнение". Последнее может быть очень субъективной оценкой. Но человеку свойственно ей подчиняться, потому что он не мог бы так легко охватить все безбрежное разнообразие индивидуального. Большинство людей в своем восприятии человеческого вообще только в виде исключения проникают до индивидуальности. Резкое отделение от практического и эстетического понимания человека здесь едва ли возможно, да и не нужно. Гораздо чаще одно переходит в другое незаметно, точно так же, как это происходит на границе между жизненным и эстетическим созерцанием человечности телесного. Но как здесь, так и там остается характерным поступательное продвижение от неэстетического к эстетическому. Мы начинаем с практического интереса и благодаря важности того, что является, достигаем эстетической точки зрения; интересующийся становится наблюдателем, открыто воспринимающим и в восприятии теряющим себя, он переживает переход к "удовольствию без интереса". В этом нет ничего удивительного: ведь нечто подобное происходит всегда при переходе к теоретическому рассмотрению, и довольно часто это бывает при отыскивании типического: забываются ближайшие цели и обращаются к явлениям ради них самих. При эстетической точке зрения это бывает еще чаще. Здесь мы имеем один из существенных пунктов, в котором в жизненной связи делается осязательным переплетение корней эстетической точки зрения и ее предмета, прекрасного. Не все эстетическое созерцание является равным и чистым, существуют всякого рода переходные формы. Такие переходные формы мы встречаем также и в других областях прекрасного. Только в искусствах отделение более резкое. г. Ситуация и драматизм жизни Но имеется еще нечто другое, что "проявляется" в человеке, - и не только в его внешнем виде, а также не в отдельной личности как таковой, но и в совместной жизни многих людей, в их встречах и столкновениях друг с другом. Если подумать, что существует драматическое искусство (а также, впрочем, и этическое), которое эти вещи представляет сознательно, то становится почти само собой разумеющимся, что уже в самой жизни это "совместное бытие" (Miteinandersein) также должно являться предметно, хотя ситуации и конфликты в строгом смысле слова неощутимы (не даны чувственно), так же как и духовное содержание отдельного индивида. Это можно назвать "драматизмом жизни". Выражение взято из поэзии; но это правильно, потому что, без сомнения, впервые его открыли поэты - "открыли" именно в том смысле, что они всегда существующее и многократно воспринимавшееся научили видеть как таковое и благодаря этому эсте82 тический предмет в нем сделали осязательным. Ведь то, что этот драматизм можно видеть как таковой, далеко не самоочевидно, пожалуй, еще меньше, чем то, что можно видеть ландшафт. Для этого нужна особая точка зрения, несколько отдаленная от практической жизни, так как человек в практической жизни ее не имеет и не так легко достигает. Эту точку зрения можно назвать искусством эстетического переживания. Переживание не входит в восприятие, хотя оно постоянно остается зависимым от него. Но эстетическое переживание выходит за пределы восприятия, потому что оно стоит выше вульгарного переживания. Ведь последнее есть переживание, практически принимающее участие в событиях или заинтересованное в них. В обыденном переживании человек включен в ситуации, он представляет определенную сторону или же принимает чью-либо сторону со всей субъективностью и страстностью, с собственной симпатией и антипатией. В эстетическом же переживании он оставляет все это позади себя, поднимается над этим, становится выше практической заинтересованности и партийности. В качестве созерцающего он идет "рядом" с жизнью, к которой все же реально принадлежит, и смотрит на жизнь "со стороны". Для этого нужно очень многое. Человек в большинстве случаев не может это получить извне. Для этого нужны два совершенно различных дарования. Беспристрастное отношение к собственной удаче и неудаче есть только одно из них; другое состоит в способности пластического видения событий. Первое делает человека наблюдателем жизни, второе - ясно видящим, понимающим, проникающим. Конечно, между ними должна быть также причинная связь. Но она не снимает различия в сущности обеих способностей, и наличие их обеих у одного человека встречается не так часто, как можно было бы предположить. Поэтому от нас большей частью ускользает драматизм жизни, в котором мы принимаем участие, вместе с его полнотой явлений не потому, что мы слишком далеки от него, а потому, что мы стоим слишком близко к нему. Ведь с самого начала мы находимся в самом центре драматизма. Эстетическая точка зрения в жизни и на жизнь встречается редко; изолирующая высота очищения, которую она предполагает, не должна помешать узнать в ее объекте большой эстетический предмет, который всегда наличествует и ждет только момента, когда созреет воспринимающее сознание. Потому что драматизм жизни состоит в непрерывной цепи ситуаций, в которую попадает человек, и в его стремлении одолеть ее10. Все человеческие планы, удачи и неудачи, вся эфемерная деятельность с ее последствиями, которые сами снова вызывают неожиданные ситуации, все предвидения и отказ от предвидений, все разгадывания чужих намерений и настроений, а также всякий самообман в отношении их, все переплетение различных интересов и начинаний, всякая вина и невиновность, ложные и правильные обвинения и извинения – вплоть до самых больших роковых событий, - все это относится к драматизму жизни. Богатство содержания этого огромного разнообразия, которое составляет человеческую жизнь, неисчислимо. Сюда относится вся этическая жизнь, понимаемая позитивно и негативно. Она оказывается "материалом" эстетической предметной области, которую мы никогда не исчерпаем. Но в качестве эстетического предмета она представляет собой нечто иное, чем в качестве предмета этического. Например, как раз маленькое, мелочное, ничтожное, этически незначительное или презренное, слишком маловажное, чтобы хоть на секунду привлечь к себе внимание, может стать эстетически значительным, если оно проливает свет на внутреннее содержание человека или на разногласие между двумя людьми. И причиной этого может быть как мелкое и отрицательное, так и нравственно великое и положительное. Это зависит от силы явления (Erscheinenlassen). Являющееся многообразие человеческого содержания здесь не меньше, чем во внешнем виде (в лице и поведении отдельных личностей). Оно, пожалуй, еще больше. Ведь оно выросло до размеров общества (Gemeinschaft). При всем этом нужно строго придерживаться следующего: прекрасны не человеческая добродетель, не судьба, трагедия, величие или борьба и комичны не мелочность, слабость, тривиальность, а лишь явление всего этого в особом переживании. Таким образом, можно также сказать: только прозрачность непосредственно пережитого для этих самих по себе отнюдь не эстетических, а скорее практических вещей является эстетическим моментом, от которого это зависит. Здесь, во всяком случае, нужно заметить одно: умение видеть жизнь драматически - это дарование Сравним здесь более точный анализ структуры ситуации в "Das Problem des geistiges Seins", Aufl. 2, 1948, Кар. 12, "b", "с", в особенности взаимопереход свободы и несвободы. 83 10 не только редкое, но и обоюдоострое. Оно легко превращается в бессердечность, бесцеремонно следуя за собственно эстетическим наслаждением. Эстет, который "наслаждается" каждым конфликтом в жизни как таковым (большей частью, конечно, не своим собственным), или юморист с развитым чувством комического относятся к реально случившемуся в жизни, как зритель к игре на сцене. Он совершенно забывает, что здесь имеет место не игра, а горькая действительность, что борьба и страдания действующих лиц подлинны; тот, кто этим забавляется, бессердечен. И тот, кто вот так "эстетически" шагает по жизни, наслаждаясь совершающимся вокруг себя как игрой, сам дезориентирован, он воспринимает действительность не как морально здоровый человек. Ведь у него, в сущности, отсутствует предварительное условие для правильной эстетической оценки жизни, и в конце концов он приносит себя в жертву тому, за чем гонится. Предварительным условием является безупречное и безошибочно правильное моральное чувство, правильный ответ на все пережитое, его оценка. Здесь часто происходит превращение внутреннего поведения в аморальное и бессердечное, в карикатуру и насмешку, в высокомерие и дешевый скепсис. Настоящий юморист так не воспринимает жизнь; он в смехе не забывает серьезность действительности - напротив, благодаря контрасту он, пожалуй, принимает ее еще ближе к сердцу. И для этого также необходимы зрелость, моральная сила и немного настоящего превосходства. Видение и чувствование комического в жизни часто бывают относительными; они подчас есть уже у ребенка, когда он, например, дразнит учителя в классе и забавляется его слабостями. Грубость при этом, конечно, с моральной точки зрения, отрицательна, но чувство комического в этом явлении (именно в негодовании педанта) может быть в высшей степени подлинным. Даже для взрослого, пожалуй, не всегда легко, забавляясь общечеловеческим в жизни, держаться в правильных границах. Но это ничего не меняет в эстетическом наслаждении и в фактическом проявлении человеческих слабостей. Гораздо более редкое явление в жизни - эстетическое наслаждение человечески серьезным, трагическим, нравственно великим и сильным. Дело в том, что мы с нашими собственными ответными чувствами, участием, болью или возмущением сами втягиваемся в происшедшее. Тому, кто подходит к делу с моральной точки зрения правильно, трудно быть безучастным наблюдателем. Но тот, кто созерцает происшедшее как бы на расстоянии и достигает спокойствия равнодушного наблюдателя, должен в то же время иметь морально открытое сердце для людей и ситуаций, потому что и те и другие реальные, а не разыгранные, Он должен, следовательно, - и это антиномично - одновременно принимать и не принимать участие, быть вовлеченным в ситуацию и противостоять ей как созерцатель, оценивая морально и в то же время эстетически. Эта позиция граничит с сверхчеловеческой. Она требует двух душ в одном человеке, двух разнородных переживаний. Возможно, что это свойственно только поэту, искусство которого оправдывает себя тем, что серьезно относится к наблюдаемому. Но в таком случае это есть уже искусство, и не прекрасное, содержащееся в самой жизни. Такая позиция возможна в жизни. Ведь имеет же человек, в сущности, удивительную свободу видеть себя самого в своей борьбе, действиях и страданиях со стороны, смеяться и плакать над собой и одновременно оценивать все это с позиции знаний о себе и быть самим собой. Разве не мог бы он принципиально точно так же относиться к чужой личности и к чужой судьбе? ГЛАВА 9 ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ а. Красота живого Очень часто слова "прекрасное в природе" наводят на мысль о "прекрасной местности", о море и суше, горах и долинах. Но в этих понятиях заключены трудные эстетические проблемы, ибо характер субъективного и привнесенного фантазией здесь гораздо существеннее, чем просто в самих предметах природы, а также потому, что в эти понятия привносятся многие жизненные чувства, которые хотя и полны радости, но не эстетичны. Поэтому здесь нужно начать с чего-то другого, в чем характер эстетического предмета может быть легче уловлен в чистом виде. Это другое есть прекрасное в таком виде, в каком оно нам является почти во всем живом. При этом мы отступаем в ряду внехудожественных эстетических предметов на одну ступеньку назад: от прекрасного в человеке к прекрасному в животном и в растении. Это не является педантичностью, а скорее относится к проблеме естественных связей. Человек ведь тоже организм, и все прекрасное, опосредованное через его жизненные чувства, является уже красотой органического мира. 84 Вряд ли можно сказать, что органически прекрасное в животном производит меньшее впечатление, чем органически прекрасное в человеке. Наслаждение видом прекрасного животного есть нечто присущее всем людям; при наслаждении красотой в животном встречается часто гораздо меньше затруднений, чем при наслаждении красотой в человеке, потому что здесь, как правило, мы не встречаемся с отталкивающими сторонами. Здесь отсутствует и вся область морального: мы не только знаем, что животное невинно, но мы ощущаем эту невинность при созерцании. Здесь, перед нами, конечно, чаще предметы чисто жизненного, а ни в коем случае не эстетического наслаждения. Так, нам нравится мягкий мех котенка, которого мы гладим, но еще более чисто жизненным наслаждением является впечатление от верной собаки, от ее трогательной привязанности к хозяину, от ее игривости и необузданности, когда хозяин с ней играет. Здесь везде еще отсутствует дистанция предметного созерцания, которая необходима для эстетического наслаждения. Но уже в этих отношениях, которые жизненны или находятся совсем близко к жизненным, может появиться эта дистанция предметного созерцания, и при этом обнаруживается наглядность эстетического предмета: движение или фаза движения, грация прыжка, выражение напряженности в положении животного поражают нас, заставляют обратить внимание на нечто другое, что невидимо, но реально существует. Это нечто другое есть, по меньшей мере, чудо природы самого органического бытия в силу своего своеобразия, его родства с нами и его особенности. Ведь в действительности в таком взгляде содержатся оба вышеуказанных момента: то, что нам хорошо известно, побуждает в нас собственное жизненное чувство и то, что совершенно от нас отлично, является безусловно животным и не нарушается никакими конфликтами, или, выражаясь иначе, убедительно инстинктивным и определенным в реакции, в чем животное превосходит человека. Ощущение этих вещей имеет преимущественно форму туманного предчувствия, глубоких мысленных связей, чтобы не сказать большего - мудрости в строении, в членении, в способе функционирования и реагирования животного существа. И если продолжать эту мысль, то это есть, теоретически выражаясь, ощущение действительно удивительной и благодаря ее совершенству превосходной целесообразности, которая заключена в целостности органического существа. Истину этого составляет как раз нечто объективное: эстетическая радость, которую доставляет животное, переходит в глубокое удивление перед большой метафизической загадкой органического, потому что эта радость обусловлена внутренней целесообразностью органического мира, все части и все проявления жизни которого взаимосвязаны и воодушевляют нас своей побеждающей гармонией. С теоретическим исследованием это не имеет ничего общего, хотя такие впечатления могут наводить на научное размышление. Гораздо большее впечатление мы получаем от непосредственного и наглядного восприятия: у удивительного невольно возникает эмоция, оно неминуемо при чувственном созерцании. Здесь не рефлектируют, точка зрения обнаруживается в свободной отдаче; и довольно часто момент неожиданности при этом является решающим. Человек не может удержаться от эмоций, очутившись вдруг лицом к лицу с чудом творения. Эмоция этого рода является настоящим эстетическим наслаждением при созерцании, возникающим в нас посредством осязаемых отношений проявлений; причем глубина наслаждения в соответствии с объективной глубиной того, что нами воспринимается, весьма различна. Можно чувствовать чудо органического глубоко или поверхностно, но всегда это осуществляется посредством взгляда, проникающего внутрь чувственно данного, и посредством чувства, проникающего внутрь того, что не дано чувственно. Необходимо отметить, что состояние восхищения или удивления ни в коей мере не ограничивается такими случаями, при которых развязка состоит в жизненных чувствах симпатии. Примеры, взятые из жизни преданных домашних животных, могли бы при этом ввести в заблуждение. Но они односторонни. Подобная позиция распространяется на очень отдаленное от нас и чужеродное. Полные изящества прыжки белки высоко в кронах деревьев действуют точно так же возбуждающе. Полет ласточек, крик хищной птицы, скользящее движение плывущей форели или воздушный прыжок играющего дельфина - все они действуют одинаково. Только для нынешнего городского человека они далеки. Он не имеет возможности так просто видеть эти явления. Самое глубокое впечатление, может быть, оставляет все неожиданное, если оно улавливается, - а именно скользящее парение пеликана на воздушной волне, образующейся перед водяной струей. При первом взгляде еще непонятно, что там происходит; планерист знает этот процесс, но здесь он совершается с исключительной виртуозностью. Но еще гораздо дальше в область чужеродного простирается феномен. Есть живые существа, кото85 рые кажутся человеку жуткими и враждебными, к которым он открыто или тайно испытывает отвращение: змеи, жабы, пауки, большие ящерицы. За этим чувством скрываются инстинктивные моменты страха человека древних времен, когда еще существовала действительная угроза этих существ, и все же, когда мы отдалены от них и рассматриваем их предметно, также может возникнуть удивительное восхищение от непривычного. Само чувство видоизменяется: мы усматриваем вдруг нечто королевское в высоко поднятой голове змеи (такое сравнение употребляет сказка), и движения паукакрестовика, который плетет свою паутину, становятся убедительными для нас. Еще Гердер говорил об этих "в себе безобразных" формах животного как о неудачных созданиях природы ("отвратительный крокодил"); в действительности за этим взглядом скрывалась неспособность к дистанции и рудимент наследственного чувства страха. Природа ведь создана не для человека. Точно так же обстоит дело и с более низкоорганизованными представителями царства органического. Везде существует то же самое отношение. Так, вызывает восхищение великолепие бабочек, морских звезд и медуз, радиолярий и инфузорий. Малый мир органического полон "искусными формами природы". И, конечно, то же можно сказать и о мире растений. Для человеческого восприятия красота открывается здесь еще быстрее, хотя или, может быть, именно благодаря тому, что растение стоит дальше от человеческого жизненного ощущения. Контакт человеческого сердца с органическим здесь гораздо слабее, но зато уменьшается возможность нарушения эстетической дистанции собственным жизненным чувством. Здесь не возникает тотчас же мысль о сказочном великолепии пестрых цветущих растений, но еще больше жизненной радости от красочности или причудливости форм, даже от некоторого общечеловеческого символизма; в известных границах каждое растение в его развитой форме можно считать с полным правом произведением искусства. Это относится к стройной былинке с наклонившимся в сторону колосом, совершенной форме сосны, бука или березы, к "злой" жилке в коре старого дуба, к громадному стеблю агавы и к ее копьеобразным листьям. Здесь везде является нам нечто от таинственной целесообразности живого, от органического строения зависящих друг от друга функций его саморазвития, его стремления к жизни, к самоутверждению и к его неорганическим силам самостоятельности, приспосабливающейся к окружающей обстановке. Аналогичное воспроизводится во всех группах стоящих вместе родов: в моховом ковре, в колонии тимиана, луге, степи, в группе деревьев и в лесе. Но здесь уже эстетическое чувство переходит в другой вид - в радость от ландшафта. Высокую эстетическую прелесть в царстве органических форм образует чувствительная обидчивость, опасливость и экспонирование в сравнении с безобидным равнодушием, а также с бесчувственностью организмов по отношению к тому, что им угрожает. Они неосторожно предоставляют себя своей судьбе, погибают тысячами, но другие тысячи расцветают на их месте. Они смутно предчувствуют ужасную жестокость, которая господствует в жизни родов, - жестокость против индивидуума в пользу жизни поколений - и невольно удивляются той расточительности, которую, как кажется, проявляет природа по отношению к своим собственным драгоценным произведениям. Это тоже есть отношение проявления, не имеющее никакого отношения к рефлексии или знанию. Потому что самое удивительное здесь то, что мы благодаря этой жестокости и безразличию интуитивно чувствуем их уравновешенность и гармонию в мире живой природы. Спокойствие само собой разумеющегося, с которым прекрасный по форме индивидуум проявляет эту роковую жестокость, имеет для человеческого ощущения нечто трогательное, стремящееся к любви. И в действительности это вид любви, с которой человеческое сердце окольным путем через эстетическое созерцание охватывает грандиозное богатство форм живого. б. Красота в динамическом строении Этот же самый принцип можно распространить и на неорганические произведения, следовательно, на неживую природу. Существуют различные вещественные образы, которые порождают в нас настоящее эстетическое восхищение, хотя их не так много, как можно было бы предположить; ведь большинство "вещей", которые окружают нас в жизни, искусственно переоформлены, и они не причисляются, конечно, к красоте природы. Здесь лежит одна из причин того, почему красота в неорганической природе не так привычна для нас, как в органической. Последнее объясняется еще и тем, что первичное и самостоятельное в их динамическом строении, которые могли бы скорее всего приковать эстетическое чувство, большей частью бывают отделены от нас благодаря своему размеру; они или слишком велики, или слишком малы, чтобы быть чувственно ощутимыми. Примерами этого могут служить, с одной стороны, небесные 86 тела и их системы, с другой стороны, атомы и молекулы. Средняя сфера, которая поддается прямому восприятию, почти начисто отделена от них. Все же есть также некоторые примеры внутри этой сферы. Самым известным примером являются кристаллы с их особенным правильным построением. Даже там, где мы не знаем геометрических законов этого построения (систему осей), мы ясно ощущаем посредством простого созерцания не только их существование, но также и скрытую тенденцию их частей по ее принципу "пристреливания". Здесь, несомненно, налицо отношение явлений. Примеров можно перечислить много, если присоединить к этому эфемерные явления. Например, зеркальная поверхность воды, совершенная фигура капли с ее естественной формой пули (конечно, неясно видимая при падении). Подобным примером является концентрически разбегающиеся круги волн на поверхности воды, симметрия круговорота в задержанном течении или даже феномен подпрыгивающей капли после падения. Еще более знакома равномерная игра волны и игра света в ней; нечего говорить и про такие бросающиеся в глаза явления, как, например, молния, радуга, скопление туч в небесной синеве. Относительно феноменов последнего рода речь не может идти об их динамическом построении. Но и из этих построений бывают такие, которым хотя бы косвенно можно было бы придать форму видимости (телескопически или фотографически). И тогда им также нельзя отказать в эстетической силе впечатления. Сюда принадлежит система Юпитера с его четырьмя большими лунами, так же как и удивительная круговая система Сатурна. В этих картинах представлено нечто от динамики построения в ее наружной форме; внутреннее само по себе невидимое становится ощутимым. Наблюдатели давно восприняли это невидимое и выразили о нем свое мнение. Кеплер в своей "Мировой гармонии" пошел гораздо дальше. Он благодаря знаниям и расчетам посредством соотношений величин составил общую картину этих явлений, прочувствовал их как величайшую красоту невидимой системы планет. Сегодняшние оптические средства позволили сделать большее. Они сделали для нас видимыми большие системы спиралей, наружные формы которых, без сомнения, свидетельствуют о единстве динамического построения. То же самое относится к скоплениям шарообразных звезд, так же как и к некоторым туманностям. В этих примерах достойно внимания то, что их построение не может считаться научно объясненным; на передний план выступает непосредственное эстетическое созерцание. Если продолжить кеплеровский способ видения дальше, то можно прийти к выводу, что эстетическое созерцание распространяется также на все эстетические динамические структуры. В таком случае оно связано только с известными условиями предварительной научной работы, которая, конечно, недоступна основной массе людей. Так, например, законы атомной физики очень хорошо подчиняются эстетическому созерцанию, хотя они в высшей степени математичны и по формулам абстрактны, следовательно, строение атома само по себе приводит к созерцанию. Последнее очень ясно выражается посредством образцов моделей - конечно, гипотетических. Математики называют это отдалением от созерцания, но только потому, что они считают созерцание чувственным. Это односторонне. Все косвенные познания имеют тенденцию к высшему созерцанию и делают это; сами же понятия, которыми оно пользуется, являются, в сущности, не чем иным, как только вспомогательным средством высшего созерцания: ведь они только тогда становятся живыми, когда действительно наполнены созерцанием. Поэтому момент созерцания в них может в любое время проявить свою эстетическую сторону. Вообще соотношения величин имеют созерцательно-эстетическую сторону. В геометрии это хорошо известно. Что, например, можно сказать относительно многократно отмечавшейся красоты эллипса? Именно то, что в его форме виден закон, который мы можем созерцательно ощутить, не понимая этого разумом. Эллипс содержит отношение явлений. В этом следует искать тайну притягательной силы всей математики (до мифа о "совершенной науке", который ее окружал с давних времен): соединение чистой игры с формой и именно в нем выступающим отношением явления. в. Красота ландшафта и родственных ему видов Это уже содержалось в наших последних наблюдениях. Кроме того, они подводят нас к рассмотрению опосредствованного и областей (пусть их существование и весьма спорно), находящихся на границе с эстетическим. Нам снова необходимо вернуться к непосредственному, имеющему центральное значение для понимания всего вопроса. В сферах прекрасного в природе есть прежде всего такая область прекрасного, как ландшафт; потом, разумеется, к ней относится и много других вещей: море с его волнением, 87 небо, на котором постоянно изменяются облака, всегда неизменное звездное небо и т. д. Ведь под их влиянием у нас "смягчается сердце", мы находим у них прибежище от суеты, шума большого города; мы как бы сливаемся с ними, окунаемся в них и пытаемся найти среди них забытье. Именно поэтому все это не только безоговорочно относится к эстетическим предметам, но и в той же мере - а может быть, и главным образом - является предметом нашего жизненного чувства. Но данный предмет необходимо четко отличать от эстетического предмета. Это не так-то легко сделать, потому что они имеют дело с одним и тем же. Кроме того, здесь везде жизненное чувство переходит (границы этого перехода указать невозможно) в эстетическое удовольствие, точно так же, как мы это только что видели и в органически прекрасном. Различие между ними только в том, что при виде организма жизненное чувство говорит нам о чем-то объективном, а при взгляде на ландшафт - о разнообразных субъективных реакциях, которые свойственны только наблюдателю и которые в нем происходят в соответствии с объектом. На жителя крупного города точно так же могут навести тоску и коровник и овощные грядки, как и степь и снег на вершине горы, но они обычно не поднимаются до ранга эстетических предметов. Следовательно, и здесь должна быть проведена граница, хотя она отнюдь и не будет строгой линией деления. Но ее нельзя провести только по отношению к одному предмету, потому что горы и долины, леса и луга также возбуждают жизненное чувство - стремление освободиться от моря домов, шума и серой повседневности. Тот же самый жизненный характер имеет и радость, которая испытывается тогда, когда отдаются природе и как бы растворяются в ней. Совершенно очевидно, что это - жизненное наслаждение, не говоря уже о потребности в свежем воздухе, в отдыхе и смене одного другим. К сказанному здесь необходимо добавить соображения о моменте дистанции к предмету. Человек ощущает себя скорее находящимся внутри ландшафта, а не только пространственно. Это, очевидно, существенно для его ощущения: он считает себя возрожденным, приятно окруженным, он даже испытывает желание стать единым с природой. Тем самым в значительной мере устраняется не только эстетическое, но и вообще предметность окружающей природы. Только на фоне этого примитивного слияния с природой выделяется процесс становления ландшафта в эстетический предмет. Как это достигается - это второстепенный вопрос. Но это достигается прежде всего благодаря тому, что останавливают свое внимание на отдельных картинных впечатлениях. Например, открывается просвет, густо обрамленный стволами и ветвями, линии вершин пересекаются, на дне долины расположена деревня; все в целом действует как "картина", хотя мы не пытаемся, не желаем считать ее таковой, а может быть, это для нас совершенно неожиданно. Теперь созерцающий как бы выделился, он находился против просвета. Вернее, ландшафт - против него. Теперь сам он, в сущности, только стал созерцающим наблюдателем и благодаря этому тем, кто эстетически наслаждается. То же самое имеет место с ним при виде части глубокого леса - теперь он предметно видит зеленый полусвет, играющие солнечные лучи или поляну, часть источника, группу деревьев и голую скалу на заднем плане. Существенным является характер картины, обрамление, приподнятость. То, что представляется внутренним, - это другой род слияния с природой и отдачи себя, другой род радости и наслаждения. Как ни трудно выделить эту стадию в чистом виде (ведь воздействие жизненных чувств нельзя при этом исключать), одно все же ясно доказывается этим - то, что свойственно только эстетической предметности - отношение явлений. Но что является здесь? Ведь существует нечто, что может проявиться как единство и целостность в таких объективно видимых, но все же произвольных отрезках? Например, в том смысле, в каком может раскрыться и действительно раскрывается при виде живого тайна органической жизни с ее целесообразностью. На этот вопрос можно дать простой ответ: что-то есть. Ведь во всей природе все согласовано друг с другом: вместе существует только то, что может существовать вместе, и очевидно, что не все может существовать вместе. Виды растений вытесняют друг друга, конкурируют друге другом, и это имеет существенное значение как для их способа существования, так и для их формообразования; лес и степь бывают только там, где позволяет почва, они зависимы от круговорота воды. Их сменяет голый камень и голый песок. Хотя созерцающий и ничего не знает об орографии страны и не интересуется ею, но все же она предстает ему при взгляде на ландшафт как нечто непонятное, а изменения роста растений определяют картины, которые ему предлагаются; и как раз в смене картинных отрезков он интуитивно предчувствует нечто из этих связей. 88 Тому, кто привык рассматривать ландшафт исключительно с точки зрения живописи или даже определенных достижений пейзажной живописи, все это несвойственно. Он смотрит на природу с историко-художественной точки зрения; ему недостает естественной точки зрения на ландшафт. Иначе обстоит дело, если подходить непредубежденно к богатству форм и красок, которое представлено на поверхности земли в бесчисленных картинах. Кроме того, язык картин красноречив: они открывают и скрывают, рассказывают и задают загадки; свет, синева, даль выражаются в них задолго до того, как их воздействие понято как таковое. Ибо и ландшафт человек видит сначала не живописно, а предметно. Вспомните о ландшафте морского берега со скудным прибрежным овсом и низким лесом, склонившимся под морским ветром; о странствующих дюнах с их волнообразными очертаниями, с их обрывом в сторону суши и следами бывшего леса. Или о верхней границе высокого леса в горах и кажущейся границе снегов. Не иначе обстоит дело и с отшлифованными куполообразными формами льда глетчера ледникового периода и оставшимися озерными краями с их обилием островов. Один шаг дальше - и стоишь у такого же точно по форме болотистого ландшафта бывших лагун со скудными деревьями, степью и лугом. А, кроме того, вспомните о том, что человеческая жизнь заключена в ландшафт отдельных дворов и деревень, о доказательстве борьбы человека с силами природы и того, что природа дала. Сюда же относится и мирная картина огороженных полей (как их видел Шиллер в своей "Прогулке"), полная предчувствий картина труда и счастья, удач и неудач в борьбе за жизнь и пищу; но одновременно и более глубокое представление о том, что поколения местных жителей срослись с той почвой, на которой они, созидая, вырастали, о родине и чувстве родины. Чем дальше удалился от этого коренной городской житель, тем глубже подобное представление. Но и без таких многозначительных задних планов это везде принципиально одно и то же: при взгляде на скромную рыбачью деревню с бедными хижинами и лодками и сетями на берегу, то же самое при созерцании горного пастбища и стад скота в горах. Было бы совершенно неверным являющееся содержание образного элемента отделять от чувственного так, как будто бы здесь идет речь о двух различных вещах; точно так же было бы ошибкой картину городских руин, преобладающую на западе Германии, которая убедительно напоминала о жизни, уже не существующей, отделить от мягких форм холмов окружающего ландшафта. Для обеих характерно как раз это одно в другом. Но в этом "одно в другом" существенно отношение проявления чувственно данного и не данного - даже для не имеющего представления о данной картине. При этом образный элемент с его характером отрезка вовсе не изолирует, а только более подчеркивает, усиливает впечатление. Смена перспектив, изменение картины с изменением расположения, перемена света и времени года - все это вызвано заботой о конкретности и непосредственности, так же как и о всегда сопутствующем осознании явления как такового. г. Красота природы и искусство Уже набили оскомину утверждения, что только искусство открыло красоту природы. Это есть подтверждение истории духа. При этом вспомните прежде всего о живописи, так как полагают, что именно она раскрыла человеку эстетическую тайну ландшафта. Нет сомнения, живопись делает это, "рисуя" ландшафт, то есть его изображает. Она учит смотреть его именно так. Древние еще проходили мимо ландшафта; итальянцы строили свои изображения различных сцен на его фоне (они вводили его очень скупо и только для сопровождения, что часто соответствовало художественному замыслу); голландцы делали его самостоятельной темой; французские импрессионисты при его изображении придавали самостоятельное значение свету и краскам и т. д. При этом каждой ступени соответствовала новая ступень видения человеком действительного ландшафта. В указанной форме мысль получает право на существование. Она имеет строгую аналогию с открытиями искусства в других областях: драматический поэт открыл драматическое в жизни, комический поэт - комическое, сатирический - смешное и, возможно, даже остроумное. Можно было бы поднять вопрос, не открыл ли впервые эпический поэт героическое или религиозный поэт - богов и жизнь в вере. Но как раз последние аналогии показывают, что нельзя принцип доводить до абсурда. Самая глубокая мысль может стать заблуждением, если ее преувеличить; ее нужно свести к ее естественной мере и именно для того, чтобы можно было лучше ею воспользоваться. Герои почитаются и без поэта, а боги без него являются богами, которым молятся; только одни были им идеализированы и увековече89 ны, а другие оказались в царстве наглядности и очеловечены. Но это не то же, что быть открытыми. Но нельзя не признать наличия во всех этих областях огромного влияния художника на развитие самого эстетического взгляда независимо от того, какой предмет он изображал и каким материалом оперировал. Поэтому нужно будет также приписать ведущую роль пластике в раскрытии эстетического взгляда на человеческое тело, а на гораздо поздней фазе развития - также и живописи. Возможно, что даже искусство портрета играет подобную роль по отношению к физиогномическоэстетическому видению. Но как правильно ограничить эту роль, имеющую отношение ко всем областям изображения, - это совсем другой вопрос. Ибо утверждать, что одни искусства везде открыли эстетический предмет, - значит придавать слишком большое значение искусствам. Но почему же, в сущности, следует придавать слишком большое значение искусству? Ведь не только потому, что существуют области, к которым это уже не относится. Наоборот, здесь необходимо устранить что-то принципиальное, что мешает разрешению данного вопроса. Это заключается в простом соображении, что сам взгляд продуктивного художника должен обращаться к новому предмету, чтобы сделать его темой своего изображения; после этого художник может очень хорошо научить других его видеть. Значит, художник уже должен рассматривать предмет природы как эстетический, если он может найти в нем стороны, которые в своем изображении - рисовании, живописи, поэзии - старается выделить как существенные. Это значит, созерцая и наслаждаясь созерцаемым, он должен осознать то, что потом, со своей стороны, объективирует в творении и сможет показать своему поколению. Таково отношение зависимости, которое нельзя ради одной только теории перевернуть. Если это сделать, то можно вступить в υοτερον-προτερον что может где-нибудь в качестве противоречия отомстить за себя. Этим не оспаривается тот факт, что художник работает, постоянно экспериментируя, то есть в течение продолжительного времени происходит взаимодействие между прозрением и образом. Прозрение должно играть ведущую роль также на отдельных этапах его зрелого периода развития, иначе экспериментирование сведется к слепому нащупыванию. А это было бы как раз образом действия, противоположным образу действия гениального художника. Это надо понять правильно. Совершенно верно, что художественный взгляд открывает ландшафт и затем делает его эстетически доступным для других. Но отнюдь не верно то, что художественное творение открывает ландшафт. В самом художнике первым и решающим является не его творения, а его прозрение и одновременное этим наслаждающаяся интуиция. Пожалуй, точнее было бы сказать так: в художнике первичное - это эстетическая точка зрения на окружающий мир. Он прежде всего открыватель и только потом - творец. Открывателем он является только в границах своего времени или же лишь в определенном отношении выходит за эти рамки и идет впереди него. Напротив, средства и пути для создания творения представляют собой лишь производственный механизм. Если в этом заключается какая-либо антиномия, то она вытекает из существа художника, а не из его отношения к профану, а также не из его положения как открывателя по отношению к предмету. Но, по существу, здесь нет никакой антиномии. Мы слишком привыкли считать гениальным только "всемогущего", а историко-художественный способ рассмотрения привел к тому, что даже умение (Konnen) устраняется под воздействием различных господствующих технических средств. Но при этом забывают, что эти средства сами основаны на способе видения, что гениальность есть, по существу, особый род видения и что каждый новый способ видения, а также тот, который только кажется направленным на техническое, вызывает новые способы выявления. Хорошим примером этого является открытие в живописи света (которое совершило переворот в употреблении краски и в конце концов привело к исчезновению контуров - последнее имело место у позднего Рембрандта). Здесь как раз видно, что новое появляется вместе с новым способом видения: тон, "настроение" ландшафта, темнота внутреннего помещения, человечески характерное своеобразие. Сама конкретность предметного и выхваченная из жизни часть .картины как таковая становятся совершенно иными. И это отчасти достигается при помощи самых скромных средств. В значительной степени это объясняется "опусканием" (или только скрытием) деталей, которые в жизни даются в восприятии. То же самое относится и к поэту как открывателю человеческого. Слишком долго поэта считали только создателем форм и образов, а по возможности и даже преимущественно творцом языка и его форм. Поэт - прежде всего "провидец", ясновидящий, открыватель, который на все происходящее в жизни смотрит открытыми глазами и для которого поэтому движение и фигуры на сцене жизни представляются в форме эстетических предметов. 90 ГЛАВА 10 К ВОПРОСУ О МЕТАФИЗИКЕ ПРЕКРАСНОГО В ПРИРОДЕ а. Формальная красота в природе В некоторых искусствах рядом с явлением прекрасного проявляется формальная красота. В великих творениях она всегда покрывалась первой и как бы исчезала за ней. Но на самой низкой ступени, где, со своей стороны, исчезает отношение проявления, например в орнаментике, она выступает на первый план и достигает известной самостоятельности. Она еще проявляется при более тщательном рассмотрении слоев, и оказывается, что она также сохраняет свою самостоятельность. Эта формальная красота играет свою интегральную роль в эстетическом предмете природы; то же самое относится и к эстетической красоте, но она еще более скрыта. Из чего она состоит, нами было уже сказано. Она проявляется в своеобразной свободной игре с чистой формой пространственно видимого, но также и тонически слышимого, в игре звуков и красок, в ритмах и т. д. Так обстоит дело по крайней мере в искусствах. В природе в основном дело обстоит так же, за исключением того, что здесь не может быть и речи об играющем духе. Игра форм здесь невольная, и именно поэтому она не случайна. Именно потому, что она является неожиданной, бросающейся в глаза, она привлекает внимание. Здесь предполагаются, прежде всего, многочисленные формы бросающейся в глаза закономерности, как об этом уже говорилось выше при рассмотрении органически прекрасного. Они удивляют нас в папоротниках и хвощах, травах и хвойных деревьях не менее, чем в морских звездах, медузах и каракатицах. Они нагромождаются в линиях фигур рыб и птиц, в формах и рисунках насекомых. Правда, во всяком случае, это касалось явления органической целесообразности или ее неизвестной закономерности; теперь дело идет об игре и действии самих форм. Конечно, при этом нельзя отделить одно от другого, но все-таки здесь их нужно различать: ведь не все разнообразие форм растворяется в целесообразности, тем более это применительно к созерцанию, и различие между тем, что находится неразрывно одно в другом, и тем, что составляет инаковость эстетического воздействия, не смазывается. Здесь более важно, может быть, то, что речь идет не о формах особенной правильности, но как раз о такой правильности, которая основана на недостаточном или совершенно неопределенном принципе порядка, о неправильном, разбросанном, случайно действующем. Примером этого может служить звездное небо, и притом наивно созерцаемое, без цели наблюдения и без инструментов. И все же, вероятно, существует в природе немногое, что искони так влекло бы человеческое сердце к эстетическому созерцанию; весьма старо представление, что как раз оно является "самым красивым" и "самым совершенным" из того, что может быть доступно человеческому глазу. Об истинности такой оценки можно спорить, но о факте ее существования - нельзя. На чем она основана? Вряд ли можно будет сослаться здесь на традиционную метафизику созвездий (которая видела в них богов); эта метафизика уже, со своей стороны, предопределена представлением об эстетически возвышенном. Скорее при этом можно было бы сослаться на то, что одинаковы формы движения постоянного звездного неба, которое задолго до научного наблюдения считалось высшим совершенством. Но и это может иметь еще второстепенное значение. Основным, без сомнения, является величественный вид самих светящихся созвездий, так же как и их тихое, спокойное движение по ночному небу; для близорукого или никогда не выезжавшего из большого города это действительно незнакомое царство. При этом существенно полное отсутствие какой-либо правильности форм. Последнее настолько сильно, что человек, произвольно охватывая эти группы, приписывал им фигуры животных или героев. Но затем они заменялись в соответствии с воззрениями народов и времен. Это то же самое отсутствие правил, которое иногда так странно выделяется и нравится нам в ландшафте, например болото или группа деревьев болотной местности. Вообще следует эстетически позитивно оценивать момент неправильности в природе. Как раз впечатление "случайности", чтобы не сказать иррациональности, может иметь свою собственную прелесть. И это также не вредит эстетически позитивному моменту правильности. Формальные моменты оценки в эстетическом природном предмете разнообразны; они не мешают друг другу даже тогда, когда противостоят один другому. Это также хорошо согласуется с формальными элементарными категориями единства и разнообразия, которые постоянно сливаются друг с другом, выступают вместе и эстетически могут быть столь же фундаментальными, как и онтологическими. Уже противоположность правильности и неправильности может как таковая действовать как аффирмативный структурный момент подлинной 91 прелести. Еще одним прекрасным примером для этого положения вещей является пение певчих птиц. Много трудились над тем, чтобы найти в нем подобие музыки - музыки в человеческом художественном смысле с ее своеобразной, на разнородных тонах базирующейся закономерностью. Все напрасно. Известные аналогии действительно существуют, существуют в том случае, если выбрать отдельные интервалы, но отсутствует подлинно музыкальный принцип. Все же характер каждого рода птиц определенно выражен в звуке пения. Одни только фигурные тона, ритмика, мелодика, как бы они ни были оформлены, не образуют музыкального единства. Они в действительности сходны с разбросанными звездными фигурами. Это есть своего рода игра с формой звука. Но как таковая она имеет высокую эстетическую прелесть. б. Безразличие, спокойствие, бессознательность Игра с чистой формой и радость от нее составляют в прекрасном природы уже метафизический момент, который также воспринимается как таковой. Потому что форма здесь существует не ради игры и игра не ради наслаждения, как это бывает в произведениях искусства. Это встречается больше всего в таком виде, как будто есть органическая целесообразность без цели. Даже тогда, когда человек думает о мировом творце как о великом художнике, он остается для него незнакомым, его нельзя представить. В этой связи его образ есть только антропоморфное выражение для метафизического в прекрасном в природе. Но это только начало. Метафизика прекрасного в картинах природы, которые, однако, существуют не для эстетического впечатления, не ограничивается этим. Она не имеет ничего общего ни с философской метафизикой прекрасного, которая так часто отбрасывалась, ни с идеалистической, а также с платоновско-шопенгауэровской (метафизикой идей), ни с теологической. Решающую роль здесь играет задний план, который подступает вплотную к феноменам и дан одновременно с эстетическим чувством и который является здесь мерилом. Так, прежде всего существует удивительное безразличие предметов природы по отношению к нам, людям, к нашим чувствам - и именно потому, что они суть эстетические предметы, следовательно, потому, что они вызывают в нас определенные чувства. В то время, когда, например, нас постигло горе и мучает тоска, вокруг нас расцветает, сияя, весна; в то время как нас потрясают исторические события и события личной жизни, над нами простирается звездное небо в своем всегда одинаковом великолепии. Мы воспринимаем эту противоположность временами почти как антагонизм. Потому что мы соотносим с собой красоту явлений природы, строго говоря, мы даже имеем на это право, потому что красота природы как таковая существует действительно только для нас, мы нарушаем это право только тогда, когда "бытие для нас" распространяем на формы и качества, "существующие для себя". И все же мы знаем непосредственно и об их невероятном безразличии по отношению к нам. Мы воспринимаем их как предел, поставленный нам, как чужое, часто - болезненно, но в то же время как величие большого спектакля, данного миром, в котором мы существуем. Это можно назвать автаркией природы, автаркией во всем, что она нам предлагает. Ведь то, что она предлагает нам, само по себе индифферентно, безразлично к тому, существует субъект, для которого оно становится эстетическим предметом, или нет. В то время как чувства человека отчасти проникают в это отношение, в то время как человек воспринимает это как возвышение над шаткостью человеческих судеб и чувств, вступает в свои права отношение проявления более высокого порядка, которое дает о себе знать в эстетическом созерцании как всеобщее чувство мира. Нечто крайне субъективное и нечто крайне объективное своеобразно перемешиваются в этом, не мешая друг другу; чувство природы и чувствование самого себя связываются здесь в единое целое, которое не ослабляет противоположность, а содержится в виде существенного предварительного условия; подобно тому как человек делает все своим достоянием, он очеловечивает также и безразличие природы, следовательно, до некоторой степени уничтожает ее враждебность человеку. Он воспринимает ее как некоего рода позицию, как позицию, направленную против него. Но в то же время эта позиция чужда ему по самой своей сущности. Ведь он, человек, не способен к такому безразличию. Таким образом, он воспринимает эту позицию природы, враждебную ему (то есть бесчеловечность, воспринимаемую через ее очеловечивание), как ее отчужденность и непроницаемость, как то, что он не может ощутить в ней. Это прямо противоположно мифическому ощущению древних, согласно которому природа - здесь наивно очеловеченная - во всех своих проявлениях "чего-то хочет ему" (хочет причинить): в буре, в грозе, в солнечном сиянии и в дожде, в источнике и в урожае; противоположно это и ранним миро92 воззренческим убеждениям о цели в природе, тому, что она показывает себя и скрывает себя. Мифический взгляд на природу, а впоследствии в течение долгого времени и теологический, далек от того, чтобы быть эстетическим, как часто ошибочно полагали. Ему недостает понимания возвышенного безразличия природы. Человек имеет намерения, человек скрывается или показывается; человек надевает маски и принимает позы, чтобы поражать из скрытого, человек лжет. Все это приписывали природе. Но все это как раз чуждо природе. Люди были бесконечно далеки от эстетического предмета природы, еще гораздо дальше, чем от теоретического11. Здесь мы не имеем в виду зрелый взгляд, то есть понимание того, что природа не лжет, не скрывается, не имеет никаких намерений, - предполагается только одно, что мы воспринимаем природу свободной от всего этого - и именно без рефлексии и в созерцании. Это тайна ее безразличия, которую мы непосредственно должны воспринимать, включая оба спорящих момента, которые содержатся в ней. Постоянно она должна вставать перед нами, безучастно и незаинтересованно. Об этом совсем не должен знать эстетически наблюдающий. Это было бы делом взгляда. Взгляд может также привести к эстетической картине, но она в этом ни в коем случае не нуждается. Тот, кто отдается созерцанию и испытывает наслаждение, обладает только неясным ощущением неизменности природы, может быть, боязливым предчувствием. Но в то же время оно является счастливым предчувствием - и именно благодаря сознанию, что природа безразлична по отношению к нему. Предметом эстетики в природе являются и такие ее моменты, как ненавязчивость, тишина, дающая покой, то, что природа дает человеку, когда он, со своей стороны, практически не имеет с ней никакого дела, то есть полный покой. В качестве такого момента выступает также и то, посредством чего природа становится осязаемо противоположной человеку, - отчужденность и расстояние. Человек болтлив, занят делом, навязчив, он может всегда иметь тяжелый характер. Язык, великое орудие общения и духа, является также и опасным инструментом сближения и навязчивости. Молчаливость природы составляет противоположность не только самому живому человеку, но также и красноречивости произведения человека, объективации духа. Молчаливость рассказывает о себе, о творчестве и о творящем, в ней содержится духовное благо, которое превозносит требование нового познания. Молчаливость природы обращается с требованием к живому духу. Предмет природы не предъявляет никаких требований к человеку, что относится и к его индифферентности, спокойствию и ненавязчивости. Однако это не является в действительности его духовным содержанием, познанным в нем, так как оно не вложено в него и не представлено в нем; в этом состоит коренное отличие предмета природы от произведения искусства. Зато он показывает человеку нечто другое - загадочное лицо, которое чувствует себя вынужденным расшифровать то, что ему однажды было созерцательно дано. Но эта загадка не является ему задачей для ума, она скорее представляет собой чудо для чувства, чудо, которое человек, обозревая и теряя себя при этом, воспринимает как важное, останавливается и наслаждается им как таковым. Рассмотренный выше момент тишины разделяется по степеням. Он проявляется уже в некоторых человеческих лицах, особенно молодых, то есть у людей, речь которых уже неадекватно выражает внутреннее. Этот момент усиливается в животном, которое не имеет возможности говорить, и совершенствуется в организме растений и в высшей степени совершенно проявляется в неорганических образованиях. Но даже в ландшафте момент тишины исполнен в совершенстве; шум леса и моря мы воспринимаем не как обращенную к нам речь, и то, что мы называем "красноречивым" в изображении ландшафта, является метафорическим выражением для подлинной фантазии, которую он пробудил. В остальном это - удивительная вещь, потому что человек в своем чувстве природы заменяет молчание красноречивостью. Вот стоит тысячелетний дуб в лесу, прошло много веков с тех пор, когда он был молодым; и вот сейчас стоит перед ним человек, в его воображении сменяются одни другими человеческие роды, толпящиеся вокруг дуба, возможно, они танцевали здесь и устраивали празднества. И человеку кажется, будто старый ствол "рассказал" ему всю эту историю, которая на самом деле является поэтической выдумкой. Ведь дерево совершенно молчаливо, оно ничего не рассказывает. В Нью-Йорке в метрополитен-музее есть огромный разрез дерева с двумя тысячами годовых колец. На нем указаны года и исторические события; в глубине, у одного еще совсем небольшого кольца, стоит Эта оценка мифического сознания противоречит обычному пониманию. Мифическое сознание всегда объясняли как близлежащее к эстетическому; воспринимали это сознание как родственное поэзии. Никто не будет отрицать влияния "поэзии" в этом. Но не вся поэзия есть понимание прекрасного в природе. Чувство поэзии проснулось исторически рано, но чувство прекрасного в природе, напротив,- чрезвычайно поздно. 93 11 надпись: "Рождение Христа". Снова возникает иллюзия, будто ствол может рассказать "историю", "пережитое". Но ствол ничего не "пережил", он ничего не рассказывает. Он удивительно нем. Теперь мы подошли к третьему моменту предмета природы. Это - бессознательность, в большинстве случаев даже бездушие, момент, который, с точки зрения человека, есть совершенно "другое", в которое человек никогда не может полностью проникнуть, потому что ему отказано в этом, - это простое, безобидное бытие в себе без бытия для себя. Разве не была какая-нибудь вещь уже в себе существующим эстетическим предметом, да и вообще только "предметом"? Общий закон бытия предмета (заключающийся в том, что существующее в себе еще не является предметом, оно становится таковым только "для" воспринимающего субъекта, который приносит с собой определенную установку) выступает в прекрасном в природе особенно выразительно, потому что картины природы удивительно безразличны по отношению к воспринимающему субъекту. Именно в силу того, что они молчаливы и заключены сами в себе, а не активны, они могут многое нам сказать - и не только о себе, но также и о нас и нашем отношении к ним, и не только об объективном в этом отношении, но также и о субъективном. То, о чем мы сказали, только кажется парадоксом. Во всем этом есть закон: именно там, где существование в себе лишено всякого смысла, смысл придается через противочлен, через третий член отношения явлений - через духовно созерцающего, воспринимающего и в наслаждении оценивающего субъекта12. В "бытии для нас" естественные картины получают свое завершение, которого не имеет простое бытие в себе. Природа в эстетическом смысле - этот высший смысл прекрасного - возникает только благодаря человеку, "для него", в силу его предметной радости от нее. Поэтому было бы неверно приписывать ей самой как области бытия все то, что только благодаря человеку входит в нее как ее "бытие для него": сознание, настроение, оттенок чувства, душевность. Основным условием для этого является именно совершенно "другое" ее сущности. в. Совершенство, уверенность, несвобода С момента возникновения эстетики понятие совершенство связывалось с понятием о красоте. Казалось бы, что завершенное в себе должно быть прекрасным уже в себе. Так думали античные мыслители, и еще так думал Лейбниц. Между тем это сравнение заходит слишком далеко. В таком случае каждое осуществление ценности другого рода - жизненной или этической - должно было бы уже иметь и эстетическую ценность. А это явно означает подмену областей ценности, как и родов удовлетворения в них. Все же нечто правдивое в отношении совершенства и красоты остается. Нужно только правильно истолковать это отношение. Во-первых, речь идет не о самом совершенстве, а о "чувственном явлении" совершенства; это значит, что речь идет не о понимании или понятии, также и не о любом явлении, а только о чувственном; следовательно, о подлинном отношении прозрачности, в котором передний план воспринимается, а задний план опосредован через передний. Но только не следует смешивать совершенство явления с явлением совершенства. Здесь речь идет только о последнем, с первым же мы имели дело в искусстве. Не нужно смотреть на совершенство по способу платоновской идеи, в котором слишком сильно подчеркнуто всеобщее. Существует другое подходящее для изображения каждого рода понятие совершенства; оно состоит в законченности и округленности изображения в себе самом, можно было бы также сказать - в своей автаркии. Если в основу положить это понятие, то реальный мир обнаружит хорошо известную последовательность ступеней, в которой человек как высшее существо стоит наверху, а неорганические образования занимают низшую ступень. Между ними располагается длинный ряд ступеней мира растений и животных. Об этом пространном ряде можно сказать - и именно под углом зрения эстетического рассмотрения - следующее: более высокая ступень бытия суть ступень убывающего совершенства. Это положение в большинстве случаев не признается и даже превращается в прямо противоположное. Уже саму высоту бытия считали совершенством: полагали, что. растение более совершенно, чем атом или кристалл, животное более совершенно, чем растение, человек - более, чем животное. Как раз наоборот. Человек в этом ряду является, конечно, высшим созданием, но не самым совершенным. Причина этого, выраженная в краткой форме, состоит в следующем: чем оптически проще образ, тем легче осуществляется в нем совершенство (законченность, округлость, автаркия); чем он сложнее, 12 В отношении этого третьего члена в отношении явлений см. выше, гл. 5. 94 тем тяжелее складываются для него все условия. Наиболее жестоко закон действует в неорганической природе, поэтому мы видим там самые низшие, но одновременно и самые совершенные образования. В органическом мире существует уже большая свобода движения, которую мы можем наблюдать при рассмотрении филогенетического развития; отсюда многочисленные отступления и тупики в истории поколений животного и растительного мира, соответствующие изменяющимся жизненным условиям. Но человек как индивидуум уже "свободен" в своих решениях, он - единственный, для кого законы рода не являются совершенно безусловными и не решают за него. Поэтому он больше всех прочих является опасным существом, так как он самое свободное, самое неопределенное и несовершенное существо. Сама свобода, его высший дар, составляет для него опасность. Применим это отношение в оптической лестнице образа к "явлению" совершенства. Мы тотчас же увидим, что совершенство в человеке не может проявиться так легко, по крайней мере, в нем не как специфически человеческом, следовательно, моральном существе, а взятом только как существо природы. Но дальше, в царстве низших слоев существующего, наоборот, совершенство увеличивается. Оно дает о себе знать в простоте все более строгих форм единства, в которых связаны вместе схваченное разнообразие и его моменты противоречия. В эстетическом созерцании форм природы мы, конечно, не знаем об этом отношении, но тем более мы чувствуем совершенство в явлении без всякой рефлексии, как прочный покой в себе, как связь, уверенность, непогрешимость и несвобода; и последнее действует особенно благоприятно, как раз в противоположность нашему собственному существу, которое лишено этой непогрешимости. Ведь наша свобода есть наша неуверенность, наше колебание, наши вечные ошибки, наше смущение. Человек очень хорошо непосредственно чувствует это, находясь по сю сторону всякого понимания: уверенность инстинкта животного, самосохранение в закономерностях его рода; еще больше это проявляется у растений, но не так убедительно, потому что они стоят от человека дальше. Еще более определенно мы видим это в неорганическом образовании, законченность которого человек чувствует, даже не зная ее. Напротив, на "процессы" природы этот взгляд больше не распространяется, ибо только "образы" действуют эстетически, а происшествия как таковые не действуют или же действуют лишь в связи с изображениями. Только изображения непосредственно чувственны для нас и даны в рассматриваемом единстве. Из них одних возникает перед нами, даже если они были даны только частично, непосредственно гармония целого. За последним стоит то, что учит нас видеть наука: особая форма содержания картины, принцип ее строения, зависимость сил и функций друг от друга. Не субсистенция господствует в стабильности большинства форм природы, а богатая тайнами консистенция, которая существует в обмене сил или частей и образует собственные формы регуляции. Нечто подобное чувствует и эстетический наблюдатель, не зная, что это такое. Но это трогает его как что-то удивительное, которым оно и является. Эстетика романтиков признавала веру во внутренний мир природы, который проявляется в ее внешнем виде. Романтики надеялись распознать в этом внутреннем подлинную сущность человека. Вспомните о завуалированной картине и об "Учениках в Саисе" 13; все это, конечно, поэзия, но это та поэзия антропоморфической метафизики природы, на ошибки которой уже было указано выше: она не признает даже действительно существующее отношение явлений в эстетическом чувстве природы. Конечно, мы не можем отказываться от метафизических картин в эстетическом созерцании природы. Но действительно совершающееся созерцание идет совсем другим путем. Оно скромнее, но в то же время внутренне богаче, чем поэтическая фантазия, которая в действительности есть только последующая игра мысли. Феномен показывает как раз противоположное: непоколебимое чувство полнейшего своеобразия природы, ее чужеродность и ее недоступное для человека совершенство. Ведь именно это достойно внимания: там, где в мире "является" совершенство как уверенное в себе бытие образа в его внешней форме и делается доступным чувствам, где оно становится видимо, воспринимаемо чувственно, там это ее явление воспринимается как красота независимо от близости или удаленности от человека. Но метафизическая потребность, конечно, неудержима и продолжает вопрошать: что же тут, в сущности, воспринимается как красивое? На это имеется один онтологически простой ответ, который достаточно однозначен, хотя вряд ли может удовлетворить метафизическое любопытство: как красивое воспринимается все, чувственный внешний вид чего представляется наглядно наблюдателю как простая внешность внутреннего. В такой картине мы воспринимаем созданное природой совершен13 Стихотворение Ф. Шиллера. - Прим. ред. 95 ство. Решающим является то, что для этого не нужно понимать оптическое отношение. Можно без рефлексии прямо из видимого чувствовать, подобно тому как это происходит у организма, внутренний смысл формы. Это было понято с помощью старого учения об идее как форме совершенства в каждом живущем роде. Только ошибочно предполагали, что эта "внутренняя форма" одинакова с внешней. В силу этого их непосредственного смыкания загадка не была решена. г. Продукт природы и продукт искусства Можно легко увидеть, что здесь по всей линии сохраняется выше развитое отношение слоев эстетического предмета. Это чувственно данный передний план, который вещественно реален, и выступающий задний план. Конечно, последний в предмете природы также реален, по крайней мере когда под ним понимают определяющее "внутреннее" образа, которому внешняя форма дает выражение. К этому можно добавить следующее: такое реально внутреннее является как раз не тем, чем оно есть, - не закономерностью, консистенцией или приспособлением, - а в большинстве случаев чем-то совсем другим, например формой идеального, целесообразностью, таинственным смыслом, интеллектуальным. И поэтому следовало бы лучше сказать: являющийся задний план совсем не реален, он есть только явление. Поэтому здесь надо формулировать осторожнее - формулы в таких случаях могут быть просто неудачными; смутное сознание незнания подлинной сущности заднего плана, несмотря на его проявление в известном образе, как раз существенно для источника эстетического впечатления. Хотя мы и чувствуем, что задний план в предмете имеет реальность, но он мелькает между полнейшей неопределенностью и кажущейся определенностью, хотя мы все же чувствуем в нем очень определенный реальный род. И именно это принадлежит к своеобразной прелести прекрасного в природе. Это есть прелесть скрытого, которая не отпускает нас и которая заставляет нас успокоиться, потому что она не ставит никаких задач для эстетического созерцания. В этом пункте продукт природы и продукт искусства далеко отходят друг от друга. В другом отношении они снова приближаются друг к другу. Для искусства характерно то, что в созерцании предмета созерцающий субъект исчезает для самого себя. Он чувствует себя еще в наслаждении, но одновременно, именно в наслаждении, чувствует себя отданным произведению искусства и как бы потерянным. Точнее, это так: субъект должен оставаться противостоящим произведению искусства, он должен выдерживать дистанцию по отношению к нему; в растворении с ним наслаждение не было бы больше эстетическим, приближаясь к самонаслаждению. Но в противопоставлении можно забыть самого себя и в этом смысле исчезнуть для себя самого. Спрашивается, так ли обстоит дело и в созерцании эстетического предмета природы. Некоторые считали, что это не так, ибо предмет природы не имеет той же силы, чтобы настроить наблюдателя эстетически и отвлечь его от себя, сконцентрировать его внимание на чистой игре формы и на отношении явлений. Верно ли это? Верно только то, что здесь нет художника, проводящего свой взгляд; предмет природы не способен к эстетическому действию. Верно далее и то, что существуют предметы природы, которые гораздо сильнее, чем произведения искусства, ведут к самонаслаждению, значит, к наслаждению собственными чувствами, что постоянно противодействует эстетическому созерцанию. К этим предметам принадлежит в первую очередь ландшафт и все, что ему родственно, особенно когда наслаждаются им. Здесь тоже не требуется отсутствие, исчезновение "я", но удовольствие слишком легко стремится вперед, к чисто жизненному. Выше шла речь о том, что здесь нельзя провести резкую границу. Но разве в данном случае речь идет о резкой границе? Это неточно отделимое также сохраняет своеобразие. Как только выступает картинное видение, совершается перестановка и созерцание приближается к живописному, то есть к художественному. Созерцающий субъект ускользает от сознания, подвергается тому же самому самозабвению, как и в присутствии произведения искусства, - и именно по причине той же самой потери самого себя в созерцаемом. Субъект одновременно побеждается созерцаемым и гасится им. Отличие от художественного видения уменьшается и может в конце концов совсем исчезнуть. Метафизика прекрасного в природе хотя и есть дело рефлексии, но все же не просто запоздалая рефлексия о вещи. Кант полностью включал рефлексию в эстетическое созерцание ("рефлектирующая сила суждения"). Это может быть понято слишком широко; но и полное исключение участия осмысливания из созерцания заходит также очень далеко. В действи96 тельности граница должна быть расплывчатой также и здесь. Созерцание не только вызывает рефлексию, оно довольно часто содержит ее в себе, так как рефлексия принадлежит к эстетическому феномену природы. Особенная параллель природы и искусства поражает философию с давних пор. Произведения как той, так и другой содержат в себе удивительно много прекрасных предметов. И хотя их красота является таковой только для адекватно созерцающего духа человека, все же в них самих должно быть нечто такое, что представляется этому духу аналогичным образом. Такова проблема, которая заставила Канта подчинить эстетическую и телеологическую силу суждения не только единому употреблению, но также одному и тому же регулятивному принципу, - возможно, это понимается слишком узко, но, по существу, метафизическая проблематика, которая лежит в основе, рассмотрена здесь правильно. Для этого мы показали здесь очень многое, о чем можно было узнать из феноменов и что стоит позади отношения проявления в эстетическом предмете природы: внутренняя определенность, консистенция, динамика и органика строения с ее закономерностями и отношениями форм. В древние времена предполагали, что бог как создатель непременно стоит за образами природы, и тогда отношение выглядело следующим образом: искусство есть то, в чем человек похож на бога. Ибо здесь он тоже становится творцом - пусть, по существу, только подражателем - и в действительности является божеством в миниатюре. Сегодня можно было бы рассуждать наоборот, исходя из эстетического творчества человека, как из единственно достоверного; не художественно эстетический предмет есть то, в чем бессознательная природа сходна с изобретательно творящим человеческим духом. В этой форме ярче проявляется парадокс. Ведь удивительным является возникновение изображений, в которых для созерцающего человека прозрачно выступает отношение явлений, о чем совершенно не заботятся при создании этих изображений. 97