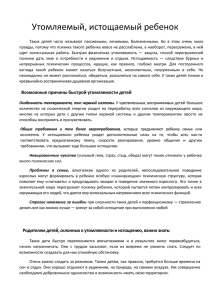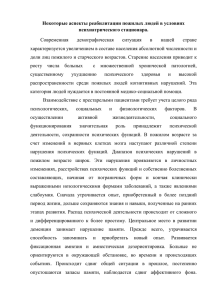ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - проявления психики
advertisement

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») На правах рукописи КУПРИЕВА Ирина Анатольевна МЕХАНИЗМЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ МЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР ЛЕКСЕМАМИ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ Специальность 10.02.04 – германские языки ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора филологических наук Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Прохорова Ольга Николаевна Белгород – 2014 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..5 Глава 1. Общенаучные и лингвистические основания исследования феномена психических процессов…………………………………………………………….20 1.1 Разработка содержания категории психических процессов в философскопсихологической парадигме и физиологии нервной деятельности…………….20 1.2 Сущность психических процессов: экстралингвистическая справка………27 1.2.1 Познавательные психические процессы………………………………...30 1.2.2 Волевые и эмоциональные психические процессы…………………….43 1.2.3 Дистинктивные особенности психических процессов…………………47 1.3 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в лингвистике.............................................................................................................49 1.3.1 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в синхронии…………………………………………………………………………49 1.3.2 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в диахронии………………………………………………………………………..….65 1.3.3 Инструментальная роль психических процессов в исследовании проблем вербализации действительности………………………………………...72 1.4 Специфика деятельностного (процессуального) подхода как способа осмысления речемыслительных процессов…………………………..………......76 1.5 Сущность лексического значения в теории деятельности (процессуальной теории)………………………………………………...…………………………….82 1.6 Дискурс как пространство актуализации ментальных структур……………87 1.7 Ментальные структуры психических процессов……………………………..93 1.8 Терминосистема синергетики и специфика функционирования эволюционирующих систем……………………………………………………...100 Выводы по Главе 1….………………………………………………………….....109 2 Глава 2. Основы процессуально-синергетического подхода к описанию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов…...115 2.1 Организация ментальных структур психических процессов………………117 2.1.1 Гештальт психических процессов……………………………………...120 2.1.2 Синкретизм и дискретность гештальта………………………………...138 2.1.3 Фреймы психических процессов……………………………………….153 2.1.2.1 Обязательные элементы фреймов……………………………..157 2.1.2.2 Факультативные элементы фреймов …...……………………..166 2.2 Особенности функционирования лексико-семантической системы репрезентантов гештальта…………………………………………………….….171 2.2.1 Относительная стабильность лексико-семантической системы репрезентантов гештальта ……………………………………………………….170 2.2.2 Прототипический лексический каркас системы………………………173 2.2.3 Ядерно-периферийная организация лексики…………………………..183 2.2.4 Обоснование функционального устройства лексико-семантической системы вербализаторов гештальта как синергетической системы……………………………………………..……………………………...198 2.3 Дискурс как среда функционирования синергетических систем гештальтов…………………………………………………………………………206 Выводы по Главе 2.…………………………………………………………….....209 Глава 3. Системная обусловленность механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном англоязычном дискурсе…..214 3.1 Процессуальная обусловленность системного значения…………………..216 3.1.1 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов гештальт-сферы «Перцепция»……………………………………………………216 3.1.2 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов гештальт-сферы «Интеллект» …………………………………………………...224 3.1.3 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов гештальт-сферы «Эмоция-Воля»…...……………………………………………231 3 3.2 Процессуальная обусловленность семантической модификации вербализаторов гештальта в пределах их системного значения ………………234 3.2.1 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Перцепция» и «Эмоция-Воля», «Перцепция» и «Интеллект»………………..234 3.2.2 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Интеллект» и «Эмоция-Воля», «Интеллект» и «Перцепция»………………...250 3.2.3 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Эмоция-Воля» и «Интеллект», «Эмоция-Воля» и «Перцепция»…………….259 3.2.4 Модификация семантики, обусловленная наложением пересечением поля «Внимание» и полей гештальт-сфер «Перцепция», «Интеллект» и «Эмоция-Воля»……………………………………………………………………268 3.4 Экстрасистемная модификация значения…………………………………...282 3.5 Дистрибутивный и синтагматический потенциал вербализаторов ментальных структур психических процессов………………………………….289 Выводы по Главе 3………………………………………………………………..317 Заключение………………………………………………………………………...322 Список используемой литературы……………………………………………….329 Список словарей и энциклопедий………………………………………………..363 Спискок источников фактического материала………………………………….365 Список условных сокращений…………………………………………………...368 4 ВВЕДЕНИЕ Значение психических процессов в жизнедеятельности социума трудно переоценить, поскольку психика в единстве всех своих составляющих обеспечивает функционирование человека как существа особого порядка, наделенного специфическими свойствами высшей нервной деятельности. Психические процессы при этом обеспечивают адекватную работу сознания, отражают окружающий мир, преломляют его и хранят в опосредованном виде в ментальных структурах различных уровней. Трансляция переработанного сознанием опыта осуществляется посредством языкового материала, тем самым система взаимосвязи языка и мышления функционирует в редуцированном виде. Учитывая эту взаимосвязь, современная наука обращается к анализу языковых фактов с целью описать, какие именно элементы ментальных структур передаются посредством лексем. Исследование психических процессов с точки зрения их функционирования в качестве когнитивного инструмента и в качестве данных об этих же процессах, в преломленном виде хранящихся в человеческом сознании, ведет к изучению феномена «вещь в себе», основанному на принципах формирования сведений о психических процессах в виде структур знаний о предыдущей жизнедеятельности социума. При этом лингвистический опыт в области изучения лексики психических процессов явно указывает на неразработанность инструментария исследования такого феномена в виде системного описания взаимосвязи и слаженного функционирования психических процессов с учетом их дифференцирующих характеристик. Для решения такой проблемы необходимо применение методологии последних десятилетий, учитывающей передовые постулаты современной науки, ее положительный опыт и позволяющей прогнозировать дальнейшее развитие семантики лексических средств вербализации психических процессов. Необходимость разработки такого подхода позволяет определить актуальность настоящего исследования. Последняя обусловлена 5 необходимостью описания комплексного характера и специфики психических процессов как экстралингвистического рефлектирующего в языке весь спектр референта номинации, особенностей слаженного функционирования и взаимосвязи заявленных феноменов, в том числе особенностей отражения в сознании человека широкого диапазона качественных и параметрических характеристик психических процессов, а также специфики влияния антропоцентрического и темпорального факторов на их вербализацию, модификацию и трансформацию значения как окказиональную, так и системную. Не менее актуальным представляется выявление особенностей отражения экстралингвистического феномена психических процессов сквозь призму изучения ментальных репрезентаций как результата слаженной работы данных процессов. Иными словами, своевременной выступает разработка подхода «вещь в себе», согласно которому предполагается, что мышление субъекта автономно обрабатывает абстрактные символы, которые впоследствии приобретают значимость посредством соотнесения с референтом номинации. В данном случае на первый план выходит междисциплинарный подход, который как раз и позволяет выявить специфические свойства референта номинации и вскрыть особенности его отражения в семантике языкового знака, как попытка снятия многих спорных вопросов теории номинации, референции и ономасиологии. Кроме того, актуальность исследования базируется на постоянном интересе ученых к лабильной семантике языкового знака, способности передавать смысл и модифицировать значение в угоду коммуникативной ситуации. Такое функциональное значение вызывает множество затруднений при тематической классификации лексики, определении ее категориального статуса. Не менее актуальным представляется также обращение к синергетической научной парадигме как инновационному направлению в 6 лингвистических учениях, позволяющему описывать специфику функционирования и самоорганизации систем, одной из которых является ментальная структура психических процессов. Цель настоящего исследования заключается в поиске и описании оснований формирования ментальных структур психических процессов, их динамики, а также выявлении механизмов их языкового кодирования в англоязычном дискурсе с учетом влияния антропоцентрического фактора. Поставленная цель диктует решение ряда конкретных взаимосвязанных задач: - выявить экстралингвистические основания исследования психических процессов с учетом передовых достижений современной научной парадигмы, определить приоритетные неязыковые основы комплексного и системного исследования психических процессов; - систематизировать труды предшественников в области вербализации психических процессов в синхронии и диахронии, указать их положительные результаты, определить перспективы дальнейшего исследования; - специфицировать инструментальную роль психических процессов посредством совокупности соотнесения динамической процессов сознания, характеристики психики обеспечивающих как отражение действительности с базовыми сферами искомой ментальной структуры (перцептивной, интеллектуальной, аффективной), охарактеризовать особенности гештальта в аспекте его функционирования; - определить потенциальные процессуальные антропоцентрические факторы модификации семантики; - описать дискурсивную среду с точки зрения актуализации в ней ментальных структур различного уровня, выявить предпосылки модификации значения в дискурсе, установить и коммуникативного акта; 7 представить роли участников - определить релевантный синергетический инструментарий и особенности функционирования эволюционирующих систем; - осуществить системное когнитивно-семантическое описание ментальных структур психических процессов, указать на их взаимосвязь с точки зрения речевой реализации; - дать обоснование функционального устройства лексико-семантической системы репрезентантов гештальта в англоязычном дискурсе как синергетической системы; - определить процессуальные факторы нарушения стабильности лексикосемантической синергетической системы вербализаторов гештальта в англоязычной коммуникации; - обосновать процессуально-синергетический подход к исследованию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном англоязычном дискурсе; - выявить семантической параметры относительной синергетической системы устойчивости репрезентантов лексикогештальта психических процессов; - рассмотреть процессуальную обусловленность интрасистемных и экстрасистемных семантических модификаций вербализаторов ментальной структуры психических процессов; - выявить дистрибутивный потенциал и синтагматические свойства вербализаторов психических процессов. Объектом настоящего диссертационного исследования выступают лексические единицы абстрактной семантики, номинирующие психические процессы на системном и/или функциональном уровне в современном английском дискурсе. Предметом развертывания диссертационного носящих исследования универсальный характер являются ментальных механизмы структур психических процессов как концептуальных аттракторов всех языковых 8 средств, отражающих видо-параметрические особенности опыта как языкового сообщества в целом, так и каждого конкретного индивида в частности, репрезентирующих номинативную сторону описания психических процессов. Выбор используемых в диссертации методов и приемов научного исследования обусловлен сложностью и спецификой объекта описания, характером поставленных задач и особенностями сформулированной цели. Системный характер настоящего междисциплинарного лингвокогнитивного исследования предопределяет учет передовых постулатов структурно- семантического, когнитивного, синергетического и процессуального подходов к описанию лексических средств, вербализующих психические процессы в современном английском дискурсе. При этом базовой методологической составляющей работы выступает описательный гипотетико-дедуктивный метод, используемый в сочетании с целым спектром частных методик лингвистического анализа. Методы концептуального анализа, фреймовой семантики и лингвокогнитивного моделирования, реализующиеся в выявлении концептуальных оснований формирования ментальных структур и их условном представлении, дополняются методами тезаурусного описания, лексикографического анализа, контекстуального анализа, методом анализа по непосредственным составляющим при описании лексических единиц, вербализующих ментальные структуры психических процессов. Установление особенностей модификации значения рассматриваемых вербализаторов осуществляется с применением метода семантической интерпретации и элементов методик валентностного, дистрибутивного и этимологического анализа языкового материала. Рассмотрение ментальной структуры в качестве лексико-семантической синергетической системы вербализаторов ведется с учетом инструментария синергетической научной парадигмы в комплексе с постулатами деятельностного (процессуального) подхода к анализу языковых явлений. 9 Материалом исследования послужил исследовательский корпус вербализаторов психических процессов (объемом 15000 единиц), отобранных в результате сплошной выборки из аутентичных источников материала, таких как Интернет-ресурсы и лексикографические источники, включая «Cambridge Dictionaries Online», «Collins Dictionary», «Dictionary.com», «Free Online Collocations Dictionary», «Macmillan Dictionary», «Merriam-Webster Online Dictionary», «Oxford Dictionaries: Language matters», «Online Etymology Dictionary», «The Free Dictionary», «The Longman Dictionary of Contemporary English». Функциональный аспект настоящего диссертационного исследования представлен фрагментами текстов художественного и научного характера (объем – около 4500 фрагментов). Примеры фактического материала также отобраны из современных англоязычных произведений различных жанров. Теоретической послужили базой положения, настоящего диссертационного разрабатываемые в исследования следующих отраслях экстралингвистического и лингвистического знания: • в области философии, психологии, физиологии психических процессов, представленных работами Л.М. Веккера, Ю.Б. Гиппенрейтер, У. Джеймса, Н.Ф. Добрынина, Д. Дьюи, И.П. Павлова, С.Л. Рубинштейна, И.М. Сеченова, J.R. Anderson, J. Müller, R.C. Schank; • в психологической теории деятельности, процессуальной теории, разрабатываемой в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Г.П. Щедровицкого, в функционально-деятельностном подходе И.В. Чекулая; • в психолингвистике и теории искусственного интеллекта, разрабатываемой в трудах А.А. Залевской, А.Р. Лурии, Н.Ф. Рафиковой, Л.В. Сахарного, L.W. Barsalou, B. von Eckardt, J. Thomas; • в теории дикурса, представленной работами В.В. Богданова, А.И. Варшавской, Е.С. Кубряковой, В.И. Карасика, М.Л Макарова, В.Б. Кашкина, О.А. Радченко, T. A. van Dijk, G.N. Leech, D. Schiffrin, G. Yule; 10 А.А. Кибрика, П. Серио, W. Chafe, • в синергетической и лингвосинергетической научной парадигме, представленной работами Н.Ф. Алефиренко, А.И. Герман, Г.Г. Молчановой, В.А. Пищальниковой, Е.В. Пономаренко, И. Пригожина, Р. Тома, Г. Хакена, В.М. Шендяпина, И.И. Шмальгаузена; • в теории семантики лексических единиц и категориального статуса предикатов психических J.R. Anderson, Ю.Д. процессов, Апресяна, нашедших Н.Д. отражение Арутюновой, в работах С.Д. Канельсона, И.М. Кобозевой, Е.В. Падучевой, Ю.Г. Панкраца, А.Д. Шмелевой, G.H. Bower, D. Geeraerts, J. Hoepelman, A.L Oppentocht,. P.N. Johnson-Laird; • в когнитивной исследованиях научной парадигме, О.В. Александровой, получающей развитие в Е.Г. Беляевской, Н.Н. Болдырева, Т.В. Булыгиной, А. Вежбицкой, О.Д. Вишняковой, С.Г. Воркачева, В.З. Демьянкова, В.И. Заботкиной, О.К. Ирисхановой, Е.С. Кубряковой, М. Минского, З.Д. Поповой, О.Н. Прохоровой, Е.В. Рахилиной, И.А. Стернина, В.И. Шаховского, W.A. Cook, W. Croft, V. Evans, W.V.O. Quine, G. Lakoff . Научная новизна диссертации состоит в разработке комплексного процессуально-синергетического подхода к описанию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном англоязычном дискурсе. В отличие от большинства предпринятых ранее попыток установить корреляцию между психическими процессами и семантикой языковых единиц, а также соотнесения каждого в отдельности психического процесса с ментальными структурами, авторский подход, разрабатываемый в настоящем исследовании, направлен на рассмотрение целого комплекса всех психических процессов и их вербализации. В настоящей работе дается обоснование зависимости семантических модификаций и динамической организации синергетической системы гештальта психических процессов, приводятся обоснования ее эволюции, перехода фактора окказиональности в фактор системности. Также впервые предпринимается попытка трактовать гештальт психических процессов и как 11 инструментарий познания, и как функциональную основу, обеспечивающую получение сведений о самих психических процессах и их категоризации. Предпринимаемая в настоящем исследовании попытка подойти к анализу синергетической системы с позиций антропоцентрического процессуального фактора, обусловливающего состояние ее относительной стабильности или хаоса, позволяет аргументировать и описать лабильность лексического пласта вербализаторов психических процессов. Инновационными представляются также положения работы, в которых структура гештальта соотнеcена с психолигвистической структурой искусственного интеллекта и определена каркасная базисная составляющая рассматриваемой ментальной структуры, ее вариативная часть, которая обусловливает последующие трансформации значения. Кроме того, в исследовании описывается траектория развертывания и механизм вербализации гештальта от момента восприятия опорной единицы в дискурсе до ее субъективной интерпретации. Научная новизна диссертации также обусловлена тем, что в ней впервые вводятся понятия, описывающие основные методологические, процедурные и структурные аспекты вербализации ментальных структур психических процессов, а именно: «процессуально-синергетический подход к исследованию вербализации ментальных структур психических процессов», «лексикосемантическая синергетическая система вербализаторов/репрезентантов гештальта», «уровень высокой степени абстракции», «уровень ментальности конкретного коммуниканта», «фреймовая аллотропия», «адгезия компонентов», «торможение», «фактор окказиональности», «фактор системности». В работе находят свое дальнейшее развитие такие теоретические проблемы междисциплинарной когнитивной парадигмы как соотношение лингвистического и экстралингвистического в языковом знаке, семантическая лабильность лексического пласта, антропоцентрический (процессуальный/деятельностный) фактор модификации значения. 12 Гипотеза диссертационного исследования заключается в следующем: сведения об экстралингвистической ситуации психических процессов хранятся, перерабатываются и транслируются в сознании индивида благодаря ментальной структуре – гештальту, который представляет собой многомерное образование концептуального уровня с включенными в него аллотропами, с одной стороны, и открытую, нелинейную, диссипативную, синергетическую систему, с другой. Такая ментальная модель служит условным абсолютом для объединения лексики антропоцентрического психических процессов, (процессуального) и которая темпорального с учетом факторов претерпевает системные и окказиональные изменения, соотносясь при этом с указанной синергетической системой. Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие положения: 1. Тематическое единство лексических единиц, вербализующих психические процессы в английском языке (например, listen, hear, see, think, imagine, surprise, will, speak, heed etc.), обусловлено особым когнитивным статусом референта перерабатываются и номинации. передаются Знания посредством о последнем хранятся, вербализации гештальта психических процессов. Способность психических процессов отражаться на языковом уровне посредством вербализации гештальта психических процессов обусловлена экстралингвистическими факторами взаимосвязи психических процессов (рефлекторный механизм, единая теория психических процессов), что объясняет способность языковых единиц английского языка участвовать в номинации нескольких психических процессов одновременно, а последнее естественным образом отражается в их семантике и существенно затрудняет классификацию. 2. Гештальт психических процессов представляет собой многомерное образование иерархического строения с включенными в него сферами, областями и полями, структурированными во фрейм и соответствующие 13 аллотропные модификации, с одной стороны, и лексико-семантическую систему вербализаторов психических процессов английского языка, зеркально отражающую устройство ментальной структуры, с другой. Обе стороны такого билатерального образования тесно взаимосвязаны, коррелируют друг с другом и обеспечивают гармоничные условия для параллельного развития. 3. Решение проблемы системного подхода к ментальному комплексу «гештальт психических процессов», вербализуемому лексическими единицами в современном англоязычном дискурсе, детерминировано разноуровневым характером последнего, обусловленного наличием уровня высокой степени абстракции и ментального уровня конкретного коммуниканта. Уровень высокой степени абстракции представляет собой инвариантный ментальный каркас, содержащий ментальности неизменяемые конкретного дистинктивные коммуниканта признаки. предполагает Уровень наличие факультативных вариативных составляющих, обеспечивающих постоянный приток информации из внешней (по отношению к системе) среде. Благодаря инвариантному каркасу гештальт психических процессов синкретичен, а благодаря дифференцирующим признакам гештальт рассматривается как дискретное образование. 4. Прототипическая структура гештальта психических процессов, вербализуемого лексическими средствами английского языка, предопределена иерархией входящих в нее элементов высокой степени абстракции (гештальтобласти, гештльт-сферы, поля, структурированные в аллотропные модификации фреймов в составе обязательных компонентов) и ментального уровня конкретного коммуниканта (факультативные компоненты аллотропов). 5. В языковой проекции гештальт является лексико-семантической системой, обеспечивающей тематическое единство репрезентантов и их дифференциацию в англоязычной коммуникации одновременно. Организация такой лексико-семантической системы репрезентантов тождественна организации ментальной структуры: все репрезентанты психических процессов 14 английского языка коррелируют с системой на основании способности актуализировать ее дистинктивные признаки – гештальт-классификаторы – и ранжируются в зависимости от полноты описания психических процессов. Выделяются прототипические лексемы (sense, perceive, concept, heed, imagine, think, speak, experience), репрезентанты ядра (notice, taste, hear, smell, listen, touch etc) и периферии (burn, dig into sth, drill, fight, follow, haunt, move, not to leave, pin, roll over, scorch, search, sink, sweep etc). Прототипические и ядерные репрезентанты коррелируют с высоким уровнем абстракции, а периферийные – с ментальным уровнем конкретного коммуниканта. 6. Жизнеспособность динамичной структуры гештальта реализуется в дискурсе, когда интерпретатор воспринимает опорные лексемы (согласно вербоцентристской теории – предикаты), ассоциирует их с соответствующим гештальтом, далее – сферой и полем гештальта. Последнее структурируется в виде соответствующего аллотропа на уровне высокой степени абстракции. На ментальном уровне конкретного коммуниканта значение приобретает траекторию развития в зависимости от увеличения/уменьшения компонентов пропозициональной структуры аллотропа. Понимание между коммуникантами в современном англоязычном дискурсе базируется на инвариантном уровне высокой степени абстракции. 7. Открытость, диссипативность и динамичный характер лексикосемантической системы вербализаторов гештальта преимущественно позволяет ей ассоциироваться с синергетической системой, которая при определенных условиях деятельности коммуникантов (прежде всего, речевой) реагирует на внешние и внутренние факторы, приходит в состояние хаоса и совершает флуктуации, стремясь к аттрактору. Флуктуациями в данном случае выступают внутрисистемные колебания, которые, в конечном счете, приводят к эволюционному витку и новому состоянию относительного равновесия. Аттракторами служат прототипические лексемы английского языка каждого 15 поля, определяемые на основании способности наиболее полно и в общем виде вербализовывать тот или иной аллотроп в англоязычном дискурсе. 8. Состояние относительной стабильности синергетической системы вербализаторов гештальта на определенном эволюционном витке поддерживается на уровне высокой степени абстракции. В плоскости устройства ментальной структуры такое состояние достигается посредством сбалансированного прототипического строения гештальта. На уровне языковой репрезентации средствами современного английского языка относительная стабильность есть состояние, когда ядерные репрезентанты стремятся к аттрактору (одному из прототипов – sense, perceive, concept, heed, imagine, think, speak, experience) своего поля. Стремление ядерных репрезентантов к аттракторам других полей выводит систему из равновесия и обусловливает внутрисистемные модификации значения. Особенные изменения происходят на уровне семантики периферийных вербализаторов, когда система приращивает семантические сведения извне, что обусловливает трансформации на уровне факультативных компонентов аллотропов. Эти принципы детерминируют модификации семантики лексических номинаций английского языка, получающих реализацию в англоязычной коммуникации. 9. Изменения семантики лексических средств английского языка (вербализаторов гештальта) внутри синергетической системы и за ее пределами осуществляется в дискурсе под влиянием антропоцентрических процессуальных факторов (цели, условия, операции), которые в русле процессуально-синергетического подхода представляют собой комбинацию коммуникативной задачи (цель), хронотопичности (или понятия «здесь и сейчас» (условия)) и поиска средств решения коммуникативной задачи (операции). Выбор лексических средств из тезауруса вербализаторов психических процессов современного английского языка (burn, dig into sth, drill, fight, follow, haunt, move, not to leave, pin, roll over, scorch, search, sink, sweep, notice, taste, hear, smell, listen, touch etc) детерминорован конструктором 16 дискурса, модификация их семантики осуществляются на ментальном уровне вариативных компонентов. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в выработке принципиально нового процессуально-синергетического подхода к исследованию феномена категоризации психических процессов, что детерминирует особенности речевой актуализации психических процессов. В исследовании разработана концепция изучения психических процессов как феномена «вещь в себе». Процессуально-синергетический подход также актуален при рассмотрении вербализации других универсалий в современном английском дискурсе. Выработанные теоретические принципы могут быть экстраполированы на изучение структурно-семантических и функциональных особенностей других языков. Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее результатов в преподавании теоретических курсов «Лексическая семантика», «Когнитивные основания изучения языка», «Интерпретация художественного текста». Концепция принципов процессуально-синергетического подхода к исследованию семантики вербализаторов ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе может послужить теоретической базой для написания монографических исследований, а также для подготовки выпускных квалификационных и диссертационных работ обучающимися. Используемый в диссертации анализ фактического материала может найти применение в лексикографической практике и преподавании английского языка, преимущественно в аспекте аналитического чтения. Результаты исследования прошли апробацию в публикациях в российских и зарубежных изданиях, в том числе публикациях в журналах, рекомендованных ВАК, индексируемых базой данных РИНЦ, одной авторской и четырех коллективных монографиях, электронных базах данных. Кроме того, результаты проведенного исследования озвучивались на научно-теоретических и научно-практических межвузовских, всероссийских и международных 17 конференциях, конгрессах и симпозиумах в 2008-2013 гг.: межвузовских конференциях «Коммунікативно-когнітивный пiдхiд до викладання фiлологiчних I психолого-педагогiчних дисциплiн» (Украина, Евпатория, 2011, 2013); VI межвузовской межкультурная научно-практической коммуникация» (Россия, конференции Санкт-Петербург, «Язык и 2009); всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Язык. Коммуникация. Культура» (Россия, Курск, 2008); Всеукраинской научно-практической конференции «Коммунікативно-когнітивный психолого-педагогiчних Всеукраинской контекстi пiдхiд до дисциплiн» научно-практической сучасних с наукових международным викладання участием фiлологiчних (Украина, Евпатория, конференции «Англiйська парадигм» (Украина, Херсон, та 2012); мова в 2011); I Международной научной конференции «Фразеология и когнитивистика» (Россия, Белгород, 2008); VI Международной конференции «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах» (Россия, «Межкультурная Челябинск, коммуникация, 2008); VIII современные Степановских методы чтениях преподавания иностранных языков (на материале романо-германских и восточных языков)» (Россия, Москва, 2011); «Русистика и XIII Международной научной конференции современность» (Латвия, Рига, 2011); Международной конференции «XXI Оломоуцкие дни русистов» (Чехия, Оломоуц, 2011); I Международной конференции «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века» (Польша, Краков, 2011); Международной фразеологической конференции «EUROPHRAS» (Россия, Казань, 2013); III Международной научной конференции «Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» (Россия, Белгород, 2013); IX Международной научно-практической конференции «Moderní vymoženosti vêdy – 2013» (Чехия, Прага, 2013); II Международной научно-практической конференции «Science, Technology and Higher Education» (Канада, Вествуд, 18 2013); Международном конгрессе по когнитивной лингвистике (Россия, Тамбов, 2008) и Симпозиуме «Context of Language: How to Analyse Context?» (Финляндия, Хельсинки, 2010). Объем и структура диссертации. Диссертация, общим объемом 370 страниц, состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка используемой литературы, Списка словарей и энциклопедий, фактического материала, Списка условных сокращений. 19 Списка источников Глава 1. Общенаучные и лингвистические основания исследования феномена психических процессов 1.1 Разработка содержания категории психических процессов в философскопсихологической парадигме и физиологии нервной деятельности Первые наиболее серьезные исследования психики (души, в терминологии античности) в философско-психологической парадигме связаны с именами Сократа, Платона и Аристотеля. Мыслители описывают мироздание безотрывно от человеческого естества и души. Человек наделяется особыми свойствами и подчиняется исключительно законам разума, который хранит абсолютные знания, которые в качестве субстрата передаются в речи (Сократ (469-399 гг. до н.э.) цит. по Марцинковская, 2004; Ярошевский, 1996). Психика ассоциируется с универсальной мировой душой, несовершенные образы которой воплощаются в индивидуальных душах. Четко разграничиваются телесное и духовное начало, отмечается отражательная функция души в результате созерцания мира (Развитие психологических знаний…, 2013), выдвигается положение о ее отождествлении с идеальной сущностью (Платон (427–347 гг. до н. э.) цит. по Общая психология, 2005). Душа (или психика человека) рассматриваются как неотделимая от тела сущность, живущая и функционирующая вместе с ним, заключенная в разуме и воле (Аристотель, 1976). Логические доводы мыслителей античности сменяются эмпирическими трудами Гиппократа (460–377 гг. до н. э.) и Галена (129–201 гг. н. э.), которые вскрывают морфологию и функции головного и спинного мозга. С этого момента главенствующим признается постулат о неизолированности движений и чувств от нервной деятельности. В исследовании души начинает учитываться не только ее идеальная сущность, но и физиологические основания (Ждан, 1990; Реале, 1994). В научный обиход вводятся понятие сознания и критерий 20 осознанности, благодаря которым выделяется сфера психического, противопоставленная сфере телесного как имеющей в основании внешнюю детерминанту поведения (Рене Декарт (1596–1650) цит. по Общая психология, 2005). В этот момент Дж. Локком формулируется один из принципиальных постулатов будущей теории психических процессов, который заключается в интроспекции и чувственной недосягаемости. Противопоставление перцепции и апперцепции в трудах Г.В. Лейбница позволяет в дальнейшем в философии разграничивать явления сознательного и бессознательного поведения (Олейник, 2013). Последующее исследование психических процессов происходит в эпоху ассоциативного и эмпирического направлений философской научной мысли XVIII в. В качестве доминирующей исходной точки функционирования психики провозглашается ассоциация, или «связь идей», которая в трудах приверженцев классического ассоцианизма Д. Гартли, Дж. Пристли, Д. Юма и др. выступает в качестве объяснения функционирования всей познавательной сферы психики (Марцинковская, 2004). Однако только ассоциативный принцип не вскрывает всей сущности психических процессов, поэтому в XIX столетии философия психологии вновь обращается к эмпирическому материалу анатомии и физиологии, упомянутых в трудах Гиппократа и Галена, в поисках рефлекторных механизмов, запускающих психические процессы. В работах Г. Прохазки, Ч. Белла и Ф. Мажанди появляются упоминания о двигательном и сенсорном отделах нервной системы. В унисон последним проводятся исследования Г. Гельмгольца, Ф. Дондерса, Э. Вебера, Г. Фехнера, в которых устанавливаются корреляции между психической жизнью индивида и рефлекторными механизмами. Такая установка на изучение физиологии психических процессов и их основных функций, попытка объяснить их сущность приводит к отделению психологии в самостоятельную научную дисциплину, которая напрочь изживает и отторгает наивные представления о 21 душе и предпочитает методологию экспериментального психологического исследования (Лучинин, 2008). Начинается новая современная веха в истории психологии, которую немецкий психолог Г. Эббингауз, учитывая тернистый путь становления ее философских основ, называет «краткой историей» с «долгим прошлым». На благодатной почве психологии возникает гештальтпсихология, которая закладывает основу теории психических процессов как структурной модели и постулирует симбиоз психических процессов, основанный на ассоциативных связях, которые базируются на типичных для того или иного психического процесса характеристиках и закономерностях. Они определяются в результате экспериментальных действий: предметность как фигура и фон при восприятии объекта реальной действительности, а также целостность как одновременное восприятие фигуры и фона. Согласно данной теории, все элементы динамической характеристики психики подчинены такой фигуре как гештальт независимо от положения в иерархии процессов психики, включая и общие характеристики личности (Вертгеймер, 1988). Именно принципы подобной научной разработки используюся в настоящей диссертации при описании механизмов вербализации ментальных структур психических процессов. В частности, мы опираемся на постулат о детерминированности «предметной целостности психических структур» и их объективного содержания (Веккер, 1998: 33), инструментальной роли гештальта в процессе познания мира, в том числе, организации знаний о психических процессах, его представлении в виде фигуры и фона, отражающих синкретизм и дискретность, способности структуры к передаче смыслов посредством языковых единиц. Не менее важным для становления концепции настоящего исследования является также функционалистская психологическая теория У. Джеймса и Д. Дьюи, в которой в качестве психического акта понимается психофизическая деятельность по адаптации организма к окружающей среде. Эта теория позволяет говорить о функции, структуре и воплощенном в ней содержании как 22 вещах взаимосвязанных в процессе психического акта в плане воздействия на окружающий мир и адаптации к нему. Принципиальным постулатом рассматриваемого направления для настоящего исследования является опора на функциональность и адаптацию структур знания к внешним условиям, то есть реакция на внешнее воздействие, что несколько роднит ее с бихевиоризмом (Оллпорт, 1998), в котором воздействие внешнего мира на организм провоцирует его соответствующий ответ. Интересными для предпринимаемого научного описания являются также концепции энергетизма, основанные на бихевиоризме Э. Торндайка и гештальтизме К. Левина, которые противопоставляют мотивационное начало психической деятельности остальным ее аспектам, что позволяет впоследствии выявить собственную природу мотивационных компонентов. Основой таких концепций является постулат о том, что психическая структура, как и любая другая, находится в динамике, то есть в действии. Эта движущая сила неразделима с самой психической структурой. Попытка разграничить их ведет к высвобождению этой самой энергии, которая запускает психические процессы. В идеале слаженная работа структуры психики вуалирует энергетический фактор, который обеспечивает ее адекватное функционирование (Веккер, 1998). На базе концепции энергетизма в дальнейшем строится теория деятельности, где связывается «понятие действия с анализом энергетических характеристик психики и ее регулирующей функции в организации поведения» (Веккер, 1998: 49). Еще одна актуальная для настоящего исследования теория деятельности представлена именами А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского и др. В ней учтены особенности и положительные свойства теорий-предшественниц: противопоставление психического и телесного, чувственная недосягаемость психического, способность знания быть представленным в виде структур и иметь вербальное оформление, способность таких структур функционировать и подстраиваться под соответствующие внешние факторы воздействия. Данное 23 обстоятельство позволяет теории деятельности занять свое достойное место в исследовании языка, в частности, при изучении механизмов вербализации психических процессов в современном английском дискурсе. Свойства и инструментальный характер этой теории будут рассмотрены далее в параграфе 1.3.3. Несмотря на неоспоримые преимущества перечисленных выше теорий, релевантных для настоящей диссертации, с целью установления качественного параметра психических процессов, их физиологического базиса и пускового механизма, приходит «более экспериментальная научная дисциплина» – физиология. Она предпринимает попытки представить прочный фундамент для дальнейших научных поисков. Таким образом, модус научных изысканий меняет свое направление и обращается к поиску закономерностей и корреляций нервных процессов внутри головного мозга, а также психических процессов, являющихся и их следствием, и их пусковым механизмом одновременно. Первые попытки связать психическое с физиологическим осуществляются в рамках физико-химического направления первой половины XIX столетия (Ярошевский, 1961; Петровский, 1998: 27). Постепенно появляется все больше доводов в пользу гармоничного сосуществования всех систем организма. Эксперименты Э. Пфлюгера (цит. по Ярошевский, 1986) акцентируют координацию психических актов спинным мозгом и оставляют теорию противопоставления головного и спинного мозга без всяких оснований. В поддержку взаимосвязи всех физиологических систем организма, в особенности спинного и головного мозга, также появляются теории И.М. Сеченова, К. Бернара, Э. Вебера, рядом экспериментов подтверждающими участие головного мозга в координации исключительно телесных, соматических актов. И.М. Сеченов проводит серию экспериментов и обоснованно указывает на отсутствие возможности обособления мозгового триггера от начала и конца психического процесса. Такое умозаключение ложится в основу рефлекторной 24 теории психических процессов, где постулируется сравнение психического акта и движения, имеющего «начало, течение и конец» (Сеченов, 1952). Исходным соматическим звеном, естественно, является раздражающее воздействие объекта, а конечным – обратное, но уже опосредованное центром действие организма на этот объект» (Веккер, 1998: 59). Соответственно, рефлекторная теория И.М. Сеченова, описывая многоступенчатую структуру рефлекса, объясняет и уточняет различные уровни общности физиологического взаимодействия организма со средой, а также «собственно психические, внутренние процессы, не получающие объективированного выражения в исполнительных функциях» (Веккер, 1998: 61). На благодатной развивается почве сеченовской психофизиологическая теории концепция активно и успешно И.П. Павлова, которая практически полностью обеспечивает категориальный аппарат современного понимания устройства психики. Как и у И.М. Сеченова, во главу угла теории психических процессов ставится рефлекторный акт, который понимается как акт приспособления организма к окружающей среде. Иными словами, как отмечает сам ученый, рефлексы являются элементами «постоянного приспособления или постоянного уравновешивания» организма по отношению к окружающей среде (Павлов, 1952: 6). Согласно формам уравновешивания, ученый выделяет безусловные и условные рефлексы. Первые отличаются простейшим, а вторые – сложным и комплексным характером. Следовательно, безусловные рефлексы осуществляют видовые, простейшие приспособления организма к окружающей среде, вторые – носят индивидуальный, временный характер. Вся нервная деятельность, как утверждает сам И.П. Павлов, подразделяется на два основных уровня – высший и низший, соответственно которым данная деятельность членится на высшую и низшую. Эти уровни обеспечивают специфику взаимодействия организма со средой. Высшей нервной деятельностью считается психическая – как особая форма взаимодействия, обеспечивающая функционирование организма в условиях 25 среды. Противопоставленная ей низшая есть способ интеграции элементов нервной системы в пределах организма (Павлов, 1949: 473). В настоящем исследовании мы апеллируем именно к высшей нервной деятельности, характеризующей человека как существо высшего порядка, в отличие от животного, нервная деятельность которого соотносится с низшим уровнем. Кроме того, мы опираемся на постулат И.П. Павлова об универсальном характере сигнализации, способствующем осуществлению рефлекторного акта, который, как и любой другой, имеет идентичный принцип функционирования. Понимая психические процессы в качестве нематериального производного от высшей нервной деятельности, мы, вслед за И.П. Павловым, усматриваем в ней соответствующие подуровни – первый, где первую сигнальною функцию несут образы (ощущения, восприятия, представления), и второй – с доминирующими речемыслительными процессами. Проанализировав рефлекторную концепцию И.М. Сеченова и И.П. Павлова, Л.М. Веккер приходит к принципиально важным для настоящей диссертации умозаключениям относительного того, что в основе структуры, способа организации и работы нервной системы лежит рефлекс; базисом психофизиологии ментальных явлений служат частные рефлекторные акты; минимальной недробимой функциональной составляющей субстрата психических процессов является целостный рефлекторный акт; целостные единицы рефлекторного акта объединены общим функциональным принципом (Веккер, 1998: 62-63). Подводя итог краткому историческому обзору исследований в области психических процессов, основанному на системном анализе опыта философов, психологов, физиологов, можно сделать вывод о том, что психические процессы – явление крайне противоречивое и сложное для описания и дефинирования. Для объективного исследования разных процессов в аспекте вербализации их в языке требуется учет максимально доступного релевантного знания, в частности, отмеченных гештальт-психологией ассоциативных связей 26 психических процессов, позволяющих им коррелировать с единой ментальной структурой – гештальтом, который отличается целостностью (синкретизмом) фона и некоторой расчлененностью (дискретностью) фигуры, которая позволяет каждому из элементов отличаться своеобразием. В данном случае в расчет принимается и инструментальная роль психических процессов в процессе категоризации действительности, и их роль в качестве объекта категоризации. Немаловажной для настоящего исследования является и подвижность ментальной структуры (гештальта) в процессе адаптации, а также его энергетизм. Учет рефлекторного субстрата психических процессов, единый принцип работы, разделение высшей и низшей нервной деятельности позволит в дальнейшем рассматривать психические процессы в комплексе при учете их взаимосвязи и специфики. Однако здесь необходимо признать и тот факт, что современное состояние науки, ее методологическая база и категориальный аппарат в синхронии позволяют систематизировать и привести некоторые принципиально важные факты для настоящего диссертационного исследования, которые, несомненно, будут учтены при описании механизмов вербализации ментальных структур лексикой психических процессов в современном английском дискурсе. Речь о таких принципиальных постулатах пойдет в следующем параграфе работы. 1.2 Сущность психических процессов: экстралингвистическая справка Системный обзор и анализ трудов в области философии, психологии и физиологии нервной деятельности показывает, что корреляция между психической и непсихической сферой выливается в противопоставление динамической характеристики психики окружающей действительности, которая, соответственно, в эту сферу не включена (Веккер, 1998: 19). Нomo sapiens при этом представлен как удивительнейший организм, совершенная 27 организация, запускаемая и управляемая психическими процессами или их физиологическим субстратом – высшей нервной деятельностью, которая носит рефлекторный характер, функционирует по рефлекторному принципу, несколько дистанцирована от объективной реальности и является недосягаемой для стороннего наблюдателя. Психика определяется как «свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения субъектом объективной реальности» (Леонтьев, 2005). Она формируется параллельно эволюции первого разумного организма как мостик от внутреннего к внешнему миру вещей и состояний, помогает живому ориентироваться в условиях окружающей среды, приспосабливаться к ним и выполнять функцию регуляции поведения индивида (Добросельский, 2008). В композиционном плане психику можно охарактеризовать как весьма сложную, комплексную систему, представленную множеством элементов, которые, в свою очередь, образуют иерархию, включающую психические процессы, психические свойства и психические состояния. В то же время, указанная структура существует и функционирует слаженно, характеризуясь при этом системностью, целостностью и нерасчлененностью. И как справедливо отмечает А.А. Залевская, описывая единый организм психических процессов, все его элементы «функционируют в ансамбле» без обособления и «искусственно разграничиваются в целях научного анализа» (Введение в психолингвистику, 1999: 33). Именно тот самый пресловутый «научный анализ», повинуясь общей тенденции развития психологической науки XIX – XX веков, указывает на необходимость сепаративного изучения того или иного психического процесса в корреляции с остальными составляющими психики. Такой принцип согласуется с принципом устройства гештальта как структуры знаний ментального порядка, выполняющего инструментальную роль по их организации в синкретизме и дискретности, то есть фоне и фигуре, соответственно. 28 Однако наряду с психическими процессами, которые собственно и являются референтом номинации исследуемых нами лексических единиц современного английского языка, к психической организации человека относятся также психические свойства и состояния. Во избежание терминологической путаницы в дальнейшем дадим им краткие определения и укажем на их принципиальные отличия от психических процессов. Понятие «психические свойства» представляет собой субъективные «особенности психической деятельности конкретного человека, особенности его психического состояния, его межличностных и личностно-социальных отношений, которые позволяют описывать и прогнозировать его поведение, направление и динамику психического развития» (Психические свойства, 2014). Традиционно психическими свойствами называют способности человека, его характер и темперамент. Психические состояния в сравнении с психическими свойствами – это более темпоральные явления, целостно характеризующие психическую деятельность индивида на протяжении определенного промежутка времени. Именно в такой характеристике содержатся данные о специфике протекания психических процессов в корреляции с отражаемыми предметами и явлениями окружающего мира, предшествующего состояния и психических свойств личности (А. Я. Психология, 2002). Психические процессы, в отличие от психических свойств и психических состояний, представляют собой условно выделенные составные элементы психики, специфические триггеры познания окружающей действительности, проявления психики в единстве таких составляющих, как ощущение, восприятие, представление, мышление, внимание, память, воображение, речь, аффективные и волевые процессы; причем в наивном понимании, говоря о психических процессах, часто употребляется термин «познавательные процессы» (Психические процессы, 2012). Тем не менее, нельзя сказать, что данная терминологическая подмена нисколько не искажает содержание 29 рассматриваемого явления. Дело в том, что в русле психологических изысканий, психические процессы соотносятся с познавательными как целое и часть, соответственно. Таким образом, познавательные процессы в совокупности ощущений, восприятия, представления, памяти, внимания воображения, мышления и речи, входят в состав психических процессов наряду с эмоционально-волевыми. Опишем каждый из входящих в состав психических процессов элемент, предварительно определив его в группу познавательных или эмоционально-волевых психических процессов. 1.2.1 Познавательные психические процессы В состав познавательных психических процессов включены ощущение, восприятие, представление, воображение, мышление, речь, внимание. Все они наделены общими характеристиками (определенными их рефлекторной природой), позволяющими говорить о психических процессах как о едином организме. Тем не менее, каждая из заявленных составляющих имеет свои частные особенности, отличающие ее от других. С целью удобства перспективной интерпретации при выявлении экстралингвистического и лингвистического компонентов лексического значения, далее остановимся на этих свойствах, опираясь на следующие ориентиры: определение – результат – свойства – классификации. Впускным механизмом для внешнего мира в сознание индивида и источником познания объективной окружающей среды являются ощущения как первичные построения образов отдельных свойств предметов окружающего мира в процессе непосредственного взаимодействия с ними. Ощущения отвечают раздражителю «соответственно качеству самого чувствительного органа (его специфической энергии)» (Леонтьев, 2001: 9), транслируют в мозг не качества и не состояние внешнего мира, а скорее реакцию чувствительного 30 нерва, которая прямо пропорционально зависит от внешней причины (Müller, 1840). Ощущения характеризуются своим результатом, которым является сенсорный образ, наделенный такими свойствами, как положение в пространстве и времени, интенсивность, модальность (Баданина, 2002). Ощущения отражают отдельные свойства «предметов и явлений, непосредственно воздействующих на наши органы чувств» (Познавательные психические процессы, 1999: 4), пропускают определенные чувственно воспринимаемые свойства, опосредуют впечатления от внешнего мира, отражают объективный мир в результате непосредственного воздействия на анализаторы (Баданина, 2002: 4). Иными словами, подчиняясь общему алгоритму работы психического процесса с рефлекторной подоплекой, ощущения идентичны «функции мозга», возникают как продукт его деятельности, стимулирующей функцией материи на органы чувств. Таким образом, ощущения являются вторичным субстратом и носят непроизвольный субъективный индивидуальный характер, отражающий импринты явлений внешнего мира в сознании человека (А.Я. Психология, 2013). Характерным свойством ощущений является их спонтанный характер, что определяется их физиологическими реакциями на триггер внешней среды. Кроме того, ощущения чувственно недоступны, поскольку не могут быть рационально объяснены субъектом с точки зрения получения субъективного образа. При всем при этом ощущения предметны и возникают в корреляции с реакцией на объект внешнего мира. Как и любой другой психический процесс, ощущения распределяются на виды и классы. По критерию «модальность» выделяют зрительные, вкусовые, слуховые, осязательные физиологического и субстрата др. ощущения; определяют на ощущения основании нервно- экстерорецептивные (поступающие из внешнего мира при контактном или дистантном воздействии на анализаторы), проприорецептивные (служащие аппаратом двигательной 31 координации) и интерорецептивные ощущения (источником «элементарных биологических потребностей»). Ощущения не обособлены, они слиты в единое целое, что позволяет человеку реагировать на окружающий мир, собирать сведения об объективной реальности. В системе психических процессов ощущения связаны с воображением, но наиболее близко они находятся к восприятию 1, которое формируется из сведений, полученных в процессе ощущения бессознательно и непроизвольно, впоследствии систематизированных, прошедших категоризацию (Models of visuospatial cognition, 1996). Восприятие представляет собой процесс отражения предметов, явлений, ситуаций и событий окружающего мира в совокупности их свойств и качеств, возникающий как следствие воздействия физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств (Психологический словарь, 2013). Восприятие характеризуется обратной связью, обеспечиваемой активностью, сознательностью и произвольностью деятельности (Немов, 1998: 137). При этом воспринимаемые в результате воздействия раздражителей на поверхность органов чувств всегда создают образ, который в свою очередь наполнен определенным смыслом для самого субъекта (Грегори, 2003: 6), что всегда говорит в пользу его субъективности. Таким образом, результатом восприятия является интегральный, целостный образ окружающего мира, который обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку индивида в окружающей среде (Ковшиков, 2007). Неотъемлемыми свойствами восприятия являются предметность и осмысленность. Первое заключается в наличии воспринимаемого объекта с последующим отражением его образа (см.: Коффка, 1975: 96-113), второе обеспечивается осмыслением и субъективной категоризацией такого отпечатка. Помимо указанных свойств, восприятие характеризуется целостностью, которая создается за счет гармоничного, целостного образа в совокупности 1 Син. перцепция 32 соответствующих необходимых пропорций (Познавательные психические процессы, 1999: 8; Найссер, 1981), структурностью, определяемой восприятием и целого, и частей одновременно в анализе и синтезе, избирательностью как осознаваемой и/или неосознаваемой индивидом способностью субъективно выделять определенные предметы и считать любые другие фоном, константностью, которая выражается в относительной независимости образа от условий восприятия, проявляясь в его последующем автономном существовании (Ананьев, 1986: 9-39). Как и любой другой психический процесс, восприятие подразделяется на виды. По критерию детальности различения объектов выделяют целостный/синтетический, детализирующий/аналитический виды восприятия. По критерию участия мышления в процессе восприятия, можно выделить описательный и объяснительный типы процесса. Первый ограничивается фактической стороной того, что воспринято, второй же тип, напротив, стремится дать объяснение воспринятой информации. По критерию участия анализатора в процессе восприятия различают вкусовое, зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное и т.д. В зависимости от особенностей воспринимаемого объекта выделяют: восприятие предметов, восприятие речи (письменной или устной), восприятие человека человеком (Баданина, 2002). Наиболее типичным является разделение восприятия на объективный (отчетливое и существующего) строгое и соответствие субъективный воспринятого и (индивидуализированный объективно характер неосознанного домысливания к воспринятому) типы. Восприятие, как и любой другой психический процесс, включено в когнитивную деятельность и находится в тесной взаимосвязи с процессами памяти, мышления, внимания, воображения. Кроме того, восприятие имеет определенную аффективно-эмоциональную окраску, что обусловливает его субъективность, неповторимость и своеобразие. Как справедливо по этому поводу отмечает Дж. Брунер, «само восприятие подвержено вариациям, когда 33 человек голоден, влюблен, испытывает боль или решает задачу. Эти вариации относятся к психологии восприятия в такой же степени, как элементарные законы психофизиологии» (Брунер, 1977: 66). Специфическим фактором процесса восприятия является апперцепция как понятие, которое характеризует корреляцию воспринятого и хранимого в памяти опыта человека. Иными словами, каждый конкретный субъект благодаря своим интересам, установкам и мотивации имеет определенный шаблон или фильтр восприятия и хранения воспринятой информации (Еникеев, 2000: 118). В результате восприятия, когда возбуждение рецепторов провоцируется стимулами из внешнего мира, в сознании человека еще какое-то время сохраняются все полученные последовательные образы. Хотя эти импринты не имеют принципиально важного значения, но, тем не менее, их функция особо актуальна, когда субъект случайно или намеренно вызывает эти образы спустя определенный, пусть даже длительный, промежуток времени. Такое явление в современной науке именуется представлением или одним из познавательных психических процессов отражения объектов реальной действительности, когда они воссоздаются в сознании виде образов на базе имеющегося у субъекта опыта (Маклаков, 2005). Как отмечалось ранее, основу представлений составляет восприятие, которое хранит «следы» ощущений и обеспечивает все необходимые для воссоздания образа условия. Физиологической основой представления является «активизация связей нейронов коры головного мозга, установленных в ходе восприятия предметов и явлений» (Психические познавательные процессы, 2011), что дает возможность не только вызывать и воссоздавать образы из прошлого опыта, но и вносить в них некоторые изменения. Представление можно разделить на несколько типов согласно различным критериям: «вид анализатора» дает возможность выделить зрительное, обонятельное, осязательное, двигательное, слуховое и пр. представления; «степень обобщенности» позволяет назвать единичные и общие представления; 34 «степень волевых усилий» указывает на произвольные и непроизвольные представления; критерий «продолжительность» позволяет выделить представления кратковременные и долговременные представления. Как явно следует из классификации по критерию «вид анализатора», представления всегда взаимосвязаны с другими психическими процессами, в частности, восприятием, мышлением, памятью, речью и т.д., однако не тождественны специфическими им и обладают признаками, собственным такими как содержанием, наглядность наделены (определяется идентичностью предмета и его образа в сознании индивида), фрагментарность (заключается в отсутствии так называемой «четкой прорисовки» образа), неустойчивость и непостоянство (характеризуется неуловимостью, динамичным характером и изменяемостью образа, невозможностью его полноценно контролировать). Ощущение, восприятие и представление интегрированы в общий комплекс психических процессов совместно с вниманием, которое также как и восприятие сопровождает всю жизнедеятельность человека, неотделимо от нее и способствует полноценной, эффективной и слаженной работе всех психических процессов (Познавательные психические процессы, 1999). Внимание не имеет своего содержания, неотделимо от восприятия, памяти, мышления, при этом оно явно заметно исходя из анализа результата психических актов. По этому поводу С.Л. Рубинштейн делает весьма ценное замечание о том, что внимание – это только «сторона всех познавательных процессов сознания» и проявляет она себя только тогда, когда деятельность направлена на некий объект. И будучи лишь стороной любого психического процесса, внимание выбирает положение «внутри восприятия, мышления» и других психических процессов (Рубинштейн, 2001: 39). При этом внимание активизирует нужные и тормозит ненужные процессы в организме, обеспечивает избирательность познавательных процессов: детализацию восприятия, прочность памяти, продуктивность мыслительной деятельности и т.д. (Баданина, 2002). 35 Ввиду того, что внимание не имеет собственного содержания, оно не может иметь своего «абсолютного результата». Однако, результат у процесса все-таки имеется. Во-первых, активности всей внимание психической обеспечивает деятельности, положительную во-вторых, динамику отправляет все психические акты на создание условий для ясной и отчетливой проработки доминантной информации, способствует получению более качественных результатов остальных психических процессов, прежде всего памяти и отражения в сознании, а также, как уже упоминалось ранее, фильтрует информацию (Гиппенрейтер, 1983) . Внимание отличается такими свойствами, как устойчивость (активность, интенсивность и глубина психической деятельности индивида, которая выражается в частоте колебаний (Дормашев, 2002: 260)), распределение (возможность одновременной концентрации сознания на нескольких объектах (Кравков, 2001: 31)), переключение (способность осмысленной смены доминанты (Маклаков, 2005: 368)), объем (Введение в психолингвистику, 1999) количество ярких и отчетливых впечатлений одновременно воспринятых в акте концентрации сознания (Кравков, 2001: 30)), концентрация (интенсивность и степень сосредоточенности сознания (Маклаков, 2005: 367)). Внимание, будучи сложным и противоречивым по природе феноменом, подразделяется на виды. Традиционно таких выделяют два вида внимания – произвольное и непроизвольное (в последнее время классификация дополнена еще видом внимания – послепроизвольное (следствие длительного произвольного внимания, поглощение деятельностью, не требующее волевых усилий) (Добрынин, 1959)). По критерию локализации фокуса в психологии выделяют внешнее и внутреннее внимание, а также внимание интеллектуальное (внимание к воспроизведенным представлениям) и чувственное (внимание к восприятиям). Под локализацией объекта в данном случае понимается положение такового в предметном, материальном или абстрактном мире. Так, фокусом внешнего внимания (в некоторых источниках – чувственного) 36 является предмет материального мира, а фокусом внутреннего внимания (или интеллектуального) служит некоторая абстрактная сущность, мысль (Джеймс, 1976: 51-52). Критерий «наличие/отсутствие» дополнительных средств привлечения внимания, например, слов, жестов, движений, то есть аттракторов внимания, позволяет говорить об опосредованном/непосредственном внимании, соответственно (Ланге, 1976; Джеймс, 1976). Следующий психический процесс – память – представляет собой ментальный процесс, совокупность процессов записи, хранения (запоминания, сохранения), извлечения (узнавание, воспроизведение) и забывания информации (Баданина, 2002: 26), познавательный процесс «запечатления, сохранения и последующего воспроизведения следов прошлого опыта» (Познавательные психические процессы, 1999). Память выступает в качестве аккумулятора, способного при этом не только накапливать знания, но и вводить ее в сферу сознания и поведения (Определение памяти, 2002). Результатом работы памяти являются накопленные, сохраненные и индивидуально переработанные знания, в том числе память на движения, чувства, образы, мысли и др. Как и любой другой психический процесс, проявляющийся в деятельности человека, память подразделяется на разновидности: по критерию проявления воли и/или наличия цели запоминания память традиционно подразделяется на произвольную (сознательно регулируемую, определяемую общей целью) (Познавательные и непроизвольную психические (эмоциональную, процессы, 1999); бессознательную) по критерию продолжительности закрепления и сохранения материала память бывает кратковременной (информация удерживается считанные секунды после однократного восприятия) и долговременной (отвечает за длительное хранение знания, аккумуляцию с последующим воспроизведением по требованию). Немаловажным видом памяти, также определяемым в связи с критерием 37 продолжительности, является и непосредственный вид памяти. Такая разновидность – автоматическая по характеру и отличающаяся мгновенной сменой впечатлений (Память, 2009). Критерий «психическая активность, преобладающая в деятельности» позволяет разделить память на двигательную (запоминание движений и их алгоритмов), эмоциональную (память на чувства и эмоции), образную (память на представления, звуки, запахи, вкусы) и словеснологическую (память на мысли) (Баданина, 2002). Память неоднородна морфологически: ее неотъемлемыми составляющими являются запоминание (произвольный, непроизвольный и механический отпечаток знаний, узнавание как переживание чувства «знакомости», воспроизведение как репродукция отпечатка), сохранение (удерживание информации) и забывание (избирательность по отношению к неактуальным реминисценциям). Память, как и все предыдущие процессы, инкорпорирована в динамическую характеристику психики, соответственно, связана с другими психическими процессами, в том числе и с воображением, которое представляет собой «психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте» (Гамезо, 1999), особую форму «организации человеческой психики, которая проявляется в создании человеком чего-то нового – новых образов и мыслей, на основе которых возникают новые действия и предметы» (Баданина, 2002: 57). Воображение включает образ в качестве основного результата. Принципиальным отличием такого результата от представлений и образов памяти является новизна, появление в качестве продукта воображения того, с чем человек еще не сталкивался, то есть гипотетически представляемое, желаемое и пр. Тем не менее, образы воображения основаны на реальных событиях, импринтах памяти, произошедшего в жизни человека. Они преломляются сквозь призму субъективного, подвергаются модификации и 38 реконструированию сознанием индивида (Познавательные психические процессы, 1999). Неоднородность и комплексность процесса воображения неминуемо ведет к его таксономии, которая принципиально базируется на признаке активности и осознанности человеком созидательной ментальной деятельности, в связи с чем выделяются две разновидности воображения: непроизвольное (с появлением новых образов связаны неосознанные мотивы и установки) и произвольное (появление новых образов связано с сознательно поставленной целью). Последняя разновидность воображения подразделяется на два вида: воссоздающее (позволяет формировать субъективные образы на основе объективно полученных знаний, когда они вызываются посредством словесного описания, вновь получаемыми образами и т.д.) и творческое (не зависящий от внешнего триггера психический процесс, который реализуется в индивидуальных продуктах ментальной деятельности) (Познавательные психические процессы, 1999). Все возможные механизмы работы воображения исследованы в психологии и сводятся к наиболее общим, включающим комбинирование (сочетание субъективно выделенных свойств с последующим переносом на новые образы), агглютинацию (формирование новых ментальных продуктов на базе «склеивания» представлений) и акцентирование (выделение тех или иных особенностей) (Познавательные психические процессы, 1999) и т.д. В отличие от воображения, мышление представляет собой процесс, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности (Баданина, 2002). Причем такое отражение весьма условно, поскольку посредством мышления человек не только осознает наличие окружающих его предметов и явлений, но и устанавливает связи, ассоциации и ментально выводит определенные законы, последовательности (Немов, 2003: 275). Опираясь на сведения из окружающего мира, мышление формирует умозаключение (Баданина, 2002) как результат мышления. 39 Акт мышления и сам процесс индивидуальны по своей сути. И чтобы специфицировать подобную индивидуальность психология прибегает к таким понятиям-свойствам, как быстрота мышления, самостоятельность, гибкость, инертность, темп развития мыслительных процессов, экономичность мышления, широта ума, глубина мышления, последовательность мышления, критичность мышления, устойчивость и т.д. Мышление выступает в нескольких типичных для себя формах – понятие, суждение, умозаключение (Познавательные психические процессы, 1999). Кроме того, мышление является сложным психическим процессом, включающим, с точки зрения генетической психологии, три разновидности: наглядно-действенное (когда поставленные задачи решаются при помощи физического преобразования ситуации), наглядно-образное (когда субъект оперирует образами) и словесно-логическое (функционирующее на базе языковых средств с использованием понятий и словесно-логических конструктов) (Баданина, 2002). Несколько иным, но, однако немаловажным критерием типологии мышления, является критерий «степень и характер новизны данных, осмысливаемых человеком». В связи с учетом этого фактора психология выделяет репродуктивное мышление (воспроизведение в памяти и применение определенных логических правил – без сложных ментальных операций по установлению ассоциативных и логических связей) и продуктивное мышление (так называемый творческий подход к осуществлению ментальных актов, предполагающий выявление нетипичных признаков и свойств, поиск неординарного способа решения задач и т.д.). Мышление, включающее выявление существенных отношений и закономерных связей мира вещей, вмещает ряд непосредственных операций, посредством которых происходит сравнение, сопоставление фактов, их анализ и классификация. Такие стадии включают мыслительную операцию сравнения (как сопоставление объектов с целью установления тождества), анализ 40 (выявление образующих элементов, установление их признаков и свойств), синтез (ассоциативное объединение элементов воедино), абстрагирование (отвлечение от несущественного в пользу детального рассмотрения требуемого), обобщение (мысленное объединение по признаку), конкретизация (мысленный переход от общего к единичному) (Познавательные психические процессы, 1999). Кроме того, мышление, функционируя как познавательная теоретическая активность, непосредственно связано с деятельностью и выступает как ее первичная форма. Иными словами, человек не только воспринимает действительность, но и понимает, преображает ее. Такая корреляция деятельности и мышления берет свое начало из трудовой деятельности, когда мышление выступало как элемент практической деятельности, а затем обособилось в самостоятельную теоретическую деятельность (Немов, 2003). Помимо действия, мышление тесно переплетается с речью и определяет вербально-логическое мышление в качестве высшей формы мышления. Речь как познавательный психический процесс является прерогативой человеческой психики, отличает человека от животного и представляет собой систему сигналов – звуковых и письменных символов, которые используются человеком с целью аккумуляции, переработки и передачи данных (Морозов, 2000), предсталяя собой процесс общения людей посредством языка (Маклаков, 2005). Такое общение является сложнейшим и многогранным процессом, отличающимся в различных условиях, зависящим от множества факторов. Описывая такое своеобразие речи, А.Н. Леонтьев замечает, что речевой акт есть процесс решения «своеобразной психологической задачи которая, в зависимости от формы и вида речи и от конкретных обстоятельств и целей общения, требует разного ее построения и применения разных речевых средств» (Леонтьев, 1948). Результатом речевого психического процесса является письменное и устное слово. 41 Речь связана с сознанием, неотделима от него и включена в определенные весьма сложные и комплексные взаимоотношения с остальными процессами психики. Определяющими взаимоотношениями для речи является ее корреляция с мышлением. В таком контексте речь выступает в качестве посредника между мышлением и реальной действительностью, существует в единстве, а не тождестве с мышлением (Рубинштейн, 1998). Благодаря речи человеку поступают знания из окружающей среды, становятся доступными те факты, которые недоступны перцепции, не отражены в опыте индивида. Соответственно, речь как «язык в действии» несет в себе отпечаток особой формы реальной действительности, живущей в определенных символах, индивидуально подобранных для каждого конкретного контекста. Речь подразделяется на устную и письменную, диалогическую и монологическую. В последнем случае прежде всего учитывается обращение к слушателям в монологе, риторические вопросы, равно как и долгий монолог в диалогической речи. Также как и монологическая, диалогическая речь по критерию активности субъекта может быть активной и пассивной. Активная речь характеризует говорящего, а пассивная – слушающего, соответственно. Немаловажными разновидностями речи являются ее внутренняя и внешняя формы. Так, внешняя речь осуществляет процесс общения, обмен информацией, внутренняя – выполняет функции взаимосвязи речи и мышления (Маклаков, 2005). Речь, мышление, воображение, память и представление отражают интеллектуальный характер познавательной деятельности, поскольку объекты таких психических процессов коррелируют не с внешним миром, как у ощущения и восприятия, а с миром внутренним. Поэтому компоненты динамической характеристики психики могут быть условно разделены по принципу локализации объекта на перцептивные и интеллектуальные. Обе указанные разновидности взаимосвязаны между собой, а также с волевой и 42 эмоциональной составляющими психических процессов, речь о которых пойдет в нижеследующем параграфе. 1.2.2 Волевые и эмоциональные психические процессы Рассмотрение волевых и эмоциональных психических процессов ведется во многих психологических источниках параллельно, зачастую для того, чтобы указать на взаимосвязь воли и эмоций и, кроме того, подчеркнуть пользу оптимального сочетания и волевой, и эмоциональной регуляции. Рассмотрим каждый из процессов подробнее. Феномен воли занимает ученые умы на протяжении многих десятилетий. Однако теорию, которая легла в основу последующей теории психических процессов, предложил И.М. Сеченов, усмотревший волю в целенаправленных действиях и поступках человека, даже таких, которые граничат с трудностями (Сеченов, 1952). Воля в таком случае выполняет побудительную и тормозящую функции. Обе эти функции осуществляют произвольное управление поведением человека и определяют самостоятельность субъекта в вопросах принятия решений, выполнении действий и контроле за ними. Описывая структуру произвольного самодетерминацию самоторможение управления (мотивы, действия, цели, психикой, желания); самоконтроль, Е.П. Ильин выделяет самоинициацию самомобилизацию и и самостимуляцию (Ильин, 2009). Кроме того, волевые процессы могут выступать в разнообразных формах: волевые процессы при изменении обычного темпа и хода деятельности, волевые процессы при выполнении умственной и физической деятельности, волевые процессы при отказе от удовольствия или утомления, но во благо получения искомого результата (Мясищев, 1995). Воля и сопряженные с нею волевые процессы различны по своей сложности. Соответственно, они варьируются от простого волевого акта 43 (который сопровождает процесс, когда побуждение переходит непосредственно в действие) до сложного волевого акта (когда необходимое действие и побуждение дистанцированы друг от друга посредством включения иных незапланированных действий). Однако тот или иной уровень сложности включает ряд стадий своего осуществления: постановка цели, побуждающая сила в виде желания осуществления деятельности, борьба мотивов, проявление воли, формулировка цели предстоящей деятельности с последующим принятием соответствующего решения (Клиническая психология, 2002). Наряду с волевым компонентом другой стороной динамической характеристики психики является ее эмоциональная грань, эмоции, которые которые как и ощущение, восприятие, мышление, представление и прочие процессы психики, представляются одной из форм отражения действительности сознанием. Причем особенность эмоций в таком случае проявляется прежде всего в их способности отражать не сами объекты реальной действительности, а отношение субъекта к объектам, то есть с точки зрения их важности, соответствия потребностям, мотивам и установкам личности. Эта сторона выражается в форме переживаний и оценки той или иной ситуации для жизни человека (Петренко, 2005; 2005а). Эмоции билатеральны по своей сути: они отражают и состояние самого субъекта, и отношение последнего к определенному объекту. Сюда относится, во-первых, полярность эмоций, то есть возможность иметь положительный или отрицательный заряд. Вторая отличительная особенность – целостность эмоций, которая заключается в интеграции всех психофизиологических систем организма в процесс эмоционального реагирования. Например, переживание отрицательных эмоций субъектом очевидно благодаря кожно-гальваническим реакциям, повышению температуры тела человека, частоты его пульса и т.д. Кроме взаимосвязи эмоций с психофизиологическими процессами организма, можно отметить их неотделимость от других психических процессов. Это обстоятельство выражается в наличии эмоционального фона ощущений (полярность «приятно- 44 неприятно»), интеллектуальных чувствах интереса, восторга, вдохновения и т.д. В качестве наиболее важных функций эмоций современная психология выделяет оценочную (отражение значимости ситуации, объекта для субъекта) (Витяев, 2006), побуждения к деятельности (или своего рода стимуляция поведения) и коммуникативную (отражающую эмоциональные проявления общения людей). Структурно эмоции представляют собой весьма непростой психический процесс, включающий три базовых элемента, в том числе, физиологический компонент (отражает психофизиологическую реакцию), психологический компонент (является поведенческий собственно компонент самим (соответствует переживанием эмоции) сопровождающей и эмоцию экспрессии). Сложность эмоций позволяет классифицировать заявленный феномен. Одними из первых попыток провести типологию эмоциональных состояний стала теория Декарта о шести чувствах, включающих радость, печаль, удивление, желание, любовь, ненависть. Такие чувства, с точки зрения мыслителя, являются самыми базовыми, а их сочетания рождают многообразие человеческих эмоций (Декарт, 2000). Гораздо больший диапазон эмоций выделяет американский психолог К.Э. Изард. С точки зрения ученого, базовые эмоции представлены следующим инвариантным набором: удовольствиенеудовольствие, интерес-волнение, радость, удивление, горе-страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина (Изард, 1999). С точки зрения В. Вундта, существует триада направления чувств, в которой отражены и уровень стеничности эмоции, и ее знак, и динамика от напряжения к разрядке. Такая триада позволяет охарактеризовать любую эмоцию. Она включает удовольствие и неудовольствие, напряжение и разрешение, возбуждение и спокойствие. 45 Разумеется, предложенные классификации составляют только малую толику существующих на сегодняшний день типологий, описание и исследование которых, тем не менее, не является для настоящей диссертации самоцелью и представляет исключительно информационный интерес. Но говоря об эмоциональной сфере сознания, нельзя упускать из виду некоторую терминологическую особенность ее описания, которая по ходу дальнейшего исследования должна иметь четкие основания для разграничения. Итак, наряду с эмоциями, в современной психологии различают так называемые эмоциональные феномены, включающие эмоциональные реакции, чувства, эмоциональные состояния, эмоциональные свойства. Дадим им краткие характеристики для последующей терминологической дифференциации. Итак, чувства представляют собой более устойчивые эмоциональные ответы на различные объекты. Эмоциональные реакции – это непосредственный ответ на протекание какой-либо эмоции. Они достаточно примитивны по физиологическому механизму возникновения, кратковременны и обратимы. Эмоциональные состояния отличаются своей комплексностью и устойчивостью. Для них типична динамика нервно-психического тонуса. Эмоциональными свойствами называют определенный набор эмоций, типичный для определенного человека в условиях определенных ситуаций. Описывая особенности эмоциональных и волевых психических процессов, нельзя не отметить то обстоятельство, что они, также как и познавательные процессы, существуют в тандеме и формируют сложнейший механизм отражения сознанием окружающей действительности в различных формах и ипостасях. Объединение столь противоречивых и порой взаимоисключающих сторон сознания в понятие «психические процессы» возможно благодаря общему функциональному рефлекторному механизму, обеспечивающему наличие некоторых объединяющих свойств, рассмотрению которых посвящен следующий параграф. 46 1.2.3 Дистинктивные особенности психических процессов В ходе взаимодействия психики и реальности каждый элемент, будь то познавательный, эмоциональный или волевой процесс, выполняет свою особую функцию, является незаменимым по своей сути и неотделимым от общей динамической характеристики психики. В данном случае речь идет об универсальности психических процессов с точки зрения их идентичной рефлекторной природы и функционирования в качестве особой неделимой формы отражения объективного мира как специфической формы организации взаимодействия друг с другом (Веккер, 1998: 27). Такой принцип организации психики дает основание Л.М. Веккеру говорить о единой теории психических процессов. Данная универсальная система психических процессов, а в гештальтпсихологии – структура, по словам ученого, может быть определена согласно критерию «разностный порог» для механизма категоризации (Веккер, 1998: 21), включающего предметность, субъектность, чувственную недоступность и спонтанную активность. Как отмечает сам ученый, «исходная характеристика предметности проявляет себя в показаниях человека о том, как ему раскрываются объекты, т.е. именно в том, что они открываются ему не как следы или «отпечатки» внешних воздействий в его телесных состояниях, а именно как собственные свойства внеположных по отношению к нему предметов. Второй признак непредставленности или замаскированности субстрата устанавливается как отрицательное заключение из этих же фиксируемых собственным и чужим опытом показаний об объектах. Третий признак – чувственная недоступность – предполагает заключение, базирующееся на соотнесении картины личного опыта и стороннего наблюдения над жизнедеятельностью. Наконец, последнюю характеристику – «свободную» активность психического – мысль фиксирует, заключая по доступным наблюдению 47 внешним актам скрытые внутренние факторы. Во всех этих заключениях реализуются общие ходы мысли, выявляющие эмпирические характеристики всякого объекта познания, недоступного прямому наблюдению, скрытого под внешней поверхностью воспринимаемых феноменов. Описанные выше признаки являются симптомами, в совокупности составляющими тот основной «синдром», по которому опыт «диагностирует» особый класс функций и процессов и выделяет их в качестве психических» (Веккер, 1998: 24-25). В совокупности всех означенных критических и идентифицирующих характеристик психика служит живой, динамичной формой отражения причинно-следственных связей и отношений. Иными словами, благодаря способности психики отражать закономерности объективной экзистенции человек познает не только то, что доступно его органам чувств, но и ненаблюдаемые сущности, дает прогнозы и предполагает то, что может произойти. Вне этой психической деятельности нет человека. Таким психических образом, представленная Л.М. Веккером единая теория процессов позволяет говорить о существовании психики как единого организма, включающего весь спектр сложных отношений между психическими процессами, которые в своей совокупности возникают и развиваются в условиях практической деятельности. Такие основы существования элементов динамической характеристики психики говорят в пользу их совместного и параллельного изучения в настоящем исследовании с точки зрения представленности в языке. Данный подход кардинально отличается от исследований предшественников, одновременно учитывая их передовые положения, а также узкую направленность научных изысканий. Таким образом, с целью выявления положительных результатов рассмотрения лексики психических процессов, а также качественных параметров объекта исследования обращаемся к аналитическому обзору лингвистического опыта в синхроническом и диахроническом аспектах. 48 1.3 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в лингвистике 1.3.1 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в синхронии Системный анализ лингвистических трудов, которые так или иначе касались исследования лексики, номинирующей психические процессы, проявляет тот факт, что, несмотря на постулаты современной психологии о неделимости психических процессов, их нерасчлененности и гармоничном существовании, в лингвистических изысканиях все чаще встречается разработка узкоспециальных тематик, таких, например, как исследование лексики зрительного, слухового восприятия, лексики, номинирующей память, внимание и т.д. При этом зачастую в задачу таких лингвистических трудов входит либо исключительно таксономия, которая позволяет организовать лексический пласт той или иной группы в том или ином языке, либо определение грамматического статуса лексических единиц (преимущественно, в исследованиях по синтаксису). За всю историю развития лингвистической мысли подобных трудов накопилось достаточное диссертационного количество, исследования не однако входит в задачи настоящего систематизация всех лингвистических результатов в области исследования лексики группы «психические процессы», однако небольшой обзор таковых весьма интересен в аспекте учета методологии и полученных научных результатов для дальнейшего научного поиска в рамках настоящей диссертации. Приступим к рассмотрению наиболее весомых из них, предварительно разбив их на группы согласно критерию подхода к исследованию интересующей нас лексики. Первая условно выделенная нами группа исследований, связанная с разработкой лексики психических процессов, рассматривала такую лексику в качестве эмпирического материала с целью выявления генеративного признака 49 той или иной лексической категории. Например, в работе С.В. Пивоваровой, выполненной на материале русского языка, проводится анализ значения лексем абстрактной семантики для установления степени лексикализации. Как отмечает сам автор, лексика, номинирующая абстрактные имена, в том числе и психические процессы, соотносится с несколькими классификационными стратами, такими как группа лексем высокой степени лексикализации (например, соотносящиеся со значением «радость жизни»), группа лексем частичной степени лексикализации (например, соотносящиеся со значением «конфликт», «грубость», лексикализации «достоинство»), (например, группа соотносящиеся со лексем неустойчивой значением «любовь», «доброта»). Дальнейшая классификация проводится автором исходя из критериев «наименование чувств и ощущений», «наименование степени и характеристики явления» и т.п. Само явление лексикализации, как утверждает автор, во многом зависит от полисемантичности слов, а также употребления таковых в единственном и множественном числе (Пивоварова, 2009; 2009а). Другое исследование, связанное с лексикой абстрактной семантики, выполненное М.Я. Розенфельд (Розенфельд, 1998), направлено на установление в структуре лексемы значения «чувственного компонента» преимущественно со ссылкой на многозначность слов. Такой детальный анализ системного значения лексики абстрактной семантики в русском языке дает возможность М.Я. Розенфельд выявить сведения о наличии перцептивных образов в словарных дефинициях. Их обилие и разнообразие позволяет автору исследования сделать вывод о неисчерпаемом потенциале абстрактной лексики при номинации неконкретной сущности, отражать предметную ситуацию (Розенфельд, 1998). Подобные условно объединенные нами исследования лексических единиц психических процессов представляют для настоящей диссертации сугубо информационный интерес, однако при этом их изучение дает возможность говорить о семантическом потенциале рассматриваемой 50 группы лексики содержать в своем системном значении указание на коннотативное содержание. В связи с изучением лексических единиц разнородной частеречной принадлежности вызывает особый интерес вторая группа исследований, где интересующая нас лексика выступает уже в качестве элемента таксономии, причем подходы к такой таксономии варьируются, что, естественно, отражается на типологии рассматриваемых лексических средств. Итак, классификация глаголов познавательных психических процессов Г.Г. Сильницкого условно разграничивает предикаты перцепции и ментальные предикаты, одновременно объединяя их в качестве составляющих группы глаголов психических состояний. Далее внутри указанной группы выделяются соответствующие подгруппы сенсорного психического состояния, интеллектуального психического состояния, эмоционального психического состояния, волевого психического состояния (Сильницкий, 1986). Интересно, но проведенная классификация и субклассификация как нельзя более точно разграничивает вербализаторы элементов динамической характеристики психики, указывая при этом на наличие познавательных психических процессов (перцептивные и ментальные предикаты), эмоциональных и волевых психических процессов, что более не отражено ни в одной рассмотренной нами классификации. В основе типологии предикатов в теории американского ученого З. Вендлера лежит принцип характера связи самого глагола и оси времени при обозначении той или иной ситуации (Vendler, 1967). В связи с такой установкой автор определяет глаголы так называемого пропозиционального достижения (или achievements) в особую группу и указывает на их потенциал описания ситуаций, стремительно развивающихся во времени или мгновенно переходящих из одного состояния в другое. К ним автор относит, например, глаголы памяти (забывать, вспоминать), в которых семантически заложено 51 указание на наличие мыслительных операций, обеспечивающих динамику состояний. Кроме классификации З. Вендлера, в которой во главу угла ставится семантико-функциональный принцип типологии предикатов, интересной работой по таксономии является детализированная классификация глаголов русского языка, предложенная Т.В. Булыгиной (Булыгина, 1982), в которой основной упор делается на аспектуальные характеристики глаголов, а также сочетаемостные свойства глагола по отношению к некоторым наречиям. Итак, на основании критерия аспектуальности автор выделяет предикаты «мгновенного осуществления» (например, забыть, вспомнить), предикаты «свершения» (например, вспоминать), предикаты состояния (например, помнить). Рассматриваемая классификация также не обходит стороной вопросы сознательности/бессознательности психических процессов, отражая это обстоятельство в критерии «контролируемость/неконтролируемость», который коррелирует с экстралингвистическим эквивалентом «произвольные/непроизвольные психические процессы». Авторы подходов к классификации интересующей нас лексики затрагивали вопросы не только семантические, но и категориальные. Иными словами, основной упор в рассматриваемых ниже классификаций делался на соотнесение того или иного предиката с категорией действия либо состояния, что в принципе касалось статуса глагольной лексики психических процессов. Так, Е.В. Падучева (Падучева, 1996), рассмотрев и проанализировав таксономические обзоры интересующих нас лексем, специфицировала категорию временных состояний, к которой отнесла некоторые группы глаголов ментального состояния, включая лексемы помнить, осознавать и т.д. Подобные глаголы ментальных состояний могут описывать временный или постоянный характер категориального признака в зависимости от содержания мнения. Глаголы, называющие ментальные 52 операции типа мыслить, размышлять, Е.В. Падучева именует глаголами деятельности, не отождествляя при этом понятия «деятельность» и «действие». Вопрос статуса рассматриваемой лексики в классификации Л.М. Васильева решился в пользу определения перцептивных глаголов типа чувствовать, ощущать, видеть и т.д. в качестве акционально-процессуальных предикатов (Васильев, 1990). Исследователь Р.М. Гайсина, рассматривая лексику русского языка, указывает на наличие семы «бытийность» в группе статических предикатов типа чувствовать, слышать и т.д. Наличие сем «действие», «состояние», «отношение» в значении остальных предикатов позволяет автору классификации говорить о группах глаголов действия, состояния, отношения. Проводя дополнительную субклассификацию глаголов, Р.М. Гайсина специфицирует лексику физического и психического состояния, однако указывает при этом на прозрачность границ рассматриваемых групп (Гайсина, 1982). В типологии предикатов Г.Е. Юрченко, полученной в результате рассмотрения лексики абстрактной семантики в статическом и динамическом аспектах, предикаты познания трактуются как предикаты состояния. Таким образом, по мнению автора, глаголы физического восприятия, эмоций, мыслительной деятельности, наряду с глаголами свечения, принадлежности, количественной оценки, могут по праву быть определены в группу глаголов состояния по причине отсутствия импликации либо экспликации действия и/или движения (Юрченко, 1985). Вопрос статуса предикатов, номинирующих психические процессы, Н.Д. Арутюнова рассматривает сквозь призму комплексной семантической структуры таких единиц. Автор говорит о некоторой дополнительной информации, содержащейся в семантике, или «семантических довесках», которые имплицированы в значении глагола. Иными словами, сложная семантика лексем «психологических реакций» (в терминологии автора) вмещает указание на предшествующее и последующее события, на качества 53 субъекта, его характеристики, на орудие и способ действия, мотив и цель такового, интенсивность, кванторные характеристики и оценку (Арутюнова, 1999: 51-52). Таким образом, получается, что комплексное значение предикатов психологических реакций захватывает более одного события (Там же), в связи с чем уже на уровне всоего формирования высказывание накладывает ряд условий на валентность такого предиката. По этому поводу также видится справедливым замечание И.М. Кобозевой (Кобозева, 2000: 72), которая рассматривает глагол не изолированно от контекста, фразы, в которой он употреблен. Автор поддерживает вербоцентристское направление и присваивает глаголу соответствующие пропозициональные функции, что отражено в требованиях к его аргументам. Эти требования не только обусловлены семантикой предиката, но и способны оказывать влияние на идентификацию данной семантики. И такая контекстуальная обусловленность провоцирует семантическое сближение или квазисинонимию (Панкрац, 1992: 28). Следующая условно выделенная нами группа исследований представляет собой одну из массивных разработок, которая проводилось под эгидой логического направления в лингвистике, представленного целой плеядой зарубежных и отечественных ученых: З. Вендлером (Vendler, 1967; 1972), Т. Гивоном (Givón, 1984), Н.Д. Арутюновой (Арутюнова, 1976), И.Б. Шатуновским (Шатуновский, 1996) и др. Указанные ученые усматривали в глагольной лексике преимущественно функцию пропозициональной установки, позволяющей ввести номинализацию-событие, номинализацию-пропозицию, номинализацию-факт. С таких позиций в исследовании П. и К. Кипарских лексика, номинирующая познание и особенно процессы памяти, составляет класс фактитивных предикатов (Kiparsky, 1968), которые ярко выражают истинность пропозитивного аргумента. Функциональные особенности лексем абстрактной семантики, преимущественно глаголов, интересовали Н.Д. Арутюнову с точки зрения их 54 сочетаемостных свойств (валентности). Ученый полагает, что в самой семантике глагола уже имплицированы типы синтаксических связей (Арутюнова, 1999: 47). Это обстоятельство позволяет Н.Д. Арутюновой прийти к выводу о том, что глаголы перцепции имеют дифференциацию согласно рецепторному органу, что позволяет им предопределять признаки сочетающихся с ним субъекта и объекта при учете вида описываемой глаголом ситуации восприятия. Однако при всей очевидности правоты своего суждения, автор делает вывод о комплексности значения такой лексики и справедливо указывает на нерасчлененность процесса восприятия от иных мыслительных операций, что, естественно, накладывает отпечаток не только на семантику, но и на сочетаемостные свойства (Арутюнова, 1999). Идентичные наблюдения касательно сочетаемостных свойств лексики психических процессов, преимущественно глаголов, отмечает И.В. Недялков, указывая при этом на наличие ограничений семантики предикатного актанта глаголов перцепции и ментальной деятельности (Недялков, 1988). Этот же самый критерий, то есть наложение специфических ограничений на семантику актантов (в частности, правосторонних) положен в основу классификации лексических средств вербализации различных видов перцепции (зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой) А.Х. Бостонова (Бостонов, 2005). Так, например, критерий «локативность» позволяет автору различать подгруппы смотрения (look, stare), видения (notice, spot), наблюдения (watch, observe) в пределах группы глаголов зрительной перцепции (Бостонов, 2005). Следующая условно выделяемая группа научных изысканий несколько близка к предыдущей по содержанию и включает исследования, связанные не только с таксономией, но и семантической самоидентификацией, определяющей состав рассматриваемой лексической категории и взаимосвязь ее составляющих. Такие исследования опираются на положение данных психологии о том, что, несмотря на разнообразие подходов, в человеческой 55 психике хорошо просматривается гармония элементов и неразделимость их существования. Это естественным образом проецируется в язык и отправляет многих исследований на поиск сближения пропозициональных установок глаголов, вербализующих преимущественно тот или иной вид психических процессов. Так, например, В.Г. Гак отождествляет лексическое выражение психических процессов с неким ментальным полем, включающим центр и секторы, содержащие дистинктивные признаки. Но, несмотря на их наличие, жесткая классификация секторов, по мнению ученого, немыслима опять же по причине отсутствия возможности их четкого разграничения в экстралингвистике (Гак, 1993: 24). М.А. Дмитровская, рассматривая проблемы вербализации памяти (Дмитровская, 1991), также подчеркивает особую связь лексики, номинирующей память, с лексикой, вербализующей восприятие, объясняя этот факт генетической связанностью процессов в экстралингвистике. Идентичная взаимосвязь наблюдается между глаголами мышления и памяти, поскольку отпечатанные и запечатленные сознанием образы памяти связаны между собой посредством разума, что естественно проецируется в язык (Дмитровская, 1991). Разноуровневая система взаимосвязи глаголов психических процессов приводится в исследовании Ким Ен Ок (Ким, 1997: 26-32). Он полагает, что сближение семантики глаголов психических процессов происходит уже на уровне системного значения, когда одна и та же лексема участвует в толковании разных лексем, номинирующих других процессы психики, как, например, глагол know при определении многих глаголов памяти. Другим уровнем сближения значения различных глаголов психических процессов является уровень синтаксиса, где ситуация внимания, мышления и синтаксических т.д. осуществляется конструкций. Еще посредством одним памяти, восприятия, идентичного доказательством набора сближения семантики интересующей нас лексики является возможность употребления 56 глаголов, номинирующих психические процессы, в качестве синонимичных (Ким, 1997: 26-32). Особую связь между глаголами зрительной перцепции и глаголами внимания улавливает и описывает Л.Г. Денисенко, изучая семантику такой лексики в синхронии и диахронии на материале испанского языка. Подобная взаимосвязь, по мнению автора, заключена в способности той или иной глагольной лексемы восприятия описывать некоторые произвольные и непроизвольные рассматриваемой некоторые ситуации ментальные психических процессы, процессов релевантные (Денисенко, 2005). Идентичного мнения придерживается и О.А. Коновалова, рассматривающая глагольную лексику психических процессов в русском языке. При этом автор исследования подчеркивает активную природу субъекта в восприятии окружающего мира, именуя его действием, соответственно чему выделяет сему «результативность» в значении глаголов видеть, слышать, сему «целенаправленность» в глаголах слушать, смотреть, сему «внимательность» в глаголах слушать, внимать (Коновалова, 2001). Сема «внимательность» выделяется также Н.М. Мининой в значении глаголов психических процессов в русском и немецком языках (это позволяет исследователю говорить о существовании группы глаголов внимательного зрительного восприятия (Минина, 1962)), Н.Г Усмановой в ходе проведения функционально-семантической классификации глаголов башкирского языка (Усманова, 2002), Н.Э. Карандашовой при исследовании синонимических рядов лексики русского языка, номинирующей динамическую характеристику психики (Карандашова, 2003). Об особой синонимии фразеологизмов, номинирующих восприятие в русском и английском языках, также говорилось Н.А. Рябининой (Рябинина, 2005). В исследовании М.В. Пименовой, выполненном на материале русских и английских глаголов, глаголы, номинирующие процесс познания, характеризуются как глаголы ментальных способностей. И, несмотря на то, что 57 этот класс не имеет общих словарных определений, он способен к номинации некоторых ментальных способностей субъекта: fix, focus, sense, analyse и др. (Пименова, 1995; 1996). О взаимосвязи ментальной деятельности и внимания в семантике глаголов познания говорится в исследовании А.М. Авдуковой (1972). Автор выделяет восемь семантически похожих групп глаголов ментальной деятельности, включая группы «воспроизведение прошлого» (remember), «обдумывание» (examine), «проявление внимания» (heed, mind) (Авдукова, 1972). Вопрос семантической дифференциации в пределах группы глаголов познания ставит и исследует И.А. Юрин. Автор определяет «исходный минимум», то есть своеобразный центр, включающий глаголы consider, think, examine, и специфицирует периферию, представленную лексемами analyse, feel, forget, see (Юрин, 1979). Полевый подход в исследовании П.В. Морослина предлагает глагол думать и его эквивалент think в качестве родового формирователя значения. Остальные группы глаголов предполагать/suppose/believe, концентрироваться/ruminate и др. относятся к периферии. Однако при этом автор отмечает, что границы выделенных подгрупп прозрачны, поскольку сами лексемы, номинирующие память, внимание, мышление функционируют в качестве синонимичных в пределах определенных контекстов (Морослин, 2001). Идентичная взаимосвязь лексики психических процессов подмечена также Л.Б. Нефедовой, которая исследовала глагольную лексику познания в английском языке и пришла к выводу о том, что такие глаголы, как see, fancy, feel являются полисемантами в том плане, что они способны участвовать непосредственно в описании умственных процессов. Другие глагольные единицы типа think, remember отражают не только умственную деятельность человека, но и эмоциональные процессы, перцепцию и т.д. в определенных контекстуальных условиях (Нефедова, 1983). 58 Деление любого психического процесса на произвольный и непроизвольный виды, преимущественно отражение данного обстоятельства на языковом уровне, иллюстрируется в исследовании Е.В. Елкиной (Елкина, 1988). В работе, выполненной на материале художественных текстов, подчеркивается характеристика актанта посредством исследования глагольных пар чувственной перцепции различной степени осознанности процесса: listenhear, sniff-smell etc. В основе образования глагольных пар зрительного восприятия типа look/see, по мнению Ю.П. Бызовой, также лежит критерий осознанности/неосознанности, целенаправленности/нецеленаправленности перцептивного акта в экстралингвистике, что естественно отражено на языковом уровне (Бызова, 2004). Тематическая дифференциация лексики, как считает И.Н. Борисова, возможна исходя из функционального критерия при помощи метода ступенчатой идентификации. Соответственно этой лингвистической процедуре И.Н. Борисова выделяет группу предикатов познания (наблюдать, смотреть и т.д.), внутри которой по функциональному признаку указывает на перцептивы, дифференцированные по способу получения знаний (смотреть, слушать и т.д.), и перцептивы, недифференцированные по способу получения знаний (улавливать, чувствовать и т.д.). Другой ядерной группой психических процессов выступает группа предикатов получения знаний в процессе коммуникации, включая глаголы типа указать, показать и пр. В это же самое время глаголы внимания, интереса, восприятия, обучения находятся на периферии по отношению к глаголам познания в составе двух вышеперечисленных групп (Борисова, 1991). В тематической классификации зарубежных ученых глаголы психических процессов являются лексемами, называющими органы чувств (Oppentocht, 1999: 89), описывающими физическое восприятие (Hoepelman, 1981). В своем исследовании Дж. Хопельман опирается на описание аспектуальных характеристик глаголов русского и английского языков и делит лексемы на 59 когнитивные (cognitive) и активные (active). Первые включают see, hear etc в английском языке, и видеть, слышать и т.д. в русском языке. Вторые выделяют watch, look at и т.д. в английском языке и коррелятивные пары русского языка смотреть, щупать и т.д. (Hoepelman, 1981). Рассматриваемая ниже группа исследований выделяет глаголы, номинирующие психические процессы, в лексико-семантические группы (далее ЛСГ), рассматривая при этом их системное значение. Основной целью таких работ является систематизация и типология синонимов с учетом лексических, грамматических М.А. Дмитровской и стилистических и нюансов. В.Ф. Нечипоренко Например, рассматривается в работах тесная связь мнемических процессов с процессами восприятия, мышления и знания (подробно об этом см. Дмитровская, 1991; Нечипоренко, 1995), основанная на общепризнанной связи элементов динамической характеристики психики. Основным выводом, который получен по факту проведенных исследований, является указание на неоднозначность категоризации глаголов мнемических процессов в связи с семантическим потенциалом таковых и их возможностью взаимозамены в различных контекстуальных условиях. Отмеченное соответствующие обстоятельство позволяет субклассификации в пределах ученым одной проводить ЛСГ. Так, Л.Б. Нефедова в группе глаголов памяти выделяет подгруппы глаголов мышления (forget), воспоминания (place, recollect, recall, remember, think), знания (know, recognize) (Нефедова, 1983). М.В. Пименова рассматривает ЛСГ ментальных глаголов английского языка, выделяет в ней группу глаголов мнемических процессов и подразделяет ее на подгруппы глаголов с общим значением «хранение знания/информации в памяти» (commemorate, remember, recall etc) и глаголов со значением «утрата знания/информации из памяти» (forget, fail, get over etc) (Пименова, 1996: 47). Дифференциация синонимичных глагольных лексем умственной деятельности в исследовании Е.М. Зубковой происходит по критерию 60 качественно-количественных характеристик рассматриваемых глагольных лексем в рамках стилей художественной и научной прозы (Зубкова, 1986). Работа О.С. Цимериновой по большей части связана с исследованием глагольных лексем познавательных психических процессов и их разграничением по лексическому и аспектуальному критериям. Немаловажное значение ученый рассматриваемой придает ЛСГ по и дополнительной категориальному классификации признаку, внутри отражающему сигнификативный аспект. Автор исследования проводит дефиниционный анализ и ступенчатую идентификацию, на основании которых выделяет 25 предикативных единиц, номинирующих мнемическую деятельность (to commemorate, to forget, to haunt, to memorize, to mind etc). Внутри выделенной группы О.С. Цимеринова определяет лексемы положительного и отрицательного мнемического действия, которые объединены благодаря гиперсеме memory. Кроме того, концептуальное ядро ЛСГ памяти распределено автором по пяти синонимическим рядам, отражающим все возможные операции памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, напоминание (Цимеринова, 1987). Анализ работ пятой условно обозначенной группы показал возможность группировки лексем познавательных процессов как единой семантической группы, несколько разнородной по семантическому составу по принципу ЛСГ, что является весьма важным для настоящего исследования. Подводя итог рассмотренным выше классификациям, можно сделать вывод о том, что вербальная сторона отражения психики есть неисчерпаемый источник исследований, в том числе и типологических. Однако инновационные результаты в изучении лексики, номинирующей психику, возможны только благодаря принципиально новым методикам, учитывающим накопленный лингвистический опыт и дополненным знаниями и методами смежных с лингвистикой наук. Такими современными и актуальными на сегодняшний день являются исследования когнитивного характера, выполненные на стыке 61 нескольких научных дисциплин и направленные на выявление особенностей актуализации той или иной лексикой, соотносящейся с психической сферой, определенных ментальных структур сознания. В рамках данного подхода появляется все больше научных разработок, связанных с выявлением глубинных механизмов актуализации условно представленных ментальных моделей. Так, например, изучая актуализацию фактообразующего значения глаголами познавательных процессов, Н.Ю. Гончарова (Гончарова, 2000) обращается к графическому представлению фрейма «факт». Последний описывается ученым в качестве единого концептуального начала категоризации человеческого опыта. Иными словами, глагольная лексика, объединенная на основании способности иметь фактообразующее значение, оказывается объединенной и по общности семантического выражения и по смежности концептуального представления. Исследованием актуализации зрительного восприятия в когнитивном аспекте на материале английского и русского языков занимается И.Ю. Колесов (Колесов, 2008). Ученый рассматрел лексемы зрительного восприятия с точки зрения актуализации смыслов посредством анализа формы и содержания ментальных репрезентаций, соотношения концептуальных и языковых структур, соотнесенных с объективацией ситуации зрительного восприятии, систематизировал способы актуализации рассматриваемого концепта. Описание ситуации познания с позиций фреймовой структуры также характерно для исследования И.Н. Борисовой (Борисова, 1991), которая рассматривала данную ментальную структуру в качестве методологической основы сравнения семантики целостных высказываний, позволяющей систематизировать таковые и представить их типологию, а также указать на возможные и вероятностные типы потенциальных высказываний, соотнесенных с ситуацией познания (Борисова, 1991). Фразеологизмы психической сферы русского языка стали средством исследования концептуализации моральных свойств личности в исследовании 62 Л.Ю. Буянова и Е.Г. Коваленко (Буянова, 2004). В лингвистическом изыскании Л.О. Овчинниковой (2009) сенсорная лексика выступила в качестве средства выражения ценностной исследовались картины синестетические мира Ю.Н. Куранова. концепты «радость», Р.М. Валиевой «горе», «страх» посредством лексем эмоциональной сферы в русском и башкирском языках (Валиева, 2003) Кроме прочих исследований, выполненных в когнитивном русле, можно назвать узкоспециальные лингвистические искания, затрагивающие лексику абстрактной семантики в качестве вербализатора ментальных структур, фреймов и концептов. К ним относятся: исследование концепта удивления (Дорофеева, 2002), фрейма эмоционального звучания (Ромашина, 2004), фрейма «внимание» (Прохорова, 2006; Куприева, 2007; 2012; Лексическая репрезентация…, 2013), фрейма «принятие решение» (Рыскина, 2004), фрейма «радость» (Озонова, 2003), фрейма «память» (Рогачева, 2003), изучение вербализации ментальных структур лексикой абстрактной семантики (Ментальные структуры…, 2012; Отражение процесса познания…, 2012; Куприева, 2011; Функциональный синкретизм…, 2012), исследование семантики универсалий с точки зрения выявления национального компонента (Куприева, 2012; 2013а; 2013г) и т.д. Зарубежные когнитивисты также рассматривают лексику, описывающую психические процессы, как некий пласт вербализаторов фреймов, являющихся коррелятами компонентов динамической характеристики психики. При этом исследователи дифференцируют произвольные и непроизвольные психические процессы. Например, вербализаторами фрейма «Perception Active» служат лексические единицы feel, gape, gawk, gaze, gaze, glance, glance, goggle etс, с фреймом «внимание» («Attention») коррелируют единицы alert, attend, attention, attentive). Такая точка зрения поддерживается Ч. Филлмором, К. Бейкером и др. и отражена в проекте FrameNet (FrameNet, 2007). 63 Подытоживая представленный выше системный обзор лингвистических трудов, рассматривающих лексику психических процессов в синхронном плане, можно сделать следующие немаловажные для настоящего диссертационного исследования выводы. Во-первых, наиболее ценным положением для настоящего исследования является тот факт, что, несмотря на многообразие подходов к научным разработкам в области интересующей нас лексики, практически все изыскания указывали на взаимосвязь и взаимообусловленность психических процессов, отраженных на концептуальном уровне, что ярко иллюстрировалось анализом системного и функционального значения такой лексики. Во-вторых, ни одно из рассмотренных нами исследований не было посвящено изучению лексем, номинирующих психические процессы целенаправленно и комплексно, с учетом универсальной ментальной модели. В-третьих, представленные научные выкладки указывают на некоторый узкоспециальный характер таких разработок. Также немаловажным выводом в результате системного анализа является положение о невероятной сложности, многокомпонентности и противоречивости объекта исследования настоящей диссертации. С учетом детального рассмотрения методологической базы представленных работ становится ясно, что столь специфический объект исследования требует максимального учета и традиционных, и новых когнитивных методов исследования. Более того, в рассмотрении механизмов вербализации ментальных структур психических процессов требуется разработка новой методологии, которая позволит компенсировать узкую направленность научных разработок и максимально учтет динамическую характеристику значения, что планируется осуществить в рамках настоящего исследования. При этом для установления динамического характера значения рассматриваемой лексики мы не отказываемся от традиционной методологии и обращаемся к диахронии значения «психические процессы», опираясь на положения немногочисленных разработок в лингвистической науки в нижеследующем параграфе. 64 области традиционной 1.3.2 Исследование лексем, обозначающих психические процессы, в диахронии Основываясь на анализе лингвистических трудов предшественников, можно сказать, что исследование лексем, номинирующих тот или иной психический процесс, в диахронии является явлением довольно редким и узкоспециальным. Тем не менее, нельзя не назвать некоторые интересные работы, в которых вербализаторы динамической характеристики психики были рассмотрены в историческом аспекте на предмет модификации значения. В исследовании Л.А. Калимуллиной, например, особое внимание уделяется изучению метафорических переходов в семантической деривации предикатной лексики, включая эмотивную, на материале древнерусского языка. Автор реализует при этом динамический подход к семантической деривации, что позволяет вскрыть механизмы метафоризации и ответить на вопрос о развитии лексической системы в целом. Уточняя метафорическую «натуралистическую» модель, Л.А. Калимуллина приводит один из постулатов современной науки о том, что абстрактный мир метафоризуется при участии таких метафорических систем, как «натуралистическая» (корреляция системы «человек – природа»), пространственная (корреляция системы «человек пространство») и социальная (корреляция системы «человек – другие люди») (Балашова, 1998)). Иными словами «натуралистическая модель» содержит сведения не только о взаимосвязи и взаимоотношениях человека и природы, но и репрезентирует понятийную сферу «Человек» посредством значений соответствующих предикатов. Соответственно, в процессе метафоризации остаются задействованными следующие лексические слои: «физиологическая сфера человека→эмоциональная человека→эмоциональная человека→эмоциональная сфера», сфера», сфера», «физическая «социальная «психологическая сфера сфера сфера человека→эмоциональная сфера». Автор приходит к выводу о том, что семантический сдвиг в пользу добавления эмоционального компонента 65 значения происходит не только в синхронном, но и диахронном плане (Калимуллина, 2006). В работе зарубежного исследователя Пэйви Коэвисто-Аланко (Päivi Koivisto-Alanko) (2000) проводится диахроническое исследование семантических изменений существительных, номинирующих познание, в русле прототипического подхода. В качестве иллюстративной или некой инвариантной единицы для исследования взято существительное wit. Как отмечает сам автор, именно данное существительное довольно представлено в текстах, датируемых началом XV века; еще более труднодосягаемыми синонимами этого слова в историческом аспекте являются mind и intellect. Все существительные, синонимичные прототипному wit, с точки зрения автора, должны располагаться по степени приближенности значения к ядру на определенных местах семантического поля. При этом автором дается не только интерпретация системного значения слов, но и контекстуальный анализ преимущественно в переводных исторических источниках. Ученый предполагает, что организация поля возможна исключительно с поправкой на частотное функциональное значение слова при учете его системного толкования. Так, например, существительное wit в единственном или во множественном числе в нескольких вариантах графического отображения в рассматриваемый исторический период встречается в значении «перцепция» (sensory meanings), «хорошие ментальные способности» (good or great mental capacity) или просто «ментальные способности» (mental capacity). Последнее значение соотносит рассматриваемое существительное с прототипическим центром «познание» (COGNITION). Окказиональное употребление существительного wit в значении «качество и скорость ментальных операций» отсылает, по мнению автора, к прототипическому центру «выражение» (EXPRESSION). Таким образом, проанализировав максимально доступные исторические памятники различных периодов развития и становления английского языка, Пэйви Коэвисто-Аланко проводит срез частотности 66 сближения семантики существительного wit с тремя указанными центрами: COGNITION, PERCEPTION и EXPRESSION. Вследствие этого приходит к интересному умозаключению о том, что семантический сдвиг значения от системного, коррелирующего со значением области COGNITION, в результате исторических перемен происходит в пользу EXPRESSION. Иными словами, ученый прослеживает тенденцию модификации значения соответствующего существительного-универсалии и приобретения им дополнительных положительных коннотаций (Koivisto-Alanko, 2000). Оба приведенных исследования на историческом срезе модификации значения указывают на изменение семантики слов в пользу добавления «эмоционального или экспрессивного компонента». Это, естественно, осложняет системное значение и влечет за собой появление полисемантов и, как следствие, синонимии. Соответственно, изучение этимологических характеристик наиболее репрезентативных лексем психических процессов видится актуальным для настоящего исследования, поскольку полученные сведения дадут возможность указать на модификацию значения или ее отсутствие на протяжении функционирования той или иной лексической единицы от момента возникновения до этапа современности. И если гипотеза об исторических подтвердится, метаморфозах разработка значения методологии рассматриваемой настоящего лексики исследования будет проводиться с учетом критерия актуальности (хронотопичности) значения в дискурсе, который позволит определить траекторию модификаций семантики слов в процессе речетворчесттва. Обратимся непосредственно к этимологическому анализу наиболее рекуррентных лексических единиц. Одним из репрезентативных вербализаторов психических процессов является прилагательное mental, которое происходит от латинского mentālis, mēns, что соответствует современному «mind» и первоначально имеет буквальное значение «ментальный, относящийся к сфере сознания». Помимо заявленного значения, этимологические словари свидетельствуют также о 67 референции прилагательного mental и значения «художественный вкус», «философское осознание» и датируют эту референцию 1782 годом (ED). Дальнейшее использование прилагательного mental относится к трактовке различных заболеваний, психических расстройств. Современное же толкование рассматриваемого прилагательного как «ментальный, интеллектуальный» наряду с первоначальным значением «психически больной» (которое, кстати, отодвигается на периферию семантической структуры) допускает и участие этого прилагательного в сленговых выражениях для описания психически нездорового человека, сумасшедшего, например: «3. (Psychiatry) affected by mental illness a mental patient; 4. (Medicine) concerned with care for persons with mental illness a mental hospital; 5. (Psychiatry) Slang insane» (TFD). Несмотря на тот факт, что прилагательное mental, согласно словарным дефинициям, довольно рекуррентно в медицинском, научном дискурсе, оно способно приобретать и коннотативный оттенок значения. Например, словосочетание mental handicap говорит о некоторой несостоятельности или ущербном функционировании психических процессов. Даже учитывая то обстоятельство, что оно беспристрастно и безоценочно описывает умственную неполноценность человека (mental handicap «(noun) a condition in which the intellectual capacity of a person is permanently lowered or underdeveloped to an extent which prevents normal function in society» (OD)), в последнее время в научном дискурсе заменяется термином learning difficulties («difficulties in acquiring knowledge and skills to the normal level expected of those of the same age, especially because of mental disability or cognitive disorder» (OD)). Считается, что термин learning difficulties является менее оскорбительным и дискредитирующим по отношению к людям, страдающими умственными недостатками («In emphasizing the difficulty experienced rather than any perceived ‘deficiency’, it is considered less discriminatory and more positive than other terms such as mentally handicapped, and is now the standard accepted term in Britain in official contexts» (OD)). Таким образом, получается, что словосочетание mental 68 handicap с течением времени, переходя из научного дискурса в общедоступную дискурсивную среду современности, становится оценочным и несет в своей семантике отрицательную коннотацию. Идентичная ситуация наблюдается касательно прилагательного mental в сочетании с существительным или при самостоятельном употреблении в качестве субстантива в отношении описания психических заболеваний. И если словосочетание mental illness релевантно в медицинском и научном дискурсах в нейтральном значении «(noun) a condition which causes serious disorder in a person’s behaviour or thinking» (OD), то в художественном дискурсе у лексемы высвечивается отрицательная коннотативная часть значения, которая соответствует русскому «больной» в отношении психических отклонений и употребляется для преувеличения недовольства поведением здорового и психически нормального человека: 1) I think he was a little worried that I might be mental (OD). Независимо от второй части словосочетания с прилагательным mental в случае с описанием психического здоровья, в контексте современного научного, медицинского и художественного дискурса со второй половины XX данное прилагательное является оскорбительным, неприемлемым столетия, о чем говорится в словарях: «The use of mental in compounds such as mental hospital and mental patient was the normal accepted term in the first half of the 20th century. It is now, however, regarded as old-fashioned, sometimes even offensive, and has been largely replaced by the term psychiatric in both general and official use» (OD)). Таким образом, получается, что в случае с прилагательным mental при учете его дистрибутивных характеристик подтверждается тенденция изменения значения в сторону приращения экспрессивного компонента. Однако такую тенденцию нельзя абсолютизировать, поскольку модификации значения остальных лексем происходят в пределах не только оценочного, но и денотативного компонента. 69 Например, существительное perception, которое в современных толковых словарях трактуется как восприятие посредством органов чувств с последующей категоризацией («1. the process, act, or faculty of perceiving; 2. the effect or product of perceiving; 3. a. recognition and interpretation of sensory stimuli based chiefly on memory; b. the neurological processes by which such recognition and interpretation are effected» (TFD)), первоначально (в XIV веке) ассоциировалось преимущественно с интеллектуальной сферой («the taking cognizance of»; «intuitive or direct recognition of some innate quality») (ED)). Из этого следует, что модификация значения лексемы происходила исключительно в предметной области психических процессов при отсутствии коннотаций. В настоящее время рассматриваемое существительное, как правило, обозначает различные виды восприятия и нерекуррентно для описания исключительно ментальных операций. Лексема sense, вербализатором будучи ощущения, в настоящее первоначально время преимущественно соотносилась с перцепцией посредством органов чувств («to perceive by the senses, 1520» (ED)), впоследствии же обозначала «умственные способности» («mental faculties, sanity from 1560s» (ED). Как и в случае с лексемой perception, речь в данном случае идет об изменении денотативного компонента в пределах предметной области обозначаемого и при отсутствии каких-либо коннотаций. Другая ситуацию рекуррентная ментального лексема акта attention внимания первоначально («mental heeding» описывала (XIV век)). Примечательным является также факт сочетания данного существительного с различными глаголами («Used with a remarkable diversity of verbs» (e.g. pay, gather, attract, draw, call)) (ED). В настоящее время семантическая структура в данном случае расширилась, что отразилось на способности лексемы attention описывать и интеллектуальное, и чувственное внимание, при этом ее способность мотивировать глаголы различных семантических групп для описания аттрактора внимания сохранилась по настоящего времени. 70 В описании субстрата психических процессов в современном понимании интересной видится лексема mind, обозначающая разум в современных толковых словарях. Первоначально данная лексема описывала процессы памяти («memory, remembrance, state of being remembered, late XII с.» (ED)). В настоящее время ее семантика коррелирует с понятием «разум», которое как целое соотносится с понятием памяти, что можно проиллюстрировать соответствующей словарной дефиницией: «1. The human consciousness that originates in the brain and is manifested especially in thought, perception, emotion, will, memory, and imagination» (TFD). Другие лексемы, imagination, language, номинирующие memory), не психические процессы претерпели особых (concept, семантических метаморфоз: как в их инициальном значении, так как и в современном, присутствует прямая корреляция с ментальной картинкой – «draft, abstract» (ED), воображением – «faculty of the mind which forms and manipulates images» (ED), вербализацией мыслей – «act of speaking, manner of speaking, formal utterance» (ED), памятью – «recollection (of someone or something); awareness, consciousness» (ED). Однако лексема memory зачастую ассоциировалась с эмоциональным подтекстом «care, thought, mermeros causing anxiety, mischievous, baneful, mourn, remember sorrowfully» (ED), что, в основном, говорит о коннотативном аспекте ее значения. Последнее обстоятельство не актуально на сегодняшний день, что отодвигает подобное значение на периферию семантической структуры. Эмоционально-волевая сфера, представленная репрезентативными лексемами emotion и will, изначально, с момента появления рассматриваемых существительных, проявляет идентичные сегодняшним семантические особенности. Иными словами, существительное emotion, первоначально ассоциируемое с волнением (moving, stirring, agitation), впоследствии начало обозначать сильные чувства «strong feeling» (1650) и в результате стало зонтиковым номинантом для всех проявлений аффективной сферы («any feeling 71 (1808)») (ED). В таком качестве лексема emotion существует и по настоящее время. Лексема will как в начале своего исторического семантического пути называла и продолжает называть любые волевые процессы (wish, desire, want) (ED). Небольшой обзор семантических модификаций лексем, номинирующих основные психические процессы, показывает, что изменение их значения происходило по нескольким направлениям: изменение денотативного и изменение коннотативного компонента значения. Такие выводы обращают нас к объяснению системной и контекстуально обусловленной полисемии с опорой на постулаты когнитивной лингвистики и гештальт-психологии, представлению ментальных структур, ассоциируемых с гештальтом как зонтиковым конструктом, выполняющим инструментальную роль в процессе формирования знаний о психических процессах. Такой гештальт, как сугубо психологический термин, организован слаженной работой психических процессов. О том, каким образом психические процессы выступают в качестве посредника между действительностью и языком, будет говориться в нижеследующем параграфе. 1.3.3 Инструментальная роль психических процессов в исследовании проблем вербализации действительности Со времен античности считалось, что язык существует во взаимосвязи с психическими процессами, опытом и внутренним миром его носителей, поэтому вопрос соотношения в диаде «язык – психические процессы» на протяжении истории лингвистики исследуется с точки зрения определения языка в ходе социальных взаимодействий, с позиций учета познавательных процессов, а также языкового фактора в формирования когнитивных способностей субъекта. При этом, будучи средством коммуникации, язык функционирует как средство выражения мысли, а также как выразитель субъективного отношения к высказываемому. Таким образом, чувства, эмоция, 72 воля, оценка и т.п. являются неотъемлемыми факторами в познании человеком действительности. «Стремления, желания, эмоции и чувства возникают в силу, того, что отражаемые нами предметы и явления действительности затрагивают наши потребности и интересы и выражают нашу связь с миром, нашу привязанность и тягу к нему.... Вещи и явления действительности, таким образом, изначально причастны к самому возникновению психических явлений, которые они и отражают» (Александрова, 2009: 78). Среди авторских точек зрения на предмет соотношения языка и психических процессов можно прежде всего выделить исследования А.А. Потебни и Г. Штейнталя, где речевой акт рассматривается исключительно как психическое явление. По этому поводу А.А. Потебня пишет, что «язык объективирует мысль... Мысль посредством слова идеализируется и освобождается от... влияния непосредственных чувственных восприятий...» (Потебня, 1989: 237, 196, 197). В интерпретации младограмматиков Г. Пауля и К. Бругмана, язык представляет собой систему ассоциаций или «психических образов». По мнению Г. Пауля, психология является для языкознания «законоустанавливающей» наукой, поскольку язык относится к психическим явлениям и «всякое языковое творчество всегда индивидуально». Соответственно, «психическое ... совершается в единичной душе, согласно общим законам индивидуальной психологии» (Пауль, 1960: З6 – 40, 51). В сравнении с первыми научными изысканиями современные науки о языке не стремятся определять пропорции рассматриваемого соотношения, но отличаются междисциплинарностью и стремлением рассматривать психические процессы исключительно как компонент механизма передачи, получения, переработки и хранения знаний субъекта. Думается, что объективное исследование становится возможным при учете данных наук, смежных с лингвистикой, вследствие чего возникают новые междисциплинарные отрасли знания – психолингвистика и когнитивная лингвистика, определяющие приоритетную 73 роль взаимосвязи языка и мышления в широком смысле этого слова. Психолингвистика усматривает необходимость исследования роли языка в формировании и развитии психики, влияния речевой деятельности на динамическую характеристику психики. Речь при этом рассматривается с точки зрения функции организация всех психических процессов (Ковшиков, 2007), универсального инструментария воздействия на окружающую реальность. Полагается, что «…вместе со словом в сознание человека вносится новый modus operandi, новый способ действия» (Воображение…, 2002). Иными словами, взаимосвязь психики и языка заключается в том, что «процесс порождения речи представляет собой переход от смысла, который существует в «образной форме», к тексту и передается в языковой, знаковой форме, а процесс восприятия речи представляет собой переход от текста к смыслу» (Ковшиков, 2007). Такая взаимосвязь многогранна и неоднозначна, поскольку психика воплощает себя в образах, а язык служит средством коммуникации, выступая в виде знаковой системы. Так, утрируя процессы получения, хранения, передачи и переработки знаний с точки зрения психолингвистики, можно полагать, что психические процессы способствуют получению образов, отпечатков объектов окружающей действительности в сознании, активизации и развертыванию содержащихся в сознании ментальных структур, а язык соотносит полученные образы с определенными знаками (Куприева, 2013). Как справедливо замечает Н.В. Крушевский в своей книге «Очерк науки о языке», «развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий» (Крушевский, 1883: 149). Таким образом, ученые полагают, что языковые категории должны иметь объективный базис, именуемый «объективный реальный мир», который в свою очередь, должен быть структурирован как язык (Лапшина, 1998). Обращение к основным постулатам психолингвистики или отражению объективного настоящего в субъективном мире в настоящем исследовании обусловлено необходимостью поиска подходящего инструментария для 74 выявления особенностей передачи смысла посредством лексических единиц в современном английском дискурсе. Изучение категориального аппарата когнитивной лингвистики связано с поиском оперативной единицы, структуры, обеспечивающей хранение, передачу и получение информации из внешнего мира. Иными словами, гипотеза диссертации базируется на учете роли психических процессов в формировании ментальных структур и способов передачи информации (Куприева, 2014а). В таком случае мы опираемся на высказывание И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что «...из языкового мышления можно выявить целое своеобразное языковое знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуальнопсихологического и социального (общественного)» (Бодуэн де Куртенэ, 1963: 312). Учет постулатов когнитивной лингвистики и психолингвистики в настоящем исследовании ставит во главу угла вопрос о рассмотрении «вещи в себе». Иными поставленной словами, особого психолингвистикой внимания заслуживает «проблемы проекции» исследование (Baker, 1979) психических процессов в сознание, а также интересующий когнитивную лингвистику вопрос их вербализации посредством изучения ментальных репрезентаций как результата слаженной работы психических процессов в том числе. Как отмечал Дж. Лакофф, «структуры, организующие наши концептуальные системы вырастают из нашего телесного опыта и выводят смысл на его основе … те же концепты, которые не опираются прямо на опыт, используют метафору, метонимию и ментальную образность, базирующиеся на нем» (Lakoff, 1987: xiv). Согласно такой точке зрения, мышление субъекта автономно обрабатывает абстрактные символы, которые впоследствии приобретают значимость посредством соотнесения с референтами номинации. Референт номинации (в нашем случае – психические процессы), согласно данным психологических и когнитивных источников, описывает психические процессы как условно выделенные 75 составные элементы психики, специфические триггеры познания окружающей действительности, функционирующие слаженно, независимо от желания индивида и его намерений. И если учитывать вышесказанное, а также энциклопедический характер значения слова (Croft, 2004), можно предположить, что все лексемы, соотносящиеся с вниманием, памятью, мышлением, воображением, восприятием и т.д., должны быть априори отнесены к классу «психические процессы». Однако количественный параметр класса рассматриваемых слов, по итогам наблюдения за фактическими данными, не может ограничиваться исключительно критерием соотнесенности с экстралингвистическими данными. Логика междисциплинарного подхода к анализу языковых фактов в русле когнитивного подхода диктует необходимость соотнесения сложных языковых фактов с ментальными структурами, выступающими в качестве систем лексической организации, то есть структурами хранения, переработки и передачи соответствующих сведений о психических процессах. Учет ментальных моделей в качестве инструментария когнитивного исследования предполагает выявление способов их существования, функционирования и развертывания, независимо от типа и характера строения, а также факторов, определяющих стабильность, с одной стороны, и лабильный характер, с другой. Одним из таких факторов, обеспечивающих сознание человека знанием и отвечающим за лабильность ментальной структуры, является человеческая деятельность. Думается, что обращение к теории деятельности в настоящем исследовании позволит осветить вопросы взаимосвязи рассматриваемой нами диады «психические процессы – вербализация психических процессов», а также указать на принципы формирования опыта и его накопления. 1.4 Специфика деятельностного (процессуального) подхода как способа осмысления речемыслительных процессов 76 Разработанный в русле психологических учений деятельностный подход, несмотря на свою продуктивность, в течение длительного времени был прерогативой исключительно психологии, в то время как отечественное и зарубежное языкознание оставалось несколько в стороне от инновационной парадигмы. При этом психологи уже переходили границы собственно психологии, обращались к языку и постулировали тот факт, что мышление и язык в тесной их взаимосвязи и переплетении так или иначе являются производными самой познавательной деятельности субъекта (Леонтьев, 1972). Иными словами, утверждалось, что понятие о предмете окружающей действительности, впоследствии коррелирующее с языковой номинацией, представляет собой не простое отражение предмета в сознании индивида, а его субъективное преломление сквозь призму абстрагирования, обобщения и фантазии. Такая «отражательная сторона» значения, естественно, характеризовалась деятельностным или (в терминологии когнитивистики) процессуальным характером (Лапшина, 1998: 17), комплексно формирующим опыт и его передачу посредством семантики лексем. И впервые о том, что лексическое значение есть накопитель опыта социума, практической деятельности такового, причем не только его результата, но и самого процесса деятельности, заговорил психолог, основатель деятельностного (или процессуального 2 в нашем понимании) подхода к семантике Л.С. Выготский, который справедливо заметил по этому поводу, что «мысль не выражается, а совершается в слове» (Выготский, 1982: 307). Бесспорную формулу по поводу взаимосвязи внутреннего и внешнего содержания в подтверждение мыслей Л.С. Выготского выразил С.Л. Рубинштейн в своей знаменитой фразе о том, что «внешние причины действуют через внутренние условия» (Рубинштейн, 1957: 226). Идентичной точки зрения придерживается Г.П. Щедровицкий, описывая значения в 2 В настоящем диссертационном исследовании (здесь и далее) термины «деятельностный» и «процессуальный» рассматриваются как синонимы. Терминологическая подмена в пользу термина «процессуальный» осуществляется умышленно с целью акцента характера формирования значения в процессе отражения психикой субъекта окружающей действительности. 77 качестве системных способов деятельности человечества с материалом знаков (Щедровицкий, 2005). Освещая метод работы и способ мышления, автор обращается к выявлению и толкованию основных принципов деятельности, куда в первую очередь относит «идею деятельности» как отражение мыслительных операций направленных на (в том осмысление, числе поиск и и операций выявление категоризации), закономерностей функционирования экстралингвистических предметов, приобретающих в нашем сознании форму объекта. Иначе говоря, все предметы окружающей нас действительности деятельности в представляются нашем отражениями, сознании. Такое импринтами положение дел видов позволит Г.П. Щедровицкому утвердить примат «действования над знанием и принцип непрерывного отставания знания от действования» (Щедровицкий, 2005: 42). С учетом приоритета деятельности ученым выводится третий принцип – системный, отражающий положение о том, что сами категории – как онтологические и методологические основания – являются результатом деятельности и впоследствии влияют на нее. Такой принцип, по мнению Г.П. Щедровицкого, носит характер замкнутого круга. Столь прозрачная теория о взаимосвязи жизнедеятельности социума и знаковой системы существенно набирает обороты, что позволяет идее деятельностного подхода к семантике слова найти воплощение и продолжение в работах многих известных психологов и психолингвистов (А.Н. Леонтьев (1972; 1975), А.Р. Лурия (1963), А.А. Леонтьев (1971), А.А. Залевская (1982), Л.В. Сахарный (1985; 1989)). Исследователями преимущественно отмечается, что значение обусловлено и внешними социальными, и внутренними психологическими факторами. При этом значение отождествляется с процессом и противопоставляется вещи, с одной стороны, и ассоциируется с динамической иерархией процессов, а не с системой или совокупностью вещей, с другой. Именно такая установка легла в основу появления синонимичного термина «процессуальный». 78 Наблюдая за активной разработкой психологами по большей части лингвистических проблем, отечественная и зарубежная наука о языке не может удержаться от некоторых весьма значительных замечаний в пользу деятельностного (процессуального) подхода к языку. На начальном этапе становления деятельностного подхода в лингвистике Л.В. Щерба аппелировал к понятию «речевая деятельность» и противопоставлял его понятиям языкового материала и системы языка (Щерба, 1974). В трудах В. Гумбольдта деятельностью считалось не всякое порождение речи, а лишь то, которое предназначается для восприятия (Гумбльдт, 1985). Спустя годы лингвистика обращается к процессуальному характеру речевого общения и опирается на генетическое и функциональное связывание языка и деятельности как общепризнанной лингвистической методологии (Карташкова, 1999: 26). Учеными предполагается, что посредством такого бленда сокращается разрыв между социальными процессами и коммуникацией, иными словами, между языком как таковым и знаниями о мире, мышлением в традиционной диаде. Как справедливо отмечает В. Хартунг, благодаря процессуальному подходу к языку, находят отражение даже «самые существенные аспекты включенности языковых феноменов как в сферу человеческой личности, так и в социальную действительность» (Хартунг, 1989: 43). В отечественной лингвистике конца 70-х – начала 80-х годов XX века также прослеживается тенденция обращения к деятельностному, или так называемому процессуальному подходу. В частности, ученые подчеркивают тот факт, что «само понятие языка включает динамику языка как деятельности» (Колшанский, 1975: 27). Предполагается, что в языке отражается не собственно мир, а то, что передается в сознание посредством работы когнитивных процессов (Серебренников, 1988). Лингвисты пытаются исследовать речевую деятельность, преимущественно те ее составляющие, которые соотносятся с поиском и 79 выбором и номинативных, и словообразовательных средств. Как отмечает Е.С. Кубрякова, деятельностный подход к языку «делает ясным, что функционирование системы словообразования тесно связано с речевыми стратегиями говорящих и тактикой их обращения с единицами номинации» (Кубрякова, 1984: 21). В рамках стремительно развивающегося деятельностного подхода к языку происходит становление концепции Дж. Томас (Thomas, 1996), который убедительно доказывает необходимость рассмотрения и описания значения в определенных коммуникативных актах с учетом того, что значение есть не только системная семантика слова, но и смыслы, вкладываемые коммуникантами в процесс общения. Соответственно, Дж. Томас усматривает в формировании значения (meaning making) динамический процесс, включающий значение слова, характерное для определенного коммуникативного акта, контекст и потенциальное значение высказывания. При этом автор называет использование языка в конкретных коммуникативных актах отражением контекстуальных переменных (variables). Следовательно, акт коммуникации способствует изменению в семантике языковых единиц (Thomas, 1996: 22, 146). Такая интерпретация деятельностного подхода позволяет автору вести речь о том, что формирование и модификация значения есть результат совместной деятельности участников акта коммуникации. Применительно к теории речевой деятельности Е.Ф. Тарасов формулирует основные понятийные единицы такого подхода. Автор пишет, что «…предметом анализа в теории речевой деятельности являются процессы производства, восприятия речи и усвоения языка, единицей анализа – психологическая операция» (Тарасов, 1987: 128). Из положений, предложенных ученым, явно следует, что процессуальная теория обнажает сближение целеполагания и предметности в связи с направленностью речевой деятельности на удовлетворение потребностей коммуникантов. Как отмечает И.В. Чекулай, «ситуация стоит над субъектом и над деятельностью, поскольку именно она диктует интересы, средства, алгоритмы и результаты выполнения 80 деятельности» (Чекулай, 2006: 99; Принцип оценочной…, 2014). Данная точка зрения является лингвистическим коррелятом положения психологии о том, что «…речь, как и любая целенаправленная деятельность, в своем развертывании зависит от цели, условий, средств и поэтому не может осуществляться по раз и навсегда заданной жесткой системе операций» (А.Н. Леонтьев цит по: Тарасов, 1987: 129). В настоящем исследовании положение о доминирующем влиянии ситуации над выбором языковой единицы принимается в качестве приоритетной при рассмотрении механизмов вербализации ментальных структур психических процессов. Кроме того, в результате рассмотрения некоторых концепций деятельностного подхода в языке и лингвистике, можно выделить еще несколько положений, релевантных для построения авторской концепции. Итак, несомненно, важным постулатом для настоящей диссертации является, во-первых, положение о том, что формирование значения слова носит антропоцентрический характер, иными словами, в основе формирования значения находится субъект как его активный производитель. Таким образом, значение детерминируется деятельностью субъекта и, кроме того, является результатом совместной деятельности участников акта коммуникации. Это означает примат речевой деятельности коммуникантов над содержанием значения, отбором языковых знаков, построением высказываний, мотивированных целью. Во-вторых, в настоящем исследовании с опорой на труды авторитетных психологов и лингвистов формирование семантики рассматривается как динамический процесс, касающийся преимущественно уровня психических процессов при учете их инструментальной роли, в результате чего осуществляется терминологическая поправка, и термин «деятельностный» транспонируется синонимичным ему термином «процессуальный». В-третьих, основными факторами формирования и модификации значения в настоящей диссертации выступают структура деятельности, характер коммуникативного акта, контекст, 81 потенциальное значение высказывания, речевые стратегии и тактика поиска говорящими единиц номинации. В-четвертых, процессуального учитывая подхода тот факт, позволяет что выявить выбранная и методология объяснить принцип включенности и влияния социального фактора на языковую среду, семантика знаков, будучи семантической единицей языка, служит сознанию для построения концептуальных моделей мира. О том, каким образом лексическое значение видится с позиции процессуальной теории, а также о том, как осуществляется когнитивное моделирование посредством учета постулатов процессуального подхода, будет говориться далее. 1.5 Сущность лексического значения в теории деятельности (процессуальной теории Обращение к исследованию значения слова с опорой на процессуальную теорию (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев), теорию фиксированных установок (Рафикова, 1997), теорию лексикона (Залевская, 1990; Залевская, 1988) в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с необходимостью обоснования корреляции модификации семантики и контекста, речевой ситуации, где актуализируются ментальные структуры наивысшей степени абстракции. Учеными предполагается, что слова как «опорные единицы» 3 обладают способностью проектировать в сознании человека концептуальную модель ситуации или вызывать ее. Следовательно, каждая такая опорная лексема (единица) обладает соответствующими характеристиками в пределах определенного контекста, способствующими осуществлению назначенной цели. В результате ряда экспериментов психолингвисты приходят к выводу о том, что «вариативность понимания как результат действия инвариантных 3 Термины «опорные единицы», «ключевые единиы» в настоящем исследовании заимствуются из психолингвистики и теории искусственного интеллекта с целью описания ассоциативного связывания предиката с вербализуюемой им ментальной структурой. 82 тенденций в развитии проекции текста определяется активацией разных подструктур (или подсистем) ассоциативной структуры слова, выступившей в качестве опорного элемента при понимании текста» (Рафикова,1997). Заявленные подсистемы служат проекцией данного слова в «индивидуальном сознании» (термин Э.Е. Каминской (Каминская, 1996)). Они имеют сетевую организацию и в совокупности представляют собой один из более обобщенных уровней формирования проекции дискурса. Однако такой уровень не эквивалентен проекции самого дискурса, поскольку последний находится в сознании говорящего и отождествляется с замыслом и разверткой замысла. Иными словами, содержательная сторона семантики опорных единиц трактуется исключительно при учете концептуального характера таковой и его субъективной формулировке вариативности. гипотезы Такой механизма подход однозначно формирования приводит проекции к текста посредством положений концепции коннекционистских сетей, представлений о структуре категории, концептов и концептуальных полей как «гибких фреймов признаков» (Barsalou, 1992; цит. по: Рафикова, 1997). Отмеченная теория коннекционистских сетей (Eckard, 1993) также стремится выявить особенности ментальной репрезентации, базируясь на положении о динамическом характере сетевой организации в целом и ее составляющих, правилах и способах их организации и функционирования, и выдвигает при этом гипотезы о потенциальной корреляции схем-концептов, схем-признаков признаков концептов и их преобразований. Таким образом, получается, что «на основе одной и той же психологической структуры слова могут складываться разные активные динамические системы, которые в конкретных проекциях выступают в качестве опорного элемента понимания, усиливая вариативный характер понимания текста. Эти динамические системы могут быть названы проекциями данного слова в индивидуальном сознании» (Рафикова, 1997: 62). Однако при этом нельзя забывать тот факт, что динамическая система семантики слова позволяет ему не существовать в форме зафиксированных в словаре концептов, 83 за исключением, вероятно, некоторой ядерной части этой семантической структуры. И окказиональное употребление слова в нетипичном для себя значении и контексте является как раз яркой иллюстрацией заявленного положения. Но, несмотря на подобные казусы, происходящие в процессе коммуникации, индивидуальные различия коммуникантов, функциональная полноценность структуры значения обеспечивается посредством соответствующих подсистем, которыми являются ментальные структуры, соответствующие фреймам, в свою очередь, организующимся в системы. Означенные концептуальные модели позволяют закономерно увязывать «программы преобразования» значения с «ассоциативным значением» в пределах определенного контекста. Иными словами, «каждая подсистема значений имеет своеобразные «маршруты» перекодирования, имеющие различные «скорости» и «пути» прохождения сигнала от поверхностного к глубинному уровню, где стирается грань между значением слова и его контекстом. Таким образом, ассоциативная структура значения слова может рассматриваться как срез различных каналов доступа к знаниям, находящимся на различных глубинных уровнях как своеобразный набор установок, реализующихся в тексте» (Рафикова, 1997: 64-65). Таким образом, как подчеркивают когнитивисты и психолингвисты, осуществляется функционирование и организация ментального лексикона. По этому поводу А.А. Залевская делает интересное замечание о том, что этот самый ментальный лексикон, или в ее терминологии «информационный тезаурус», выступает как одна из «составляющих многогранной системы переработки информации об окружающем мире» (Залевкая, 1990: 9), подчеркивая тем самым и динамический характер лексикона, и его функциональную направленность на обеспечение адекватного понимания коммуникантами друг друга в процессе речетворчества. Тем не менее, несмотря на разнообразие подходов к проблеме ментальной репрезентации с последующей проекцией дискурса, особую 84 актуальность приобретает нерешенная по сегодняшний день проблема – каким образом «единица языка» превращается в «смысловую единицу». И в связи с чем на лингвистический Олимп выходит смысловая компонента, а не система лингвистических значений. И следуя общей тенденции обращения к понятию деятельности, процессуальности при попытке описать характер формирования значения, Т.А. ван Дейк доказательно иллюстрирует роль социального в языковом, чем способствует расширению рамок исследования языка. В своих трудах лингвист отмечает, что понимание текста включает осознание ситуации, отражающей сам текст. Во главу угла в таком случае ставится так называемая модель ситуации, определяющая истинность и когерентность текста в глобальном смысле. При этом ван Дейк специфицирует термин «дискурс», под которым подразумевает сложный коммуникативный феномен, включающий не только текст, но и сведения об окружающей действительности, цели, установки коммуникантов и т.д. (Dijk, 1981). Кроме того, в контексте исследования механизма формирования значения, а точнее смысла, с точки зрения процессуального подхода к языку нельзя не упомянуть понятие прагматического контекста Т.А. ван Дейка (Дейк, 1989). По мнению ученого, понятие «прагматический контекст» выражает высшую степень абстракции различных физико-биологических и прочих ситуаций на том основании, что основная масса характеристик любой ситуации не пригодна для идентификации иллокутивной силы высказывания (Дейк, 1989: 19). По мнению ван Дейка, правильному пониманию ситуации (значения, референции, прагматические цели, интенции и т.д.) могут способствовать верно акцентируемые ее специфические особенности. В таком случае особую роль играют не только соответствующие схемы и концепты, но и стратегии, алгоритмы, которые способствуют быстрому поиску и переработке необходимой информации, иными словами, обеспечивают высвечивание релевантных элементов относительно интенций говорящего (Дейк, 1989: 20). 85 По убеждению Т.А. ван Дейка, коммуниканты всегда нацелены на предвосхищение последующего речевого акта, то есть на его ожидание. При этом полное осознание характера коммуникативного акта происходит вследствии понимания самого высказывания, а также его сопоставления с анализом прагматического контекста. Для обозначения данного обстоятельства ученый предлагает термин «прагматическое предусловие», который существует параллельно понятию «пресуппозиция» (Дейк, 1989: 21). Ситуация прагматического понимания в теории ван Дейка включает активацию специфического типа ситуации, фрейма контекста, соответствующего настоящему моменту, свойствам, отношениям между социальными позициями, функциями, участниками, которые заполняют «вакантные места», а также правилами, законами, нормами, регламентирующими действия людей (Дейк, 1989: 24). Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно определить еще несколько концептуальных формулировки авторского установок, подхода. релевантных Принципиальным для последующей положением для настоящего диссертационного исследования выступает постулат о приоритете передачи не значения, а смысла посредством употребления той или иной лексической единицы в условиях речевой коммуникации. Интерпретация и смысла, и значения лексемы возможна благодаря активации определенной ментальной структуры, которая отвечает за ассоциативные связи лексем в ментальном лексиконе и динамична в отношении актуализации в дискурсе с точки зрения возможных вариантов ее вербализации. Еще одним немаловажным положением, актуальным для настоящей диссертации, является наличие опорных или ключевых лексем (единиц), способных вызывать в сознании говорящего и слушающего ментальные структуры идентичного порядка. Актуализация ментальных структур возможна в дискурсе при учете семантического потенциала их вербализаторов, а также внешних факторов, сопряженных с дискурсивной единицей. Соответственно, в данном случае мы 86 (вслед за Т.А. ван Дейком) говорим об активации актуальной ментальной модели в дискурсе. Последний обеспечивает жизненность ментальных моделей, обеспечивая им полноценное развертывание. Далее опишем его принципиальные свойства. 1.6 Дискурс как пространство актуализации ментальных структур «Дискурс» представляет собой сравнительно новый термин для обозначения «живого» лингвистического объекта. Однако, несмотря на распространенность этого понятия, его активное использование и в качестве объекта, и в качестве инструментария последних лингвистических исканий, оно не имеет четкого однозначного определения. Более того, обзор опыта исследований дискурса в различных дисциплинах показывает, что все большая разработанность рассматриваемого термина провоцирует плюрализм мнений на предмет его толкования. Наиболее общее и емкое по содержанию, на наш взгляд, определение дано в Большом Энциклопедическом Словаре, где понятие «дискурс» трактуется как «связный текст в экстралингвистическими-прагматическими, совокупности с социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» (Арутюнова, 1998: 136-137). По справедливому замечанию О.А. Радченко, дискурс представляется не «как статический лоскут экзистенциального пространства языкового коллектива, а скорее – как в известном смысле «живая прецедентность» любой коммуникации» (Радченко, 2009). 87 Комплексность и многокомпонентность вышепредставленной дефиниции объясняется прежде всего стремлениями авторов словарной статьи вместить в нее всю сущность рассматриваемого понятия. Однако такая задача решается только в лексикографических источниках, в то время как авторское понимание дискурса является несколько узконаправленным, акцентирующим ту или иную грань феномена, наиболее релевантную для проведения исследования. Так, например, Т.А. ван Дейк приравнивает дискурс к единице, составляющей социокультурное взаимодействие в единстве интересов, целей и стилей (Dijk, 1981; Blakemore, 1993). Д. Шифрин отождествляет дискурс с высказыванием, специфицируя при этом корреляцию формы и функции как целостность функционально организованных единиц языка (Schiffrin, 1994: 39-41). Определяя дискурс, П. Серио не может остановиться на однозначной трактовке и предлагает восемь определений рассматриваемого термина. Автору удается приравнять дискурс к речи или любому высказыванию, ограничить размер такового до размера фразы, с одной стороны, и беседы, с другой, указать на его прагматическую основу или способность воздействия на реципиента с учетом ситуации, описать дискурс как социально ограниченный, специфицировать актуализацию речевых единиц в пределах дискурса, а также отметить инструментальную роль дискурса как особого конструкта для поисковых целей (Серио, 1999). А.И. Варшавская отмечает, что дискурс представляет собой ментально-языковой процесс, в то время как текст, по мнению автора, выступает в качестве его результата. Для спецификации заявленной трактовки А.И. Варшавская предлагает термин «дискурс-текст» (Варшавская, 1984). М.Л. Макаров, определяет дискурс в терминологии «текст-предложение- высказывание». Согласно его интерпретации, основной функцией дискурса является выявление баланса дуады «текст-предложение» (Макаров, 2003). Идентичное положение высказывается Дж. Личем, который полагает, что дискурс реализуется посредством сообщения, в котором отражен текст (Leech, 1983). Взаимосвязь текста и дискурса отмечает В.В. Богданов, предполагая, что 88 текст и речь выступают в качестве аспектов дискурса, иными словами, коррелируют с родовым понятием дискурса как его разновидности (Богданов, 1993). Выявляя принципиальное различие между текстом и дискурсом, Т.А. ван Дейк усматривает дискурс в произнесенном тексте, а последний отождествляет с абстрактным грамматическим конструктом произнесенного, соотнося, таким образом, текст с системой языка, а дискурс с речевым событием в режиме реального времени (Дейк, 1989). Е.С. Кубрякова обращается к термину «дискурс» как к лингвистическом объекту для исследований в режиме online (Кубрякова, 2001: 72-81). В трактовке Ю.С. Степанова дискурс представляет собой «язык в языке», но существующий при этом в виде особой социальной данности (Степанов, 1995: 43-44). Словарь терминов лингвистики текста трактует дискурс как: «1. связный текст; 2. устноразговорная форма текста; 3. диалог; 4. группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5. речевое поведение как данность – письменная или устная» (Краткий словарь…, 1978). По мнению В.Б. Кашкина, «дискурсивные практики» выступают основой «организации, категоризации, архивирования и интерпретации человеческого праксиса в целом» (Кашкин, 2005) Проанализировав положения ученых о дискурсе, можно прийти к выводу о том, что текст представляет собой некоторое статичное единство, формальную конструкцию, оживающую в дискурсивном пространстве в режиме реального времени с учетом нелингвистических факторов. Соответственно, применительно к настоящему исследованию дискурс будет трактоваться в качестве живого динамичного образования из включенных в него текстовых единств различного порядка, связанных между собой. Однако столь широкое определение дискурса относительно его составляющих не может быть не специфицировано в настоящем исследовании, поскольку обширные абстрактные понятия типа «дискурс» следует рассматривать исходя из анализа его элементов и связей между ними. 89 Относительно структуры дискурса не является однозначной. Так, например, У. Манн и С. Томпсон, основатели теории риторической структуры, постулируют наличие дискурсивных единиц, связанных между собой риторическими отношениями. Термин «риторический» упоминается авторами как способность единиц дискурса добавляться друг к другу при необходимости с учетом достигаемой коммуникативной цели. Рассматриваемые единицы, как отмечают авторы, могут быть разными по объему – от отдельных клауз до непосредственных конституентов целостного дискурса. У. Манн и С. Томпсон полагают, что дискурс устроен иерархически и разные уровни такой структуры объединены посредством одних и тех же риторических отношений, список которых ограничен числом двадцать четыре. Интересным в такой теории видится факт о способности дискурсивных единиц играть роль и ядра, и сателлита по отношению друг к другу (Фундаментальные направления …, 1997: 307-313). Кроме того, структура дискурса представляется в качестве обмена и взаимосвязи речевых действий фаз речевого взаимодействия и т.д. (обзор работ приводится в: Макаров, 2003: 174–182). По мнению Т.А. ван Дейка, единицами дискурса являются не высказывание, не текст, а целые коммуникативные события и коммуникативные акты. В них выделяют говорящего и слушающего, их нелингвистические параметры, особенности самой ситуации (Дейк, 1989). На основании множества критериев Дж. Юл выявляет речевой акт как минимальную единицу дискурса, при этом трактует его в качестве действия, осуществленного «с помощью высказывания» (Yule, 1996: 47). Школой конверсационного анализа при специфицикации функциональных видов дискурса, в частности, устного диалогического дискурса, выделяются такие единицы, как разговор (conversation), топик (topic), последовательность (sequence), смежная пара (adjacency pair), реплику (репликовый шаг) (turn) (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974). Названные единицы дискурса, как отмечают исследователи, находятся в коммуникативном 90 взаимодействии (interaction), трансакции (transaction), обмене (exchange), ходе (move), коммуникативном акте (act) (Sinclair, 1978; Sinclair, 1982). В традиционном микроструктуру, понимании макроструктуру, структура глобальную дискурса структуру включает и локальную структуру. Таким образом, полагается, что микроструктура представляет собой минимальные составляющие дискурса. Макроструктура, напротив, более значимое образование, включающее в себя тематические, временные, референциальные единства и т.д. (Blakemore, 1993; Dijk, 1981). Несмотря на столь полярные взгляды на специфику, свойства, качества, структуру дискурса, можно сделать четкий вывод о том, что дискурс представляет собой комплексное динамичное образование, воплощением которого в ментальном пространстве сознания служат конструкты различного порядка. Близкими по определению к настоящему исследованию являются положения, разрабатываемые Т.А. ван Дейком и Н.Д. Арутюновой. Согласно трактовке Т.А. ван Дейка, структурой, организующей систему дискурса, служит гештальт в единстве процесса и результата (talk and text (Dijk, 1997). По мнению Н.Д. Арутюновой, «жизненный контекст дискурса моделируется в форме «фреймов» (типовых ситуаций), или «сценариев», делающих акцент на развитии ситуаций (Арутюнова, 1998: 137). Не менее релевантными видятся работы У. Чейфа преимущественно в отношении формулировки когнитивно-прагматических критериев. Дело в том, что ученого всегда интересовали сфера сознания и сфера языка в их взаимодействии и корреляции (Чейф, 1975; Chafe, 1994). В связи с этим в фокус внимания лингвиста попадают такие проблемы, как обоснование языковых механизмов на базе исследования процессов сознания и вопросы письменного/устного языка в их сопоставлении. В структурном аспекте для У. Чейфа дискурс представляет собой объединение интонационных единиц, то есть так называемых квантов дискурса, каждый их которых приравнивается к одному фокусу сознания или новому элементу информации в содержательном 91 плане. Доступная информация (или промежуточная стадия) между старым и новым называется топиком (см.: Кибрик, 1994). В пределах информационной конверсии, которая включает интонационные единицы – идеи объектов, событий и качеств, понимаемые как концепты. Такие концепты, по мнению У. Чейфа, могут находиться в трех стадиях активизации: «активное» состояние, тождественное с классическим названием данной информации; «полуактивное» состояние, или «информация, имеющая доступ», занимающее промежуточное положение между «старым» и «новым», и «неактивное состояние», соотносимое с новой информацией (Chafe, 1994). Если предположить, что дискурс представляет собой гештальт (в терминах Т.А. ван Дейка), в пределах которого функционируют меньшие по топиковой значимости гештальты, можно говорить о поэтапной активации последних в результате постепенного смещения фокуса сознания интерпретатора 4 дискурса 5. Соответственно, для субъекта такие структурные единицы, а вернее, для его сознания, находятся в состоянии различной активности. Учитывая тот факт, что опорные лексемы играют для сознания интерпретатора дискурса стимулирующую роль по развертыванию ментальных структур в определенном поэтапном порядке, речь об этом пойдет в следующей главе. Однако отметим, что такой порядок на определенной стадии не исключает этап соотнесения сознанием полученной из дискурса концептуальной информации с пропозицией. И в данном случае мы соглашаемся с мнением ван Дейка и Кинча (Dijk, 1983: 189-196) о том, что макроструктуры (в нашем случае подобные гештальту) в конечном счете представлены базовым пропозитивным содержанием предложений, которое опять же соотнесено с гештальтом (mapping). Полученные макропропозиции кодируются глобальными текстовыми структурами – текстовой когеренцией и 4 Для разностороннего объективного описания механизма передачи смысла в дискурсе в настоящем диссертационном исследовании из теории искусственного интеллекта заимствуются термины «интерпретатор дискурса» (воспринимающий дискурс) и «конструктор дискурса» (создающий дискурс). 5 Описание механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе в настоящем исследовании строится на двух ключевых принципах: 1) учет механизма восприятия смысла интерпретатором в дискурсивном пространстве при декодировании информации; 2) учет интенций конструктора в процессе создания дискурса при кодировании информации. Думается, что такое разностороннее исследование передачи смысла в контексте дискурса при актуализации ментальных структур, их развертывании, будет способствовать наиболее объективному исследованию. 92 непрерывностью темы. Последние вверяют коммуникантам функции по управлению, планированию и переработке текста. Таким образом, дискурс может быть исследован и в текстовом, и в когнитивном измерении, что в принципе позволит рассмотреть его наиболее объективно и системно с учетом максимального количества нелингвистических факторов, включая социальную ситуацию. Именно неязыковые факторы, такие как, например, конверсационная импликатура, служат неким добавочным сообщением адресату и включают обычные лингвистические значения сообщаемого, контекстуальную информацию, а также дают представления об общем принципе кооперации или когерентности (Grice, 1975). Принцип кооперации как раз отражает сущность и связность содержащейся в дискурсе информации, которая позволяет воспринимать его как единый динамичный комплексный и гармонично развитый организм. Подытоживая вышесказанное, можно определить дискурс как живой динамичный организм, слаженно представлена своеобразными функционирующую квантами информации, систему, которая в очередь, свою поочередно попадающими в поле внимания субъекта. Таким образом, опираясь на исследование У. Чейфа (Chafe, 1994), можно сказать, что дискурс представляет собой систему, сетевую организацию гештальтов, в зависимости от интенций коммуникантов попеременно оказывающихся в режиме «активность». Объединение гештальтной системы в целях поддержания непрерывности темы в пределах дискурсивного пространства осуществляется за счет макропропозиций, которые, в свою очередь, кодируются текстовой когеренцией и в своей базовой части опираются на пропозициональное содержание. Учитывая тот факт, что в дискурсе актуализируются макроструктуры, то есть гештальты большего и меньшего порядка как динамические структуры, обладающие инвариантным ядерным содержанием и прозрачной периферией, опишем принципиальные свойства таких ментальных конструктов с целью их последующего моделирования. 93 1.7 Ментальные структуры психических процессов Термин «ментальная структура» выступает зонтиковым для обозначения конструктов, участвующих в категоризации действительности, что обеспечивает функциональную вариативность соответствующих конструктов сознания. При всем богатстве выбора, учитывая принципиальные особенности объекта исследования, а также инструментальную роль психических процессов, которая в гештальтпсихологии определяется посредством выделения динамической характеристики психики в единую систему, полагаем, что для описания механизмов вербализации психических процессов релевантен гештальт как особая модель ментального порядка. Таким образом, в настоящем исследовании не только выбирается наиболее актуальный и современный инструментарий, но и дополнительно подчеркивается связь и корреляция лингвистического и экстралингвистического знания. Итак, зеркально отражая структуру организации психических процессов, концептуальная составляющая гештальта может быть представлена как система перцептивной (ощущение, восприятие), интеллектуальной (представление, мышление, внимание, воображение, речь) и аффективной (эмоции, чувства, воля) сфер, функционирующих в их единстве и целостности. Результатом функционирования сфер гештальтной структуры является нерасчлененное восприятие и отражение окружающей действительности в сознании (Телия, 1986). Таким образом, гештальт совмещает в себе переплетение концептуальной информации и речево-умственной деятельности человека: образный, схематический, фреймовый, сценарный или разные комбинации этих уровней (Телия, 1986). Кроме того, в совокупности элементов динамической характеристики психики гештальт способствует вербализации психических процессов средствами современного языка. По мнению В.Н. Телия, гештальты 94 осознаются людьми, когда они «…используют образно мотивированные наименования – не только фразеологизмы, но и слова» (Телия, 1986). При всех универсальных положительных особенностях гештальта для современных наук, данный термин прошел долгую стадию формирования собственного содержания. Первоначально понятие «гештальт» (Gestalt) возникает из немецкого языка, где впервые упоминается в качестве термина в учении К. Левина и переводится как «форма, структура» или «целостная конфигурация». Впоследствии в лингвистической науке термин «гештальт» дефинируется как структура организации мыслей, восприятия, моторной деятельности и языка (Лакофф, 1981). У истоков теории гештальта стояли Дж. Лакофф (Лакофф, 1988), Л.О. Чернейко (Чернейко, 1996) и др., которые рассматривали его в качестве целостной мыслительной модели, способной упорядочить многообразие явлений в сознании, представляя собой нечто целостное, вмещающее, как динамичное, так и статичное. Считается, что типичными гештальтами являются концепты, наподобие, «жизнь», «любовь», «игра», «наслаждение» и пр. В настоящее время и в психологической науке, и в лингвистике о гештальте принято говорить не тогда, когда наличествует сходство двух феноменов по числу идентичных элементов (в данном случае получается сумма) (цит. по: Телия, 1996), а когда отсутствует прямая корреляция между определенным числом идентичных элементов, и при этом она выводится из их функциональных особенностей (Маслова, 2001; Телия, 1996). Также как и в психологическом знании, в лингвистике особенно подчеркивается целостность таких структур, обусловленная не простой совокупностью их элементов, а их качествами, что позволяет им восприниматься одновременно. При этом гештальты разложимы элементы «часть» и «целое», которые связаны особыми отношениями «фигура-фон». Работа принципа целостности и соотнесенности целого и его частей, как показывает системный анализ работ ученых в области гештальтпсихологии и когнитивистики, может быть экстраполирована в 95 область синонимических приравнивается к свидетельствуют данные отношений, актуализации где актуализация соответствующего современной значений слов гештальта. Как гештальтпсихологии, одна такая когнитивная структура также не исключает наличие другой, а та, в свою очередь, третьей, более дробной, и далее. Результатом такой структуризации сознания является богатая и разнообразная «фоновая структура, необходимая для полного понимания любой данной ситуации» (Язык и моделирование…, 1987). Однако при неоспоримом наличии указанных преимуществ, большая часть такой структуры (если не полностью вся структура) не осознается. Интересным наблюдением гештальтпсихологов является положение о высвечивании части в целостной структуре гештальта. Так, процесс понимания, по их мнению, высвечивает только те компоненты ситуации, которые соответствуют гештальту, и «скрывает или преуменьшает значимость тех, которые ему не соответствуют» (Язык и моделирование…, 1987). Кроме того, не менее положительным свойством гештальтов является их связь с другими гештальтными структурами. Таким образом, проецирование части одного гештальта влечет отображение другого гештальта, и, как результат, «наследование» частями второго гештальта свойств первого. Соответствующая динамика гештальтной структуры позволяет ей приобретать новые свойства при пересечении с другими гештальтами (Лакофф, 1981), что и определяет его открытость, энергетику и взаимосвязь с внешней средой. Такое положение вещей соответствует пониманию поэтапного развертывания схемы гештальта, когда сознанием интерпретатором осуществляется восприятие поверхностных характеристик или категорий базового уровня обобщения (Лаккоф цит. по Залевская, 1997), что соответствует развертыванию гештальтов, попадающих в фокус сознания интерпретатора (то есть активных гештальтов, в терминологии У. Чейфа (Чейф, 1975; 2003)). Последние в соответствии с основным пропозициональным содержанием предложения выходят на уровень передачи смысла опорной единицы дискурса. При этом на первый план выходит вопрос 96 организации смыслов, соотносящихся с гештальтной структурой. Рассмотрение данного вопроса базируется на предположении о прототипной организации, которая опирается на когнитивные точки отсчета для обработки понятий с последующим соотнесением единицы с прототипом-ядром-периферией. Благодаря такой прототипной организации смысл, заключенный в значении слова, сравнивается с номинацией и оказывается неизолированным от общих знаний о мире (Лапшина, 1998). Исследование лексического значения с позиций прототипического подхода позволяет утверждать, что само значение прозрачно, не ограничено, динамично в развитии (Geeraerts, 1983; 1985). Такая нечеткость границ лексического значения хорошо известна в американской философии (fuzzy edges в терминологии У. Куайна (Quine, 1960)) и зарубежной лингвистике (Weinreich, 1966; Lakoff, 1972, Labov 1973). Мысль о прототипическом инвариантном каркасе и непрототипических характеристиках наталкивает на мысль о способности гештальта к постоянной идентификации за счет инвариантного каркаса и изменению, постоянному взаимодействию с внешним миром с целью приращения новых сведений, позволяет гипотетически соотнести гештальт с открытой системой, способной к модификации при сохранении базового содержания, что отсылает к терминосистеме синергетики. Таким образом, гештальт представляет собой высокоорганизованную когнитивную модель, выполняющую инструментальную роль и способствующую объективному исследованию вербализации психических процессов в современном английском дискурсе. Кроме того, гештальт понимается нами как концептуальное хранилище смыслов, процессов, передаваемых способное посредством к лексических постоянным единиц модификациям психических на уровне непрототипических признаков и устойчивости за счет прототипической базы. Помимо способности гештальта вступать во взаимодействие с другими гештальтами, пересекаться с ними и приобретать новые сведения благодаря такому взаимодействию, отмечается способность гештальта иметь базисные 97 прототипические свойства и содержать непрототипические. В настоящем исследовании мы опираемся на следующие положительные свойства гештальта: как синкретизм и дискретность, фигура и фон, взаимосвязь элементов. Также немаловажной особенностью гештальта, релевантной для настоящего исследования, является его способность вмещать фреймы в качестве структурных единиц (Куприева, 2013б; 2013в). Обратимся непосредственно к его описанию. «Фрейм» стал одним из первых терминов субституции ментальной структуры. Данный термин появился в лингвистике благодаря трудам М. Минского (Минский, 1979; Minsky, 1980), который трактовал последний в качестве структуры данных для представления стереотипной ситуации. С таких позиций фрейм рассматривался как набор слотов, содержащих типичную информацию, ассоциируемую с той или иной стереотипной ситуацией. «Отклонение от заданного фреймом курса» обеспечивалось за счет наличия незаполненных слотов, способных содержать дифференцирующую информацию для каждого конкретного случая. Впоследствии, разумеется, термин фрейм приобретает более комплексную трактовку и определяется как «… общий каркас, стереотип, который каждый раз наполняется специфическим содержанием. Построение его осуществляется при соотнесении получаемой из текста информации с той областью практических знаний о мире, к которой непосредственно относится полученное адресатом сообщение» (Петрова, 1990: 77-81). Данное построение включает: как основной тип репрезентации знаний «модель ситуации», конструкты (описывающие знание, которое является частью концептуальной системы (Дейк, 1989: 16)), когнитивную карту слов (ее можно рассматривать как постоянную всех направлений, по которым идут преобразования семантики (Кубрякова, 1999)), понятие, «служащее для обозначения того, как человеческие представления хранятся и функционируют в памяти» (Карасик, 2004: 128), альтернативный способ «видения вещей» (Филлмор, 1988: 61-62). Фреймы, по мнению Ч. Филлмора, создают «мир-посредник», который является 98 проекцией способов выражения содержания, характерных для языка (Филлмор, 1988: 61-62). В итоге, фрейм выступает в качестве единицы знаний, структурированной вокруг того или иного концепта и содержащей ассоциируемые с ним сведения (Dijk, 1981; Beaugrande, Dressler, 1981), модель представления сведений о стереотипной ситуации (Минский, 1979), одну из ментальных структур для репрезентации конкретных часто повторяющихся ситуаций (Ungerer, Schmid, 1996). Несмотря на схожесть и полярность взглядов, ученые придерживаются мнения о том, что структурно фрейм несколько неоднороден. Он представляет собой структуру, иерархично организующую множество слотов/ячеек/узлов/терминалов обязательного и факультативного порядка (Минский, 1979; Беляевская, 1992; Stevenson, 1993 и др.). Опираясь на положения, разработанные Е.Г. Беляевской, мы усматриваем во фрейме структуру, представленную верхним и нижним уровнями (Беляевская, 1992). На верхнем уровне базируется инвариантная информация в виде ментального каркаса обязательных элементов, а на нижнем – добавочная, факультативная информация, передаваемая необязательными элементами фрейма. Таким образом, можно сделать вывод, что фреймы представляют собой элементы, входящие в структуру гештальта, однако последний не сводится исключительно к их сумме. Более того, гештальт являет собой функциональную структуру, упорядочивающую многообразие отдельных явлений и обеспечивающую сложную взаимосвязь и вербального, и невербального языковых знаков и фреймов, воплощенных в языковые формы. Кроме того, как неоднократно говорилось ранее, гештальт как ментальная структура характеризуется «семантической плотностью», разнообразием вербализующих его лексем. Именно гештальт обеспечивает формирование и модификацию их семантики в определенных дискурсивных условиях при учете интенций коммуникантов. Данный вывод обусловлен учетом постулатов психологической концепции энергетизма и высвобождением энергии при 99 воздействии внешних факторов. Поиск ответа на вопрос, каким образом осуществляется высвобожнение энергии, ее приращение, а также сопряженных с этими процессами аспектов формирования и модификации значения лексических единиц обращает нас к синергетике, которая, несмотря на сравнительную новизну, успела зарекомендовать себя в объяснении крайне сложных лингвистических фактов. 1.8 Терминосистема синергетики и специфика функционирования эволюционирующих систем Синергетическая научная парадигма представляет собой новое научное направление, связанное с поиском общих закономерностей функционирования самоорганизующихся систем. Появление синергетики связано с развитием системного подхода, который на пике своего развития обратился к поиску закономерностей эволюции и самоорганизации комплексных систем. Однако нельзя не отметить тот факт, что появление синергетики было давно предвосхищено древнегреческими мыслителями. Так, об организующей энергии и ее регулирующем воздействии на материю говорил еще Гераклит. Аристотель также допускал, что на устойчивость мира влияют случайности. При этом ученый отмечал, что «все случайное самопроизвольно, но самопроизвольное не всегда случайно» (цит. по Пономаренко, 2004: 46). Сам термин «синергетика» был первоначально введен в научный обиход Г. Хакеном, который полагал, что любые системы от природных до социальных имеют схожие свойства в виде способности формировать новые структуры, причем к образованию этих структур не имеют отношения никакие внешние факторы. Кроме того, ученый полагал, что такие самоорганизующиеся системы характеризуются отсутствием аддитивности по входным воздействиям, то есть обладают сильной нелинейностью, а также открытостью, обусловливающей взаимодействие последней с окружающим миром (Шендяпин, 1998: 3-16). 100 В унисон синергетическому учению Г. Хакена формулируется теория необратимых процессов в открытых системах И. Пригожина. По мнению автора, благодаря избыточного действию вещества во процессов внешнюю рассеивания среду, («диссипации») срабатывает механизм формирования новых структур из хаоса. Такие диссипативные структуры выводят самоорганизовывающуюся систему на новый уровень. Г. Хакен и И. Пригожин говорят о когерентности, кооперативности процессов, которые предотвращают разрушительное воздействие хаоса по отношению к системе. Также известна не противоречащая общей стилистике синергетических учений теория катастроф французского психолога Р. Тома. Он исследовал потерю устойчивости равновесных систем и пришел к выводу о потенциальных катастрофах, то есть скачкообразных волнениях системы на фоне нерезких метаморфоз внешних условий (цит. по Пономаренко, 2004: 45). Российская синергетика как «всеобщая организационная наука» (Богданов, 1989), первоначально представленная в работах А.А. Самарского и С.П. Курдюмова, находит свое практическое применение не только в точных науках, но и в гуманитарном знании: психологии, педагогике, истории, менеджменте, лингвистике разрабатывается в трудах В.И. Аршинова (1999), Л.А. Василенко (2000), Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова (1999; 2000), В.А. Пищальниковой (1998), Г. Хакена (1980) и др. Синергетика впитала в себя передовые положения таких научных дисциплин, как математика, физика, химия, биология, этнология, многомерная и фрактальная геометрия, теория катастроф, качественная теория нелинейных динамических систем, неравновесная термодинамика, нелинейная динамика сплошных сред, теория этногенеза, теория помехоустойчивого кодирования. При этом данная научная парадигма базируется на прочном философском фундаменте, который, в свою очередь, обеспечивает таковой новую линию развития в познании и объяснении сути вещей в объективной реальности. Иными словами, в задачи данной инновационной научной парадигмы входит исследование проблем появления 101 новых объектов, включая информационные структуры, из существующих объектов и информации. В задачи синергетики входит исследование открытых нелинейных систем, которые находятся в состоянии большего или меньшего неравновесия, а также условий, которые определяют переход системы в состояние хаоса и впоследствии к новой ступени эволюции (Пономаренко, 2004: 49). Современный уровень развития синергетики, несмотря на молодость научного направления, позволяет ученым предугадывать пути и сценарии качественных переходов в различных отраслевых системах (Капица, 2001). Кроме того, синергетика, как, пожалуй, ни одна из инновационных научных дисциплин, отличается довольно прочно устоявшейся терминосистемой, включающей такие базовые понятия, как «система», «самоорганизация», «неравновесность», «нелинейность», «диссипативность», «аттрактор», «хаос», «бифуркация», «флуктуация», в результате осмысления которых нам предстают «новые измерения природной, социальной, духовно-нравственной, информационной и техногенной действительности, новые методы описания, анализа, типологизации и интерпретации доступных научному наблюдению явлений и процессов» (Котельников, 2000). Обратимся к рассмотрению базовых терминов синергетики, которые впоследствии будут использоваться в лингвосинергетическом преломлении применительно к настоящей диссертации. Итак, известный многим научным направлениям термин «система», имеющий большое количество приблизительно эквивалентных трактовок, обретает для синергетики первостепенное значение. В различных информационных источниках система выступает как единство составляющих ее элементов, в тандеме характеризуемое свойствами, которые не присущи ни одному элементу системы в отдельности. Л. Берталанфи категоризует систему как единый комплекс взаимодействующих элементов (Берталанфи, 1969). В энциклопедическом словаре система представляет собой целостность, образованную взаимоподчинением ее элементов (Система, 2014). С точки 102 зрения синергетики, интересным видится высказывание И.И. Шмальгаузена о том, что система представляет собой соподчиненную комплексную взаимосвязь, которая в своих противоречиях выражается в непрерывном движении, то есть развитии собственной организации (Шмальгаузен, 1968). Иными словами, объектом синергетических исследований выступают именно открытые самоорганизующиеся нелинейные диссипативные системы живой и неживой природы (Хакен, 1980). Заметим, что самоорганизация как свойство репрезентирует способность системы к саморазвитию и саморегулированию с опорой на собственные ресурсы при учете поступающей извне информации, энергии, вещества и т.д. Актуализация данного свойства возможна исключительно при условии наличия множества составляющих элементов, чье поведение кооперативно и когерентно (Котельников, 2000). Самоорганизация системы характеризуется порядком, то есть таким свойством материи, которое позволяет вычленить как сами элементы, так и характер их взаимосвязи (Карпичев, 2001: 62). Поведение самой системы, ее метаморфозы при приближении к точкам неустойчивости определяется таким понятием, как параметры порядка. Последние способны не только организовывать порядок, но и «представлять беспорядочные, хаотические состояния и управлять ими» (Хакен, 2000: 14). Открытость таких систем характеризует их способность обмена информацией, энергией либо веществом с внешней средой (Герман, 1999). Нелинейность систем отражает тенденцию к метаморфозам при влиянии факторов, находящихся в сложных взаимодействиях; при этом последствия изменений существенно влияют на «каузальные переменные» (Мак-Гайр, 2005: 34). Нелинейность систем детерминирует усиление флуктуаций, то есть «принцип разрастания малого», когда малое становится большим, макроскопическим по последствиям (Герман, 1999: 24). Таким образом, флуктуации становятся началом образования новой структуры, отражающим 103 принцип «от хаоса к порядку через флуктуации». По мнению И. Пригожина и И. Стенгерса, флуктуация тождественна колебанию или случайному от равновесного состояния системы (Пригожин, 1986). Таким образом, равновесное состояние тяготеет к состоянию неравновесности, которое, в свою очередь, представляет собой удаленное положение системы относительно ее стабильности и характеризует процессы обмена информацией между самой системой в динамическом состоянии и внешней средой (Карпичев, 2001). Система также характеризуется через диссипативность, которая служит отражением изменения некоторых величин системы или свойство «забывать» характер внешних воздействий (Крылов, 1990). Иными словами, диссипативность или диссипация представляет собой новое динамичное состояние неравновесной системы, которое отражено в наличии новых структур, уже находящихся вдали от равновесия и определяющих взаимодействие с внешней средой путем рассеивания информации (Пригожин, 1987). Предпосылкой новой упорядоченности системы служит хаос. При некоторой отрицательной коннотации слова «хаос» в житейском понимании синергетика присваивает ему положительную семантику, утверждая, что именно хаос есть такое состояние системы, которое слабо структурировано, нестабильно и слабо предсказуемо (Пригожин, 1986). Хаотичность, разобщенность и разупорядоченность системы характеризуется энтропией, которая является индикатором обратимости процессов. Иными словами, энтропия набирает обороты при активации необратимых процессов и наоборот. Хаосность и крайне неустойчивое состояние системы наиболее очевидно в точке бифуркации как в пункте выбора дальнейшего развития, однозначно непредсказуемого. Непрогнозируемость выбора опять же свидетельствует о случайности приоритета направления системы. Результатом такого выбора является эволюция системы, которая выражается в появлении нового уровня системы. Целью эволюции системы считается аттрактор. Последний, будучи 104 «островком упорядоченности» (в терминологии Е.В. Пономаренко (Пономаренко, 2004)), представляет собой зону относительной устойчивости, наиболее привлекательной для системы. Рассмотренный синергетической выше науки принципиально призван описывать важный инструментарий процессы, обеспечивающие развитие сложных систем. И если утрированно в сжатой форме описывать основной процесс синергетики – эволюцию любой из ее самоорганизующихся систем, можно, в общем и целом, проследить следующую последовательность взаимосвязанных этапов: любая синергетическая система является открытой и относительно устойчивой на определенном этапе своего развития, она поддерживает постоянную связь или своеобразный обмен веществом (будь то энергия, данные и т.д.) с внешней средой. И все это относительное спокойствие и неустойчивое равновесие обеспечивается внутрисистемными параметрами порядка. В таком состоянии конституенты системы, независимо от положения в иерархии уровней, стремятся к аттракторам, то есть наиболее приемлемым и благоприятным целям своего существования. Однако такая мнимая стабильность системы на начальной стадии ее эволюции нарушается за счет «конкурентной борьбы» параметров порядка, что приводит систему в неустойчивое состояние. Рассогласование интрасистемных сигналов и сигналов, поступающих из внешнего мира, приводит к флуктуациям или колебаниям системы, которые с ходом развития событий все больше интенсифицируются, приводя состояние системы к точке бифуркации. Точка бифуркации представляет собой самый важный переломный момент развития системы. Вблизи нее флуктуации набирают особую силу, повышая при этом уровень разупорядоченности или энтропии. Попытки системы вернуть порядок или адаптироваться к измененным условиям приводят к рассеиванию излишка вещества, информации, энергии во внешнюю среду или диссипации. Кроме того, структуры, которые ранее воспринимались системой как устойчивые, становятся излишками и подвергаются разрушениям. Система открывается для 105 пополнения за счет притока внешних ресурсов с целью снятия уровня энтропии и постепенного перехода на новый виток эволюционного развития. Какое именно направление выберет система, находящаяся в точке бифуркации, неизвестно, что в принципе и характеризует ее как нелинейную сущность. Однако независимо от модуса дальнейшего развития система обретает новые свойства, присущие ей как целостному функционирующему образованию, определяемому когерентностью и взаимодействием всех ее конституентов. Новый качественный переход системы на другую эволюционную ступень опять же не провоцирует полноценной устойчивости. Более того, на этом уровне вновь происходит стремление параметров порядка к аттрактору и механизм самоорганизации запускается вновь по уже описанному алгоритму. Рассмотренная выше базовая терминология и способ существования сложных систем есть принципиальный инструментарий синергетической науки, позволяющий ей описывать ситуацию самоорганизации и установления порядка из хаоса и выходить, таким образом, на новую ступень эволюционного развития. Такой приоритет рассматриваемого научного направления позволяет синергетике интегрироваться в лингвистику, для которой обращение к синергетике становится актуальным в связи с положением о том, что «язык является целым, нестабильным, меняющимся, эволюционирующим миром, что дает право говорить применительно к нему об определенной неустойчивости» (Базылев, 1999: 20). Кроме того, синергетика призвана обеспечить человечество способами управления системами во благо субъекта, показать возможность самоуправления такими системами и самоподдерживаемого развития. Таким образом, синергетика обращает крах и кризис стагнации в продуктивный и благоприятный для позитивных изменений материал. Таким образом, неограничена. Более отраслевая пригодность синергетики того, ее способности и позитивные совершенно показатели результативности уже зарекомендовали себя во многих научных направлениях, 106 в том числе и лингвистике, которая, подчиняясь общей тенденции глобализации, обратилась к созданию лингвосинергетики, укоренив тем самым, позиции новой научной парадигмы на своей благодатной почве. Основной задачей лингвосинергетики видится необходимость установления аналогии процессов различной природы, то есть считается, что установление аналогии физиологических, нейрофизиологических, психических процессов порождения смыслов дает возможность построить единую самоорганизующуюся систему в составе нейрофизиологической, психической и лингвистической систем. Дальнейшая научная работа с указанными системами направлена на выявление их компонентного состава, корреляций и компонентов, и самих систем. Предполагается, что такого рода анализ позволит вскрыть хотя бы часть закономерностей функционирования синергетических систем (Герман, 1999). Анализ и систематизация научной литературы в настоящем диссертационном исследовании ярко иллюстрирует тот факт, что современная лингвистика совместно с другими отраслями знания стремится исследовать системные свойства языка, в своих исканиях далеко выходя за пределы текстовых единств, стремясь определить корреляции текста и ментальных структур, пестуя понятия фреймов, сценариев, концептов, прототипов и т.д. Однако, несмотря на множественные попытки, вопрос о том, каким образом «единица языка» превращается в «смысловую единицу» до сих пор остается открытым. Такая научная дилемма провоцирует такой поиск новой методологии исследования, которая если и не ответит на ключевой вопрос современности, то, по крайней мере, приблизит науку к его разрешению. Думается, что в качестве такого подхода выступит авторская процессуальносинергетическая концепция, разрабатываемая применительно к исследованию механизмов вербализации ментальных структур лексемами психических процессов в современном английском дискурсе. Данная оригинальная методология, основываясь на уже рассмотренных нами передовых постулатах гештальт-психологии, психологии деятельности и лингвосинергетики, и ставит 107 своей целью выявление механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе. Основные постулаты такой методологии будут рассмотрены во второй главе настоящей диссертации. 108 Выводы по Главе 1 1. Исторический обзор научной литературы в области философии, психологии, физиологии показывает, что вопросы статуса, функций и роли психических процессов в различных эпохах и направлениях решались поразному. Причем, если рассматривать весь процесс становления современного учения о психических процессах в диахронии, можно говорить о поэтапной смене модуса научных исканий от метода наблюдения до эмпирических методик. Однако какая бы методологическая догма не стояла у истоков научных исканий, психические процессы могут однозначно быть отнесены к классу трудно дефинируемых явлений особого статуса. Для их исследования в экстралингвистике и языке можно разрабатываемых гештальтпсихологией, выделить несколько психологией положений, энергетизма и физиологией, релевантных настоящему исследованию. Опора на некоторые постулаты гештальтпсихологии, свидетельствующие об ассоциативных связях всех психических процессов и корреляции их взаимодействия с гештальтом, обусловлена необходимостью описания как инструментальной роли психических процессов в отражении действительности и ее категоризации, так и стремлением указать на способность гештальта получать, хранить и передавать преломленные сознанием индивида сведения о любом экстралингвистическом объекте, в том числе и знания о самих психических процессах. И если о взаимосвязи психических процессов на протяжении долгого времени говорили, основываясь исключительно на наблюдениях и логике, то физиология сегодняшнего дня обеспечила такое положение основательной доказательной базой в виде единого рефлекторного механизма, лежащего в основе их функционирования указанных процессов. Это обстоятельство говорит в пользу инструментальной роли психических процессов и их корреляции с гештальтом как модели сознания с динамичным 109 характером, ассоциируемым с энергетизмом, способностью сообщения с внешним миром и адаптации к нему. 2. Единая психических рефлекторная процессов, природа существование запуска и гештальта, функционирования организованного их слаженной работой в качестве структуры отражения и категоризации действительности, процессов как позволяет определить приоритетного единую психологического теорию психических начала настоящего лингвокогнитивного исследования. Данная теория не только устанавливает и указывает на онтологическую, рефлекторно обусловленную взаимосвязь психических процессов, но и специфицирует признаки, являющиеся дистинктивными по отношению ко всей динамической характеристике психики. Такими общими для всех психических процессов признаками являются предметность, спонтанная активность, чувственная недоступность и субъектность. В совокупности означенных специфических характеристик психические процессы являются единым комплексом, функционирующим в полном объеме благодаря рефлекторной природе высшей нервной деятельности человека, что еще раз подчеркивает правомерность их комплексного рассмотрения с позиций ментальной структуры гештальта в настоящей диссертации. 3. Инструментальная функция гештальта психических процессов заключается в его способности зеркально, а также в преломленном виде отражать в сознании субъекта сведения об экстралингвистических психических процессах с последующей трансляцией в язык. Попытка выявить особенности вербализации психических процессов в современном английском дискурсе отсылает к выявлению концептуального содержания психических процессов в экстралингвистике. Последнее рассматривается идентично представленности в структуре гештальта с точки зрения психологии, то есть по группам познавательных (перцептивных, интеллектуальных) и аффективно-волевых 110 процессов с учетом определения, свойств, видов и ассоциативных взаимосвязей. 4. Перспектива соотнесения психических процессов с гештальтом обращает к поиску нерешенных на сегодняшний день лингвистических задач. Так, рассмотрение опыта предшественников в синхронии показывает, что, несмотря на плюрализм мнений по поводу исследования вербализации психики в языке, в настоящее время не существует единой методологии, описывающей взаимосвязь процессов и их совокупность на языковом уровне. Соответственно, возникает необходимость объективации создания психической сферы нового в подхода языке, к рассмотрению позволяющей учесть и многогранность процессов, специфику каждого из них, и их комплексную взаимосвязь, отраженную в лексических единицах с позиций современных научных подходов. 5. Обращение к диахронным исследованиям вербализации психики в языке показывает, что лексическое значение универсалий постоянно претерпевает метаморфозы, меняет модус как в пределах экспрессивного компонента, так и в пределах предметной области, что в дополнение ко всем требованиям при разработке методологии обращает к максимальному учету динамики семантической структуры вербализаторов психических процессов. 6. Комплексность и неоднозначность объекта исследования, доказанная в психологии и лингвистических исследованиях, дополнительно подчеркивает необходимость обращения к менталистской теории для исследования гештальта психических процессов как феномена «вещь в себе» с учетом его функциональной и инструментальной ролей. Однако решение вопроса о том, каким образом, а, главное, какие знания о психических процессах в преломленном виде хранятся нашим сознанием благодаря гештальту, невозможно без обращения к деятельностному или процессуальному подходу как одному из способов существования функционирования и развертывания. 111 ментальных структур, их 7. Адаптированный (процессуальный) подход к лингвистическому к семантике анализу носит деятельностный антропоцентрическую направленность, позиционируя субъекта как активного производителя и модификатора значения в зависимости от собственных коммуникативных интенцией или роли интерепретатора/конструктора дискурса. Таким образом, процессуальный подход отражает включенность социального фактора в формирование и модификацию значения, которое в своем системном виде отражено в гештальтной структуре. Такими факторами формирования и модификации семантики с позиции деятельностного подхода выступают структура деятельности, характер коммуникативного акта, контекст, потенциальное значение высказывания, речевые стратегии и тактика поиска говорящими единиц номинации. Таким образом, предполагается, что речевая деятельность коммуникантов определяет содержание значения, отбор языковых знаков, построение высказываний, мотивированных целью. Опираясь на постулаты авторитетных психологов и лингвистов, мы полагаем, что формирование семантики на уровне психических процессов с учетом инструментальной роли гештальта является процессом динамическим, что обеспечивает терминологическую поправку на термин «процессуальный». Обращение к принципам процессуального подхода обусловлено также приоритетом ответа на вопрос о передаче смысла, а не значения посредством лексем в дискурсивном пространстве. 8. Сам дискурс в нашем понимании есть динамичная среда, обеспечивающая жизнеспособность гештальтов, которые поочередно попадают в поле внимания субъекта и находятся в режиме активности или активации. Таким образом, в дискурсе актуализируются гештальты большего и меньшего порядка, обладающие инвариантным ядерным содержанием и прозрачной периферией. Думается, что восприятие информации идет по алгоритму – от опорных лексем в дискурсе к последующей идентификации с гештальтом и 112 развертыванию фреймов как минимальных составляющих гештальтной структуры. 9. Гештальт выступает в качестве ментальной структуры, хранящей знания, накопленные человеком в процессе жизнедеятельности. Знания, в свою очередь, передаются в виде смыслов посредством лексических единиц в современном английском дискурсе. Структурно гештальт базируется на прототипических и непрототипических характеристиках, благодаря которым он способен меняться, сообщаясь с внешней средой, и одновременно хранить инвариантное содержание. Гештальт дискретен и синкретичен одновременно, что соответствует его основным параметрам «фигура» и «фон». Атомарной структурной единицей гештальта является фрейм. При этом гештальт не сводится исключительно к сумме фреймов. Гештальт упорядочивает фреймовое многообразие и обеспечивает взаимодействие, благодаря чему фрейм существует как система концептуальных коррелятов смысла или семантики. На вербальном уровне фреймы, соотносящиеся с гештальтом, существуют в виде пропозициональных структур, своеобразных мотиваторов лексического значения, позволяющих говорить о семантической плотности гештальта. Таким образом, гештальт предстает как билатеральная оперативная единица, или лексико-семантическая структура, способная функционировать и видоизменяться в дискурсивном пространстве и взаимодействовать при этом с внешней средой как подверженная модификациям на уровне непрототипических признаков. Под воздействием модификаций гештальт обеспечивает формирование и изменение семантики в определенных дискурсивных условиях при учете интенций коммуникантов, что говорит о его энергетизме и самоорганизации, обеспчиваемой за счет прототипических признаков. 10. Функционирование гештальта как открытой к внешним воздействиям системы, подверженной модификации, ведет к обращению нас к синергетике и 113 ее инструментарию. Синергетика, будучи наукой о самоорганизующихся системах, позволяет не только выявить специфические особенности модификации значения, но и объяснить причины этого феномена. Думается, что учет теории гештальтов, деятельностного подхода и синергетического инструментария позволит создать авторскую методологию для выявления механизмов вербализации ментальных структур лексическими единицами психических процессов. 114 Глава 2. Основы процессуально-синергетического подхода к описанию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов Результатом восприятия субъектом опорных лексем в дискурсе как следствие функционирования сложной цепочки психических процессов (и именно в этом заключается инструментальная роль концептуального коррелята объекта исследования) выступает формирование целостного образа дискурса как системы гештальтов в сознании индивида. По мере восприятия дискурса гештальты один за другим попадают в фокус внимания интерпретатора или проходят стадии активации. Таким образом, находит свое подтверждение гипотеза ученых о том, что восприятие дискурсивной информации осуществляется посредством опоры на ключевые (опорные) лексемы, которые первоначально соотносятся у интерпретатора с гештальтом благодаря критическим характеристикам (классификаторам 6), которые впоследствии позволяют формировать осуществляется целостный развертывание образ ментальной воспринимаемого. структуры по Далее нисходящему прототипическому принципу (Залевская, 1997). Иными словами, первично ассоциировав полученную в дискурсе информацию с гештальтом в синкретизме, интерпретатор поэтапно бессознательно обращается к поиску его структурных элементов, их организации и функционировании в дискретности структуры. В конечном счете, сознание интерпретатора условно переходит от стадии идентификации гештальта и его атомарных составляющих на прототипическом (инвариантном) уровне к стадии восприятия непрототипической информации. В последнем случае на базе полученных сведений интерпретатор устанавливает различные семантические модификации, понимая при этом прототипические сведения полученные от актуализации прототипических признаков гештальта в дискурсе. 6 Син. идентификаторы, дистинктивные признаки гештальта 115 Таким образом, понимание в дискурсе достигается прежде всего за счет относительной стабильности сведений гештальта, а восприятие нового базируется на динамическом характере рассматриваемой модели. И если гипотетически соотнести инструментальную роль гештальта с терминами функционирования памяти и теорией искусственного интеллекта (Schank 1982: 173; Bower, 1979; Залевская, 1997), можно условно разделить схему гештальта на уровень высокой степени абстракции, где содержится базовая инвариантная информация, передаваемая из поколения в поколение того или иного лингвокультурного сообщества, и уровень ментальности «конкретного» конструктора или интерпретатора текста, который пользуется и знаниями высшего уровня абстракции, и собственными сведениями (уровень конкретного коммуниканта) с целью описания различных граней ситуации психических процессов (Психолингвистические аспекты…, 1998: 92). Рассмотрение системы гештальта с таких позиций дает нам знание о его инструментальной роли, которая заключается в хранении информации, приращении новых знаний, способности меняться и быть гибкой по отношению к сознанию индивида, подстраиваясь под его интенции в зависимости от позиции по отношению к дискурсу, то есть роли субъекта интерпретатора или конструктора дискурсивной единицы. Композиционно гештальт является относительно совершенной, организованной системой с включенными в нее областями, сферами, полями и их структурной организацией – соответствующими фреймами. При этом все получаемые интерпретатором в дискурсе гештальты когерентны и взаимосвязаны, за счет чего поддерживается топиковое единство дискурса. Однако несмотря на такую взаимосвязь гештальтов, обусловленную сетевой гештальтной организацией дискурсивного пространства, в целях научного анализа возможно выявление соответствующего гештальта психических процессов с инвариантными непрототипическими базовыми характеристиками, 116 или которые, прототипическими в свою и очередь, обеспечивают его дистинктивные черты относительно иных гештальтных структур, а, следовательно, как отмечалось ранее, предопределяют относительную устойчивость на уровне прототипичеких признаков. Обратимся далее непосредственно к описанию уровня высокой степени абстракции гештальта, где хранится базовая информация, обеспечивающая относительную стабильность такой системы и способствующая максимальной передаче смысла языковой единицы в дискурсе. 2.1 Организация ментальных структур психических процессов Рассматриваемая нами зонтиковая система гештальта имеет весьма сложную и специфическую структурную организацию. Ее актуализация связана с поэтапным раскладыванием на атомарные составляющие сознанием человека, то есть по траектории «от большего к меньшему», от инвариантного стабильного к вариантивному нестабильному. Доступ к структуре ментальной модели, как отмечается во многих лингвистических трудах (Кустова, 2000: 85; Попова, 1999: 8; Evans, 2006: 1; Кубрякова, 1991: 103 и др.), лежит в языковых сведениях, выступающих концептуального мира. своего рода Соответственно, материальным необходимость воплощением условного моделирования высокого уровня абстракции гештальта обращает к анализу эмпирического материала, который показывает, что вербализация психических процессов в современном английском языке представляет собой один из самых объемных объектов для лингвистического анализа, поскольку лексические и фразеологические единицы, соотносящиеся со сферой сознания, занимают внушительного размера нишу в пространстве лексики абстрактной семантики. Такая рекуррентность вполне объяснима экстралингвистическими положениями о том, что психика есть одна из наиболее важных составляющих человеческой жизни. И если учесть то обстоятельство, что актуализация динамической характеристики психики в языке есть зеркальное отражение 117 конценцептуальных коррелятов перцептивной, интеллектуальной и аффективной сфер сознания человека на языковом уровне, можно говорить об актуализации гештальта психических процессов большим количеством синонимов, симиляров и квазисинонимов. Такое разнообразие средств вербализации представляет собой номинативную плотность ментальной структуры (термин В.И. Карасика (Карасик, 2004: 111). Соответственно, семантическая вариативность, многообразие лексических и фразеологических средств вербализации такого конструкта сознания, выбранных с учетом коммуникативной задачи, позволяет говорить о лексическом и фразеологическом пласте вербализаторов, систематизация и анализ которых при учете нелингвистического знания позволит выявить специфические когнитивные признаки и классификаторы для моделирования ментальной структуры. Иными словами, важной текущей задачей исследования является установление условной корреляции между миром «Действительное» и миром «Идеальное» (Телия, 1996). В данном случае нами преследуется герменевтическая цель, заключяющаяся в философском подходе к объяснению фрагмента «ментального пространства», которое закреплено за именем референта номинации. Иными словами, мы предполагаем условно представить гештальт психических процессов в точном отражении гештальта, организованного психическими процессами в психологическом понимании. Соответственно, мы опираемся не только на видимые и легко различимые признаки ментальной структуры, первично ассоциируемые со звуковой формой, но и проводим соответствующие процедуры лингвистического анализа по выявлению концептуального содержания ментальных структур. В таком случае весьма иллюстративен пример А.М. Пешковского о том, что «в слове снег выражена определенная сумма признаков, из которых ни один не назван» (Пешковский, 1920: 66), однако каждый из нас имеет четкое представление о тех доступных органам чувств признаках, которые могут быть легко экспериментально верифицированы. Таким образом, употребление лексемы 118 «снег» всегда вызывает у носителей языка (если, конечно, этот природный феномен знаком данной лингвокультуре) соответствующие признаки, ассоциируемые с температурой, цветом, качеством, временем года, погодными условиями, интенсивностью и т.д. При этом независимо от контекста в сознании людей всплывает собственный экстралингвистический опыт и соответствующие ассоциации. Возможность выявления указанных фрагментов знания и описание их концептуализации, в принципе, и составляет позитивную характеристику концептуального анализа, который вскрывает и обнажает фрагменты ментального пространства, соотнесенные с референтом номинации и вербализованные посредством разнообразных речевых единиц (Чернейко, 1997: 286). Кроме того, концептуальный анализ предоставляет данные для последующего лингвокогнитивного моделирования как метода представления ментальных структур. Не менее важную роль на данном этапе играет когнитивная интерпретация как этап семантико-когнитивного анализа, предполагающий преимущество описания содержания ментальных структур (Попова, 2013). В ходе указанной лингвистической процедуры в расчет принимаются сведения лексикографического, контекстуального анализа, а также выводы, полученные в ходе систематизации экстралингвистического знания в параграфе 1.2 настоящей диссертации. Таким образом, соглашаясь с мнением Е.С. Кубряковой о том, что ментальная структура охватывает концептуальное преломление всех видов знания, то есть все то, что «подведено под один знак и предопределяет бытие знака как известной когнитивной структуры» (Кубрякова, 1991: 85), обращаемся к выявлению и описанию инвариантной базы ментальной структуры психических процессов – гештальта, выбор которой предопределен ее свойствами и функциями в качестве инструментария выявления механизмов вербализации психических процессов в современном английском дискурсе. 119 2.1.1 Гештальт психических процессов Ранее неоднократно отмечалось, что выявление концептуального содержания ментальной структуры, в нашем случае гештальта, происходит с учетом лингвистической и нелингвистической информации. Обратимся непосредственно к концептуальному анализу значения наиболее репрезентативных вербализаторов гештальта психических процессов с целью обоснования корреляции психологической структуры гештальта и его концептуального содержания. Наиболее релевантным, общим, эквивалентным словосочетанием для номинации психического процесса является mental process, которое в современных толковых словарях трактуется как: «(psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents»; «the process of thinking»; «the cognitive operation of remembering» (TFD). Данная лексикографическая дефиниция представляется нам наиболее обобщенной, без спецификации каких-либо особенностей или указания на минимальные составляющие психических процессов. Из нее следует, что психический процесс – это совокупность, или, скорее, сочетание познавательных процессов, или деятельность, оказывающая влияние на психику, в том числе процесс мышления или запоминания. Иными словами, интерпретация представленного определения позволяет судить о соотнесенности понятия с психикой («cognitive activity»), составном характере психических процессов («composite cognitive activity») и возможности влияния психического процесса на функционирование сознания («an operation that affects mental contents»). Данное предположение сочетается с экстралингвистическими сведениями и, более того, является их яркой иллюстрацией, что можно проследить на примере словарной статьи: «процесс психический — процессы, происходящие в психике, отражаемые в динамически изменяющихся явлениях психических: ощущениях, восприятии, воображении, памяти, мышлении и пр.» (Психологический словарь, 2014). 120 Анализ словосочетания mental process по непосредственным составляющим позволяет выделить в нем маргинальную лексему mental и ядерную process. Приведем лексикографические толкования каждого из указанных составляющих и выявим их валентностные свойства, опираясь на способности формировать устойчивые и неустойчивые словосочетания и ссылаясь на мнения когнитивистов о том, что гештальт – это представления носителей языка, которые скрыты в имени и раскрываются в его сочетаемости, в обнаружении «образов содержания знака» (по Н.Д. Арутюновой). Таким образом, выявляются своего рода классификаторы гештальта, которые позволяют видеть одно явление сквозь призму другого, более понятного. Итак, согласно лексикографическому толкованию, лексема mental, употребленная перед нейтральным в коннотативном плане существительным, описывает абстрактную сферу, соотносящуюся с сознанием: «[ONLY BEFORE NOUN] existing in the mind» (MDT); «adj. 1. relating to the mind; done by or occurring in the mind» (OD); «[before noun] relating to the mind, or involving the process of thinking» (CDO); «2 [only before noun] “relating to the mind and thinking, or happening only in the mind» (LDCE). Соответственно, употребление прилагательного mental с существительными без дополнительного оттенка значения ведет к «прямому» пониманию получившихся словосочетаний, что, в свою очередь, расширяет границы их контекстуального употребления. Например, словосочетания mental phenomena, mental facilities, mental conditions не являются идиоматичными, поэтому не имеют словарных трактовок. Тем не менее, они довольно частотны в научном и художественном дискурсе для описания психической сферы, например: 2) Further, although this hypothesis has not yet resulted in an account incorporating consciousness, it has been remarkably successful in explaining many other mental phenomena which earlier generations saw as necessarily mysterious and as evidence for some kind of duality (BNC, A0TН: 944). 121 3) Most, perhaps all, functionalists are thorough-going materialists who believe that mental phenomena are genuine physical phenomena seen at a particular level of abstraction (BNC, A0T: 1012). 4) Her physical and mental condition would deteriorate (BNC, AD1: 2099). 5) The health check will cover six main dimensions: sensory functions, mobility, mental condition, physical condition including continence, social environment and use of medicines (BNC, ECE: 1851). 6) Daley countered this with his idea that black players can use the mental facility only with other blacks, believing that even the black players who had commanded football league places had not been allowed to play to their utmost because they were engulfed by whites who were on ‘different wavelengths’ (BNC, CL1: 643). Несмотря на ситуативную обусловленность появления рассматриваемых словосочетаний (mental phenomena, mental condition, mental facility), все они ведут к прямому пониманию прилагательного mental не акцентирования какуюлибо грань описываемой ситуации. Таким образом, получается, что независимо от контекста, прилагательное mental выражает значение «интеллектуальный», что говорит о его соотношении с психической сферой. Иными словами, ключевая и наиболее репрезентативная лексема, описывающая психические процессы, актуализирует в сознании коммуникантов «интеллектуальную» сферу гештальта психических процессов. Однако комплексность рассматриваемого ментального конструкта – гештальта «психические процессы» – не позволяет остановиться на выявлении только общих гештальт-сфер. Более того, предполагается «развертывание» рассматриваемой ментальной структуры и выделение в ней минимальных составляющих с целью последующей систематизации вербализующих ее лексических и фразеологических единиц, а также выявления механизмов ее вербализации в современном английском дискурсе. Для этого мы продолжаем прочитывать и интерпретировать узуальную 122 сочетаемость валентного прилагательного mental с соответствующими частями речи. Для реализации поставленной задачи обращаемся к лексикографическим источникам, где фиксирован ряд интересующих нас лексических комплексов с компонентом mental, не только актуализирующих интеллектуальную гештальт-сферу, но и специфицирующих атомарные составляющие, входящие в ее состав. Одним из таких словосочетаний, по свидетельству словарных данных, является mental picture/image – представить себе, нарисовать картину в уме («a picture that you form in your mind» (LDCE)). Как показывает анализ фактических данных, употребление данного словосочетания характерно для художественного дискурса, нарратива, например: 7) I tried to get a mental picture of him from her description (LDCE). 8) I had a mental picture of the conductor on the red London bus talking to Hammouda the village postman, of the English boy's friends playing with Khadija's grandson, especially Margaret, whose hair reminded me of the coloured feather duster Khadija's grandson had pleaded for everytime he saw it in the market, thinking that it was a toy or a bird (So very…, 2001). Оба представленных предложения соотносят словосочетание mental picture со сферой сознания, интеллекта и, кроме того, акцентируют внимание на воображении как психическом процессе воссоздания/создания образа на основе предыдущего опыта, при этом непосредственное его не называя. Таким образом, рассматриваемый лексический комплекс актуализирует интеллектуальную гештальт-сферу и при этом выделяет в ней гештальт-поле 7 «Воображение». Два других устойчивых словосочетания make a mental note и mental block указывают на феномен памяти в комплексной системе психических процессов. 7 Соглашаясь с Ж. Верньо, приверженцем интегративной теории репрезентации, мы выделяем понятие «поле» в структуре гештальта, которое содержит набор типичных ситуаций, интепретируемых в терминах схем, в нашем случае фреймов. Такие схемы (фреймы), тем не менее, не являются абсолютно стереотипными. Скорее, они представляют собой динамичные образования, функционирующие согласно процессуальным установкам, целям, мотивации, правилам и другим факторам. Подобные характеристики позволяют рассматриваемым схемам воздействовать на формирование и модификацию значений в процессе речетворчества. Таким образом, схемы способствуют приобретению и передаче смыслов посредством решения разнообразных ситуаций и когнитивных задач (Верньо, 1995). 123 Причем словосочетание make a mental note эксплицирует произвольный характер запоминания («make a mental note to make a special effort to remember something» (LDCE)), а mental block указывает на процесс забывания в структуре памяти или специфических субъективных или объективных дистракторах, затрудняющих процесс запоминания («a difficulty in remembering something or in understanding something» (LDCE)). Контекстуальное употребление того и другого словосочетания не противоречит системному значению, более того, подчеркивает, а в некоторых случаях даже утрирует его, преимущественно в случае со словосочетанием mental block, например: 9) Sarah made a mental note to ask Janine about it later (CDO). 10) She made a mental note to listen more attentively to her lessons in biology and in Marxism, and then, to divert Omi from the views she was expressing, Erika said: ‘Uncle Karl will be back soon, Omi (BNC, A7A: 551). 11) I got a complete mental block as soon as the interviewer asked me a question (CDO). 12) Oh, I can't think of her name now cos I got a mental block (BNC, KCT: 13422). 13) Treatment for a sexual problem in one partner is rarely successful, or if it first appears so when some mental block is eased, results in the exposure of the problem in the other (BNC, BNF: 1478). В последнем предложении словосочетание mental block переводится непосредственно как «проблемный участок», «печальный опыт», что не противоречит системному значению, но утрирует, упрощает его в контексте, снимая метафоризацию. Оба фразеологических единства как в системном, так и в контекстуальном значении, актуализируют гештальт-сферу «Интеллект» и специфицируют в ней гештальт-поле «Память». Однако сложность интеллектуальной сферы гештальта психических процессов не позволяет остановиться в анализе его составляющих. Более того, наличие репрезентантов 124 говорит в пользу наличия еще некоторых принципиальных конституентов гештальт-сферы «Интеллект». Кроме рассмотренных выше воображения и памяти, способность к математическим исчислениям в уме индивида, мышлению и умственной деятельности отражается в семантике словосочетания mental arithmetic («Mental arithmetic calculations that you do in your mind, without writing down any numbers» (CDO)). Причем представленная словарная трактовка не только отсылает к интеллектуальной сфере («you do in your mind»), но и косвенно указывает на комплексность и сложность психических процессов, иннервированных в математические вычисления в уме («calculations … , without writing down any numbers») (CDO). проиллюстрировано Данное словарное фактическим определение материалом, где может быть дополнительно подчеркивается и интеллектуальная сфера, и сложность самой операции: 14) I turn a rusty handle in the part of my brain that handles mental arithmetic (Underground). 15) Mental arithmetic and reading and I also had er er take an eye test because they said if there was a train accident and I couldn't see the signal whether it was red or green or whatever, you see, you never know (Suffolk, 1986). С точки зрения описания процесса арифметических подсчетов в уме интересным нам видится предложение: 16) George did mental arithmetic on his fingers (Lyall, 1982), в котором говорится о том, что герой нарратива проводит математические калькуляции на пальцах. Однако несмотря на это обстоятельство, у читателя не возникает никаких сомнений в том, что арифметические подсчеты ведутся в уме, а пальцы выступают в качестве подсобного наглядного средства. Логично предположить, что необходимость во вспомогательных средствах подсчета говорит исключительно о способностях индивида и уровне функционирования психических процессов, нежели о перенесении математических подсчетов из плоскости психики в чисто физиологическую плоскость. Таким образом, что гештальт-сфера «Интеллект», 125 наряду с полями «Воображение» и «Память», включает гештальт-поле «Мышление». В пользу правомерности высказанных нами положений о существовании гешталь-сферы «Интеллект» и ее функционировании посредством актуализации гештальт-полей воображения, памяти и мышления на языковом уровне говорит семантика словосочетания mental age, которое отражает уровень психического развития субъекта в целом, а также его умственных способностей в частности («a person's mental age is a measurement of their ability to think when compared to the average person's ability at that age» (CDO)). Согласно эмпирическим данным, mental age – это не что иное, как психологический возраст, который противопоставлен физическому состоянию/возрасту (physical age/chronological age), например: 17) It relies on the physical age rather than the mental age (BNC, A2P: 693). 18) Intelligent quotient (IQ) ratings are calculated by dividing a child's mental age by his or her chronological age (BNC, ANA: 55). В системном значении данное словосочетание употребляется преимущественно в научном дискурсе для характеристики психологической личности: 19) Although Andrew is 25, he has a mental age of six (CDO). В сочетании с глаголом прилагательное mental вполне допустимо и рекуррентно для выражения эмоций. Например, идиома go mental описывает эмоциональную напряженность, пик или наивысшую стадию проявления чувств и эмоций, в основном, отрицательных, выражающихся в потере контроля над собой («informal lose one’s self-control, typically as a result of anger or excitement» (OD)), что может быть проиллюстрировано следующими предложениями: 20) The home crowd were going mental (OD). 126 21) For the causal relations of events would be just the same irrespective of whether or not the causal chain temporarily took on a mental aspect (as in property dualism) or (as in substance dualism)‘went mental’ for a while (BNC, A0T: 1395). 22) That's out of order that is, the girls go mental over that (BNC, KP9: 366). В случае с представленной выше идиомой go mental, скорее всего, сохранилось устаревшая ассоциация психических процессов и «души», то есть психического равновесия, определяемого гармонией чувств и эмоций, что объясняет семантический акцент на концептуальный коррелят эмоций и чувств и высвечивание соответствующей гештальт-сферы. В пользу существования эмоциональной сферы также говорит семантика словосочетания mental cruelty – нравственная жестокость, то есть отрицательное внешнее воздействие, направленное на нарушение внутренней гармонии субъекта, моральные издевательства («conduct that makes another person suffer but does not involve physical assault» (OD)). Это идиоматическое единство характерно не только для юридического дискурса, но и документально-художественного повествования, например: 23) Spitefulness, mental cruelty and crimes of violence are all to do with negative emotions spilling over (BNC, B21: 269). 24) The only thing that really happened was that my mum got a divorce in 1972 on the grounds that he had sexually assaulted me and there was mental cruelty to her (BNC, FR5: 2134). В последнем предложении словосочетание mental cruelty переводится как душевные страдания, что, естественно, говорит о некоторой контекстной модификации значения и акцента на эмоциональной сфере. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что в результате анализа по непосредственным составляющим становится возможным выделение адъективной лексемы mental, которая выступает в качестве наиболее репрезентативной преимущественно при прямом описании психических процессов. Благодаря лексикографическому и контекстуальному анализу, 127 прочтению ее сочетаемостных свойств и когнитивной интерпретации становится возможным выявление гештальт-сферы «Интеллект», внутри которой выделены поля воображения, памяти и мышления, а также гештальтсферы «Эмоции», где наличествует не только аффективное, но и оценочное поле, выявление которого актуально при учете модификации значения в отношении описания неадекватного поведения здорового человека, а также душевно больных людей. Другая лексема process, входящая в состав словосочетания mental process, трактуется современными словарями и как совокупность неосознанных процессов, которые приводят к получению результата («a series of things that happen and have a particular result» (MDT)), и как серию направленной активности по достижению цели («a series of actions that have a particular result» (MDT)). Применительно к описанию динамической характеристики психики мы можем говорить об амбивалентности семантики слова process. Иными словами, высвечивание в значении рассматриваемой лексемы осознанности и неосознанности процесса, в нашем случае психического, говорит о наличии волевого компонента, и, соответственно, волевой гештальт-сферы. Так, например, произвольность/непроизвольность психического процесса, лексическое средство языковой актуализации которого не является непосредственным актуализатором осознанности/неосознанности, интерпретируется согласно контекстуальному анализу. Предложение: 25) «Learning a language is a slow process» (MDT) говорит об актуализации волевого компонента в значении, поскольку изучение иностранного языка есть ни что иное, как целенаправленный процесс. А в следующем примере повествуется о том, что возрастные изменения в организме происходят без участия сознания индивида: 26) Changes occur in the body because of the process of ageing (MDT). Соответственно, о проявлении воли субъектом речи идти не может. Итак, ядерная лексема process в сочетании с прилагательным mental позволяет выявить базовую информацию о ментальной 128 структуре – гештальте психических процессов – как концептуальном каркасе, идентификаторе лексем и фразем и инструменте познания человеческого сознания в отношении речетворчества. Тезаурус рассматриваемого словаря онлайн предлагает следующие ассоциаты словосочетания mental process: cognitive operation, cognitive process, process, operation, cognition, knowledge, noesis, basic cognitive process, higher cognitive process (MDT). Наиболее близким по семантике к значению «психические процессы» в совокупности большинства характеристик, которые отражены в экстралингвистической области, является существительное noesis, которое применительно к психологии трактуется как психический процесс ментальной активности и восприятия, функционирование интеллекта: «2. (Psychology) Psychol the mental process used in thinking and perceiving; the functioning of the intellect» (TFD). Из словарной трактовки очевидна экспликация перцептивной гештальтной сферы, которая, в свою очередь, ассоциирована с интеллектуальной сферой гештальта. Представленное словарное значение подтверждается на функциональном уровне, где, тем не менее, данное существительное встречается довольно редко. Например, в предложении: 27) The tradition to which they belong evolved an accommodation of Christian doctrine to a body of teaching inherited from Greek philosophy about a kind of knowledge — noesis — which is neither intellectual nor sensual, but in essence experiential and manifested in the human soul (BNC, HY6: 109) лексема noesis ввиду своей нерекуррентности объясняется в контексте, где описывается ее маргинальный статус в объяснении ситуации восприятия и ситуации мышления. Такое системное и функциональное значение есть, по-видимому, результат этимологии самого существительного, которое по лексикографическим данным происходит от греческих слов «мышление» и «восприятие» («Greek no sis, understanding, from noein, to perceive, from nous, mind» (TFD)). Что касается данного существительного примечательным видится и тот факт, что оно называет не только процесс интеллектуальной 129 деятельности и перцепции одномоментно, эксплицируя при этом гештальтсферы интеллекта и перцепции, а также результат функционирования заявленных психических процессов (noesis «the psychological result of perception and learning and reasoning» (TFD)). И в том и в другом случае, когда noesis является процессом перцепции и мышления или его результатом, данное существительное синонимично существительным cognition и knowledge. Существительное cognition, которое в русском языке номинирует процесс познания, зачастую выступает в качестве термина, называющего всю психическую активность в целом. Однако, как уже отмечалось в первой главе настоящей диссертации, такая терминологическая подмена не всегда отражает суть психических процессов. Относительно моделируемого нами гештальта можно сказать, что познание есть сплит гештальт-сфер «Интеллект» и «Перцепция» без учета эмоциональной и волевой составляющих. Подтвердим сказанное анализом фактических данных. Лексема cognition в современных лексикографических источниках трактуется как процесс и результат познания (в зависимости от контекста) посредством перцепции и при участии мыслительной деятельности («1. The mental process of knowing, including aspects such as awareness, perception, reasoning, and judgment. 2. That which comes to be known, as through perception, reasoning, or intuition; knowledge» (TFD)). В контексте данное слово ведет себя идентично, подчеркивая системное значение, например: 28) It is in its form as a general theory of cognition that the behaviouristic approach is most clearly refutable, but from the general refutation we can refute its application to perception (BNC, A0T: 190). Существительное knowledge особенно подчеркивает результативность процессов познания, которые выражаются в получении сведений из окружающего мира: «understanding of or information about a subject that you get by experience or study, either known by one person or by people generally» (CDO). 130 Согласно данным тезаурусов существительное noesis, словосочетание mental process, номинируя процесс познания, психические процессы в целом, ассоциированы со следующим рядом лексических единиц: cognitive operation, cognitive process, attending, attention, inattention, perception, apperception, remembering, memory, linguistic process, language (TFD) etc. Каждая перечисленная лексема номинирует тот или иной психический процесс, подчеркивая при представленные этом его определенную грань. существительные/словосочетания Иными словами, вербализуют гештальт психических процессов, акцентируя при этом определенную/ые гештальтсферу/ры. С целью выявления корреляции семантики представленных единиц и их способности актуализировать ту или иную сферу гештальта обратимся непосредственно к изучению лексикографических толкований значений вербализаторов и контекстуальному анализу. Словосочетание сognitive operation/process своим значением описывает один из составляющих процесса познания, единичную операцию, которая включена в общий процесс познания, номинируемый cognition в современном английском языке. Согласно словарной трактовке («(psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents»; «the process of thinking»; «the cognitive operation of remembering» (TFD)), сognitive operation/process эксплицирует в своем системном значении гештальт-сферу «Интеллект» как составляющую концептуального коррелята познавательных процессов. Однако словарь не дает указание на перцептивную гештальт-сферу, которая также, как и гештальт-сфера «Интеллект» соотносится с процессом познания. Поэтому, опираясь на ранее рассмотренную нами дефиницию лексемы cognition, эксплицирующую перцептивную сферу гештальта, мы обращаемся к рассмотрению контекстуального значения словосочетания cognitive предположения о operation/process, где находим подтверждение способности деривата (словосочетания operation/process) сохранять ядерную часть значения основного слова: 131 cognitive 29) This is not to say that folk psychology already has adequate theories of perception, language, memory or any other cognitive process (BNC, A0T: 1008). В представленном предложении речь идет о имеющихся на данный момент теориях, дающих объективное объяснение восприятию, речи, памяти и другим когнитивным процессам. Маргинальное положение по отношению к гештальт-сферам «Интеллект» и «Восприятие» занимает концептуальный коррелят процесса внимания. Такое предположение уместно на основании анализа лексикографического толкования слова attention («1. Concentration of the mental powers upon an object; a close or careful observing or listening. 2. The ability or power to concentrate mentally. 3. Observant consideration; notice: Your suggestion has come to our attention» (TFD)), которое представляет процесс внимания как концентрацию психики на объекте путем сосредоточения органов чувств («a close or careful observing or listening» (TFD)) и способность произвольной умственной деятельности («The ability or power to concentrate mentally» (TFD)). Представленная словарная дефиниция является дополнительной иллюстрацией психологического знания о том, что процесс внимания представляет собой сквозной психический процесс, не имеющий собственного содержания, но проявляющийся в симбиозе с другими психическими процессами. Данное обстоятельство позволяет о говорить потенциальной возможности существительного attention эксплицировать своей семантикой гештальт-сферы «Интеллект» и «Перцепция» по отдельности и одновременно применительно к контекстуальному окружению. И если условно перевести сказанное выше в концептуальную плоскость, то гештальт-поле «Внимание» коррелирует как с гештальт-сферой «Интеллект», так и гештальт-сферой «Перцепция». Идентичная картина наблюдается и по отношению к лексеме attending, представленной тезаурусом в качестве ассоциата психических процессов, поскольку она является дериватом существительного attention. 132 Процесс восприятия, обозначаемый в современном английском языке существительным perception, согласно словарной дефиниции («1. the act or the effect of perceiving. 2. insight or intuition gained by perceiving. 3. the ability or capacity to perceive 4. way of perceiving; awareness or consciousness» (TFD)) и контекстуальному употреблению однозначно эксплицирует перцептивное поле гештальт-сферы «Перцепция», поскольку обозначает процесс бессознательного восприятия информации из внешней среды. Идентичным ему является лексема apperception, имеющая подобное семантическое содержание, однако указывающая на волевой, сознательный характер процесса восприятия (apperception «1. Conscious perception with full awareness. 2. The process of understanding by which newly observed qualities of an object are related to past experience» (TFD)). Как уже отмечалось выше, процесс памяти, вербализуемый соответствующими лексемами, в том числе remembering, memory, коррелирует с гештальт-сферой «Интеллект». Данное обстоятельство может быть проиллюстрировано соответствующими словарными дефинициями: «Remembering – a. To recall to the mind with effort; think of again: I finally remembered the address. b. To recall or become aware of suddenly or spontaneously: Then I remembered that today is your birthday. 2. To retain in the memory: Remember your appointment. 3. To keep (someone) in mind as worthy of consideration or recognition» (TFD). «Memory – 1. a. the ability of the mind to store and recall past sensations, thoughts, knowledge, etc. he can do it from memory b. the part of the brain that appears to have this function 2. the sum of everything retained by the mind 3. a particular recollection of an event, person, etc» (TFD). Представленные лексикографические сведения позволяют сделать вывод не только об актуализации рассмотренными лексемами интеллектуальной гештальт-сферы, но и о специфицификации соответствующего поля гештальта – «Память». 133 Наряду с гештальт-полем «Память» к интеллектуальной сфере искомой ментальной структуры относится речь, которая, исходя из данных тезауруса толкового словаря online, генеративно номинируется лексемой language и словосочетанием linguistic process. Согласно их словарным трактовкам речь идет не столько об инструментальной роли языка и лингвистических операций, как следует из дословного перевода, сколько о лексических средствах и характере коммуникации. В доказательство представленных положений приводим оригиналы словарных статей: «linguistic process – the cognitive processes involved in producing and understanding linguistic communication; he didn't have the language to express his feelings» (TFD). «language – a. communication using a system of arbitrary vocal sounds, written symbols, signs, or gestures in conventional ways with conventional meanings: spoken language; sign language. b. the ability to communicate in this way» (TFD). Таким образом, лексикографический, контекстуальный виды анализа, когнитивная интерпретация сочетаний лексем, семантически релевантных настоящему исследованию, позволили определить ту часть ненаблюдаемого мира, которая ассоциирована в сознании с «хранилищем информации» о экстралингвистических сущностях, которые условно заключены в имени референта номинации. Иными словами, благодаря описанию особенностей сочетаемости слов, интерпретации контекстуального и системного значений стало возможным достичь глубинных ассоциативных механизмов, которые во внешнем, языковом мире складываются из лексических параметров. Соответственно, в результате отмеченных лингвистических процедур стала складываться ментальная структура языкового знания или носителей языка, спрятанных в имени и вскрываемых в «образах содержания знака 8» (см. напр., Кравченко, 1996). 8 Знак (в том числе языковой знак) в настоящем исследовании является понятием, идентичным лексической единице. 134 Полученная ментальная структура – гештальт психических процессов – многомерное ментальное образование, которое в горизонтальной проекции условно может быть представлено тремя взаимосвязанными и взаимообусловленными гештальт-сферами: гештальт-сферой «Интеллект», гештальт-сферой «Перцепция» и гештальт-сферой «Эмоция-Воля». Именно данные три сферы, различающиеся по характеру хранимой информации, наиболее адекватно отражают знания носителей языка о базовой универсалии – функционировании человеческой психики. Указанные сферы гештальта по ассоциативному признаку содержания образованы соответствующими полями. Гештальт-сфера «Перцепция» представлена полями «Ощущение», «Восприятие». В пределах гештальт-сферы «Интеллект» функционируют поля «Представление», «Мышление», «Воображение», «Речь». Гештальт-сфера «Эмоция-Воля» репрезентирована, соответственно, гештальт-полями «Эмоции» и «Воля». Интересным видится положение гештальт-поля «Внимание», которое коррелирует и с гештальтсферой «Интеллект», и гештальт-сферой «Перцепция» на основании отсутствия собственного содержания у соответствующего процесса, который и является экстралингвистическим коррелятом концептуального. Важным является также и то обстоятельство, что, зеркально отражая экстралингвистический коррелят на концептуальном уровне, гештальт в точности копирует его содержание. Таким образом, как в психологии, так и в языковом сознании гештальт-сферы «Интеллект» и «Перцепция» взаимодействуют друг с другом в пределах гештальт-области «Познание». И опять же, если проиллюстрировать данное обстоятельство фактическими данными, то уже на уровне словарной дефиниции станет очевидным, что когнитивные процессы представляют собой такие психические функции, которые позволяют человеку познавать не только окружающий мир, но и себя в том числе (a process «that is connected with recognizing and understanding things» (MDT)). Однако, как отмечается в современном тезаурусе (MDT) (что является 135 яркой иллюстрацией современного психологического знания), процесс познания субъекта структурно неоднороден. Иными словами, физиологические и генетические особенности человека на настоящем этапе его эволюции позволяют говорить о специфической, присущей исключительно Homo sapiens форме такой ориентировки. дифференцируя Таким познавательную образом, деятельность современная человека и психология, животного, постулирует наличие как низших, натуральных (природных) психических функций, присущих и животным и человеку с рождения, так и высших познавательных психических функций, которые характеризуют только сознание человека (личности) и приобретаются в процессе жизни, в результате социализации (Психологические исследования, 1996). Данные лексикографических источников, также свидетельствует в пользу существования различий между основными (элементарными) психическими процессами, функциями психологии) и (в высшими терминологии функциями, современной присущими отечественной только человеку. Соответственно, в тезаурусе выделяются basic cognitive processes, которые служат ориентировке организма или получению и хранению соответствующей информации («cognitive processes involved in obtaining and storing knowledge» (TFD)), включающие внимание (attention, attending «the process whereby a person concentrates on some features of the environment to the (relative) exclusion of others» (TFD)), сопряженную с ним невнимательность (inattention «lack of attention» (TFD)), интуицию/предположение/антиципацию, ассоциируемую с вниманием (intuition «instinctive knowing (without the use of rational processes/believing – the cognitive process that leads to convictions» (TFD))), перцепцию/апперцепцию (perception «the process of perceiving/apperception – the process whereby perceived qualities of an object are related to past experience» (TFD)), категоризацию (categorisation, categorization, sorting, classification «the basic cognitive process of arranging into classes or categories» (TFD)), избирательность (discrimination, secernment «the cognitive process whereby two or 136 more stimuli are distinguished» (TFD)), научение (learning, acquisition «the cognitive process of acquiring skill or knowledge» (TFD)), память (remembering, memory «the cognitive processes whereby past experience is remembered» (TFD)), представление (representational process «any basic cognitive process in which some entity comes to stand for or represent something else» (TFD)). Иными словами, к первичным (элементарным) психическим функциям относятся все сложные когнитивные процессы, ментальные операции (cognitive operation, cognitive process, mental process, process, operation «(psychology) the performance of some composite cognitive activity» (TFD)), которые характеризуют психическую организацию животных и человека в том числе. Высшие познавательные процессы (higher cognitive processes) – это также сложнейший механизм, набор слаженно функционирующих процессов, направленных на обеспечение полноценного существования человека на высшей ступени эволюции. Сюда, по сведениям тезауруса, точно отражающим сведения экстралингвистики, относится поиск (search «the examination of alternative hypotheses» (TFD)), мышление (cerebration, intellection, mentation, thinking, thought process, thought «the process of using your mind to consider something carefully» (TFD)), предположение/воображение (suggestion «the sequential mental process in which one thought leads to another by association» (TFD)), принятие решений (deciding, decision making «the cognitive process of reaching a decision» (TFD)), понятие (knowing «a clear and certain mental apprehension» (TFD)), речь (linguistic process, language «the cognitive processes involved in producing and understanding linguistic communication» (TFD)). Таким образом, гештальт-область познания, вмещающая сферы «Интеллект» и «Перцепция», может быть рассмотрена в вертикальной плоскости в качестве иерархии составляющих ее гештальт-полей, или концептуальных коррелятов референта номинации. Следуя логике изложения экстралингвистической информации, на нижнем уровне системы организации гештальт-полей в пределах рассмотренных сфер гештальт-области «Познание» 137 находятся гештальт-поля «Ощущение», «Восприятие», «Внимание». Выше на уровень располагаются поля «Представление», «Мышление», «Воображение», «Речь». Гештальт-поле, ассоциируемое с волей и эмоциями, также в данном случае членится на высшие и низшие страты. Поскольку волевые процессы присущи только человеку, на уровне высших психических функций находится волевой ментальный коррелят, а эмоциональный соотносится как с высшими, так и с низшими психическими функциями. Вся так называемая гештальтсистема функционирует слаженно, получает информацию о психических процессах из языковых источников, раскладывает ее в соответствующие ментальные ячейки (начиная с полей) и передает преломленные сознанием сведения посредством актуализирующих ее лексических единиц. При этом ее основными особенностями являются и целостность и условная расчлененность одновременно. Данное обстоятельство находит свое логичное объяснение в терминах дискретности и синкретизма представленной ментальной структуры и будет подробнее рассмотрено в нижеследующем параграфе. 2.1.2 Синкретизм и дискретность гештальта На основании учета постулатов когнитивной науки о междисциплинарности лингвистической парадигмы, а также положения о способности языка рефлектировать окружающий мир в объективно- субъективном преломлении становится возможным выявить концептуальное содержание и «устройство» искомой ментальной структуры – гештальта психических процессов. Однако, как следует из представленного аналитического обзора изысканий в области психических процессов (см. параграф 1.3), в когнитивистике возникает больше вопросов о функционировании данного феномена, процессуальности формирования и модификации значений, нежели ответов. Решение волнующих вопросов современные ученые пытаются осуществить посредством анализа языковых 138 фактов, в результате которого складывается следующая закономерность: количество и характер вербализаторов ментальной структуры всегда тем объемнее и разнообразнее, чем сложнее референт номинации отражен на концептуальном уровне. Данное наблюдение релевантно для настоящего исследования, поскольку в нашем случае особенно важно установить тот факт, каким образом лексические единицы, соотносящиеся с разными тематическими группами, не только являются вербализаторами гештальта психических процессов в комплексе, но и способны акцентировать ту или иную составляющую указанной ментальной структуры в контексте либо своим системным значением. Соответственно, в нашем случае наиболее интересным с точки зрения представления в языке является факт дискретности и синкретизма функционирования гештальтной структуры, поскольку по данным психологии, когнитивной психологии, и философии психические процессы, несмотря на неразделенность, представляют собой некий дискретный элемент сам по себе в совокупности всех составляющих, а также с точки зрения собственного компонентного состава. Ранее при определении гештальта психических процессов и его преимуществ уже говорилось о дискретности и синкретизме, но для более детального описания сути указанного феномена, определимся с заданной терминологией и для этого обратимся, в первую очередь, к непосредственному описанию лексикографических толкований приводимых нами терминов. Отраслевые толковые словари определяют понятие «дискретность» (от лат. discretus — разделённый, прерывистый) в качестве прерывности, которая антонимична непрерывности. Отмечается, что дискретное состояние в физике и химии означает зернистость строения материи, её атомистичность (Дискретность, 2013). Применительно к неязыковому понятию психических процессов дискретность следует понимать, скорее, как нарушение однородности, нежели как прерывистость. Все дело в том, что, как очевидно из 139 системного анализа имеющихся в экстралингвистике работ, связанных с разноуровневым описанием феномена психических процессов, ее следует воспринимать и как единично акцентируемый процесс, и как комплекс психических процессов одновременно (Веккер, 1998; 1998а; Психические процессы, 2012; Рубинштейн, 2001). Таким образом, процесс внимания, например, действующий в тандеме с восприятием или мыслительной деятельностью, несмотря на его «атомарный» по отношению ко всему комплексу процессов характер, рассматривается дискретно, и, тем не менее, ассоциируется с остальными психическими процессами. Также как и дискретность, термин «синкретизм» не является сугубо лингвистическим. Изначально, будучи неязыковым феноменом, синкретизм трактовался как слитность, нерасчлененность, характерная для первоначального состояния в развитии чего-либо (Словопедия, 2014). В психологическом словаре рассматриваемый термин описывается следующим образом: «Синкретизм (от греч. syn – с, вместе и лат. cresco – расту, увеличиваюсь) – особенность мышления и восприятия, характеризующаяся тенденцией связывать между собой разнородные явления. По мнению Л.С. Выготского, синкретизм обусловлен стремлением принимать связь впечатлений за связь вещей. При этом синкретические обобщения выступают первой стадией в развитии значения слова, для которой характерен диффузный, ненаправленный перенос значения – слова на ряд связанных в перцептивном плане, но внутренне не родственных друг с другом объектов» (Словопедия, 2014). Применительно к настоящему исследованию, синкретизм есть ни что иное как ассоциируемое восприятие взаимосвязанных психических процессов. Иными словами, несмотря на дискретность понятий «психический процесс» и «психические процессы», они являются синкретично воспринимаемыми, то есть соотносятся с единым фоном и воспринимаются в совокупности либо имплицируются вне зависимости от высвечивания той или иной грани ситуации психического процесса. Кроме того, независимо от количества видов 140 психических процессов, восприятие данного феномена всегда синкретично. Иными словами, любая сущность, соотносящаяся с динамической характерстикой психики, является синкретичной по отношению к данному понятию и дискретной на том основании, что имеет ряд дифференциальных признаков, отличающих ее от иных сущностей, соотносящихся с гештальтом. Идентичная ситуация складывается и в отношении синкретизма-дискретности в пределах эмоционально-волевого поля рассматриваемого гештальта, когда, с одной стороны, наблюдается расчлененное восприятие того или иного фрагмента, а с другой, в нашем сознании он соотносится с гештальтом в целом. И если ассоциировать понятия синкретизма и дискретности с фоном и фигурой, то, соответственно, можно предположить, что выдвижение какоголибо элемента гештальта обусловлено акцентированием на общем фоне совокупно воспринимаемых психических процессов. При этом фигурами выступают соответствующие элементы гештальта – область, сферы, поля и т.д., коррелирующие с общим фоном гештальта психических процессов, который, в свою очередь, обусловлен соответствующими гештальт-классификаторами 9. Последние определяются как идентифицирующие признаки рассматриваемой ментальной структуры, пропускная способность на прозрачной границе гештальта, прототипическая составляющая гештальта. Определим их с целью установления фона гештальт-структуры и установления соответствующих классификаторов лексем, своим значением стремящихся обозначать любые процессы психики. Как и в случае с определением условных конституентов гештальтструктуры, выявление соответствующих классификаторов базируется на учете лингвистического и нелингвистического знания. При этом в расчет принимаются сведения единой теории психических процессов, которая позволяет рассматривать динамическую характеристику психики в единстве всех ее функциональных 9 составляющих, неделимой материи, отражающей Син. обязательные концептуальные признаки, идентифицирующие концептуальные признаки 141 окружающую действительность, отличающуюся не только спецификой организации (что стало очевидно в результате выявления особенностей устройства искомой ментальной структуры), но и наличием категориальных признаков, которые способствуют идентификации процессов как элементов, входящих в состав единого механизма психических процессов. Как неоднократно отмечалось в первой главе настоящей диссертации, «разностный порог» для механизма категоризации составляют такие идентифицирующие признаки, как предметность, субъектность, чувственная недоступность, спонтанная активность (Веккер, 1998). Обратимся к анализу языкового материала с целью подтверждения или опровержения наличия заявленных классификаторов на концептуальном уровне. Представленные в современных толковых англо-английских словарях определения, к сожалению, дают только общую информацию, ассоциируемую с вербальной оболочкой рассматриваемых лексем. Более того, классификаторы, выделенные отечественной психологической школой, в рассмотренных нами дефинициях только имплицируются и носят авторский, сугубо научный характер. Для установления корреляции четырех классификаторов динамической характеристики психики в сознании в английском языке обращаемся непосредственно к научным психологическим источникам на языке оригинала. В интерпретации зарубежных психологов процессы, протекающие в организме, могут согласно своему содержанию делиться на физические и психические («as human beings we become aware (and again we can see this in the actions of tiny infants) that phenomena fall into two distinct types: those happening outside ourselves, which we can see and hear, and those happening within our own consciousness — thoughts and feelings, and also the sensations of seeing and hearing, as distinct from whatever is seen or heard. The grammar construes this as a distinction between «material processes» and «mental processes». Mental processes are specifically attributed to conscious beings …») (Material…, 2011). При этом 142 дистинктивными чертами психических процессов называются, по мнению зарубежных психологов, marks of the mental, среди которых выделяются: 1) способность к репрезентации или опредмечиванию («One proposal is that being representational is a mark of the mental» (Different kinds…, 2002)), то есть обозначенная Л.М. Веккером «предметность» как способность сознания отражать параметры и свойства исходного объекта окружающей реальности; 2) локализация в сознании, закрытость от внешнего наблюдения («A second proposal is that being conscious is a mark of the mental. This would include all of our qualitative states, and it would also include things like our conscious beliefs, that don't have any distinctive qualitative character. Now, it is extremely difficult to understand and explain what «being conscious» amounts to, so this proposal is hard to assess. But on the face of it, there do seem to be examples of mental states that aren't conscious» ((Different kinds…, 2002)), что коррелирует с постулатом единой теории психических процессов о чувственной недоступности как несостоятельности попыток исследователя проникнуть в суть протекания процессов по отражению сознанием окружающего мира; 3) привилегированный доступ субъекта с собственным психическим состояниям («As we said before, we seem to have a privileged epistemic access to our own mental states. We're in a better position to know about our own mental states than other people are, and they are liable to make certain kinds of mistakes that we are immune to. Some philosophers have suggested that this kind of privileged access gives us a mark of the mental. Something counts as a mental state if and only if the person who's in that state has this kind of privileged access to it» (Different Kinds …, 2002) – такая характеристика трактуется современной отечественной психологией как субъектность или способность индивида к неосознанной субъективной интерпретации образа при сохранении его исходных объективных параметров или узнаваемости; 4) и, наконец, последний аутентичный признак психических процессов, как отмечает создатель единой теории психических процессов, Л.М. Веккер, 143 кроется в их спонтанной активности. Тем не менее, прямого указания на данную специфическую черту в рассмотренных нами зарубежных источниках нет, однако это свойство можно вывести из предположения о том, что многие психические процессы (в терминологии зарубежных коллег они часто отождествляются с состояниями) являются сознательными, причем истинная природа их возникновения не вскрыта до сих пор («Many mental states are conscious, and there is some distinctive way it «feels» to be in that mental state» (Different Kinds …, 2002). Если обратиться к анализу фактического материала на предмет поиска подтверждения рассмотренных концептуальном преломлении аутентичных исходя из классификаторов когнитивной в их интерпретации системного и/или функционального значения актуализирующих их лексем, можно выявить не только способность ключевых лексем актуализировать прототипические концептуальные признаки рассматриваемого гештальта (что подчеркивает синкретичность содержания всей рассматриваемой структуры), но и некоторые специфические для вербализации того или иного поля гештальта концептуальные признаки, позволяющие воспринимать его вербализацию дискретно. Причем, в данном случае мы обращаемся к исследованию семантики атомарных составляющих гештальта – полей, которые на концептуальном уровне отражают соответствующие компоненты динамической характеристики психики. Итак, процесс получения сведений из внешнего мира по соответствующим сенсорным каналам, то есть процесс восприятия в английском языке номинируется лексемой perception, которая также релевантна для обозначения психического процесса «ощущение». Все дело в том, что в экстралингвистическом аспекте (подробнее см. параграф 1.2) ощущение мыслится как простейшая форма восприятия, набор поступивших из внешнего мира сведений посредством органов чувств, в то время как восприятие включает еще и процесс их первичного осмысливания. Но поскольку в 144 языковой реальности существует еще и лексема sensing, которая несколько точнее номинирует процесс ощущения и, кроме того, специфицирует его, обратимся к когнитивной интерпретации ее содержания с целью определения соотнесенности с гештальтом психических процессов, с одной стороны, и выявления ее дистинктивных концептуальных признаков, с другой. Данные толковых словарей дают приблизительно идентичные трактовки рассматриваемой лексической единицы. Тем не менее, даже некоторые общие сведения позволяют нам определить соотнесенность семантического содержания лексемы sensing и гештальта психических процессов благодаря ее способности на системном уровне актуализировать ряд концептуальных признакос. Среди них отметим следующие: предметность, или наличие стимула возникновения соответствующего состояния сознания, конкретной реакции, адекватной раздражителю («A perception or feeling produced by a stimulus» (TFD)); субъектность, или уникальная способность каждого конкретного индивида по-своему реагировать на раздражитель («any of the faculties, as sight, hearing, smell, taste, or touch, by which humans and animals perceive stimuli originating from outside or inside the body» (DC)); спонтанная активность, или невозможность контролировать механизм проявления ощущений на уровне сознания («Any of the faculties by which stimuli from outside or inside the body are received and felt, as the faculties of hearing, sight, smell, touch, taste, and equilibrium» (TFD)); чувственная недоступность, или неспособность субъекта выделить из сложного процесса ощущения тот или иной элемент и ощутить его («a faculty or function of the mind analogous to sensation» (DC)). Наряду с классифицирующими концептуальными признаками гештальта, данное существительное способно к актуализации некоторых дистинктивных концептуальных признаков, обеспечивающих дискретное восприятие рассматриваемого процесса на уровне сознания. Таким концептуальным признаком является ощущение как способность воспринимать сигналы, поступающие от органов чувств при воздействии на них раздражителя 145 («a faculty by which the body perceives an external stimulus; one of the faculties of sight, smell, hearing, taste, and touch» (OD)). Другая синонимичная лексема perception более рекуррентна для описания как ощущения, так и восприятия. Тем не менее, она является полноценным ключевым актуализатором ситуации восприятия. Данное предположение основано на способности указанной лексемы отражать своим системным значением концептуальные признаки всего гештальта в целом и соотносить тем самым свое концептуальное содержание с концептуальным содержанием гештальта. Иными словами, согласно интерпретации лексикографических данных лексема perception актуализирует все обязательные концептуальные признаки: предметность как способность формировать в сознании образ воспринимаемого объекта («the result or product of perceiving, as distinguished from the act of perceiving; percept» (DC)), спонтанную активность как мгновенную соответствующую реакцию на раздражитель («immediate or intuitive recognition or appreciation, as of moral, psychological, or aesthetic qualities; insight; intuition; discernment: an artist of rare perception» (DC)), чувственную недоступность как неспособность субъекта проникнуть в сущность происходящего рефлекторного акта («the act or faculty of perceiving, or apprehending by means of the senses or of the mind; cognition; understanding» (DC)), субъектность как неповторимость, уникальность восприятия индивида («a single unified awareness derived from sensory processes while a stimulus is present» (DC)). Кроме того, одновременно со способностью отражать идентификационные признаки рассматриваемого гештальта, данная лексема в своей словарной дефиниции указывает на способность к актуализации присущей только ей дистинктивной когнитивной характеристики – перцепции как способности целостно воспринимать объекты действительности («The neurological processes by which such recognition and interpretation are effected» (TFD)). 146 Нерекуррентная для описания психических процессов, но, тем не менее, присутствующая в ментальном лексиконе единица recept является вербальным воплощением ситуации представления как психического процесса, сформированного благодаря восприятию. Тем не менее, несмотря на некоторую непредставленность в лексикографических источниках, можно выявить как ее способность системно актуализировать гештальт психических процессов, так и возможность восприниматься дискретно благодаря наличию собственных дистинктивных концептуальных признаков. Итак, лексема percept актуализирует такие концептуальные признаки гештальта, как предметность – способность соотнесения образа сознания с экстралингвистическим коррелятом («an idea or image formed in the mind by repeated experience of a particular pattern of sensory stimulation» (TFD)), спонтанная активность – невозможность определения генеза реакции («an idea formed by the repetition of similar percepts, as successive percepts of the same object» (DC)), чувственная недоступность – неспособность субъекта проникнуть в суть данного рефлекторного акта («an idea or image formed in the mind by repeated experience of a particular pattern of sensory stimulation» (TFD)) и субъектность как неповторимость импринтов у каждого субъекта («an idea or image formed in the mind by repeated experience of a particular pattern of sensory stimulation» (DC)). При этом дистинктивной характеристикой данной лексемы является ее способность актуализировать концептуальный признак представление как функциональную особенность сознания содержать сведения об объектах реальной действительности, спобность, вытекающую из лексикографических сведений об этимологии лексемы, в которых указывается прямая корреляция понятий «представление» и «концепт» («C20: from re- + (con) cept» (DC)). Идентичной классифицирующие способностью актуализировать концептуальные признаки все гештальта рассмотренные психических процессов обладает лексема attention. Она системно вербализует следующие концептуальные признаки: предметность как наличие фокуса внимания 147 («especially by directing the mind to an object» (DC)), спонтанная активность как неясный генез внимания («the act or faculty of attending» (DC)), чувственная недоступность как невозможность определения сущности рефлекторного акта самим субъектом («with a view to limiting or clarifying receptivity by narrowing the range of stimuli» (DC)), субъектность как уникальность акта внимания субъекта («a concentration of the mind on a single object or thought, especially one preferentially selected from a complex» (DC)). При этом дифференцирующим признаком, который актуализируется лексемой attention, является внимание как процесс сознательной/бессознательной концентрации сознания на определенном объекте («Concentration of the mental powers upon an object; a close or careful observing or listening» (TFD)). Следующая лексема memory, номинирующая память, иннервирована в общую систему психических процессов. Исходя из экстралингвистических сведений и анализа словарных данных, данная лексема системно актуализирует следующие концептуальные признаки предметность как соответствие образа сознания воспринимаемому объекту («the mental capacity or faculty of retaining and reviving facts, events, impressions, etc., or of recalling or recognizing previous experiences» (DC)), спонтанная активность как возникающая независимо от интенций субъекта реакция («a mental impression retained» (DC)), субъектность как уникальность свойств памяти в каждом конкретном случае («this faculty as possessed by a particular individual: to have a good memory» (DC)), чувственная недоступность как неспособность субъекта объяснить суть механизма запоминания («the act or fact of retaining and recalling impressions, facts, etc.» (DC)). Дифференцирующим концептуальным признаком памяти, актуализируемым лексемой memory, является память как способность к ретроспекции («The mental faculty of retaining and recalling past experience» (TFD)). Актуализация инвариантных признаков гештальта психических процессов лексемой imagination – воображение, которая также номинирует 148 один из процессов, осуществляется источниках. также соотносящихся системно, Соответственно, что с ментальной отражено выделяются в сферой гештальта, лексикографических концептуальные признаки: предметность как соответствие образа сознания экстралингвистическому корреляту («the faculty of producing ideal creations consistent with reality, as in literature, as distinct from the power of creating illustrative or decorative imagery» (DC)), чувственная недоступность как неспособность субъекта проникнуть в механизм воображения («the faculty of imagining, or of forming mental images or concepts of what is not actually present to the senses» (DC)), спонтанная активность как сознательное/бессознательное ментальное конструирование, запускаемое неощутимыми для субъекта факторами («the action or process of forming such images or concepts» (DC)) и субъектность как уникальность процесса («a conception or mental creation, often a baseless or fanciful one» (DC)). Основным дифференцирующим признаком, системно актуализируемым лексемой imagination является воображение как процесс ментального моделирования на основе имеющегося у индивида опыта («The formation of a mental image of something that is neither perceived as real nor present to the senses» (TFD)). Существительное thought также на системном уровне выражает свое соответствие гештальту психических процессов благодаря способности актуализировать такие концептуальные признаки, как субъектность – уникальность мыслительного акта («that which one thinks»(DC)), чувственная недоступность – недосягаемость рефлекторного механизма для сознания субъекта («a single act or product of thinking; idea or notion» (DC)), предметность – соответствие образов сознания и их экстралингвистических коррелятов («a consideration or reflection» (DC)), спонтанная активность – невозможность объяснения субъектом механизма запуска соответствующего рефлекторного акта («the capacity or faculty of thinking, reasoning, imagining» (DC)). Кроме всех вышеперечисленных концептуальных признаков, данная 149 лексическая единица на системном уровне также актуализирует концептуальный признак мышление как способность индивида осуществлять ментальные операции («The act or process of thinking; cogitation» (TFD)). Как известно из экстралингвистических источников, речь является неотъемлемой частью психических процессов. Соответственно, существительное speech на системном уровне также актуализирует все концептуальные признаки рассматриваемого гештальта: предметность как наличие объекта, осознаваемого субъектом при разговоре («the faculty or power of speaking; oral communication; ability to express one's thoughts and emotions by speech sounds and gesture» (DC)), чувственная недоступность как невозможность субъекта следить за механизмами речетворчества («something that is spoken; an utterance, remark, or declaration» (DC)), спонтанная активность как необъяснимость соответствующего рефлекторного акта для субъекта («the faculty or power of speaking» (DC)), субъектность как уникальность процесса («ability to express one's thoughts and emotions» (DC)). Дифференциальным признаком, имманентно присутствующим при вербализации процесса говорения, является речь, или вербальное оформление мыслей («The faculty or act of expressing or describing thoughts, feelings, or perceptions by the articulation of words» (TFD)). Следующая лексема emotion, номинирующая еще один из базовых компонентов психических процессов, также системно актуализирует концептуальные признаки гештальта, включая: субъектность как своеобразие экспрессии («a strong feeling deriving from one’s circumstances, mood, or relationships with others» (OD)), предметность как наличие триггера эмоционального всплеска («any of the feelings of joy, sorrow, fear, hate, love, etc» (DC)), чувственная недоступность как неспособность субъекта объяснять происхождение рефлекторного акта («any strong agitation of the feelings actuated by experiencing love, hate, fear, etc., and usually accompanied by certain physiological changes, as increased heartbeat or respiration» (DC)), спонтанная 150 активность как неспособность сознания субъекта объяснить сущность рефлекторного акта («A mental state that arises spontaneously rather than through conscious effort and is often accompanied by physiological changes» (TFD)). Кроме основных признаков гештальта психических процессов, данная лексема способна актуализировать на языковом уровне еще один дифференциальный концептуальный признак – эмоция, или соответствующее аффективное состояние («a feeling that you experience, for example love, fear, or anger» (MDT)). Существительное will, номинирующее концептуальный коррелят составляющей афферктивно-волевой сферы, как и все предыдущие номинанты, соотносится с гештальтом психических процессов на основании способности актуализировать все концептуальные признаки гештальта, включая следующие: чувственная недоступность – неспособность субъекта воспринимать рефлекторный акт органами чувств («the faculty of conscious and especially of deliberate action; the power of control the mind has over its own actions» (DC)), субъектность – индивидуальный характер рефлекторного акта («power of choosing one's own actions: to have a strong or a weak will» (DC)), предметность – наличие объекта («the act or process of using or asserting one's choice» (DC)), спонтанная активность – неспособность субъекта выделять данный рефлекторный акт посредством органов чувств («instinctive or intuitive feeling as distinguished from reasoning or knowledge» (OD)). Дифференциальным признаком в данном примере является воля – сознательное волеизъявление, сопровождающее иные действия субъекта («The mental faculty by which one deliberately chooses or decides upon a course of action» (TFD)). Таким образом, на основе когнитивной интерпретации лексикографических толкований всех лексем, номинирующих концептуальные корреляты входящих в состав гештальта элементов, можно сделать вывод об их способности системно актуализировать идентифицирующие концептуальные признаки рассматриваемой ментальной структуры и способности обладать соответствующими дистинктивными признаками. 151 Последние позволяют лексическим элементам идентифицироваться с полями гештальта, впоследствии структурирующимися во фреймы. Необходимо в этом плане отметить, что гештальт многокомпонентной психических системой, процессов образованной является множеством сложной дискретных элементов, отличающихся дифференциальными признаками и объединенных между собой внутри системы благодаря синкретичному содержанию гештальта, отраженному на языковом уровне соответствующими лексемами, номинирующими данные элементы. Иными словами, способность гештальта выступать в качестве объединяющего начала для совокупности входящих в него элементов предопределяется аутентичными гештальт-классификаторами субъектности, спонтанной активности, чувственной недосягаемости и предметности. Именно в таком качестве данная ментальная структура может не только организовывать собственные конституенты по особым правилам, речь о которых пойдет далее, но и выступать в качестве фона для высвечивания определенных фигур в пределах контекста. Обеспечение такой функции осуществляется благодаря дифференцирующим концептуальным признакам каждого из входящих в состав гештальта элементов, – ощущения, восприятия, представления, внимания, воображения, мышления, речи, эмоции, воли или дискретности их восприятия. Думается, что представление знаний о типичной ситуации психических процессов четко отражает базовое положение единой теории психических процессов относительно того, что основой работы указанных процессов является единый механизм функционирования (рефлекторный акт), который по своей сути недробим, а, кроме того, синкретичен по отношению ко всей структуре психических процессов благодаря общим принципам функционирования. На концептуальном уровне, как неоднократно говорилось ранее, заявленный экстралингвистический феномен как нельзя лучше коррелирует с гештальтом психических процессов, который при учете фактора синкретизма функционирования может быть дискретно представлен вследствие 152 высвечивания атомарных составляющих – фреймов соответствующих психических процессов, речь о которых пойдет в следующем параграфе. 2.1.3 Фреймы психических процессов Ранее неоднократно отмечалось, что опира на основные положения современной когнитивной науки и экспериментальные исследования психолингвистики дает основание рассматривать слово (в нашем случае опорное слово) в качестве амбивалентной единицы, выступающей в виде знака в системе естественного языка и в виде структурированного знания и опыта в ментальном пространстве языковой личности. В связи с принятой в качестве доминантной точкой зрения особенно актуальным становится утверждение В.Б. Касевича о том, что разные уровни речевой деятельности выражаются в разных формах своей экзистенции, то есть вначале «целостные гештальты», далее как «расчлененные, структурно организованные, с поэлементным строением» (Касевич, 1989). Таким образом, поэтапное развертывание сложных ментальных структур и выделение минимальных компонентов определяет траекторию модификации и формирования значения. Подтверждая правомерность такого положения вещей в терминах триархической теории интеллекта, А.А. Залевская отмечает, что «управляя отбором процессов более низкого уровня для решения той или иной проблемы, метакомпоненты, в частности, направляют выбор некоторой стратегии и ментальной репрезентации, на основе которой эта стратегия может действовать» (Залевская. 1997: 18). В связи с последним фрейм предстает как часть когнитивной системы, в нашем случае – минимальная атомарная часть ментальной структуры, в онтологическом плане ассоциированная с гештальтом. Соответственно, интерпретатор в результате множества сложнейших операций сознания посредством аудио-визуального канала получает и обрабатывает набор прототипических конструкций, с которыми в дальнейшем его 153 подсознание осуществляет операции по заполнению слотов поступающей информацией, осуществляет замену на более релевантные сведения, трансформирует и модернизирует имеющиеся знания. Другими словами, фрейм представляет собой базу для формирования контекстных ожиданий по ходу дискурса, а также задает траекторию допустимых интерпретаций семантики вербализующих его языковых единиц. Такие функциональные особенности фрейма предопределяют его пропозициональное линейное устройств, что коррелирует с замечанием Ю.Н. Караулова, что «фрейм любого уровня обобщенности … может быть адекватно выражен переводом его в пропозициональную структуру, таким образом, передан пропозицией, а фреймовая сеть соответственно системой пропозиций» (Караулов, 1987: 194). Забегая вперед, отметим, что пропозиция представляет собой основную логическую единицу сознания человека, которая, закономерно повторяясь при развертывании информации, образует целую системную единицу, именуемую фреймом. В задачи исследователя, таким образом, входит необходимость описания строения пропозиции, которое впоследствии позволит вскрыть как представления о рассматриваемых объектах реальности, так и отношениях между ними, то есть описать «особый тип репрезентации знаний – пропозициональный» (КСКТ: 137). Уникальность пропозиционального типа репрезентации заключается в том, что, несмотря на взаимосвязь пропозиции с объективными реалиями, они выступают в качестве концептуальных единиц (Лакофф, 1995: 177), выполняют роль «оперативной структуры сознания» (КСКТ: 137), являются потенциально «вербально выразимыми» в связи со способностью языка придавать ментальным картинкам вербальную оболочку (Кубрякова, 1994: 13). Таким образом, пропозиция есть универсальная форма представления знаний как сугубо лингвистических, так и экстралингвистических. Она составляет базовую часть семантического контента предложения (Арутюнова, 1976: 70; Шмелева, 1980: 131; Кацнельсон, 1972: 141 и т.д.), хранит любое 154 знание в виде структур (Панкрац, 1992; Anderson, 1973; Johnson-Laird, 1983 и др.), что позволяет основной части человеческого опыта быть представленным в виде пропозициональных моделей (Лакофф, 1988: 31). Иными словами, любая ситуация реальной действительности, имеющая концептуальное воплощение во фреймовой модели имеет пропозициональный кодификатор на языковом уровне (Панкрац, 1992: 11). Соответственно, следуя логике когнитивноориентированных исследований, лингвисты, стремящиеся получить доступ к структурам сознания, ментальных моделей. обращаются к При изучение этом анализу языкового последних воплощения строится на вербоцентристских параметрах. Это означает, что глагол есть центральная часть предложения, на нем лежит основная функциональная нагрузка, которая, в свою очередь, предопределяет синтаксическое и содержательное окружение и его качество (Арутюновова, 1983; Караулов, 1987; Кубрякова, 1991; Cook, 1979 и др.). Функтивный характер глагола предопределяет его аргументы при учете валентностного потенциала семантики. Как справедливо по этому поводу замечает Л.О. Чернейко, если центральной синтаксической категорией является предикат (с глаголом в качестве морфологического ядра), то слово способно функционировать как свернутое предложение (и здесь автор соглашается с В.Г. Гаком), а все производные слова можно классифицировать в соответствии с их потенциалом номинировать участников ситуации сквозь призму отношения к действию (Чернейко, 1997). Такая вербально выраженная структура активизирует в сознании субъекта соответствующие когнитивные сведения об окружающей действительности, которые ассоциированы с той или иной глагольной лексемой. Иными словами, основная семантическая нагрузка высказывания предопределена глаголом (Чейф, 2003: 115). Языковым выражением такого положения является, как было отмечено ранее, инвариантный каркас потенциального предложения, который находит идентичное или типовое словесное воплощение (КСКТ: 137). Данное положение особенно актуально для 155 настоящего исследования, поскольку психические процессы, информация о которых на концептуальном уровне хранится и структурируется соответствующей гештальтной структурой, ввиду своей универсальности и объединенности на языковом уровне представлена инвариантной пропозициональной структурой, включающей базовый предикат и его аргументы. Такая пропозициональная база лежит в основе концептуального содержания рассматриваемых нами типовых фреймов психических процессов. Как отмечалось в первой главе настоящего исследования, «фрейм», несмотря на столь широкое распространение его в лингвистике, определяется по-разному, в зависимости от приоритета различных школ и направлений. Применительно к настоящему исследованию фрейм видится атомарным составляющим гештальта, ментальным конструктом, который связывает ассоциируемые с лингвистической формой многочисленные сведения (Taylor, 1995), содержит инвариантные пропозициональные сведения и допускает изменения на уровне непропозициональных признаков. И если рассматривать максимально доступное когнитивное знание о структурной организации фрейма и адаптировать эту информационную «выжимку» применительно к настоящему исследованию, можно говорить о том, что фреймы психических процессов – это каркасы типичных ситуаций внимания, восприятия, мышления, памяти, восприятия, эмоций и т.д., включающие инвариантное ядро в виде базовых обязательных рамкой, и вариативную компонентов, определяемых периферию, представленную пропозициональной факультативными дифференцирующими элементами. Таким образом, человек, вспоминая о каком-либо событии в жизни, постепенно раскручивает спираль фрейма, ассоциируя и включая в воспоминания все больше и больше новых подробностей (Карасик, 2004: 128). В это же самое время, несмотря на обилие привлекаемой концептуальной информации, главная тема ситуации сохраняется за счет актуализации инвариантного фреймового каркаса, предопределяемого пропозициональной основой. Таким образом, фрейм 156 «акцентирует подход к изучению хранимой в памяти информации, выделяет части, т.е. структурирует информацию по мере разворачивания фрейма» (Карасик, 2004: 128). Таким образом, фреймы психических процессов являются атомарными дискретными структурными элементами гештальта, содержащими сведения о типичной ситуации психических процессов, базовый инвариантный синкретичный каркас которого находится на верхнем уровне фреймовой иерархии, в то время как дополнительные дифференцирующие сведения о каждом психическом процессе, соответственно, располагаются на нижнем уровне фрейма. Мы полагаем, что такие фреймы, то есть фреймы психических процессов, должны рассматриваться вместе и параллельно по ряду причин. Как было отмечено ранее, психика – единый механизм, который обеспечивает слаженную работу психических процессов, функционирующих без обособления. Это положение вещей зеркально повторяет такое свойство фреймов как неспособность к изоляции, открытость границ к поступлению новой информации. Забегая вперед, отметим способность большинства глагольных лексем к системной либо функциональной вербализации разных психических процессов, что говорит о модификации их значения с определенной коммуникативной целью в рамках процессуального изменения значения. Итак, следуя непосредственному логике условному поставленной моделированию задачи, обратимся фреймовых к структур психических процессов с опорой на лингвистическую и нелингвистическую информацию, представленную в первой части настоящего диссертационного исследования. 2.1.2.1 Обязательные элементы фреймов Пропозициональной основой ситуации любого психического процесса является набор неотъемлемых компонентов 157 фреймовой структуры – обязательных компонентов, которые выступают концептуальными коррелятами участников идентичной экстралингвистической ситуации. Их количество, семантическое содержание и взаимосвязь в пределах пропозиции определяется базовым элементом структуры – предикатом (компонент ПРЕДИКАТ 10), ядерной морфологической составляющей языкового уровня которого является глагол. Компонент ПРЕДИКАТ, заполняемый на лексическом уровне глаголами или соответствующими психических высказывания. глаголу процессов, Иными по денотативному предопределяет словами, статусу семантическое статус лексемами содержание акциональности/статальности предопределяет лексическое наполнение остальных слотов инвариантного уровня. В первой главе уже отмечалось, что глагольные лексемы психических процессов – проблема весьма сложная с точки зрения определения их категориального статуса. Ученые причисляли данные лексемы к глаголам так называемого пропозиционального достижения (или achievements) (Vendler, 1967), к глаголам временных состояний и глаголам деятельности (не отождествляя при этом понятия «деятельность» и «действие» (Падучева, 1996)), акционально-процессуальным предикатам (Васильев, 1990), предикатам «психологических реакций» (Арутюнова, 1999: 52) и т.д. Последняя точка зрения, предлагаемая Н.Д. Арутюновой, является наиболее релевантной для настоящего исследования, поскольку предикаты психических процессов, актуализируемые глаголами различных тематических групп ввиду сложности и противоречивости референта номинации, должны отражать и, надо сказать, отражают специфику психических процессов. Так, Н.Д. Арутюнова, учитывая комплексный характер референта номинации, полагает, что особый статус таких предикатов обусловлен их возможностью захватывать «более чем одно событие или действие» и включать целый ряд «семантических довесков», 10 Во избежание терминологической путаницы здесь и далее мы отмечаем синтаксические составляющие, а также компоненты экстралингвистических ситуаций, строчными буквами, а составляющие фреймовой структуры – заглавными. 158 связанных с информацией о предшествующей ситуации, предвосхищением последующих событий, параметрами субъекта и объекта действия, инструментов, способе, мотиве, цели действия, оценке (Арутюнова, 1999: 5152). Соглашаясь с мнением автора и учитывая столь сложный статус рассматриваемой параметрами, в лексики, номинации обусловленный компонента экстралингвистическими ПРЕДИКАТ мы допускаем терминологическую подмену в пользу компонента ПРОЦЕСС. В таком случае компонент ПРЕДИКАТ выступает как составная часть компонента ПРОЦЕСС, который, согласуясь концептуальном с уровне, экстралингвистическими а, следовательно, и данными, на может уровне на языковом, акцентировать одновременное функционирование нескольких процессов или выступать его синонимом в случае, когда акцентируется только один психический процесс, что происходит преимущественно в случае с актуализацией динамической характеристики психики прототипическими лексемами. В первом случае сложного взаимодействия на концептуальном уровне осуществляется ситуативное или окказиональное наложение, адгезия 11 компонентов. Традиционно в когнитивной науке принято единое мнение о том, что субъект неакциональных предикатов, то есть предикатов психологических реакций, является носителем состояния (Касевич, 1992; Болдырев, 2003) или экспериенцером, который не имеет агентивных характеристик, не отличается контролируемостью, однако наделен определенной долей активности, которая предопределяет его способность изменять свое состояние (Болдырев, 2003: 66). Касательно перцептивых предикатов (а именно соотношения перцепции и мыслительной деятельности, сопровождающей ее) справедливо высказывается Н.Д. Арутюнова, описывая их возможности накладывать на личного субъекта роли и экспериенцера, и агенса одновременно в зависимости от ситуации 11 Здесь и далее термину «наложение компонентов» будет соответствовать синонимичный термин «адгезия». Последний заимствован из химии, адаптирован к настоящему лингвистическому исканию и понимается как сцепление компонентов фреймовых структур. 159 (Арутюнова, 1999: 423). И даже будучи экспериенцером, как отмечает А.В. Бондарко, субъект не пассивен, более того, он является носителем «непассивного предикативного признака» (Бондарко, 1992: 33, 40). В нашем случае тематический разброс глагольной лексики, номинирующей психические процессы в современном английском языке, довольно обширен и включает различные тематические группы, в том числе и сенсорные, и ментальные предикаты, наряду с предикатами эмоциональных, волевых процессов, а также речи. Это естественным образом осложняет обоснование их категориального экстралингвистической лексикографических статуса. информации толкований в Кроме сочетании рассматриваемой того, с учет анализом глагольной лексики позволяет говорить о наличии волитивных компонентов в семантике. Они отражают произвольность психических процессов и говорят о способности субъекта психических процессов управлять некоторыми процессами посредством волеизъявления. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу контролируемости как характеристики субъекта, а также о некоторой его акциональности. С целью подчеркнуть неоднозначный категориальный статус рассматриваемой лексики, а также дополнительно специфицировать психические процессы как класс особых предикатов, указывающий на когнитивный характер воздействия субъекта на объект и локализации психических процессов в сознании субъекта, а не объекта, мы наделяем их промежуточным категориальным статусом, учитывающим амбивалентность некоторых акциональных и неакциональных предикатов, и говорим о введении термина СЕНСОР. Последний на концептуальном уровне выступает в качестве субъекта концептуальной ситуации психических процессов, имеющей вербальное воплощение в виде пропозициональной структуры. Таким образом, мы полагаем, что компонент СЕНСОР является наиболее релевантным термином для обозначения субъекта ситуации психических процессов, поскольку данный термин не только относит рассматриваемую категорию 160 глаголов к особому слою, но и отражает их сложный динамический характер, отражающийся на поведении субъекта самой ситуации. Итак, компонент СЕНСОР способен характеризоваться концептуальными признаками: агентивность и контролируемость – в случае с описанием концептуального коррелята произвольных психических процессов, и такими концептуальными признаками как неагентивность и некотролируемость в связи с высвечиванием непроизвольности процессов. Первый тип субъекта, по мнению О.Н. Селиверствовой, может именоваться несобственно агентивным субъектом (Селиверстова, 1982: 112). Как представляется, потенциального предложения, пропозициональная являющегося структура, непосредственно каркас языковым воплощением концептуализированной и хранящейся в ментальных структурах различного порядка информации, в качестве обязательных компонентов вмещает субъект и предикат, которые играют определенные семантические роли при когнитивной интерпретации. Как уже отмечалось, характеристики компонента ПРОЦЕСС предопределяют характеристики основного участника ситуации психических процессов, который в качестве компонента именуется в дальнейшем СЕНСОР. Однако здесь необходимо сразу оговорить тот факт, что психические процессы во всем своем многообразии и высшей форме существования присущи только человеку, что позволяет нам для полноты исследования апеллировать исключительно к человеческим свойствам и качествам психических процессов. Соответственно, определяя психические процессы в корреляции с человеком, семантическим наполнением компонента СЕНСОР выступает только человек. Исследование специфики психических процессов животных, равно как и персонификация любого рода, в нашем исследовании исключается. Тем не менее, мы не отрицаем возможность исследования метонимического замещения человека в концептуальном положении компонента СЕНСОР частью его тела или органом, где генеративно локализовано протекание психического процесса (глаз, ухо, голова и т.д.). 161 Кроме перечисленных компонентов пропозициональной структуры, благодаря валентностному потенциалу глагола, к ней обязательно дополняется компонентом ОБЪЕКТ. Применительно к экстралингвистической ситуации психических процессов в данном случае наличествует предмет окружающей действительности, который является фокусом психических процессов. На него направлено основное особенностью статичность, объекта внимание глаголов неспособность субъекта. Причем психических изменяться под специфической процессов воздействием является их активности, номинируемой предикативной единицей. Иными словами, соответствующее воздействие носит когнитивный характер (Болдырев, 2003: 71). Итак, структуры компонент на ОБЪЕКТ рассматриваемой концептуальном уровне пропозициональной является одушевленного/неодушевленного, коррелятом статичного/динамичного, конкретного/абстрактного объекта реальной действительности, или мира ментальности, то есть это все то, что способно проектироваться в мозг в виде образов и импринтов в результате постижения опыта индивидом. По психологическим данным, в частности, такого направления как бихевиоризм, постулирующего каузативную цепочку стимул-реакция, психические процессы являются результатом некоего пускового механизма. В пользу такого положения вещей в своем исследовании говорит Н.Д. Арутюнова, которая предполагает, что «психические реакции не могут быть отделены от вызвавших их стимулов. Специфика психического состояния столь же прямо соответствует субъективной оценке мотивирующего его события, как и последняя – вызываемому им состоянию психики» (Арутюнова, 1999: 45). Эта самая стимулирующая сила способствует тому, что ничем не примечательный для остальных предмет окружающего мира набирает свою привлекательность для некоего субъекта. В качестве стимула, и, соответственно, движущей силы психических процессов могут выступать и внешние, и внутренние факторы: мотивация самого субъекта, цель, особые 162 параметры объекта (преимущественно, в случае с непроизвольным характером психических процессов), а также внешняя сила, побуждающая субъекта. Для обозначения компонента, концептуальное наполнение которого мы рассмотрели выше, используется слово триггер – пусковой механизм психических процессов. Компонент ТРИГГЕР – это так называемый концептуальный коррелят каузатора ситуации психических процессов. Забегая вперед, отметим, что в зависимости от характера и вида психического процесса ТРИГГЕР имеет различные виды концептуального наполнения: это может быть внутренняя побуждающая сила – цель (и в данном случае мы имеем в виду произвольный целеполаганием), характер стремление психического обезопасить процесса, себя обусловленный (реакция на внешний раздражитель, ориентировочный рефлекс при непроизвольном характере процесса), а также внешняя побуждающая сила, например, некий субъект, способствующий запуску Примечательным фактом того или является иного психического экспликация/импликация процесса. компонента ТРИГГЕР в зависимости от характера пускового механизма. Итак, если каузатором психического процесса является внутренняя причина, в таком случае компонент ТРИГГЕР накладывается на компонент ОБЪЕКТ с учетом соответствующих параметров его экстралингвистического коррелята или компонент СЕНСОР (преимущественно в случаях описания произвольного характера психического процесса). Если запуску психического процесса способствует внешняя пропозициональной полноценное место, одушевленная структуре иными или компонент словами, он неодушевленная ТРИГГЕР сила, занимает эксплицирован. в свое Экспликация компонента ТРИГГЕР на языковом уровне осуществляется посредством каузативной конструкции, в которой выделяют субъект каузации (агенс, или одушевленный каузатор) и причину каузации (пациенс, или неодушевленный субъект каузации) (Корди, 1988). И если адаптировать сказанное Е.Е. Корди к настоящему диссертационному исследованию, следует такой вывод: компонент 163 ТРИГГЕР является концептуальным коррелятом одушевленной/неодушевленной стимулирующей силы, которая не физически воздействует на психику субъекта и является пусковым механизмом психических процессов, которые являются следствием такой каузации. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что в зависимости от типа и характера психического процесса, в языковом арсенале присутствуют несколько типов каузативных конструкций, которые, в свою очередь, предопределяют стратегию развертывания фрейма. Подытоживая вышеуказанное, можно сказать, что фреймы психических процессов имеют уникальную, относительно стабильную пропозициональную основу, которая, в свою очередь, идентифицирует их с категорией психических процессов, а также накапливает и хранит сведения о ситуации психических процессов в типовом виде, то есть с учетом набора инвариантных для всех психических процессов компонентов: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Такая основа условно моделируется в результате анализа лингвистической и нелингвистической информации, релевантной объекту исследования. Она отражает обязательные компоненты высокой степени абстракции, которые на языковом уровне находят отражение в виде пропозициональной структуры в эксплицированном или имплицированном виде. Каждый из заявленных компонентов имеет свои концептуальные признаки, отличающие его от других компонентов. Кроме того, такая концептуальная специфика на уровне вербализации проявляет себя в идентификации того или иного психического процесса, преимущественно в области адгезии компонента ПРОЦЕСС, а также компонент ТРИГГЕР. Думается, что представленные компоненты отражают всех базовых участников концептуальной ситуации психических процессов любого из них. Такая пропозициональная основа обеспечивает своеобразный синкретичный фон на уровне посредника между языком и ментальностью. Однако то обстоятельство, что гештальт представляется в том числе и дискретной структурой, позволяет 164 говорить о некоторых допустимых модификациях пропозиции высокой степени абстракции. Итак, подходя к решению вопроса о моделировании фреймовой структуры каждого психического процесса, выявления базового набора обязательных компонентов, можно говорить о том, что при структурировании полей психических процессов рассматриваемого нами гештальта имеет место явление аллотропии как способности уникальной фреймовой структуры существовать в нескольких видах, отличающихся морфологически и семантически. Сам термин «аллотропия» не является лингвистическим, он релевантен в химии при описании различных фаз существования простого вещества. Именно способность понятия аллотропии номинировать производные одного и того же элемента стала причиной заимствования этого термина и его адаптации применительно к настоящему исследованию для аллотропных модификаций фреймовой структуры в пределах гештальта. Особенность аллотропов, заключающаяся в возможности переходить друг в друга (Словарь терминов, 2012), позволяет нам наиболее объективно описать механизм формирования и модификации значения рассматриваемых нами вербализаторов фреймов психических процессов. Иными словами, инвариантный пропозициональный набор атомарной единицы гештальта – фрейма любого психического процесса – допускает различного рода адгезии или изменение следования и взаимосвязей компонентов, сохраняя при этом свое положение на уровне высокой степени абстракции. Изменяемый набор компонентов (дифференциальных особенностей) корреллирует с ментальным уровнем конкретного коммуниканта, а относительно гештальтной структуры в целом базируется на уровне факультативных компонентов фрейма, их набора и концептуальных характеристик. Обратимся непосредственно к их изучению в нижеследующем параграфе. 165 2.1.2.2 Факультативные элементы фреймов Ранее неоднократно отмечалось, что при существовании инвариантного каркаса обязательных компонентов фреймы психических процессов имеют четкую дифференциацию благодаря факультативным элементам, список которых открыт и в связи с этим довольно обширен. При этом они не поддаются исчислению или систематизации ввиду открытости границ фреймов к поступлению новой информации, способности переструктурации «в угоду» контекста. Однако благодаря учету лингвистической и нелингвистической информации, а также дистинктивных концептуальных признаков лексемноминантов, составляющих динамической характеристики психики на языковом уровне, возможно выявление наиболее репрезентативных из них, описание актуализации которых позволит нам в дальнейшем проследить особенности категоризации семантики их вербализаторов, а также определить принципы механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в отношении траектории модификации значения. Итак, выделение факультативного признака ОЩУЩЕНИЕ связано с актуализацией дистинктивного признака ощущение в структуре гештальта. Данный компонент специфицирует семантические особенности предиката и способствует его дальнейшей классификации по принципу получения сведений из окружающего мира. Таким образом, вербализуя на системном или функциональном уровне компонент ОЩУЩЕНИЕ наряду с обязательными компонентами рассматриваемой фреймовой структуры, глагол или глагольноименное словосочетание соотносит рассматриваемую ситуацию с аллотропом «Ощущение» и высвечивает при этом ту или иную грань процесса в зависимости от семантической классификации глагола-вербализатора. Идентичная ситуация наблюдается и при выделении факультативного компонента ВОСПРИЯТИЕ, который в первую очередь обусловлен наличием концептуального признака восприятие 166 в структуре рассматриваемого гештальта и, соответственно, семантическими особенностями вербализующего его предиката, потенциалом последнего номинировать саму ситуацию восприятия посредством соответствующих рецепторов, номинировать часть психического процесса, а также этап перцептивного опыта непосредственно. Актуализация подобного факультативного компонента не только способствует идентификации соответствующего психического процесса, но и говорит в пользу дальнейшей классификации соответствующих предикатов по критерию органа перцепции. Такая актуализация на системном и/или функциональном уровне при учете обязательной экспликации/импликации инвариантного каркаса фреймовой структуры лексикой психических процессов способствует развертыванию фрейма «Воображение» и, кроме того, выдвижению той или иной грани типичной ситуации воображения в зависимости от семантического содержания вербализатора. Наличие факультативного компонента ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в структуре рассматриваемого ментального конструкта обусловлено существованием дистинктивного концептуального признака гештальта – представление. Актуализация данного компонента способствует описанию ситуации, когда субъекту доступны сведения, понятия о том или ином предмете или объекте, то есть отражены в сознании в виде понятия или образа. Забегая вперед, отметим, что вербализация такой ситуации не частотна, поскольку, как правило, рассмотренное концептуальное оформление фрейма имплицируется как само собой разумеющееся и передается посредством «вложения» в другой смежный фрейм, например, при описании мышления, воображения и т.д. Факультативный компонент МЫШЛЕНИЕ выделен, соответственно, в связи с наличием дистинктивного концептуального признака поля гештальта – мышление. Данный компонент отражает способность предиката номинировать ситуацию, ассоциируемую с ментальными операциями, и служит семантической дифференциации вербализующего его предиката. Кроме того, актуализация компонента МЫШЛЕНИЕ предопределена и предопределяет 167 локативность компонента ОБЪЕКТ, то есть ориентирует на принадлежность его концептуального коррелята ментальной сфере. Благодаря выявлению данного факультативного компонента на фоне обязательной актуализации инвариантной пропозициональной структуры способствует развертыванию фрейма «Мышление», который не только представляет типичную ситуацию мышления в общем виде, но и акцентирует ее специфические особенности опять же за счет семантики вербализаторов. Факультативный компонент ВНИМАНИЕ выявлен благодаря наличию концептуального признака внимание, который эксплицируется семантикой предиката и отождествляет его и всю образованную им пропозициональную структуру с ситуацией внимания в рамках актуализации гештальта психических процессов. Кроме того, в случае актуализации данного факультативного компонента делается акцент на направленности и сконцентрированности психики на определенном фокусе. Факультативный компонент РЕЧЬ является неотъемлемой дистинктивной составляющей фрейма-аллотропа «Речь», который развертывается благодаря его актуализации в сочетании с облигаторной вербализацией инвариантной пропозициональной структурой. Данный фрейм содержит основную типичную информацию о ситуации говорения и способен акцентировать ее определенные грани в зависимости от семантического содержания его вербализаторов. Выдвижение факультативного компонента ВООБРАЖЕНИЕ правомерно в связи с наличием концептуального признака воображение, который является дистинктивным по отношению интеллектуальной гештальт-сфере и гештальтполю воображения, соответственно. Его актуализация способствует описанию ряда ментальных операций, связанных с созданием нового образа в процессе переработки предыдущего опыта субъекта, то есть развертыванию фреймовой структуры «Воображение» со спецификацией ее отдельных граней за счет семантики предиката. 168 Компонент ЭМОЦИЯ не только дифференцирует соответствующее поле гештальта, но и отождествляет развертываемую фреймовую структуру с его эмоционально-волевой сферой, иллюстрирует четкую взаимосвязь любого психического процесса и любых аффективных состояний. Выдвижение факультативного компонента ЭМОЦИЯ, таким образом, способствует системной и функциональной классификации рассматриваемых предикатов и, таким образом, спецификации той или иной грани описываемой ситуации проявления эмоций. Факультативный компонент ВОЛЯ соотносит актуализующую его лексическую единицу с группой лексем произвольных психических процессов. Выделение данного компонента правомерно исключительно по отношению к описанию человеческой психики, поскольку волевые компоненты психических процессов есть функция, присущая высшему разумному существу. В подтверждение соотношения воли и остальных психических процессов человека Н.Д. Арутюнова пишет, что «волеизъявление основано на «планирующей» и корригирующей деятельности разума» (Арутюнова, 1999). Выделение данного компонента, также как и всех предыдущих, правомерно в связи с наличием дистинктивного концептуального признака эмоциональноволевой сферы гештальта, специфицирующего волевое поле. Актуализация компонента развертывает фреймовую структуру воли в сознании говорящего и акцентирует сознательность психического процесса. Помимо представленных выше факультативных компонентов, актуализирующих на концептуальном уровне основные характеристики базовых компонентов необходимым содержание динамической характеристики психики, мы считаем выделить которого факультативный вкладывается компонент концептуальный ПАРАМЕТРЫ, коррелят в особых характеристик того или иного психического процесса. Кроме того, экстралингвистическая информация эксплицирует различные классификации того или иного психического процесса, что позволяет выявить 169 факультативный компонент ВИД, в который вкладываются видовые характеристики экстралингвистических коррелятов психических процессов. Этот компонент, также как и вышеуказанный, параметрический, естественно, характеризует и сам предикат, и пропозициональную структуру, высвечивая при этом особые классификации того или иного психического процесса на концептуальном уровне. Итак, благодаря анализу лингвистического и нелингвистического знания наряду с базовым каркасом обязательных компонентов нами были представлены и факультативные дифференцирующие компоненты фреймовой структуры психических процессов. Именно в результате их актуализации происходит дифференциация и идентификация видов психических процессов на концептуальном уровне. Тем не менее, несмотря на представленный нами набор репрезентативных факультативных компонентов-идентификаторов, они не могут быть полностью учтены и перечислены, поскольку специфика границ фреймовой структуры заключается в их прозрачности и гибкости в отношении к постоянно поступающей новой информации. Таким образом, подытоживая вышеотмеченнное, можно отметить, что гештальт психических процессов является сложной многокомпонентной иерархически организованной структурой, которая организуется и функционирует слаженно, поэтапно раскрывается в сознании интерпретатора дискурса, реализуясь, таким образом, в механизмах вербализации на языковом уровне. В следующих параграфах рассмотрим особенности функционирования гештальта в совокупности всех его составляющих в качестве сложной лексикосемантической динамичной синергетической системы, имеющей инвариантное прототипическое строение на уровне высокой степени абстракции и вариативную периферию на уровне ментальности конкретного коммуниканта. 170 2.2 Особенности функционирования лексико-семантической системы репрезентантов гештальта 2.2.1 Относительная стабильность лексико-семантической системы репрезентантов гештальта Ранее уже говорилось о том, что гештальт, будучи сложной организованной системой, благодаря своему стабильному инвариантному каркасу обеспечивает единую концептуальную базу для объединения лексики под началом классификационного критерия «психические процессы». Такие языковые единицы не только линейно ассоциированы друг с другом благодаря способности описывать ту или иную динамическую характеристику психики, но и ранжированы в вертикальном измерении по степени полноты и характеру описания соответствующего референта номинации. Иными словами, естественный отбор лексических единиц, способных описывать психические процессы в реальных условиях, ведется на основании их способности системно и/или функционально актуализировать обязательные гештальт-признаки: субъектность, спонтанная активность, чувственная недосягаемость и предметность. Таким образом, если условно повторить путь когнитивной системы по естественному отбору лексических единиц, коррелирующих с ментальной структурой, и учесть только общие концептуальные критерии (то есть означенные выше концептуальные признаки), можно представить следующий очень приблизительный перечень вербализаторов системы: ache, detect, discover, find, hear, lipreading, listen, look, notice, observe, see, sense, sensory activity, smell out, smell, suffer, taste, tasting, etc. apperceive, behold, catch, comprehend discern, discover, distinguish, divine, dream, feel, find, glimpse, hallucinate, hear, identify, listen, make out, misperceive, notice, note, observe, pick out, pick up, realize, receive, recognize, remark, see, see through, smell, smell out, sense, sight, spot, spy, taste, touch, understand, conceptualise, create by mental act, 171 create mentally, design, discover, find, gestate, preconceive recall, think back to, recollect, reminisce about, retain, recognize, call up, look back on, hark back to, summon up, call to mind, cast your mind back to, forget, ignore, overlook, neglect, disregard, don't forget, be sure, be certain, make sure that you, bear in mind, not forget, keep in mind, take into account the fact, not lose sight of the fact, take into consideration the fact, be mindful of the fact, look back (on), celebrate, salute, commemorate, pay tribute to talk, say, articulate, say, voice, pronounce, utter, tell, state, talk, express, communicate, make known, enunciate, converse, talk, chat, discourse, confer, commune, have a word, have a talk, natter, exchange views, shoot the breeze, lecture, talk, discourse, spout, make a speech, pontificate, give a speech, declaim, hold forth, spiel, address an audience, deliver an address, orate etc (TFD, MDT, DC). Как было отмечено ранее, данный список лексем и словосочетаний является открытым и нелимитированным прежде всего потому, что любая ментальная структура является неиссякаемым источником сведений и мотивации лексического значения. Кроме того, в наши задачи не входит перечисление максимального количесва вербализаторов гештальта, скорее, они выступают в качестве эмпирического материала для исследования особенностей организации и переструктурации данной ментальной модели при модификации значения в дискурсе в зависимости от интенций конструктора дискурса и когнитивной установки интерпретатора. Здесь также необходимо оговорить тот факт, что описание механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в английском дискурсе абсолюта» невозможно или без представления рассмотрения так особенностей называемого организации «условного лексико- семантической системы вебализаторов гештальта в состоянии относительного покоя. Таким абсолютом можно считать прототипическое строение гештальта, которое дублируется в условном ранжировании отобранных естественным путем лексических единиц согласно 172 критерию качества вербализации психических процессов. Иными словами, устройство моделируемого гештальта, если рассматривать его сверху-вниз, следует описывать как постепенный переход от уровня категоризации (классификационные концептуальные признаки гештальта) к уровню прототипа (уровень высокой степени абстракции (инвариантному типичных дистинктивных пропозициональному набору признаков), в к совокупности ядру с факультативными элементами) и далее к периферии (ментальному уровню конкретного субъекта). Лексически каждый из рассмотренных уровней гештальта представлен определенным набором единиц, семантическое содержание которых удовлетворяет требованиям соответствующего уровня. Таким образом, уровень высшей степени абстракции выполняет инструментальную роль, обеспечивая естественную пропускную способность лексико-семантической системы гештальта. На уровне прототипа выделяются лексемы, описывающие типичную ситуацию того или иного психического процесса без акцента на ее видо-параметрических характеристиках. Далее уровень ядра гештальта репрезентирован лексемами, способными не только типизировать ситуацию того или иного психического процесса, но и добавлять факультативные сведения, акцентируя при этом его специфические свойства. Периферический уровень коррелирует с лексемами любых тематических групп, нетипичных для описания динамической характеристики психики. Обратимся непосредственно к рассмотрению строения лексико-семантической системы репрезентантов гештальта. 2.2.2 Прототипический лексический каркас системы Отобранный нами исследовательский корпус лексических единиц, коррелирующих с описанием психических процессов, как было заявлено ранее, повторяет функциональную особенность гештальта мотивировать лексическое значение посредством определенных концептуальных критериев. Таким 173 образом, уровень высокой степени абстракции есть своего рода классификатор рассматриваемой лексики посредством ее способности актуализировать дистинктивные концептуальные признаки гештальта, разворачивать пропозициональную основу аллотропной модификации фрейма. Дальнейшее рассмотрение должно происходить на уровне компонентного состава системы гештальта, его соответствующих полей, их развертывания во фреймовых структурах благодаря набору пропозициональных установок типичных ситуаций психических процессов. На лексической вершине таких структур стоят прототипические 12 лексемы (как правило, глагольные или соотносящиеся с ними по денатотивному статусу глагольно-именные словосочетания), способные отвечать условиям описания типичных ситуаций психических процессов. Таким условием является способность глагола инициализировать актуализацию компонентов СЕНСОР, ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР, а также один из компонентов ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ, МЫШЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РЕЧЬ, ЭМОЦИЯ, ВОЛЯ, ОЩУЩЕНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ, концептуальным коррелятом которых является любой из рассматриваемых нами психических процессов. И поскольку в настоящем исследовании гештальт психических процессов рассматривается как многокомпонентная ментальная структура, вмещающая в себя поля, структурируемые во фрейм (или фреймовую аллотропию), количество прототипических глагольных лексем будет равным количеству полей гештальта. Напомним, что, определяя прототипическую единицу, мы опираемся на способность лексемы психических процессов разворачивать пропозициональную основу аллотропного фрейма сообразно его концептуальному наполнению без учета каких-либо дополнительных факультативных компонентов фрейма. В данном случае мы опираемся на мнение родоначальницы прототипической теории Э. Рош, 12 Употребление термина «прототипический» в настоящем исследовании базируется на мнении Дж. Лакоффа о прототипах как о самых четких, ярких образцах, способных одномоментно соотнести ту или иную лексему с ментальной структурой, хранящей фоновые знания о ней. Таким образом, сличая сведения о любой лексеме с прототипической, человеческое сознание осуществляет категоризацию поступающей информации, ранжирует и классифицирует ее (Лакофф, 1988). 174 которая видит прототипическую единицу исключительно в чистом виде без каких-либо дополнительных примесей (Cognition and categorization, 1978; Rosсh, 1975). Здесь также необходимо оговорить тот факт, что при выявлении прототипов мы принимаем в расчет только первое словарное значение лексемы, которое в общем виде должно представлять ситуацию того или иного психического процесса на концептуальном уровне без дополнительных сведений о ней. Забегая вперед, отметим, что прототипическими лексемами репрезентантов гештальта психических процессов будут выступать лексемы, описывающие непроизвольный характер психических процессов. Данное обстоятельство вполне согласуется с экстралингвистическими сведениями о первостепенной роли реакции любого организма на раздражитель извне в борьбе за существование и его примарности по отношению к волевым процессам. Описание произвольности процесса происходит уже при пересечении полей соответствующего психического процесса и поля «Воля» с соответствующим наложением компонентов ТРИГГЕР и ВОЛЯ. Наиболее глагольная типичной лексема реализующимся в для sense, дискурсе, описания которая ситуации своим отправляет ощущения системным сознание является значением, интерпретатора к «воссозданию» простой картины, когда СЕНСОР (на экстралингвистическом уровне – человек) испытывает ощущения, поступающие от рецепторных органов и объекта реальной действительности (адгезия компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР). Данное предположение можно проиллюстрировать соответствующим лексикографическим толкованием: «1. To become aware of; perceive» (TFD). Здесь имплицирован компонент СЕНСОР как концептуальный коррелят субъекта-ощущающего, взаимообусловленные компоненты ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР как концептуальные корреляты каузатора ситуации. В данном случае интересным является тот факт, что семантика глагола sense не содержит дополнительных указаний на видо-параметрические характеристики процесса ощущения, поэтому является наиболее нейтральной, то есть описывающей 175 ситуацию в чистом виде. На уровне контекстуального использования данного глагола в прямом значении рассмотренное лексикографическое толкование находит свое полноценное подтверждение, например: 30) He had sensed a change in the air, a salty dampness (BNC: GWB, 2077). В вышепредставленном предложении речь идет о получении информации из внешнего мира посредством обонятельного рецептора. В таком случае компонент СЕНСОР, на языковом уровне представленный местоимением he, ощущает изменение запаха, непроизвольно замечает его. При этом запах как объект экстралингвистической ситуации выступает стимулом изменения ощущений, что на концептуальном уровне выливается в адгезию компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР. Прототипичекой лексемой-вербализатором другой фреймовой структуры в пределах рассматриваемой гештальтной модели или аллотропного фрейма «Восприятие» является глагол perceive. Согласно лексикографическому описанию именно данная лексема в наиболее общем виде представляет на языковом уровне ситуацию восприятия как формирования целостного образа в сознании субъекта в результате первичного осмысления полученной посредством органов чувств информации: «1. to become aware of, know, or identify by means of the senses» (TFD). Представленная словарная трактовка является очень близкой к лексикографическому толкованию лексемы sense, что вполне объяснимо схожестью таких психических процессов на экстралингвистическом уровне. Поэтому не случайно описание ощущения и восприятия в языке является либо одномоментным, либо недифференцированным. Тем не менее, как в психологии, так и в языке восприятие отличается от ощущения целостностью получаемого образа в результате первичного осмысления поступившей информации от органов чувств. Ощущения же являются только отрывочными импринтами в сознании человека как реакция на изменения объекта. Итак, глагол perceive отражает в сознании субъекта всю типичную ситуацию восприятия без акцента на 176 источник (рецепторный орган) ее получения. При этом процесс восприятия, как и процесс ощущения, видится в качестве непроизвольной ориентировки организма, поэтому объект наделен особыми стимулирующими такую психологическую реакцию качествами, что на экстралингвистическом уровне говорит об актуализации и наложении компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР наряду с наличием обязательных компонентов ВОСПРИЯТИЕ, СУБЪЕКТ и ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ). На функциональном уровне также имеет место описание типичной ситуации восприятия, например: 31) So things such as ourselves, which perceive and have conscious awareness, do so because they are (or have) minds (BNC, ABM: 187). В представленном выше предложении эксплицированы компоненты СУБЪЕКТ, ВОСПРИЯТИЕ и ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), в то время как компоненты ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР имплицированы и могут быть выведены из прилегающего контекста. Как показывает анализ фактического материала, вербализация психического процесса представления в английском языке – явление довольно редкое. Дело в том, что, как правило, представление является скорее оперативной единицей мышления, воображения, памяти и т.д. Тем не менее, в результате анализа становится ясно, фактического что материала формирование и словарных представлений дефиниций тождественно формированию понятий, концептов, о чем также свидетельствует этимология существительного recept, обозначающего само формирующееся представление. Прототипической лексемой, номинирующей процесс формирования понятия, является глагол concept, способный на системном уровне апеллировать к базовой пропозициональной структуре, включающей компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. В словарном источнике эта информация подтверждается следующей дефиницией: concept (v.) «to develop a concept of; conceive» (DC). Данный глагол очень редко встречается в контексте самостоятельно. 177 В основном его заменяют словосочетания наподобие have a concept/have no concept, develop a concept и т.п. Тем не менее, выбор данного глагола в качестве прототипической единицы, актуализирующей ситуацию представления, обусловлен его способностью описывать ситуацию в чистом виде без какого-либо видо-параметрического уточнения. На тех же основаниях мы выделяем глагол heed в качестве прототипа аллотропной модификации фрейма «Внимание», который на системном уровне понимается как «to give careful attention to» (DC). На функциональном уровне такое системное полноценно иллюстрируется примерами типа: 32) But he has heeded the advice (BNC, A6L: 1754), где высвечиваются такие компоненты как СЕНСОР, ПРЕДИКАТ, ВНИМАНИЕ, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. В случае с аллотропной модификацией фрейма «Память» прототипической глагольной лексемой, которая обусловливает полноценное «беспристрастное» развертывание базовой пропозициональной модели, является глагол remember, который на системном уровне имплицирует актуализацию обязательных компонентов искомой фреймовой структры: «to recall to the mind by an act or effort of memory; think of again» (DC). Иными словами, ментальная структура, инициализируемая прототипной единицей remember, включает компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ПАМЯТЬ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. На функциональном уровне употребление данной лексемы подтверждает свое системное значение, например: 33) And he remembered that the boy had been fiddling with them (BNC, ABX: 363). В представленном предложении всплывающий в памяти образ мальчика (компонент ОБЪЕКТ) был примечателен игрой/мошенничеством (ТРИГГЕР), что мотивировало сознание субъекта на запоминание такой информации. Аллотропная «Воображение» – модификация вызывается ментальной в наиболее структуры общем и – чистом фрейм виде прототипической единицей imagine. Данный глагол нейтрален в плане 178 семантики и способен инициализировать пропозицию, включающую аргументы СЕНСОР, ВООБРАЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР, что на уровне словарных дефиниций отражено следующим образом: «to form a mental picture or image of» (TFD). На функциональном уровне ситуация также неизменна, то есть глагол imagine, употребленный в широком смысле, способен называть процесс воображения без акцента на его видо-параметрических характеристиках, например: 34) He imagined himself walking up to her and presenting her with a single red rose (BNC, ADA: 916). Следующий глагол think также соотносится с интеллектуальной сферой и является прототипическим по отношению к ситуации описания мышления. Согласно словарным дефинициям данная лексема в наиболее общем виде способна описывать операции мышления без акцента на их параметрических или видовых характеристиках: «to have or formulate in the mind» (TFD). Из представленной словарной статьи очевидно вытекает, что глагол think наделен потенциалом разворачивать типичную для аллотропной модификации фрейма психических процессов структуру, включающую компоненты МЫШЛЕНИЕ, СЕНСОР, ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР. При этом, как и в случае с описанием типичной ситуации воображения, концептуальное содержание компонента ОБЪЕКТ включает некий абстрактный образ, идею, мысль, которая ввиду своей привлекательности выступает одномоментно и стимулом соответствующей ментальной операции (компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР). На уровне контекста способность описывать ситуацию мышления в общем виде у рассматриваемого глагола сохраняется. Например, в предложении: 35) ‘I was thinking about you,’ he said (BNC, FP7: 1024) речь идет о потенциальной привлекательности объекта мысли для субъекта, что говорит в пользу адгезии компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР на концептуальном уровне. Описание речи в самом общем смысле и типичном виде представляется посредством семантики глагола speak, который на системном уровне способен 179 инициализировать базовую пропозициональную структуру, включающую такие аргументы как СЕНСОР, РЕЧЬ, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕP, что отражено в словарной дефиниции: «to utter words or articulate sounds with ordinary speech modulation; talk» (TFD). Рассмотренная словарная статья не дает указания ни на объект, ни на стимулирующий фактор, оба концептуальных коррелята имплицированы. Тем не менее, можно сказать, что концептуальным наполнением компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР является именно предмет говорения, актуальный для самого субъекта. На контекстуальном уровне данный факт находит свое подтверждение, например: 36) Brett spoke out firmly on the question of discrimination in housing, electoral laws and public employment (BNC, APP: 739). Аффективно-волевая сфера гештальта, как было отмечено ранее, представлена полями «Воля» и «Эмоция», которые, в свою очередь, структурированы во фрейм. На языковом уровне такие структурные аллотропы также актуализируются соответствующими прототипическими лексемами. Фрейм «Воля», например, имеет типизированную пропозициональную модель, включающую базовые компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ВОЛЯ, ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Актуализация заявленных компонентов, то есть описание ситуации проявления воли, возможна благодаря глагольной лексеме will, которая, выступая в качестве смыслового наполнителя компонента ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), обеспечивает экспликацию/импликацию остальных базовых аргументов. Данное предположение подтверждается основным словарным значением лексемы: «1. To decide on; choose» (TFD). Несмотря на то, что данная лексема репрезентативна, она нечастотна в таком значении, то есть как самостоятельный глагол. Своим регулярным употреблением она обязана функциональности вспомогательного и модального глагола с основным значением «волеизъявление», что, вероятно, является следствием синергетических колебаний системы значения. Тем не менее, на 180 функциональном уровне она также может быть проиллюстрирована примером, подобным следующему: 37) Go where you will. Ask, if you will, who the owner is (DC). Как на системном, так и функциональном уровнях примечательным является тот факт, что сам по себе процесс волеизъявления является безальтернативно осознанным, направленным и произвольным. Поэтому он характерен только для человеческой психики, когда когнитивное воздействие по отношению к объекту психического процесса мотивируется установками, целями и интересами самого субъекта, что дает полные основания вывести аллотропную модификацию фрейма психических процессов – фрейм «Воля» как базовый пропозициональный каркас, включающий компоненты ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ВОЛЯ, пропозициональных представленных СЕНСОР-ТРИГГЕР, элементов, выше как аллотропных ОБЪЕКТ. очевидно, Набор идентичен модификаций. Однако базовых любой из следование элементов и порядок их группировки различен. Так, поскольку ситуация волеизъявления априори произвольная, особые свойства и качества объекта не играют для субъекта никакой роли. Более того, стимулирующая ситуацию роль принадлежит субъекту, откуда и вытекает адгезия элементов СЕНСОРТРИГГЕР. Ситуация волеизъявления, пожалуй, единственная, которая в большей степени выпадает из общей парадигмы идентичной группировки компонентов ввиду своей произвольности и подконтрольности, что уже предопределено компонентом ВОЛЯ. Таким образом, можно предположить, что заявленный компонент, появляясь в той или иной структуре в виде факультативного элемента, обеспечивает переструктурацию аллотропной модификации фрейма. Особенность носить произвольный характер касается исключительно психического процесса волеизъявления, в то время как остальные психические процессы, включая эмоции, первоначально непроизвольны. Итак, соответствующая аллотропная модификация фрейма психических процессов – 181 фрейм «Эмоция», как и все вышерассмотренные процессы динамической характеристики психики, базируется на инвариантном каркасе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ЭМОЦИЯ, ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Прототипической единицей, инициализирующей функционирование такого инвариантного каркаса без каких-либо дополнительных спецификаций является глагол experience. Данная лексема имеет следующую словарную трактовку: «1. The apprehension of an object, thought, or emotion through the senses or mind» (TFD). Глагол experience уже своим системным значением высвечивает адгезию компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР («The apprehension of an object … through the senses»). Употребление данной глагольной лексемы на функциональном уровне в значении «переживать эмоцию» может быть проиллюстрировано примерами, подобными следующему: 38) About the same time as this incident, when he was fifteen, Richard Baxter experienced a spiritual awakening (BNC, ALK: 75). В представленном выше примере речь идет о некотором душевном подъеме субъекта, который вызывается объектом эмоциональных переживаний героя. Таким образом, на системном и функциональном уровнях очевидна не только актуализация обязательных компонентов пропозициональной основы, но и наложение компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР, соответствующих непроизвольной ситуации проявления эмоций. Подытоживая рассмотрение прототипической основы организации лексем лексико-семантической системы гештальта, можно сделать вывод о наличии прототипических единиц для актуализации аллотропных модификаций фреймов психических процессов. Такие единицы не только системно актуализируют базовые компоненты пропозицональной основы, но и указывают на примарность непроизвольности всех психических процессов, обеспечивая экспликацию адгезии компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР. Исключением из такой закономерности выступает лексема, описывающая волевые процессы в общем виде, поскольку она специфицирует произвольный 182 характер такого психического процесса посредством адгезии компонентов СЕНСОР и ТРИГГЕР, не высвечивая при этом каких-либо видо- параметрических характеристик. Далее рассмотрим лексемы, которые, как и предыдущие, способны описывать ситуации психических процессов, специфицировав при этом определенные грани таких процессов. 2.2.3 Ядерно-периферийная организация лексики Как уже говорилось ранее, прототипическая организация лексикосемантической системы гештальта базируется на критерии качества описания психических процессов. Применительно к отражению ее ядерной части данный критерий интерпретируется как способность той или иной лексической единицы описывать психические процессы и делать акцент на их видопараметрических характеристиках, иными словами, актуализировать факультативные компоненты ВИД, ПАРАМЕТРЫ. Обратимся непосредственно к описанию ядерной лексической системы. Пропускная способность гештальта (актуализация лексемой четырех дистинктивных признаков гештальта) позволяет вывести довольно внушительный пласт вербализаторов, репрезентирующих различные грани психических процессов на системном уровне. Именно такие лексические единицы являются ядерной составляющей системы. Представим их ниже, предварительно разбив на группы согласно характеру корреляции с прототипическими единицами. Среди лексических единиц, способных актуализировать аллотропную модификацию фрейма психических процессов – фрейм «Ощущение» с акцентом на видо-параметрических свойствах процесса, можно выделить следующие наиболее репрезентативные элементы: ache, detect, discover, find, hear, lipreading, listen, look, notice, observe, see, sense, sensory activity, smell out, smell, suffer, taste, tasting, etc (TFD, MDT, DC). Все представленные единицы 183 способны на системном уровне не только номинировать ситуацию ощущения, что отражено в их лексикографических толкованиях (например: sensory activity («activity intended to achieve a particular sensory result»); looking, looking at, look («the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually»); tasting, taste («a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds»); smelling, smell («the act of perceiving the odor of something») (TFD)), но и акцентировать видо-параметрические характеристики. Таким образом, компонент ВИД, в концептуальное содержание которого вкладывается понятие модальности ощущения, на системном уровне актуализируется лексемами looking, looking at, look, see (зрительное ощущение), listen, hear (слуховое ощущение), feel, touch (тактильное ощущение), taste, tasting (вкусовое ощущение), smell, smelling (обонятельное ощущение). Актуализация факультативного компонента ВИД на системном уровне прописана уже в лексикографическом толковании, где указывается на соответствующий рецепторный орган получения ощущений, например: smell «1. to perceive the odor or scent of through the nose by means of the olfactory nerves; inhale the odor of» (DC). Таким ощущений, образом, когда осуществляется субъект получает вербализация информацию экстерорецепторных из внешнего мира посредством органов чувств – при контактном или дистанцированном взаимодействии с ними. Сложнее вербально представить такие виды ощущений как интероцептивные и проприорецептивные. Если первый вид ощущений (экстерорецепторный) очевиден и обозрим, то два других являются только стимулом для ориентировки в пространстве и последующей двигательной активности. Анализ фактических данных показывает, что собственно лексем, описывающих такие сложные необозримые процессы на системном уровне, нет, однако столь специфические особенности ощущений, тем не менее, имеют свое вербальное выражение и могут быть интерпретированы посредством анализа контекста. Например, в предложении: 39) They all instantly mimic him, 184 pressing their hands together and casting their eyes soulfully upwards (BNC, G0F: 1351) описывается ситуация, когда стимулом выступает внешняя сила – люди, окружающие субъекта. Они подают сигналы и пытаются апеллировать к интероцептивным ощущениям, побудить субъекта к действиям. Наряду ощущения с видовыми, вербализуются параметрические посредством характеристики актуализации процесса факультативного компонента ПАРАМЕТРЫ, преимущественно на функциональном уровне. При описании ощущения концептуальным коррелятом компонента ПАРАМЕТРЫ выступают интенсивность, обострение чувствительности, воздействие нескольких триггеров на один перцептивный орган и т.д. Такие свойства естественным образом проявляют себя на функциональном уровне и выводятся из контекстуального окружения. Ядерная часть вербализаторов процесса восприятия представлена лексемами apperceive, behold, catch, comprehend discern, discover, distinguish, divine, dream, feel, find, glimpse, hallucinate, hear, identify, listen, make out, misperceive, notice, note, observe, pick out, pick up, realize, receive, recognize, remark, see, see through, smell, smell out, sense, sight, spot, spy, taste, touch, understand etc (TFD, MDT, DC). Все вышеперечисленные лексемы способны на системном уровне описывать ситуацию восприятия, то есть психического процесса, результатом которого является целостный образ воспринимаемого посредством органов перцепции объекта реальной действительности, что отражено в словарных дефинициях, например: apperceive («perceive in terms of a past experience»); divine («perceive intuitively or through some inexplicable perceptive powers»); find («perceive oneself to be in a certain condition or place»); see through («perceive the true nature of») etc. (TFD). Актуализация факультативного компонента ВИД у заявленных лексем происходит как на системном, так и на функциональном уровнях. В концептуальное содержание такого компонента вкладываются экстралингвистические корреляты видовых характеристик процесса восприятия 185 – разновидности по характеру участия анализатора (вкусовое, зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное и т.д.); по фактору зависимости от особенностей воспринимаемого объекта (восприятие предметов, восприятие речи (письменной или устной), восприятие человека человеком); по критерию детальности различения объектов (целостный/синтетический; детализирующий/аналитический); по критерию участия мышления в процессе восприятия (описательный, объяснительный); по особенностям интерпретации информации (объективный и субъективный). Так, например, описание видовых характеристик согласно критерию рецепторного органа отражено на уровне словарных дефиниций глаголов hear («perceive (sound) via the auditory sense»)), sight, spy («catch sight of; to perceive with the eyes») (TFD). Иные типологические характеристики выводятся из прилегающего контекста или заключены в параметрических характеристиках других компонентов в качестве концептуального коррелята соответствующих видов восприятия. Например, концептуальное наполнение компонента ОБЪЕКТ дает основание выделять виды восприятия в зависимости от характера воспринимаемого объекта: 40) As I turned away I saw a small patch of khaki material caught on the very top of the wire (BNC, B0U: 1984) – (компонент ВИД (восприятие предметов)). 41) He saw himself returning as a beggar with limbs deliberately deformed, whining for alms on the sea-front at Bombay (BNC, CDB: 72) – (компонент ВИД (восприятие человека человеком)). Другой факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ является концептуальным коррелятом таких экстралингвистических свойств восприятия, как предметность, осмысленность, структурность, избирательность, константность. Как правило, данный компонент актуализируется только на функциональном уровне, где он также представлен имплицитно и выводится благодаря когнитивной интерпретации сопутствующего контекста. 186 Специфическими ядерными лексемами, способными на системном уровне отражать ситуацию представления, являются: conceptualise, create by mental act, create mentally, design, discover, find, gestate, preconceive etc. Перечисленные глаголы имеют в своем словарном значении указание на процесс категоризации, переработки сознанием поступившей из внешнего мира информации, например: «conceive, conceptualise, conceptualize», «gestate – have the idea for»; «create mentally – create mentally and abstractly rather than with one's hands»; «conceive of, envisage, ideate, imagine – form a mental image of something that is not present or that is not the case etc» (TFD). Анализ лексикографических статей показывает, что хотя практически все лексемы описывают процесс представления как активный, подразумевающий переработку полученной информации, ни одна из них не указывает на видовые информационные характеристики. Иными словами, факультативный компонент ВИД, включающий в качестве концептуального коррелята разновидности представлений по критерию характера получения информации (зрительное, обонятельное, осязательное, двигательное, слуховое и пр.), по степени обобщенности (единичные и общие), по степени проявления воли (произвольные и непроизвольные), по продолжительности (оперативные, кратковременные и долговременные), зачастую актуализируется на функциональном уровне, например: 42) It can be an illuminating experience to find how your mental image of your size differs from the reality (BNC, AD0: 506) – компонент ВИД (субъективное, общее представление). 43) She gave him a mental image of Robert Preston waiting outside a nightclub with flowers and a heart-shaped box of chocolates (BNC, GVL: 1901) – компонент ВИД (субъективное зрительное представление). Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ, в качестве концептуального наполнения имеющий такие характеристики представлений, как наглядность, фрагментарность, неустойчивость и 187 непостоянство, актуализируется преимущественно на функциональном уровне, где выводится благодаря когнитивной интерпретации прилегающего контекста. Например, в предложении: 44) And he had a mental image of Mary Moxton pacing the sparsely furnished room that Uncle Titch had given her, on the floor above the café, alone with her troubles (BNC, F9C: 3124) актуализируется компонент ПАРАМЕТРЫ, посредством которого эксплицируется наглядность представления как одна из его характеристик. Фрагментарность представления также актуализируется благодаря вербализации компонента ПАРАМЕТРЫ в следующем предложении: 45) For most people, a mental image of the scene in Gethsemane exists in the mind, implanted, so to speak, by both the Gospel account and tradition (BNC: EDY, 908). Применительно к описанию процесса представления необходимо отметить, что в языке также подтверждается его функциональная роль в формировании образа для последующей интеллектуальной обработки за счет редкой представленности в текстах. Описание процесса внимания в языке естественным образом отражает весьма специфический статус процесса, который не имеет собственного содержания и проявляет себя посредством симбиоза с процессами восприятия, памяти, мышления и т.д. Таким образом, вербализаторы ядерного слоя включают множество лексем, соотносящихся с описанием других процессов: attend, attract attention, be inattentive to, bear in mind, be guided by, consider, discount, disobey, disregard, flout, follow, give ear to, hear, ignore, listen to, look, mark, mind, neglect, note, obey, observe, overlook, pay attention to, regard, reject, see, shun, take notice of, take to heart, turn a deaf ear to etc (MDT, TFD, DC). Такой набор лексем обусловлен указанием на внимательное действие, сопровождающее другой психический процесс, например: listen «1. To make an effort to hear something; 2. To pay attention; heed» (TFD). Соответственно сопровождению перцептивной или интеллектуальной деятельности внимание, как известно из экстралингвистики, 188 делится на интеллектуальное и чувственное, что на концептуальном уровне отражено в содержании компонента ВИД. Кроме того, указанный факультативный компонент также отражает и виды внимания (произвольное/непроизвольное, опосредованное/неопосредованное), что влияет на структуру аллотропа, преимущественно в отношении адгезии компонента ТРИГГЕР с компонентом СЕНСОР или компонентом ОБЪЕКТ, например: 46) Listeners paid attention to, and remembered, those items that seemed significant to them (BNC, CDU: 1048) – компонент ВИД (непроизвольное внимание), адгезия компонентов ТРИГГЕР и ОБЪЕКТ. Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ соотносится с экстралингвистическими свойствами внимания (устойчивость, распределение, переключение, объем, концентрация) и, как правило, выводится из контекстуального окружения: 47) After a long moment, he turned away, and paid attention to the current victim (BNC, ALJ: 648) – компонент ПАРАМЕТРЫ (устойчивость). Вербализация психического процесса памяти в современном английском языке происходит благодаря следующим ядерным лексемам: recall, think back to, recollect, reminisce about, retain, recognize, call up, look back on, hark back to, summon up, call to mind, cast your mind back to, forget, ignore, overlook, neglect, disregard, don't forget, be sure, be certain, make sure that you, bear in mind, not forget, keep in mind, take into account the fact, not lose sight of the fact, take into consideration the fact, be mindful of the fact, look back (on), celebrate, salute, commemorate, pay tribute to etc (TFD, MDT, DC). Все они своим системным значением описывают память с учетом ее видо-параметрических характеристик, что отражено в лексикографическом толковании: recollect «recall knowledge from memory; have a recollection», recognize «to know to be something that has been perceived before», bear in mind «to hold in one's mind; remember) etc» (TFD). 189 Факультативный компонент ВИД является концептуальным коррелятом таких видовых характеристик памяти – произвольная/непроизвольная (по критерию цели), кратковременная/долговременная (по периоду сохранения материала), ритерию двигательная/эмоциональная/образная/словесно-логическая двигательной активности). Такой компонент может (по быть эксплицирован как в системном, так и в функциональном значении лексемы, например: 48) He recognized the tone of her voice and the particular expression on her face (BNC, ACW: 1435). В представленном выше предложении компонент ВИД (непроизвольная память) актуализируется благодаря системному значению глагола recognize («[not in progressive] to know who someone is or what something is, because you have seen, heard, experienced, or learned about them in the past» (LDCE)), с одной стороны, а с другой (зрительная и слуховая память), за счет особых характеристик компонента ОБЪЕКТ. Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ описывает субъективность памяти и все входящие в память составляющие: запоминание, узнавание, воспроизведение, забывание. Последние параметрические составляющие актуализируются уже на системном уровне, в то время как субъективность – удел функционального уровня. Ядерный пласт вербализаторов аллотропа «Воображение» включает следующие лексические единицы: envisage, see, picture, plan, create, project, think of, scheme, frame, invent, devise, conjure up, envision, visualize, dream up (informal), think up, conceive of, conceptualize etc (TFD, MDT, DC). Данные лексемы системно указывают на различные виды и параметры процесса на языковом уровне. Потенциал таких лексических единиц указывать на способность к ментальной операции по созданию новых образов из существующего импринта опыта подтверждается лексикографическими толкованиями: «create by mental act, create mentally – create mentally and 190 abstractly rather than with one's hands»; «envision, fancy, picture, visualize, image, visualise, figure, see, project – imagine; conceive of; see in one's mind» (TFD). Факультативный компонент ВИД на языковом уровне передает важные свойства воображения: /творческое, непроизвольное/произвольное, сновидения/галлюцинации/грезы/мечты. воссоздающее Зачастую такие разновидности процесса предопределены системным значением лексем. Нередки случаи и функциональной актуализации. Например, словарная дефиниция глагола dream указывает на способность лексемы описывать и сновидение, и мечту: «1. To experience a dream of while asleep; 2. To conceive of; imagine» (TFD). Тем не менее, ее значение выводится из прилегающего контекста: 49) As a child she always dreamt of working with animals (BNC, A7D: 430) – компонент ВИД (мечта). 50) I dreamt about you suddenly last night, and now here you are in New York of all places (BNC, FRH: 2988) – компонент ВИД (сновидение). Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ актуализирует ряд свойств – комбинирование, агглютинация и акцентирование, находящих свое отражение на функциональном уровне, например: 51) In her imagination, the little flat was suddenly peopled with the ghosts of tall, glamorous London women, with names like Wanda and Melissa, who knew when to tip porters and chambermaids and wouldn't have dreamt of unpacking their own shopping (BNC, H8S: 1133). В представленном выше предложении компонент ПАРАМЕТРЫ способствует отражению склеивания множества образов в сознании субъекта (агглютинация). Мышление как неотъемлемая часть динамической характеристики психики находит свое языковое отражение посредством лексем cerebrate, cogitate, reason, reflect, speculate, concentrate etc. Такие лексемы описывают ментальные операции (или «the powers of the mind»), на системном уровне 191 отражая некоторые аспекты мышления: «thought before answering; sat in front of the fire cerebrating; cogitates about business problems; reasons clearly; took time to reflect before deciding; speculates on what will happen» (TFD). Факультативный компонент ВИД является концептуальным коррелятом таких видов мышления, как наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, репродуктивное/продуктивное, и находит отражение преимущественно на факультативном уровне, например: 52) Celia felt that he speculated privately about her condition every time he saw her, noting, with his countryman's eye, her increasing girth, maybe even reporting progress in the local of an evening (BNC, CDE: 389) – компонент ВИД (наглядно-образное мышление). Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ является концептуальным коррелятом важных свойств мышления: быстрота, самостоятельность, гибкость, инертность, темп развития мыслительных процессов, экономичность мышления, широта ума, глубина мышления, последовательность мышления, критичность мышления, устойчивость, компоненты мыслительных операций (понятие, суждение, умозаключение), стадии мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация). Данный компонент актуализируется как на системном, так и функциональном уровнях: 53) Sometimes games which require concentrated thought can help distract you from your stress and anxiety (BNC, EB1: 1042) – компонент ПАРАМЕТРЫ (устойчивость мышления). Ядерными лексемами, актуализирующими видо-параметрические характеристики речи, являются: talk, say, articulate, say, voice, pronounce, utter, tell, state, talk, express, communicate, make known, enunciate, converse, talk, chat, discourse, confer, commune, have a word, have a talk, natter, exchange views, shoot the breeze, lecture, talk, discourse, spout, make a speech, pontificate, give a speech, declaim, hold forth, spiel, address an audience, deliver an address, orate, speechify, 192 deal with, discuss, go into, write about, be concerned with, touch upon, discourse upon, indicate, show, reveal, display, suggest, signal, point to, imply, manifest, signify, denote, bespeak etc (MDT, TFD, DC). Факультативный компонент ВИД выступает концептуальным коррелятом таких типов речи, как внутренняя/внешняя, активная/пассивная, диалогическая/монологическая, устная/письменная. Описание монологической и диалогической речи посредством актуализации компонента ВИД является структурно обусловленным моментом. Иными словами, такой компонент эксплицируется благодаря организации текста. Идентичная ситуация наблюдается и в отношении отражения внутренней и внешней, а также активной (речи говорящего) и пассивной речи (речи слушающего) в диалоге. Описание устной и письменной речи, как правило, предопределено семантикой предиката уже на системном уровне. Например, в предложении: 54) He said that her next responsibility was to be loyal to her husband above all else (BNC, CEN: 525) глагол say отражает устный характер высказывания (say «to utter aloud; pronounce» (TFD)), а в предложении: 55) Dorothy tells us that Wordsworth wrote the poem ‘long after’, as was his usual custom (BNC, CAW: 1148) глагол write явно эксплицирует письменную речь благодаря системному значению (write «to form (letters, words, or symbols) on a surface such as paper with an instrument such as a pen» (TFD)). Компонент ПАРАМЕТРЫ на концептуальном уровне характеризует индивидуальность речи и сопровождающие ее характеристики. Как правило, данный компонент актуализируется в языке благодаря прилегающему контексту, например: 56) Soon I was converted by the precision and subtlety, and saw that she wrote better than anyone else (BNC, CA6: 60). В приведенном примере компонент ПАРАМЕТРЫ (индивидуальность) актуализируется благодаря сравнительному обороту, где высвечивается мастерство автора. 193 Вербализация аффективно-волевой сферы гештальта осуществляется благодаря целому пласту лексических единиц. Так, например, ядерными репрезентантами волевых процессов в современном английском языке являются: faculty, mental faculty, module, velleity, aim, intent, intention, purpose, design, self-control etc (TFD, MDT, DC). Такие лексемы на системном уровне отражают волевые процессы, что отражено в соответствующих словарных дефинициях: faculty, mental faculty, module «one of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind», velleity «volition in its weakest form» (TFD). Кроме того, на функциональном уровне подобные лексемы способны актуализировать видо-параметрические свойства волевых процессов, то есть актуализировать компоненты ВИД и ПАРАМЕТРЫ. Концептуальным коррелятом компонента ВИД являются основные формы проявления воли, включая самодетерминацию (мотивы, цели, желания), самоинициацию и самоторможение действия, самоконтроль, самомобилизацию и самостимуляцию. Такой компонент регулярно актуализируется благодаря системному и функциональному значениям своих репрезентантов. Например, лексема self-control согласно лексикографическим толкованиям отражает самоконтроль («сontrol of one's emotions, desires, or actions by one's own will» (TFD)), что естественно находит подтверждение на уровне контекста: 57) You think yourself a miracle of sensibility; but self-control is what you need (TFD). Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ актуализирует волевые процессы при изменении обычного темпа и хода деятельности, волевые процессы при выполнении умственной и физической деятельности, волевые процессы при отказе от удовольствия или утомления, но во благо получения искомого результата и, как правило, актуализируется на функциональном уровне. Например, компонент ПАРАМЕТРЫ (ситуация самоконтроля во благо получения искомого результата) отражена в следующем предложении за счет его распространения: 194 57) A slow flush crept into Lucy's cheeks, but she controlled herself while putting the last of the long, slim leaves into position, then she turned slowly to face the other woman (BNC, HHB: 3076). Эмоции как один из неотъемлемых составляющих человеческой психики находят отражение в языке благодаря целому пласту ядерных вербализаторов: compassionate, condole with, feel for, pity, sympathize with glow, glow, radiate, beam, shine, fly high, die, burn, pride oneself, take pride, incline, recapture, pride, plume, congratulate, smoulder, smolder, harbor, nurse, entertain, harbour, hold cool off see red, anger, chafe, suffer, fume, regret, rue, repent, sadden, joy, rejoice, sympathise, sympathize etc (TFD, MDT, DC). Все они не только имеют системное значение «эмоции» в словарных толкованиях («affect is to act upon a person's emotions; influence implies some control over the thinking, actions, and emotions of another; impress is to produce a marked, often enduring effect»), но и передают некоторые важные видо-параметрические характеристики. Так, компонент ВИД является концептуальным коррелятом стенических и астенических типов эмоций. Как правило, данный компонент актуализируется уже на системном уровне и содержится в лексикографическом толковании, например: happy «enjoying or showing or marked by joy or pleasure» (TFD) – компонент ВИД (стеническая эмоция); sad «affected or characterized by sorrow or unhappiness» (TFD) – компонент ВИД (астеническая эмоция). Факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ на концептуальном уровне отражает следующие характеристики: состояние самого субъекта, отношение последнего к определенному объекту, полярность эмоций, целостность эмоций. Кроме того, оказываются репрезентированными базовые элементы: психофизиологическая реакция, переживание самой эмоции и сопровождающая эмоцию экспрессия. Как правило, актуализация заявленного компонента происходит и на системном, и на функциональном уровнях. Например, в словарной трактовке лексемы suffer уже заложено указание на компонент 195 ПАРАМЕТРЫ (психофизиологическая реакция) – suffer «1. to undergo or sustain (something painful, injurious, or unpleasant)» (TFD). А в нижеследующем предложении компонент ПАРАМЕТРЫ (экспрессия, сопровождающая эмоции) актуализируется за счет контекстуального окружения: 58) Luke gave her a slightly surprised look before greeting Nicky and Florian, his manner urbane (BNC, H9L: 3013) Итак, нами были рассмотрены ядерные вербализаторы психических процессов, наряду с которыми выделяются периферийная зона лексем, способных в тех или иных условиях описывать любые ситуации психических процессов. Иными словами, такие лексемы, не имеющие соответствующих словарных трактовок, способны отвечать критерию идентификации гештальта психических процессов, то есть актуализировать все его дистинктивные концептуальные признаки на функциональном уровне. Анализ фактического материала показывает, что такие лексемы употребляются в значении «психические процессы» окказионально, с целью эмфазы коммуникантов, интенсивности или характера компонентов динамической характеристики психики. По этому поводу справедливо замечание В.И. Заботкиной о том, что формирование новых значений обусловлено особенностями концептуальной интеграции на основании метафоризации, метонимии и метафтонимии (Заботкина, 2005: 9). Кроме того, в процессе взаимодействия гештальта с другим гештальтом проявляется мощное взаимодействие синергетических систем, результат которого непосредственно отражается на вербальном уровне, но при этом весьма сложно предсказуем. Иными словами, динамика взаимодействия не тождественна динамике каждой из систем в отдельности. Скорее, она будет напоминать «эффект прилива», который позволит охарактеризовать модификацию значения в процессе речетворчества под воздействием антропоцентрического фактора (Молчанова, 2006). Однако это создает трудности в систематизации таких лексем, поскольку предугадать 196 речевую стратегию коммуниканта, равно как и выбор лексем, довольно проблематично. Тем не менее, сплошная выборка лексических единиц из аутентичных источников фактического материала позволяет констатировать, что в качестве периферийных лексем могут выступать следующие единицы: burn, dig into sth, drill, drive out, fight, follow, haunt, move, not to leave, pin, roll over, scorch, search, sink, slip into strain, sweep etc (TFD, MDT, DC). Если обратить внимание на семантику таких лексем и провести их сопоставление, то можно сделать вывод о том, что все они указывают на движение, описывают его напряженный, интенсивный характер и нейтральны в своем системном значении. Однако описывая нетипичные для себя ситуации, лексемы, как правило, приобретают отрицательные коннотации, преимущественно указывая на болезненность, сложность, длительность соответствующего психического процесса. Например, глагол pin в своем основном значении трактуется как «прикалывать булавкой» («To fasten or secure with or as if with a pin or pins» (TFD)) и указания на способность описывать ситуацию психических процессов не имеет. Однако на функциональном уровне, сочетаясь с существительным eyes, как нельзя лучше отражает напряженность зрительной перцепции: 59) Michele Lorenzo's cold eyes pinned her (BNC, JY2: 256). Идентичная ситуация складывается с глаголом drill, который на функциональном уровне, описывая процесс внимательной зрительной перцепции, указывает на ее интенсивность, например: 60) Nathan's eyes drilled into hers (BNC, H7W: 3754). Итак, проведенный анализ вербализаторов гештальта позволяет сделать вывод о том, что гештальт как ментальная структура прототипического строения организует лексико-семантическую систему своих репрезентантов иерархично, согласно их потенциалу полноценно/неполноценно или частично выражать значение «психические процессы» в современном английском дискурсе. Такая организация в своей основе имеет принцип прототипа и, 197 соответственно, движения от прототипа к периферии. Однако, как было заявлено ранее, такая структура нестабильна и открыта, что роднит ее с синергетической системой, речь о которой пойдет в следующем параграфе. 2.2.4 Обоснование функционального устройства лексико-семантической системы вербализаторов гештальта как синергетической системы Ранее уже неоднократно отмечалось, что, несмотря на относительно стабильный состав лексем, вербализующих гештальт психических процессов, соблюдение условия «актуализация обязательных компонентов и признаков» позволяет языковым единицам других семантических групп участвовать в номинации психических процессов в контексте, то есть на функциональном уровне, следовательно, позволяет быть мотивирующим началом для приращения к лексической системе структуры нового языкового материала. Данное обстоятельство характеризует лексическую организацию гештальта как систему элементов, каждый из которых, несмотря на свою «незаменимость», не способен функционировать вне системы, выполняя такие же комплексные функции. Иными словами, лексико-семантическая система вербализаторов гештальта характеризуется единством элементов (синкретизмом), с одной стороны, и их некоторой расчлененностью (дискретностью), с другой. При этом такая «расчлененность элементов» опять же не позволяет им в отдельности обладать функциями системы. В своей дискретности и синкретизме лексикосемантическая система вербализаторов гештальта непрерывно развивается и движется вперед. Ее развитие, как видно из анализа фактических данных, предопределено ее открытостью, то есть способностью взаимосвязи с внешней средой, что обусловлено возможностью пересечения гештальтов и наложения их друг на друга. На вербальном уровне это отражается на способности лексем различных семантических групп участвовать на функциональном уровне в 198 номинации ситуации психических процессов, что является крайне нетипичным для их системного значения. Будучи открытой, такая система является и нелинейной. Постоянное взаимодействие с внешней средой обеспечивает постоянную тенденцию системы к изменениям, в результате чего она стремится к равновесию за счет собственных средств самоорганизации. Диссипативность такой открытой нелинейной самоорганизующейся системы предопределена ее динамичным характером, образованием новых структур организации элементов, которые находятся далеко от равновесной фазы и тесно общаются с внешней средой, что ярко отражается в аллотропных модификациях и межфреймовых процессах. Таким образом, все перечисленные сведения определяют статус лексикосемантической системы вербализаторов гештальта как синергетической открытой диссипативной нелинейной организующейся системы. Это положение подтверждается несколькими лингвистическими трудами, где в комплексе вся лексико-семантическая система рассматривается в качестве «самоорганизующейся» непрерывной «материи» и видится как объект лингвистического анализа, который основан на наблюдении «за тем, как в ходе построения полей» слова организовываются в систему (Караулов, 1987). Автору принципиально важны принципы самообслуживания системы в отношении ее способности к ранжированию, то есть тот факт, каким образом осуществляется членение объекта за счет собственных ресурсов системы. Такой подход, то есть наблюдение за «естественным поведением» лексем в отношении семантических множителей, позволяет автору выявить базовые принципы посредством организации и соединения синергетического подхода группировки через одно слов общее применительно к в тематические слово. группы Преимущество исследованию лексико- семантического наполнения гештальта также оправдано с точки зрения выявления механизмов формирования и модификации значения лексических единиц в дискурсе. Обратимся непосредственно к краткому описанию основ 199 функционирования лексико-семантической синергетической системы моделируемого гештальта. Итак, рассматриваемая синергетическая лексическая система вербализаторов гештальта находится в состоянии относительного покоя. Тем не менее, будучи неравновесной по своему содержанию, система моментально реагирует на внешние факторы, будь то вербальные или невербальные стимулы, и начинает внутрисистемные колебания (флуктуации), приводящие в ее хаосное состояние, затрачивая при этом и собственные, и часть внешних ресурсов для организации нового витка относительной стабильности. Таким образом происходит окказиональная модификация значения (преимущественно это касается ментального уровня конкретного коммуниканта) и регулярное подстраивание структуры под интенции конструктора дискурса в рамках допустимых системой переструктраций (уровень высокой абстракции). Последние значения являются результатом интрасистемных (происходящих внутри гештальта) модификационных процессов. Они зачастую фиксируются словарными источниками и вследствие торможения 13 субъектом уже не воспринимаются экстрасистемных как новообразования. модификаций, когда Первые значения целая система есть итог гештальта взаимодействует с другими гештальтными системами. Результатом таких процессов являются идиоматические выражения, коннотативные оттенки значения лексики. Обратимся непосредственно к описанию факторов воздействия, запускающих внутрисистемные колебания, а также определим базовые принципы процессуально-синергетического подхода. Итак, лексико-семантическая организация репрезентантов гештальта как синергетическая система находится в состоянии покоя, относительно неравновесном положении и характеризуется готовностью реагировать на 13 Термин «торможение» заимствован из психологии и адаптирован к настоящему исследованию. Таким образом, применительно к лексическому значению понятие «торможение» трактуется как неспособность субъекта к самостоятельному этимологическому анализу слова, неспособность воспринимать значение слова как новообразование. 200 «запускающие» ее вербальные и невербальные стимулы. Причем активизация, (или в терминах синергетики, нарушение стабильности), согласно учению А. Паивио, потенциальна на разных уровнях: на уровне репрезентации, когда лингвистические стимулы активизируют метаморфозы лингвистических структур, а невербальные воздействуют на образы; на уровне референции, когда происходит активация образов посредством лингвистических стимулов и наоборот; на уровне ассоциаций, когда в результате возбуждения каких-либо образов в ответ на слово и извлеченное из памяти название для получения сигналов сопровождаются также возбуждением разного рода ассоциаций и теми, и другими (Paivio, 1990). Следовательно, значение, будучи неавтономным образованием, сформированным в результате деятельности, носит событийный характер и неотрывно от отношения субъекта к предмету, в связи чем оправдывает себя процессуальный подход к его трактовке, который предпринимается в настоящем исследовании, где значение слова реализует смысл сквозь призму соотнесенности с ментальными структурами сознания различных уровней иерархии 14. Таким образом, творческий процесс, деятельность, включая языковую, базируется на способности конструктора (а впоследствии и интерпретатора дискурса) «интегрировать в новые ментальные конструкты разнородные концептуальные сущности (концепты, фреймы, ментальные пространства)» (Ирисханова, 2004). Роль языковых выражений при этом состоит в том, чтобы в ходе реального общения обеспечить «запуск» творческих когнитивных процессов, направленных на интеграцию разнообразных и динамичных когнитивных структур. Такие структуры не статичны, как было заявлено ранее, они развиваются в зависимости от коммуникативной задачи и подстраиваются под интенции участников коммуникативного акта. И если говорить о процессуальном подходе в плоскости настоящего исследования, то можно определить иерархическую 14 В первой главе уже отмечалось, что процессуальный подход к трактовке значения есть попытка связать деятельностную психологическую концепцию с формализацией знаний, которые представлены в сознании в виде определенных структур. Таким образом, формализация умственной деятельности имеет вербальное выражение в языковых символах. 201 структуру гештальта как формализованную модель сознания, которая содержит инвариантные сведения и способна эволюционировать в зависимости от различных факторов в процессе речевой деятельности. Это дословно означает, что хранящиеся в языке знания покоятся в значениях лексем, которые постоянно транслируют общественный опыт и, кроме того, фиксируют относительно абстрагированные и обособленные структуры отдельных действий, которые были координированы конкретными целями, условиями и способами действия (или операциями). Такое общественное начало и передается человечеством в языке. Когда субъект познает весь опыт социума, в котором развивается, его сознание оперирует полученными данными «по своему усмотрению», в зависимости опять же от ключевых факторов деятельностной теории – целей, условий и операций. Иными словами, «в основе значения слова лежит представление, которое не только заключает в себе более или менее обобщенный детальный образ предмета, но и неизбежно содержит отношение к предмету. Это отношение и формирует тесную связь слова с говорящим и познающим субъектом» (Солганик, 2005). Заложенные в сознании структуры как условия полноценного существования человека в социуме, находят индивидуальную интерпретацию в зависимости от интенций конкретного субъекта, ими обладающего. И чтобы избежать двоякой терминологии с целью описания положения отсутствия немотивированных целей субъекта, А.Н. Леонтьев различает сознаваемое объективное значение и его значение для субъекта, говорит о личностном смысле последнего. Такой личностный смысл, несмотря на его авторское начало, все равно базируется на общепризнанных постулатах значения. В ином случае между конструктором дискурса и его интерпретатором будет лежать непреодолимая пропасть непонимания. Однако вариации значений могут находиться в разных плоскостях в зависимости от коммуникативных целей говорящих. В данном случае опять же находят подтверждение слова А.Н. Леонтьева о том, что стратегия речевой деятельности не может быть предсказуема, поскольку она не 202 способна развиваться по одной и той же траектории (А.Н. Леонтьев цит по: Тарасов, 1987: 129). Говоря о факторах, влияющих на колебания саморазвивающейся лексикосемантической системы гештальта, мы апеллируем прежде всего к «личностной стороне» значения и его интерпретации в зависимости от интенций коммуникантов. Если инвариантный каркас транслируется в уже готовом виде, то приращение ассоциаций и дополнительных смыслов осуществляется у каждого индивида в процессе его деятельности с учетом того эмоциональноаффективного фона, который эту деятельность сопровождает. За счет этого создается дополнительный слой ассоциативных оттенков значения. Следовательно, можно говорить о том, что основные семантические метаморфозы осуществляются на уровне ментальности конкретного субъекта коммуникации, а понимание смыслов достигается за счет хранимого в сознании каждого инвариантного каркаса (уровня высокой абстракции). Соответственно, самый лабильный уровень – уровень ментальности конкретного коммуниканта – всегда образован знаниями и ассоциациями с определенными условиями, в которых протекает деятельность, мотивами, целями, личностными смыслами и эмоциональными переживаниями. Таким образом, на данной ступени целостность значения обеспечивается триединством денотативного, прагматического и коннотативного компонентов. Если представить гештальт психических процессов, вернее, любую из его прототипических единиц, в качестве аттрактора, с которым они ассоциированы по смежности номинации того или иного компонента динамической характеристики психики, а также тот факт, что семантическая плотность ментальной структуры тем выше, чем разнообразнее и комплекснее представлен референт номинации в жизни социума, можно говорить о том, что абстрактная лексическая сфера, в частности, лексемы, номинирующие психические процессы, представляют собой внушительный по размеру арсенал вербализаторов ментальной структуры психических процессов. Как уже 203 отмечалось ранее, выбор лексемы для решения определенной коммуникативной задачи конструктором дискурса направлен на активацию модуляций неравновесной самоорганизующейся системы гештальта. Однако каким образом осуществляется переструктурация и эволюционное развитие заявленной структуры, что является триггером, поступающим извне, удел объяснения, как нам кажется, процессуально-синергетического подхода к значению. Обратимся непосредственно к выделению основных принципов процессуально-синергетического подхода, направленного на выявление механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском языке: 1. В настоящем исследовании мы опираемся на постулат психологии о том, что деятельность служит первоосновой знания, способствует развитию первичных форм мышления, благодаря чему формирует значение, абстрагирует его и позволяет осуществить перенос на иные формы деятельности, и, кроме того, может быть рассмотрена как осознание человеком собственного бытия или опыта человечества. 2. Полученные знания структурируются и хранятся определенным образом в сознании человека в виде определенных формализованных структур – гештальтов, которые являются динамичными и способны меняться в зависимости от условий. 3. Для рассмотрения корреляций получаемых посредством деятельности знаний и характера их хранения в виде определенных ментальных конструктов релевантен процессуальный подход, который позволяет вскрыть различные уровни хранения информации. 4. Хранение сведений в сознании структурировано вертикально: базовый инвариантный каркас включает сведения высшей степени абстракции, которые транслируются последующим поколениям. Уровень ментальности конкретного индивида, наряду с базовыми сведениями, хранит знания и ассоциации, 204 эмоционально-аффективные компоненты, характерные для получения сведений индивидуальным сознанием. 5. Уровень ментальности конкретного индивида подвержен постоянным метаморфозам и изменениям сообразно получению посредством деятельности опыта. 6. Передача знаний осуществляется посредством лексических единиц, которые организованы вокруг ментальной структуры как аттрактора. 7. Зеркально отражая структуру гештальта, лексико-семантическая система организуется в виде прототипической иерархии, является нелинейной, открытой, неравновесной, диссипативной синергетической системой. 8. Нарушение относительного неравновесного положенияданнай системы осуществляется в результате выбора лексемы для номинации того или иного явления в процессе речетворчества. 9. Основными факторами, запускающими колебания лексико- семантической синергетической системы вербалиторов гештальта, являются ключевые факторы деятельности и процессуального подхода: конкретные условия, цели и операции. 10. Соответственно, определяя механизмы вербализации ментальных структур психических процессов, мы исходим из того положения, что лексикосемантическая синергетическая система вербализаторов гештальта приходит в состояние хаоса благодаря процессуальным факторам, действующим на уровне ментальности конкретного коммуниканта в условиях дискурса. 11. Согласно авторскому участию в конструкции и интерпретации дискурса значение слова видится как триада денотативного, прагматического и коннотативного осуществляется компонентов. благодаря Понимание имеющемуся у передаваемого каждого из значения коммуникантов инвариантного каркаса гештальта (Куприева, 2014; 2014б). Суммируя вышесказанное, мы полагаем, что вариативный уровень гештальта как синергетической системы способен самонастраиваться под 205 воздействием процессуальных факторов при конструировании и интерпретации дискурса как среды, обеспечивающей эволюцию синергетической системы. Обратимся непосредственно к описанию этой среды. 2.3 Дискурс как среда функционирования синергетических систем гештальтов Рассмотренные нами положения лингвистики, когнитивистики, психолингвистики свидетельствуют о том, что гештальт как целостная концептуально-информационная система находит свою актуализацию на уровне дискурса благодаря восприятию интерпретатором опорных лексем, которые, в свою очередь, позволяют вывести принципиальные этапы декодирования такой информации в пределах того или иного дискурсивного пространства для построения рабочей модели функционирования механизмов развертывания смыслов при актуализации ментальных структур в режиме online. Первичное восприятие семантической информации есть восприятие целостной смысловой системы гештальта, то есть идентификация (с учетом обязательных концептуальных признаков) тематики в пределах топиковой цепочки дискурса. Дальнейший бессознательный структурно-морфологический анализ системы определенного гештальта ведет к развертыванию или пониманию ее акцентно выделенных элементов (в нашем случае гештальтобластей, гештальт-сфер и структурированных гештальт-полей), а также особенностей функционирования данных элементов в пределах субординации смысловой иерархии в целом. На последнем этапе восприятия происходит установление так называемых факультативных компонентов структурированного поля гештальта, актуализация которых определяется акцентом на той или иной грани описываемого феномена с целью реализации авторского замысла. На последнем этапе при декодировании расставленных акцентов реципиент бессознательно 206 привлекает свой собственный ассоциативный опыт, категоризует воспринимаемую информацию в масштабе собственных процессуальных установок, речь о которых пойдет ниже. Таким образом, опорное слово, «вырванное» реципиентом из дискурса, с позиции интерпретации смыслов может трактоваться как целый набор семантической информации, сам дискурс, несущий целую совокупность инвариантной и ассоциируемой лингвистической и нелингвистической информации. Опорное слово не только разворачивает ментальные структуры в поисках скрытого смысла, но и способствует указанию дальнейшей траектории генерации смыслов. Как справедливо замечает по этому поводу А.А. Кибрик, «с описательной точки зрения даже отдельно взятое слово является не элементарным атомом, а целым космосом, требующим своего поэлементного анализа» (Кибрик, 2003: 103). И если рассматривать дискурс с позиции реципиента дискурсивной информации, то он может трактоваться как «текст в его становлении перед мысленным взором интерпретатора» (Демьянков, 2003). Итак, вербальное выражение дискурса есть лексемы, вербализующие различные гештальты, а семантическая сторона дискурсивного пространства – это определенный набор топиковых цепочек. Иными словами, как отмечает В.З. Демьянков, элементарные смысловые частицы кроются в элементарных пропозициях, которые интерпретатор черпает из предложений или их частей в дискурсе. Далее полученные таким образом сведения «склеиваются» сознанием в общий смысл, который опять же готов приращивать новые сведения, получаемые при последующей обработке информации (Демьянков, 2003). Таким образом, схема восприятия дискурса работает следующим образом: дискурс → гештальты и их развертывание → пропозиция и анализ актуализации фреймовых структур → сращивание смыслов и объединение их в топиковые цепочки. Таким образом, посредством установления семантических (синонимических/антонимических соотношении реального мира отношений) с и категоризацией референциальных сущностей) (в связей, установления функциональной перспективы высказывания (т.е. того, что 207 возможно в проекции развертывания темы) интерпретатор устанавливает единство дискурса у себя в сознании, что позволяет ему в дальнейшем добавлять в дискурс новую ассоциативную информацию (Демьянков, 2003). Последние сведения, поступающие зачастую из мысленного мира интерпретатора, являются субъективными и никак не совпадают с замыслом конструктора дискурса. Однако без них, то есть без опыта и личной оценки, ассоциаций реципиента невозможно полноценное «проживание» дискурса интерпретатором. При описании особенностей восприятия информации реципиентом как механизм развертывания соответствующего гештальта в дискурсе нельзя не отметить важность параметра «здесь и сейчас» или хронотопичности 15. Данный параметр позволяет гештальту сочетать настоящее, прошедшее и будущее, в любой точке своей актуализации высвечивать соответствующий темпоральный план и разворачиваться в режиме онлайн в виртуальном пространстве человеческого сознания. Иными словами, хронотопичность обеспечивает дискретность и синкретизм восприятия значения, осуществляя взаимосвязь фигуры (выдвигаемого компонента значения, актуального на определенный момент времени) и фона (лингвистических и нелингвистических сведений о соответствующей ситуации, актуализируемой гештальтом). Таким образом, дискурсивный хронотоп есть базовый фактор, определяющий семантическое содержание слова (его смысл) – в узком понимании, и система, а также стратегия развертывания соответствующего гештальта сообразно настоящему для интерпретатора времени восприятия информации – в широком понимании. Описывая сложность передачи смысла в контексте, О.Д. Вишнякова отмечает, что значение лексической единицы становится смыслом в определенном контексте употребления, то есть в конкретной речевой ситуации. Последняя является блендом языковой информации и нелингвистического контекста, 15 «Хронотоп» является одним из ключевых понятий современной психологии, гештальт-психологии, литературоведения. Первоначально данное понятие вводится в трудах А.А. Ухтомского для обозначения соответствующих понятий в физиологии. Впоследствии, благодаря учениям М.М. Бахтина, основался в гуманитарных исследованиях (Хронотоп, 2004). 208 сопряженного с рассматриваемым языковым знаком. Отсюда, по мнению О.Д. Вишняковой, вытекает необходимость учета внутренних системнофункциональных параметров на общем фоне специфики реального общения (Вишнякова, 2003). На фоне восприятия дискурса интересным является то положение, что инвариантная, ядерная часть практически не подвергается никаким когнитивным воздействиям. Более того, при сохранении обязательных классификаторов содержательная специфика языкового знака раскрывается посредством актуализации дополнительных факультативных элементов ментальных структур, которые способны, как говорилось ранее, подстраиваться под конкретные условия акта коммуникации. Таким образом, вербализуясь на уровне дискурса, ментальная структура – гештальт психических процессов – сохраняет свое инвариантное прототипическое устройство и подвергается синергетическим изменениям под воздействием процессуальных факторов на уровне конструктора дискурса. При этом конкретный реципиент, разворачивая у себя в сознании получаемый пакет информации, понимает его благодаря имеющимся у него фоновым знаниям и наполняет его собственными ассоциациями, пытаясь понять заключенные в слове значения. трактоваться как Подобные процессы окказиональные происходят (когда регулярно единица, и могут употребленная в несвойственном ей значении) выдвигает коннотативную часть значения, и регулярные (которые происходят с определенной долей закономерности, закрепляются системой источниках). В третьей и далее главе фиксируются настоящей в лексикографических диссертации планируется проиллюстрировать особенности функционирования механизма вербализации ментальных структур психических процессов с учетом окказиональной и закономерной переструктурации. 209 Выводы по Главе 2 1. Гештальт психических процессов как сложная многокомпонентая структура прототипического строения представляет собой единство слаженно функционирующих перцептивной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер с включенными в них областями, сферами, полями, структурируемых в аллотропные модификации фреймов. Данная структура выступает в качестве зеркального отражения идентичной гештальт-структуры, категоризующей действительность. В вертикальном измерении гештальт можно условно соотнести с двухуровневой организацией интеллекта, включающей уровень высокой степени ментальности составляющие). абстракции конкретного Первый (прототипическую субъекта уровень основу) (вариативные, обеспечивает и уровень факультативные узнаваемость гештальта психических процессов среди прочих. На втором уровне гештальт получает спецификацию и акцентирует грани психических процессов. 2. Каждая из гештальт-сфер может быть рассмотрена с точки зрения составляющих ее гештальт-полей, или концептуальных коррелятов референта номинации: «Ощущение», «Восприятие», «Представление», «Мышление», «Воображение», «Память», «Речь», «Эмоция», «Воля». В совокупности всех перечисленных составляющих гештальтная структура функционирует слаженно. Более того, экстралингвистические сведения о единой рефлекторной природе психических процессов позволяют гипотетически предположить необходимость одновременного параллельного рассмотрения гештальта в терминах дискретности и синкретизма. 3. Синкретизм гештальта обеспечивается актуализацией прототипических гештальт-классификаторов субъектности, спонтанной активности, чувственной недосягаемости и предметности, а также пропозициональной структурой инвариантного фрейма в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Дискретность обусловлена способностью 210 рассматриваемой ментальной структуры обладать соответствующими дистинктивными признаками, которые позволяют им идентифицироваться с полями гештальта благодаря аллотропии. На языковом уровне ментальная структура выступает в качестве объединяющего начала для вербализаторов психических процессов, которые, с одной стороны, актуализируют все гештальт-классификаторы (на этом основании соотносятся с тематической группой психических процессов), а также факультативные компоненты соответствующих аллотропов, что позволяет им получать тематическую дифференциацию. 4. Будучи атомарными единицами с пропозициональной инвариантной структурой, фреймы психических процессов на уровне обязательных компонентов соотносятся с уровнем высокой степени абстракции, учитывая все внутрисистемные межаллотропные трансформации при адгезии компонентов. На уровне факультативных составляющих осуществляются разнообразные видоизменения аллотропных структур, которые на внешней границе не защищены от экстрасистемных воздействий смежных с ними ментальных структур идентичного порядка. 5. В совокупности всех составляющих гештальт психических процессов выступает в качестве мотивирующего начала для лексем, номинирующих различные психические процессы. Весь эмпирический материал может быть ранжирован в соответствии со способностью каждой лексической единицы отвечать условиям классификаторов гештальта и инвариантной структуры аллотропа, что позволяет выявить прототипическую лексему. Дальнейшая дифференциация лексики базируется на актуализации видо-параметрических особенностей любого из психических процессов при условии, что выбранная лексическая единица также проходит означенные выше критерии идентификации. На таком основании лексемы могут быть соотнесены с ядерной частью лексической системы гештальта. Периферия образована лексемами, способными отвечать классификаторам гештальта в определенных 211 контекстуальных условиях и выступать в качестве окказиональных вербализаторов психических процессов. 6. Прототипические лексемы и лексемы ядерного ряда выступают в качестве аттрактора, на семантику которого ориентируются лексемы периферии. При этом такая система находится в относительном покое, когда ядро мотивируется прототипом своей семантической группы. В данном случае речь идет об относительной стабильности. Однако в случае с периферией и стремлением ядра к прототипам не своего аллотропа говорится о нестабильности лексико-семантической системы вербализаторов гештальта. 7. Таким образом, гештальт осуществляет организацию всех своих репрезентантов в зависимости от полноты выражения значения. Однако, динамический характер рассматриваемой структуры служит основой того, что она может меняться сама в пределах собственного концептуального компонентного состава, что приводит лексико-семантическую систему в неравновесное состояние, и, как следствие, к семантическим трансформациям внутри и снаружи системы. 8. Открытость, диссипативность и динамичный характер лексикосемантической системы вербализаторов гештальта позволяет ей коррелировать с синергетической системой, которая при определенных условиях деятельности коммуникантов (прежде всего, речевой) реагирует на внешние и внутренние факторы, приходит в состояние хаоса и совершает флуктуации, стремясь к аттрактору. Флуктуациями в данном случае выступают внутрисистемные колебания, которые в итоге приводят к эволюционному витку и новому состоянию относительного равновесия. 9. Лексико-семантическая синергетическая система вербализаторов гештальта находится в состоянии относительного покоя до тех пор, пока в пределах коммуникативного акта конструктор дискурса, учитывая фактор хронотопичности, обеспечивающий актуальность значения коммуникативному акту, не осуществляет поиск лексической 212 единицы для достижения определенной цели коммуникативного акта. Данное обстоятельство иллюстрирует процесс коммуникативной деятельности коммуникантов. 10. В связи семантической с подвижностью синергетической периферической системы части вербализаторов лексикогештальта, организации такой структуры, антропоцентрического деятельностного фактора формирования и модификации значения, мы разрабатываем авторский процессуально-синергетический подход к описанию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе. Такой подход опирается на способность гештальта выполнять инструментальную роль в категоризации окружающего мира, с одной стороны, и выступать в качестве лексико-семантической системы вербализаторов психических процессов, с другой. В расчет в таком случае принимается относительная стабильность гештальта, а также его способность меняться и самоорганизовываться, подстраиваясь под антропоцентрический процессуальный фактор. Последний особенно актуален преимущественно с учетом параметра хронотопичности в дискурсе. 11. На уровне дискурса гештальт психических процессов, постепенно разворачиваясь посредством опорных лексем, сохраняет свое инвариантное ядро и подвергается синергетическим изменениям под воздействием процессуальных факторов на уровне ментальности конкретного конструктора дискурса. Понимание при этом базируется на конкретном инвариантном компоненте приращения гештальта. Семантические ассоциативных фоновых хронотопичности. 213 трансформации знаний, есть актуальных результат фактору Глава 3. Системная обусловленность механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе В настоящем диссертационном исследовании гештальт психических процессов понимается как единица концептуального уровня, многомерное образование иерархического строения с включенными в него сферами, областями и полями, структурированными во фрейм и соответствующие аллотропные модификации, с одной стороны, и как лексико-семантическая синергетическая нелинейная открытая диссипативная система вербализаторов психических процессов, зеркально отражающая устройство ментальной структуры, с другой. Обе стороны такого билатерального образования тесно взаимосвязаны, коррелируют друг с другом и обеспечивают гармоничные условия для параллельного развития. Иными словами, рассматриваемая структура не только целостна, но и динамична, лабильна по отношению к антропоцентрическим процессуальным факторам, которые воздействуют на механизмы ее развертывания и, соответственно, вербализации согласно интенциям конструктора дискурса. Как неоднократно говорилось ранее, несмотря на гармонию внутреннего строения и целостность, прототипическая иерархия гештальта условно может быть разбита на два уровня – уровень высокой абстракции (инвариантные составляющие – сфера, область, поле, пропозиция) и ментальный уровень конкретного субъекта 16 (вариативные составляющие – факультативные компоненты). И если инвариантные знания высокой степени абстракции передаются из поколения в поколение и уже заложены в сознании говорящего в результате категоризации знаний, получаемых в процессе деятельности, то на ментальном уровне каждого конкретного коммуниканта происходит процесс субъективного приращения ассоциаций и смыслов опять же в результате деятельности каждого конкретного индивида. 16 Под конкретным субъектом мы понимаем каждого участника коммуникации – конструктора дискурса и интерпретатора дискурса. 214 Процесс создания дискурса конструктором сопряжен с факторами деятельностного подхода – целью, операциями, условиями. Иными словами, предполагается, что процесс категоризации знаний, полученных в результате деятельности, не только хранит сведения о порядке их получения и категоризации, но и повторяет, отражает сведения об этих этапах в значениях опорных лексем, употребляемых конструктором дискурса. Соответственно, решение той или иной коммуникативной задачи опирается на триединство цели (прогностической установки), условий (сопутствующие деятельности обстоятельства) и операций (конкретные действия по достижению цели). И если перенести базовые принципы деятельностного подхода в плоскость разрабатываемого процессуального подхода, можно интерпретировать указанное триединство как комбинацию коммуникативной задачи (цель), хронотопичности (условия) и поиска средств решения коммуникативной задачи (операции). Выбор лексических средств из тезауруса вербализаторов психических процессов конструктором дискурса, модификация их семантики осуществляются на ментальном уровне вариативных компонентов. При этом, несмотря на множество нетипичных словоупотреблений для решения коммуникативных задач, понимание между конструктором дискурса и его интерпретатором осуществляется благодаря имеющейся в сознании каждого инвариантного абсолюта – инвариантного уровня высокой степени абстракции. Сам процесс модификации значения обусловлен динамичным характером гештальта на уровне факультативных компонентов, его прозрачностью, способностью к изменениям и сообщениям с внешней средой. Таким образом, подстраиваясь под процессуальные факторы, лексико-семантическая синергетическая система вербализаторов совершает новый эволюционный виток самоорганизации. Заметим, что такие эволюционные изменения могут быть окказиональными, когда модификация значения обеспечивает стилистику дискурса, и закономерными, когда в сознании индивида наступает торможение или неспособность реагировать на значение употребляемой лексики как на 215 новообразование. Последний случай фиксируется синергетической системой и отражается в лексикографических источниках. Кроме того, синергетическая система характеризуется как интрасистемными, так и экстрасистемными модификациями. Первые характеризуют переструктурацию аллотропных модификаций фреймов, вторые отражают пересечение и наложение гештальта на другие ментальные структуры. Соответственно, применительно к дискурсу хронотопичность является точкой отсчета для рассмотрения дискурса с позиций реципиента. Таким образом, анализируя семантику лексем в данном случае, субъект выступает в качестве интерпретатора дискурса и, опираясь на ключевые дискурсивные единицы, ассоциирует их с соответствующим гештальтом (в нашем случае, гештальтом психических процессов), далее по характеру актуализируемого аллотропа соотносит с гештальт-областью и полем, структурируемым во фрейм. Выявление таких факторов позволяет определить не только фигуру (высвечивание сфер, областей, полей) и характер процессуальных факторов, воздействующих на колебания синергетической лексико-семантической системы гештальта, но и траекторию модификации значения. Обратимся непосредственно к рассмотрению интрасистемной обусловленности модификации значения. 3.1 Процессуальная обусловленность системного значения 3.1.1 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов гештальт-сферы «Перцепция» Во второй главе отмечалось, что семантическая плотность гештальта психических процессов преимущественно высока и составляет чуть ли не большую часть от всех имеющихся в языке лексем абстрактной семантики, что, естественно, обусловлено представленностью психики во всех сферах жизни 216 социума. Согласно прототипическому строению ментальной структуры вербализаторы, организующие эту систему, имеют определенное расположение по отношению к прототипу. Однако такое положение лексем весьма условно, поскольку характеризирует такую систему исключительно в состоянии покоя. Любые процессуальные факторы антропоцентрического характера влекут за собой нарушение равновесия и хаосное состояние, которые ведут систему к эволюционным изменениям самоорганизации, а, следовательно, к модификации положения лексем, что отражается в их семантике. Динамичный характер синергетической системы вербализаторов гештальта делает данную систему способной хранить инвариантные сведения (и, как правило, это соотносится с уровнем высокой степени абстракции) и передавать их посредством лексических единиц, находясь в состоянии покоя, чем, собственно, и обусловлена целостность такой системы. Обратимся непосредственно к описанию отмеченной стабильности на уровне актуализации областей, сфер и полей гештальта. Как было заявлено ранее, семантическая плотность гештальта психических процессов достаточно высока и тематически неоднородна, что позволяет соотнести соответствующие вербализаторы, основываясь на их системном значении, с тремя гештальт-сферами – «Перцепция», «Интеллектт», «Эмоция-Воля». Самая представленная в аспекте вербализации сфера – это сфера «Перцепция». Как и предыдущие, она условно организована в корреляции с прототипами входящих в ее состав концептуальных полей и соответствующих им аллотропов ощущения, восприятия, представления: feel, perceive, recept, соответственно. Указанные лексемы выступают в качестве аттракторов синергетической системы, поскольку обладают способностью актуализировать не только динстинктивные признаки гештальта (субъектность, предметность, спонтанная активность и чувственная недоступность), но и эксплицировать все инвариантные обязательные составляющие соответствующего аллотропа – компоненты СЕНСОР, ОБЪЕКТ, 217 ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС 17. При вербализации гештальт-сферы «Перцепция» в качестве компонента ПРОЦЕСС выступает сочетание компонента ПРЕДИКАТ и компонента ОЩУЩЕНИЕ либо ВОСПРИЯТИЕ. Рассмотрим процессуально-обусловленную относительную стабильность лексем, синонимичных глаголу sense и способных при этом своим основным (системным) значением описывать ситуацию ощущения, а также отражать дополнительные видо-параметрические характеристики рассматриваемого процесса. Опираясь на данные словаря синонимов, можно отметить, что глаголу sense, выступающему в качестве прототипа вербализаторов ощущения и, соответственно, аттрактора лексико-семантической синергетической системы гештальта в области сферы «Перцепция», синономичными являются лексемы feel, detect, discover, notice, observe, find, smell, smell out, scent out, sniff out (TFD, MDT, DC). Соответственно, разворачивая механизм вербализации процесса ощущения посредством любой из лексем ядерного ряда, употребленных в прямом значении, синергетическая система гештальта остается в состоянии относительного покоя, претерпевая исключительно процесс приращения дополнительных факультативных компонентов (на вербальном уровне – высвечивание той или иной специфической характеристики ситуации). Нередки также и случаи экспликации аллотропа «Ощущение» при отсутствии указания на видо-параметрические характеристики рассматриваемого процесса. Такие случаи, как показывает анализ фактического материала, частотны, преимущественно в научном дискурсе, особенно, когда происходит описание психических процессов, например, в психологии или физиологии: 61) As adaptive creatures, we humans need to know what is happening in the world around us. Sensation tells us there are objects in the world outside ourselves; perception tells us what and where they are and what they are doing. Together, our 17 В качестве компонента ПРОЦЕСС выступают все сочетающие с компонентом ПРЕДИКАТ факультативные компоненты пропозиционального каркаса, концептуальным коррелятом которых является любой из рассматриваемых нами психических процессов. 218 sensations and perceptions link our brains to the world and allow us to form mental representations of reality (Cognitive Psychology, 2001). Если интерпретировать пример (61), можно говорить о беспристрастности описания психических процессов в научных целях. При этом конструктор дискурса пользуется дериватами прототипов, поскольку основной целью продуцируемой дискурсивной единицы выступает передача научных сведений, а в качестве условий реализации цели выступает формат научного изложения. Таким образом, операционные единицы, которыми являются существительные sensation и perception, выступают в качестве терминов, им даются лексикографические толкования, соответствующие последним разработкам психологической науки и являющиеся актуальными для реципиента, что в данном случае соответствует фактору хронотопичности дискурса. Нужно сказать, что такая ситуация складывается не только в отношении описания психических процессов. Формат, предполагающий предельную точность, лаконичность, стилистическую нейтральность и актуальность сведений по отношению к точке отсчета (хронотопичность), характеризующие научные работы, является ведущим фактором (условием), предопределяющим поиск лексем в процессе речетворчества (операции). Иными словами, цель конструктора дискурса – передать сведения максимально четко и безоценочно – отправляет его к условиям или формату научного дискурса, в рамках которого осуществляется оперативный поиск сознанием соответствующих лексем по адекватной передаче информации с опорой преимущественно на инвариантные сведения высокой степени абстракции. В таком случае рассматриваемые опорные лексемы оказываются в фокусе внимания интерпретатора дискурса и ввиду нейтральности их значения (то есть преобладания денотативной части над прагматической и коннотативной) прочитываются сознанием как прямая траектория развертывания ментальной структуры, которая условно раскладывается по инвариантным составляющим и, в конечном счете, выходит 219 на пропозициональный каркас соответствующего аллотропа. В данном случае речь идет о стабильности системы, которая адекватно отвечает требованиям процессуальности в процессе речетворчетва. Однако равновесие лексико-семантической синергетической системы, как показывает анализ фактических данных, поддерживается не только благодаря жесткому формату наблюдаться и научного в дискурса. художественном Идентичная ситуация повествовании, что может можно проиллюстрировать на материале следующего примера: 62) So I went in, thinking of the bride going into Bluebeard’s chamber after being told not to. (Bluebeard, mind, was waiting for that to happen.) Dad’s office smells of pound notes, papery but metallic too. The blinds were down so it felt like evening, not ten in the morning (Mitchel, 2006: 1) – Итак, я вошел, думая о невесте Синей бороды, которая вопреки запрету проникла в комнату. (Заметьте, Синяя борода того и ожидал). В офисе отца пахло бумажными и металлическими деньгами. Жалюзи были опущены, так что было ощущение вечера, а не десяти утра. В приведенном выше отрывке из художественно произведения процесс ощущения описывается посредством лексем ядерного ряда, употребленных в основном системном значении. Семантика лексемы smell («perceive or detect the odour or scent of (something)» (OD)) актуализирует компоненты инвариантной пропозициональной структуры СЕНСОР (в данном случае им выступает автор нарратива), ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ОЩУЩЕНИЕ), ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР. В данном случае, как и при описании любых непроизвольных психических процессов, происходит адгезия компонентов ОБЪЕКТ (запах) и ТРИГГЕР (качество запаха). Кроме того, семантика глагольной лексемы эксплицирует компонент ВИД (обоняние). Сочетаемость лексемы smell не противоречит ее системному значению и правилам сочетаемости, что говорит о стилистической нейтральности повествования. 220 Идентичная ситуация наблюдается и в предложении с лексемой feel, где она, также как и предыдущая, употребляется в прямом значении ощущения («a. To perceive through the sense of touch; b. To perceive as a physical sensation» (TFD)), актуализируя не только обязательные компоненты соответствующего аллотропа – СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ОЩУЩЕНИЕ), ОБЪЕКТТРИГГЕР, но и факультативные компоненты ВИД (обоняние) и ПАРАМЕТРЫ (комплексное воздействие на один анализатор). Как и в случае с глаголом smell, употребление глагола feel для высвечивания его прямого значения не противоречит правилам коллокации. Приведенные данные отвечают критерию хронотопичности гештальта, то есть значения употребленных лексем, их выдержанные сочетаемостные свойства, контекстуально не противоречат общепринятым языковым нормам сегодняшнего дня, понятны и доступны интерпретатору дискурса. Как было заявлено выше, в случае употребления лексем в их прямом системном значении конструктор пользуется инвариантными знаниями для осуществления собственных целей и апеллирует к инвариантной структуре, содержащейся в сознании интерпретатора. Таким образом операционным процессуальным фактором, обусловливающим механизм развертывания структуры, является поиск из относительно стабильного тезауруса находящейся в покое лексико-семантической синергетической системы гештальта. Анализ и когнитивная интерпретация приведенного примера позволяют указать на некоторую стилистическую нейтральность описания психических процессов как средства отражения действительности при осуществлении деятельности, которая должна находиться в фокусе внимания читателя. Соответственно, можно говорить о цели конструктора дискурса выдвинуть на первый план факт проникновения в помещение, что отводит в данном контексте второстепенную роль описанию психических процессов. В следующем примере не только описывается процесс ощущения, но и эксплицируются его видо-параметрические особенности: 221 63) My leg touched Mr Hady’s anckle and its fading warmth sent such a shock through me that I jerked upright as though galvanized by lightning (Bainbridge, 2011: 22). Глагол touch употреблен здесь в своем системном значении («to cause or permit a part of the body, especially the hand or fingers, to come in contact with so as to feel» (TFD)) и применяется для описания процесса тактильного ощущения, которое по своему характеру является непроизвольным. Таким образом, в результате интерпретации семантики данной опорной единицы в условиях контекста происходит актуализация обязательных компонентов аллотропа «Ощущение» СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ОЩУЩЕНИЕ) и ОБЪЕКТТРИГГЕР, а также факультативных компонентов ВИД (тактильное ощущение) и ПАРАМЕТРЫ (интенсивность ощущения). Нужно сказать, что грань между процессами восприятия и ощущения слабо уловима, поскольку, несмотря на то, что ощущение – это просто ориентировка человека в пространстве, а восприятие – интерпретация целостного образа, ощущение служит пропуском к восприятию. Следовательно, эти процессы тесно взаимосвязаны. На языковом уровне данное обстоятельство отражено в семантической структуре некоторых лексем, в зависимости от контекстуальных условий способных обозначать и процесс ощущения, и процесс восприятия, например, лексемы hear, notice, smell, see и т.д. В сложном предложении: 64) I heard the boy say it was a right shame, but I didn’t listen to find out what the shame was (A new book, 2005: 119) четко прослеживается разница между простым процессом ощущения, вербализуемым глаголом hear, и процессом целенаправленного восприятия, вербализуемым глаголом listen. Таким образом, интерпретация текста, которая опирается на выявление значения опорных лексем и соответствующих аллотропов, позволяет выявить аллотропы ощущения и произвольного восприятия. Соответственно, пропозициональная компоненты: основа компонент аллотропа ощущения СЕНСОР, 222 включает компонент следующие ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ОЩУЩЕНИЕ), компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, компонент ВИД (слуховое ощущение). Пропозициональная основа аллотропа восприятия, актуализируемая глаголом listen, включает компоненты СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ВОСПРИЯТИЕ+ВОЛЯ), ОБЪЕКТ, ВИД (слуховое). Интересным обстоятельством является тот факт, что словари синонимов и тезауросов трактуют глаголы find и detect в качестве синонимов к глаголам ощущения и восприятия, хотя в первом значении семантика заявленных лексем достаточно далека от номинации психических процессов: detect «1. to discover or notice the existence or presence of» (TFD); find «4. a. To perceive to be, after experience or consideration; b. To experience or feel» (TFD). Если у глагола detect (переходного) значение восприятия («заметить») более явное, рекуррентное, то глагол find в данном значении не типичен, о чем говорит некоторая удаленность такого значения в семантической структуре. Однако в обоих случаях в результате завершившегося эволюционного витка самоорганизующейся системы гештальта значение стало системным и вследствие афазии уже не воспринимается как новообразование. Соответственно, семантическая структура таких лексем расширилась и полисемантизировалась. Употребление данных лексем интерпретатором позволяет говорить о высвечивании особого качества или свойства психического процесса. Например, глагол find зачастую в контексте описывает процесс смещения фокуса внимания интерпретатора дискурса с описания ощущения автора нарратива на объект его внимания, что описывается в следующем примере, где указывается видовая характеристика процесса (зрительное ощущение) («to experience or feel» (TFD)): 65) When I came out of the church and crunched back down the gravel path towards the plot where my grandparents were buried, I found that Gill was still standing by their gravestone, staring across the churchyard with a strange, frozen look in her eye (A new book, 2005: 29). Несмотря на употребление глагола find в прямом значении для описания ощущения, в предложении разворачивается 223 и некоторая авторская интерпретация получаемого сознанием ощущения, что говорит о процессе первичной категоризации и формирования целостного образа и, соответственно, восприятии. Данное обстоятельство, то есть сложность разграничения восприятия и ощущения, обусловленная их функциональным синкретизмом как на языковом, так и на экстралингвистическом уровнях, позволяет говорить о правомерности выделения рассматриваемых полей в единую гештальт-сферу «Перцепция», которая на инструментальном уровне инициализирует процесс отражения действительности сознанием, на оперативном уровне обеспечивает хранение сведений о процессах восприятия и ощущения, а на лексико-семантическом уровне соответствует части синергетической самоорганизующейся системы, которая при рассмотренных выше условиях Идентичная находится ситуация в состоянии наблюдается в относительной гештальт-сфере стабильности. «Интеллект», к рассмотрению лексико-семантической организации которой переходим в следующем параграфе. 3.1.2 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов сферы «Интеллект» Интеллектуальная сфера гештальта психических процессов репрезентирована полями представления, мышления, воображения, памяти, речи, которые имеют каркасную организацию в виде инвариантной пропозиции (обязательные компоненты СУБЪЕКТ, ПРОЦЕСС, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, факультативные компоненты ВИД, ПАРАМЕТРЫ) и ее соответствующих аллотропных модификаций, определяемых качеством компонента ПРОЦЕСС. Таким образом, характер семантического наполнения компонента ПРОЦЕСС (предикаты, описывающие интеллектуальную деятельность) предопределяет и семантическое наполнение, а, и концептуальные особенности остальных компонентов. Иными словами, компонент 224 ОБЪЕКТ аллотропов интеллектуальной гештальт-сферы соотносится со сферой сознания на концептуальном уровне по признаку «локативность», является сущностью не материального, а концептуального мира, то есть идеей, мыслью, понятием, образом и т.д. на экстралингвистическом уровне. Такой экстралингвистический объект всегда сложен, уникален и привлекателен в положительном или отрицательном смысле для субъекта ситуации. Кроме того, он динамичен, способен к когнитивным метаморфозам, что и позволяет данному объекту выполнять функции стимула ситуации непроизвольной интеллектуальной деятельности. СЕНСОР такой пропозициональной структуры на экстралингвистическом уровне – всегда человек, способный оперировать понятиями, образами, мыслями в сознании, прогнозировать результат интеллектуальной деятельности и выводить умозаключение. Причем такой процесс носит индивидуальный, творческий характер и не является простым воспроизведением полученного опыта, что опять же характеризует субъекта ситуации как обладателя функций высшей нервной деятельности. Первичным звеном перехода от низшей нервной деятельности, присущей и человеку и животному, первичная гештальт-сферы форма «Перцепция» категоризации знаний, является представление формирование понятий как из накопленного опыта. Соответственно, в отношении структурирования поля представления и его соответствующего аллотропа указанные сведения видятся справедливыми. Процесс представления, как правило, носит непроизвольный характер, что позволяет соответствующему аллотропу иметь следующую аллотропную структуру: компонент СЕНСОР, компонент ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ПРЕДСТАВЛЕНИЕ), компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Например, в предложении: 66) It was as if he had conceived a latterday, visual version of the sonnet or the haiku (BNC, A04: 1237) (Казалось, будто в его сознании запечатлелось зрительное представление хокку) в фокусе внимания находится ключевая лексема в ее системном значении, позволяющем ей, в свою очередь, разворачивать инвариантный каркас аллотропа представления, что говорит о 225 цели конструктора дискурса выдвинуть на первый план мысль о первичной категоризации и представлении в сознании субъекта ситуации структурированного знания о стихотворном произведении. Такая цель, соответственно, диктует выбор соответствующей лексемы ядерного уровня для актуализации обязательных элементов аллотропа. Системное значение такой лексемы в пониманию контекстуальных представления, условиях что не говорит противоречит о современному соответствии фактору хронотопичности гештальта. Кроме того, хронотопичность в данном случае поддерживается не только за счет системности значения, но и за счет соблюдения условий коллокации. В результате актуализации системного значения, соответствия его хронотопичности в результате речетворчества лексико-семантическая синергетическая система вербализаторов гештальта находится в состоянии условной стабильности, что эксплицирует уровень высокой степени ее абстракции. Идентичная ситуация наблюдается в отношении описания дискретного элемента гештальта – поле «Мышление» – посредством любой из лексем ядерного ряда, способной не только к развертыванию пропозиционной структуры соответствующего аллотропа в ее инвариантном каркасе, но и отражению видо-параметрических особенностей на концептуальном уровне. В данном случае речь также идет о системном значении рассматриваемого вербализатора, которое зафиксировано лексикографическим источником, известно и доступно конструктору дискурса и его интерпретатору, апеллирует к концептуальному уровню высокой степени абстракции обоих коммуникантов. На этом основании вербализатор передает точные сведения о процессе мышления, с одной стороны, а также выступает в качестве сдерживающего фактора относительно равновесного состояния лексико-синергетической системы гештальта, с другой. Так, например, глагол ponder, на системном уровне описывающий ситуацию долговременного, тщательного мыслительного процесса («to weigh in the mind with thoroughness and care» (TFD)), выступая в 226 качестве ключевой лексемы, делает акцент на параметрических свойствах соответствующего интеллектуального акта и тем самым высвечивает такую фигуру (или дискретный элемент гештальта) как поле мышления. Например, в предложении 67) She pondered his words then glanced at the pay phone in the corner of the bar (BNC, EF1: 3066) не только акцентируется процесс мышления (употребляемая лексема разворачивает в сознании интерпретатора инвариантный пропозициональный каркас в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, факультативного компонента ПАРАМЕТРЫ (характер мыслительного акта), но и имплицируется его результативность посредством второго однородного члена (предиката зрительной перцепции), содержащего в своем значении сведения о соматических проявлениях результативности мышления. Дискретная организация гештальта позволяет ему также в определенных случаях выдвигать такую фигуру как поле «Воображение» посредством семантики ядерных вербализаторов процесса. Например, в предложении: 68) In bed before I went to sleep I fantasized about London and what I'd do there when the city belonged to me (BNC, C8E: 1720) актуализируется инвариантный пропозициональный каркас в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВООБРАЖЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР и факультативных компонентов ПАРАМЕТРЫ (агглютинация) и ВИД (творческое). Таким образом, в фокусе внимания конструктора дискурса находится высвечивание процесса воображения с учетом его видо-параметрических характеристик, что отсылает когнитивную операционную систему к поиску ключевой ядерной лексемы fantasize, системное значение которой позволяет дать прямую номинацию процессу, актуальную на момент интерпретации, что говорит о соблюдении условия хронотопичности гештальта. Ретроспекция как процесс воспроизведения образов прошлого сопряжена с важным процессом человеческой психики – памятью. Данный процесс номинируется посредством множества лексем ядерного ряда, которые в своем 227 системном значении способны к развертыванию пропозиционалной структуры аллотропа памяти (обязательные (ПРЕДИКАТ-ПАМЯТЬ), компоненты ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, СЕНСОР, ПРОЦЕСС факультативные видо- параметрические компоненты). Такие лексемы ядерного ряда стремятся к аттрактору – прототипической лексеме, способной в наиболее общем и нейтральном виде дополнительных номинировать оттенков ситуацию значения. памяти Именно так без каких-либо выглядит лексико- семантическая система вербализаторов гештальта в покое. Если в фокусе внимания конструктора дискурса находится не только высвечивание процесса памяти в общем виде (то есть при актуализации всех обязательных компонентов пропозициональной структуры), но и описание видо- параметрических особенностей процесса, он выбирает ключевую лексему из условно организованных в ядерном ряду и аппелирует тем самым к ментальному уровню высокой абстракции интерпретатора, обеспечивая тем самым адекватную передачу смысла. Рассмотрим следующее сложное предложение, где в качестве ключевых, опорных лексем выступают несколько глаголов памяти – прототип и глагол ядерного ряда: 69) I remembered the facts of things pretty well, but I had forgotten certain feelings, like how I felt on the day Victor arrived from Godber’s Farm, and how I felt on the day he was taken away to his new home (A new book, 2005: 125). Первое по порядку следования простое предложение является зеркальным отражением пропозионального каркаса на языковом уровне. Это обстоятельство дополнительно подтверждает тот факт, что глагол remember, будучи нейтральным в стилистическом плане, способен адекватно отражать процесс памяти без дополнительных видо-параметрических указаний. Во втором простом предложении глагол forget описывает такое явление памяти как забывание, что уже на уровне системного значения смещает акцент на факультативный компонент ПАРАМЕТРЫ (забывание): «1. To be unable to remember (something)» (TFD). Соответственно, употребление рассматриваемой 228 лексемы в основном системном значении в данном предложении разворачивает следующую СЕНСОР, пропозициональную ПРОЦЕСС факультативный структуру: обязательные (ПРЕДИКАТ-ПАМЯТЬ), компонент ПАРАМЕТРЫ компоненты ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР (забывание). Кроме и того, концептуальное наполнение компонента ОБЪЕКТ (чувства) позволяет также эксплицировать особый вид памяти – эмоциональную, что говорит об экспликации компонента ВИД. Таким образом, достижение цели конструктора дискурса – выделить процесс памяти в качестве дискретной фигуры гештальта на синкретичном фоне психических процессов – осуществляется посредством ключевой опорной лексемы forget, системное значение которой соотносится с уровнем высокой степени абстракции, апеллирует к относительно устойчивой ментальной картинке в сознании интерпретатора и соответствует плану настоящего, что говорит о соблюдении фактора хронотопичности гештальта. Глаголы, номинирующие способность человека к различным видам коммуникации, являются чуть ли не самыми частотными в современном английском дискурсе. Они вводят прямую речь в предложение, обозначают выражение мыслей героями и отражают целый диапазон характера речевого общения. Однако если мы говорим о таких вербализаторах процесса речи, семантика которых апеллирует к ментальному уровню высокой степени абстракции и позволяет в контексте разворачивать целую инвариантную пропозициональную структуру в ее аллотропной модификации, мы обращаемся к глаголам ядерного ряда, которые своим системным значением стремятся к аттрактору (значению прототипа) и при этом указывают на видо- параметрические характеристики речи. Данное обстоятельство обеспечивает относительную стабильность открытой синергетической системы гештальта. Проиллюстрируем сказанное на следующем примере. В предложении 70) I rang her from your flat just before we left, and told her that we'd be arriving later (BNC, H8F: 960) глагол tell («1. to give an account or revelation» (TFD)) употребляется в своем основном значении, поскольку наряду со способностью актуализировать 229 все идентификационные концептуальные признаки гештальта позволяет высвечивать фигуру аллотропа речи посредством актуализации обязательных компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-РЕЧЬ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, факультативный компонент ВИД (устная). Данное системное значение, соответствующее хронотопичности гештальта в дискурсе, обеспечивает условную стабильность лексико-семантической синергетической системы. Сложным и одновременно интересным с точки зрения описания в экстралингвистике является процесс внимания, который имеет маргинальный статус: не обладает собственным содержанием, а проявляет себя внутри остальных психических процессов, как правило, восприятия и мыслительной деятельности. В глагольно-именных языке процесс внимания словосочетаний с вербализуется мотивирующим посредством существительным attention либо глаголами произвольной мыслительной деятельности или восприятия. Основываясь на этом положении, мы также не причисляем внимание ни к одной из гештальт-сфер отдельно, однако отводим соответствующему полю промежуточную нишу между перцептивной и интеллектуальной сферами гештальта. Системное значение слова attention, также как и значение образованных им глагольно-именных словосочетаний, сводится к указанию на внимательный перцептивный или интеллектуальный процесс: «turn your attention to somebody/something (=start listening to, looking at, or thinking about something)» (LDCE); «give (your) attention to somebody/something (=listen to, look at, or think about something, so that you can deal with a problem)» (LDCE). Такое словосочетание, употребленное в контексте в своем системном значении, часто нивелирует видовые параметры внимания, то есть не профилирует перцептивную или интеллектуальную составляющую процесса, как, например, в предложениях, где на первый план выдвигается сам факт наличия или отсутсвия внимания, а не его качество: 71) He paid little attention to the service itself (BNC, CKB: 660). 230 72) He quickly returned his attention to her, his quiet brown eyes growing anxious (BNC, FPK: 1286). Таким образом, соотносясь по денотативному статусу с глагольной лексемой, глагольно-именные словосочетания с компонентом attention в общем и нейтральном виде актуализируют аллотропную модификацию соответствующего фрейма в составе обязательных компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВНИМАНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, а также факультативных компонентов ВИД и/или ПАРАМЕТРЫ. Способность к развертыванию инвариантного каркаса аллотропа сближает семантику ядерных лексем с прототипическими, которые в лексико-семантической синергетической системе репрезентантов гештальта, находящейся в состоянии относительного покоя, выступают в качестве аттракторов. И, соответственно, не меняя положения относительно аттракторов, операционная система сознания просто выбирает нужную лексему из списка ядерного ряда и не нарушает относительной гармонии системы, апеллируя при этом к ментальному уровню высокой степени абстракции интерпретатора дискурса. Идентичная картина наблюдается и в пределах гештальт-сферы «ЭмоцияВоля», где соответствующие вербализаторы ядерного ряда хранят не только инвариантные сведения о вербализации аффективно-волевой составляющей психических процессов, но и обеспечивают сбалансированное состояние синергетической системы гештальта в целом посредством употребления в контексте в основном системном значении. 3.1.3 Процессуальная обусловленность системного значения вербализаторов сферы «Эмоция-Воля» Эмоциональное поле гештальта в пределах его аффективно-волевой сферы на системном уровне также вербализуется посредством лексических единиц, способных своим системным 231 значением разворачивать пропозициональную структуру аллотропа, что позволяет им находиться вблизи прототипа или аттрактора и номинировать эмоции, акцентируя при этом их видо-параметрическое своеобразие. Такие вербализаторы ядерного ряда употребляются конструктором дискурса с целью акцентировать внимание интерпретатора на эмоциональной реакции, ее характере, виде и особенностях в пределах системного значения лексемы. Приведем пример, иллюстрирующий способность лексемы отражать семантически близкие к прототипу характеристики, высвечивая при этом дополнительные факультативные компоненты: 73) She was surprised by how well he danced, but suspected that Mick did most things well (BNC, G16: 69). В предложении страдательном посредством залоге, не глагола только surprise, употребленном разворачивается в инвариантная пропозициональная структура в составе обязательных компонентов, но и актуализируется компонент ВИД (стеническая), что прописано в семантике самого глагола («3. to cause to feel wonder, astonishment, or amazement, as at something unanticipated» (TFD)). Ранее уже неоднократно отмечалось, что волевые процессы несколько выбиваются из парадигмы аллотропов фреймов психических процессов на том основании, что целенаправленный, проявление воли связанный с – это процесс самостоятельным произвольный решением и субъекта предпринимать какие-либо действия. Поэтому, объект такой ситуации не может быть ее стимулом. В качестве потребности, цели и стремления мотивирующего фактора выступают самого индивида, что на концептуальном уровне выражается в адгезии компонентов СЕНСОР и ТРИГГЕР. Кроме указанных компонентов, обязательными к актуализации также являются компонент ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВОЛЯ), компонент ОБЪЕКТ, а также факультативные компоненты ВИД и ПАРАМЕТРЫ, на концептуальном уровне специфицирующие особые характеристики волевых состояний субъекта. 232 Например, субъекта, его проявление воли, мотивируемое желанием, наряду с личными инвариантыми интересами составляющими пропозициональной структуры актуализируется посредством глагола want, что прописано в его системном значении («a. to desire greatly; wish for» (TFD)) и на функциональном уровне не модифицируется в случае интенций конструктора дискурса акцентировать внимание интерпретатора на триггере такого психического процесса, как в следующем предложении: 74) I suddenly wanted very badly to get out of that room (BNC, B0U: 1421). Желание, возникшее у субъекта в представленном примере, является триггером ситуации волеизъявления, которая обусловливает и имплицирует его дальнейшее поведение. Причем такое волеизъявление в данном случае выступает в форме потребности или желания, что акцентирует видопараметрические характеристики волевого процесса, то есть актуализирует компонент ВИД. Процесс волеизъявления, в принципе, как и любая другая составляющая динамической характеристики психики, не является изолированной сущностью. Более того, указанный процесс функционирует в тандеме с остальными процессами, что на языковом уровне выражается в различных семантических модификациях в пределах системного значения, обусловленных пересечением различных сфер гештальта. Данное предположение особенно актуально при рассмотрении семантики лексем, описывающих произвольный характер психических процессов, связь психических процессов с эмоциями. С целью выяснить, каким образом происходит модификация семантики ядерных вербализаторов в пределах их системного значения, обратимся непосредственно к исследованию особенностей наложения гештальт-сфер в нижеследующем параграфе. 233 3.2 Процессуальная обусловленность семантической модификации вербализаторов гештальта в пределах их системного значения 3.2.1 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Перцепция» и «Эмоция-Воля», «Перцепция» и «Интеллект» Экстралингвистические сведения, полученные из авторитетных источников в области психологии и физиологии высшей нервной деятельности, показывают, что ощущение и восприятие, равно как и все остальные психические процессы, тесно связаны с эмоциями и аффективными состояниями. В современном английском языке, если рассматривать системное значение вербализаторов перцептивной сферы, существует целый массив лексических единиц, уже в словарных трактовках выступающих в качестве вербализаторов и поля ощущения, и поля эмоций. В таком случае на концептуальном уровне происходит переструктурация элементов полей гештальта за счет адгезии компонентов в пределах элементов СЕНСОР и ТРИГГЕР или ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР, а также в пределах концептуального элемента ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ) с целью отражения комплексного характера описываемого процесса. Например, глагол sense в своем системном значении в лексикографическом источнике трактуется не только как вербализатор ощущения (первое словарное значение), но и как глагол, вербализующий аффективное поле («2. senses The faculties of sensation as means of providing physical gratification and pleasure» (TFD)). Причем описание эмоций во втором словарном значении сопряжено с получаемыми по перцептивным каналам ощущениям, что на языковом уровне отражается в предложениях, подобных следующим: 75) She sensed other emotions, too: satisfaction, relief, anticlimax, and sorrow at the waste of so many healthy brains (BNC, F9X: 6). 234 76) At the same time he had sensed a tremor of — he did not know what (BNC, FP1: 2157). В представленных примерах глагол sense отражает эмоциональные переживания героя, которые акцентируются конструктором дискурса не только посредством выбора соответствующей лексической единицы, но и посредством семантического наполнения компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Целью конструктора дискурса является описание такой стороны аффективного состояния, которая отражена на физиологическом уровне в виде тремора (пример 76), импликации физиологических проявлений целого диапазона эмоций (пример 75). Интересным в данном случае является тот факт, что глагол sense выступает в качестве одного из прототипов перцептивной сферы благодаря первому системному значению. Выбор этой лексемы для описания ситуации аффективных состояний также возможен, что указано во второй статье словарного значения, но в таком случае рассматриваемая лексема стремится к аттрактору аффективного поля, не утрачивая при этом способности к вербализации перцептивной сферы. На концептуальном уровне данное обстоятельство выражается посредством модификации аллотропа и адгезии компонентов. Таким образом, пропозициональный каркас предложения, где лексема sense, будучи аттрактором перцептивной сферы, описывает аффективные состояния, выглядит следующим образом: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ОЩУЩЕНИЕ+ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. При этом нельзя не отметить тот факт, что в случае такой системно-обусловленной модификации значения меняется и концептуальная характеристика компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Признак локативности последнего меняет модус и перемещается из внешнего мира (как это было в случае с употреблением лексемы в первом системном значении для обозначения стимула, воздействующего на органы чувств) во внутренний мир, смещающий фокус на ощущения в пределах сознания. Таким образом, употребляя лексему, нетипичную для описания аффективного состояния (этот вывод мы делаем по 235 результатам анализа лексикографического материала), конструктор дискурса преследует цель выдвижения объекта ситуации эмоций как триггера соответствующей аффективной реакции субъекта. Хронотопичность дискретной фигуры гештальта в таком случае соблюдается посредством актуальных на настоящий момент для научного знания сведений о процессе переживания эмоций, ощущений от их переживания, непроизвольного характера такой реакции, а также за счет соблюдения условий коллокации. Другая глагольная лексема feel также способна описывать аффективные реакции организма благодаря своему системноу значению (четвертая словарная статья): «4. c. To be emotionally affected by» (TFD). Данная лексема не является прототипической лексемой-аттрактором, при этом относится к ядерному ряду на основании способности развертывания инвариантной пропозииональной структуры аллотропа и указания видо-параметрических характеристик процесса с акцентом на последних. Таким образом, данная лексема также может быть употреблена в качестве вербализатора аффективной сферы гештальта для акцента на остроте переживаемой эмоции, способности ее физического ощущения (feel «1. b. To perceive as a physical sensation» (TFD)). Таким образом, соответствующая системная модификация пропозициональной модели допускает адгезию составляющих в пределах компонента ПРОЦЕСС – ПРЕДИКАТ+ОЩУЩЕНИЕ+ЭМОЦИЯ, экспликацию компонента СЕНСОР, компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, наделенного концептуальным признаком локативность (внутренний мир) и экспликацию факультативных компонентов ПАРАМЕТРЫ и ВИД. Примечательным в таком случае является и тот факт, что указанные факультативные компоненты характеризуют ситуацию аффективного процесса, а не ощущения. Подтвердим заявленное положение примерами фактического материала: 77) I felt, at the time, it was such a shame (BNC, ASA: 1048). 78) It was not late, nothing like time for bed, she felt so full of energy, of goodwill, of the need to take some action (BNC, H8X: 2946). 236 В предложении (77) речь идет об астенической эмоции стыда (К.Э. Изард выделяет стыд как рассогласование собственного поступка и помысла и ожиданий окружающих в качестве одной из шести базовых эмоций), глубоко переживаемой, на основании чего конструктор дискурса выбирает глагол feel (со значением физическое ощущение), способный эксплицировать компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, семантическим наполнением которого является нематериальная сущность – эмоция стыда. В предложении (78) наблюдается похожая ситуация описания эмоций посредством того же глагола ощущения, только в качестве концептуального наполнения объекта выступает стеническая эмоция, энергия и жизненные силы. Таким образом, семантическая плотность вербализаторов эмоционально-волевой сферы гештальта, обеспечивающая стабильность лексико-семантической системы репрезентантов гештальта на уровне высокой дополнительных степени оттенков абстракции, значения. не обеспечивает Соответственно, с экспликацию целью поиска релевантной единицы операционная система сознания субъекта начинает поиск лексемы из прототипического ряда вербализаторов смежных гештальт-сфер. В таком случае система начинает флуктуации, приходит в состояние хаоса. Выбранная сознанием лексема начинает стремиться к аттрактору вербализуемого поля, вследствие чего меняется ее значение. А поскольку внутрисистемные модификации уже отражены на периферии семантической структуры, выбранной лексеме на настоящий момент приходится только высвечивать его при определенных контекстуальных условиях, что говорит об уже свершившем факте эволюции. Другой глагол ache также является системным вербализатором процесса ощущения, причем, как правило, болевого («1. To suffer a dull, sustained pain» (TFD)). Для описания аффективной реакции, стенической эмоции данный глагол используется в значении «скучать, мучиться от тоски» («have a desire for something or someone who is not present» (TFD)), что на концептуальном уровне представлено обязательными компонентами СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ 237 - ОЩУЩЕНИЕ+ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. На языковом уровне такая пропозициональная структура, развертываемая рассматриваемым глаголом, имеет следующее вербальное выражение: 79) He listened, and his heart ached because he knew if he failed her she would hold it against him for ever (BNC, BP1: 1907). При этом в фокусе внимания интерпретатора дискурса находится сама переживаемая субъектом аффективная реакция, ее болезненность и отрицательный модус, что позволяет говорить о реализации цели конструктора текста посредством подбора соответствующей лексемы для описания процесса с учетом семантического наполнения актуализируемых этой лексемой компонентов. Взаимосвязь ощущения и эмоционально-аффективного фона является неслучайной, поскольку подразумевает не простое беспристрастное отражение окружающего мира в сознании индивида, а еще и субъективную реакцию человека-сенсора. Это обстоятельство неслучайно влияет на системное значение вербализаторов ощущения и отражает их способность (пусть даже и не на периферии словарных статей) описывать эмоциональный всплеск, вызванный объектом-стимулом ситуации. Интересным в таком случае видится факт адгезии компонентов в пределах компонента ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ОЩУЩЕНИЕ+ЭМОЦИЯ), который наделяется соответствующими концептуальными признаками (отражение и экспрессия), характеризующими каждый из компонентов заявленного сплита по отдельности. Здесь необходимо отметить, что первое значение лексемы, выполняющей предикативную функцию, является приоритетным, и на этом основании наращивающим дополнительные смыслы при способности обеспечивать адекватное понимание за счет инвариантного содержания основного системного значения. Тем не менее, такая инвариантная составляющая не противоречит изменению концептуального содержания компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, который в случае с вербализацией эмоций меняет свою локативность и переносится из области материального мира во 238 внутренний мир субъекта ситуации. Таким образом, попытка описать конструктором дискурса интенсивность эмоции посредством опорной лексемы, осуществляемая при помощи лексем, номинирующим физические ощущения, позволяет акцентировать компонент ПАРАМЕТРЫ при соблюдении условий концептуального и семантического наполнения компонента ОБЪЕКТ- ТРИГГЕР. Предикативная функция, выполняемая опорной лексемой (в данном случае глаголом ощущения), отвечает за условия поиска лексем согласно фактору хронотопичности гештальта, то есть лексем из актуального на сегодняшний момент для соответствующего дискурса списка вербализаторов, способных и на системном, и на функциональном уровнях достигать поставленных целей. Несмотря на своеобразие поиска и выбора релевантных для создания дискурса единиц, понимание интерпретатором дискурса получаемой информации связано с прочтением разворачиваемой инваринтной структуры пропозиции при соблюдении концептуальных признаков каждого из входящих в ее состав элементов. Другой процесс – процесс восприятия, на концептуальном уровне соотносящийся с перцептивной гештальт-сферой, процесс восприятия также пересекается с аффективными процессами, что, естественно, находит отражение в системном значении соответствующих лексем на периферии их семантической структуры. Как правило, к опорным лексемам эмоционального восприятия относятся глаголы, называющие восприятие в целом, без особенного акцента на модус такового (слуховое, зрительное и т.д.). Причем, если глагольные лексемы восприятия, функционируя в качестве опорных в дискурсе, выполняют предикативную функцию, на концептуальном уровне коррелируют с компонентом ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ), который характеризуется концептуальным признаком целостность, то при описании эмоциональных реакций на концептуальном уровне компонент ПРОЦЕСС вмещает в себя целый сплит концептуальных элементов ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ+ЭМОЦИЯ и характеризуется концептуальными 239 признаками целостность и экспрессия, соответственно. Интересным в данном случае представляется и следующий является факт: если процесс ощущения и/или так называемого эмоционального ощущения опирался на бессознательную эмоциональную реакцию, то в случае с эмоциональным восприятием аффективная реакция (непроизвольная по своей природе) вызывается отношением субъекта к полученному целостному образу, оценкой сенсором полученных сведений в корреляции с собственной системой ценностей и жизненным опытом. Одним из глаголов, способных проявлять качества эмоционального восприятия, является глагол seem. Обратимся непосредственно к анализу его системного значения и функционирования в дискурсе. Глагол seem, также используемый в основном системном значении для обозначения ситуации ощущения («1. (copula) to appear to the mind or eye; look» (TFD)), часто выступает и во втором значении в качестве вербализатора аффективных состояний («2. to appear to one's own senses, judgment, etc.» (TFD)). В таком случае акцент смещается на аффективную реакцию субъкта ситуации на полученный образ, интерпретацию такового в корреляции с собственной оценкой и жизненным опытом, например: 80) It seemed to please him so I let him get on with it (BNC, FU1: 165). В данном примере субъект ситуации совершает поступок и оценивает реакцию адресата, его поведение в соответствии с собственными ожиданиями. На получаемый образ из внешнего мира поступает внутренняя реакция субъекта. Соответственно, концептуальный признак локативности компонента ОБЪЕКТ уже не является однозначным. Он вмещает в себя данные внешнего и внутреннего мира. Интересным для описания аффективно-волевой сферы является глагол touch, который первоначально описывает процесс тактильной перцепции. Заметим, что в данном случае речь идет не только о когнитивном воздействии субъекта ситуации на объект (и, зачастую, наоборот), а, скорее, о психической 240 совместно с физической стороне вопроса. Итак, системное значение глагола touch на периферии семантической структуры высвечивает его эмоциональную составляющую: «10. To affect the emotions of; move to tender response» (TFD). На функциональном уровне при вербализации ситуации эмоций глагол touch употребляется в предложениях, подобных следующему: 81) Her heart was touched by what the duchess had offered her and by what had been asked of herself in return (BNC, CCD: 156). В представленном предложении значение глагола touch близится к аттрактору эмоционально-волевой сферы, которое на концептуальном уровне поддерживается за счет переструктурации аллотропа при адгезии соответствующих компонентов, что может быть выражено в следующей формуле: СЕРСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ОЩУЩЕНИЕ+ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. На уровне синтаксической структуры видо-параметрические характеристики объекта или самой переживаемой эмоции эксплицируются за счет страдетельного залога и замещения существительного, называющего самого сенсора, его часть (сердцем), благодаря чему эксплицируется концептуальный признак локативность. Очень схожим в этом отношении по описанию ситуации восприятия и реакции на них является глагол comprehend. Согласно анализу словарных дефиниций такой глагол соотносится со сферой восприятия по основному системному значению («1. to perceive or understand» (TFD)), но также употребляется конструктором дискурса для передачи смутного, аффективного состояния, эмоциональной реакции на полученные из внешнего мира данные, например: 82) He hardly comprehended what had been happening; the reality and unreality merged together like a nightmare or a melodrama (BNC, A0D: 1486). Значение «эмоции» глагола comprehend, как очевидно из интерпретации вышепредставленного предложения, выводится из модификации компонента ПРОЦЕСС, вмещающего в себя сплит ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ+ЭМОЦИЯ. 241 Компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР динамический характер и по признаку подразумевает локативностти интерпретацию носит информации, полученной из внешнего мира. Системного значения, ассоциирующего рассматриваемый глагол со значением эмоций, не выявлено. Оно ситуативно, окказионально и носит функциональный характер. Соответственно, в данном случае мы можем говорить о незавершенном витке эволюционной самоорганизации. Такая характеристика может быть актуальной для множества лексических единиц, что на лексическом, системном и концептуальном уровнях отражает постоянное становление экстралингвистического знания о психических процессах, в частности, эмоциональных состояний. Однако при этом данная характеристика не релевантна для процессов пересечения волевого поля с иными полями гештальт-системы. В таком случае речь идет о данных, полученных посредством системного анализа трудов и научных исканий в области психологии и когнитологии, которые показывают, что большинство психических процессов бывают произвольного и непроизвольного генеза. Как отмечалось ранее, вся динамическая характеристика психики (за исключением, конечно, волевой и речевой составляющей) непроизвольна по своему характеру. Участие сознания, учет мотивации, интересов и воли субъекта психических процессов – всегда показатель высокого уровня развития психической деятельности, которая присуща только человеку. Соответственно, зеркальное отражение экстралингвистических сведений о произвольном и непроизвольном генезе большинства психических процессов, акцентирование на них, позволяют говорить о наложении различных полей гештальта и поля «Воля» в пределах соответствующих гештльт-сфер. В таком случае происходят соответсвующие межфреймовые процессы, блендирование или сплит соответствующих пропозиций, что как следствие оправдывает адгезию элементов в пределах компонента ПРОЦЕСС, изменение его концептуальных признаков, а также концептуальных признаков компонента ОБЪЕКТ и отмену его адгезии с компонентом ТРИГГЕР в пользу наложения компонентов 242 СЕНСОР и ТРИГГЕР на том основании, что проявление воли субъектом ситуации волевого процесса связано с мотивацией самого субъекта. Соответственно, наложение пропозиционного каркаса волевого аллотропа на перцептивный аллотроп организацию: дает следующую СЕНСОР-ТРИГГЕР, инвариантную ПРОЦЕСС каркасную (ПРЕДИКАТ- ОЩУЩЕНИЕ/ВОСПРИЯТИЕ+ВОЛЯ), ОБЪЕКТ и факультативные видопараметрические компоненты, обусловленные семантическими особенностями предиката или контекстуальным окружением. Исследовав фактические данные и труды в области психологии, мы пришли к выводу о том, что процесс ощущения изначально носит непроизвольный характер. Вкусовые, тактильные, обонятельные, зрительные и осязательные раздражители поступают в сознание субъекта в виде разрозненных сведений бессознательно, впоследствии анализируются и подвергаются первичной категоризации сознанием. Соответственно процесс отражения сознанием внешнего мира изначально может быть назван непроизвольным. Кроме того, такие данные в языке безусловно подтверждаются, поскольку в рассмотренных нами источниках фактических данных мы не находим ни одного случая произвольного ощущения. В то же самое время в психологии и в языке существует масса примеров, описывающих произвольных характер различного рода восприятия, что обусловлено наличием оппозиций hear::listen, see::look, feel::feel, smell::smell etc. При этом зачастую в их словарных дефининциях уже прописан характер восприятия – произвольный или непроизвольный. Так, например, глагол see – это лексема, изначально описывающая непроизвольное зрительное восприятие, о чем говорит ее словарная трактовка: «1. to perceive with the eye» (TFD). Однако в другом словаре мы находим некоторое несоответствие лексемы see глаголам непроизвольного зрительного восприятия на основании ее способности участвовать в номинации произвольного по характеру процесса: «to notice or examine someone or something, using your eyes» (LDCE). Указание 243 на произвольность процесса осуществляется посредством семантики глагола examine, который трактуется как: «1. to look at something carefully and thoroughly because you want to find out more about it» (LDCE). Такое рассогласование данных лексикографических источников говорит в пользу существенных изменений в лексико-семантической синергетической структуре вербализаторов гештальта, способности к самоорганизации в процессе эволюции, который, как очевидно из анализа лексикографического материала, происходит в определенном масштабе и фиксируется письменными памятниками. Обратимся непосредственно к анализу фактических данных, в которых находим подтверждение способности глаголов восприятия описывать произвольный и непроизвольный характер феномена в зависимости от процессуальных факторов. Итак, как было заявлено ранее, глагол see в своем основном значении описывает процесс непроизвольного зрительного восприятия, например: 83) Suddenly I saw a whole host of photographers hiding behind the bushes (BNC, BMM: 2017). Произвольность процесса зрительного восприятия на языковом уровне передается с учетом дистрибуции данной глагольной лексемы, в частности, модальных глаголов и сложного состава предикативных конструкций: 84) She could see it in his face, his guard, for the first time since she'd known him, completely lowered (BNC, JY5: 3160). 85) Rory stared at her, to see if she was joking (BNC, HTS: 2029). Интересными в плане выражения произвольности и непроизвольности процесса на системном уровне являются амбивалентные лексемы чувственного восприятия, такие как, например, touch («1. To cause or permit a part of the body, especially the hand or fingers, to come in contact with so as to feel» (TFD)). В случае с вербализацией разворачивает ПРОЦЕСС следующую непроизвольного восприятия пропозициональную (ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ), 244 глагол структуру: ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, touch СЕНСОР, a также факультативный компонент ВИД (осязание), что на языковом уровне может быть проиллюстрировано следующим примером: 86) His foot touched the book he had been reading before he had fallen asleep (BNC, B1X: 1547). Произвольность процесса обеспечивается посредством модификации компонента ПРОЦЕСС и изменения его концептуальных характеристик, а также адгезии компонентов СЕНСОР и ТРИГГЕР, что на концептуальном уровне отражает мотивацию субъекта по выполнению перцептивного действия. Концептуальные признаки компонента ОБЪЕКТ нивелируются в данной конструкции, поскольку он уже не является триггером. Более того, стимулирующая функция накладывается на компонент СЕНСОР. На языковом уровне такая пропозициональная основа имеет следующее вербальное выражение: 87) He touched lovingly on all the details, the white deal working table, studies on the wall, in one corner a closet with their bottles and pots, and his books (BNC, CBN: 1745). Стремление лексемы перцепции к аттрактору волевого поля, как очевидно из представленной пропозициональной формулы, является результатом влияния фактора хронотопичности, который предопределен интенцией коммуниканта к описанию произвольности процесса. Данное значение является системным, что, в свою очередь, говорит о процессуальной обусловленности системного значения. Кроме эмоционально-волевой сферы гештальта, глаголы-вербализаторы аллотропов ощущения и восприятия пересекаются с интеллектуальной сферой гештальта, вмещающей поля представления, мышления, воображения, памяти и речи. При этом модификация инвариантной аллотропной пропозициональной структуры в основном происходит в области компонента ПРОЦЕСС, который представляет собой сплит компонентов ПРЕДИКАТ и ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 245 МЫШЛЕНИЕ, ВООБРАЖНЕНИЕ, ПАМЯТЬ или РЕЧЬ, а также соответствующих концептуальных признаков такого сплита. Глагол sense, являясь прототипическим глаголом ощущения, имеет довольно обширную семантическую биографию, позволяющую ему, как было отмечено ранее, выступать и в качестве вербализатора ощущения, и в качестве вербализатора эмоций. Примечательным в отношении семантики данного глагола является также его способность описывать ситуацию мышления, то есть актуализировать соответствующую пропозициональную структуру в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ОЩУЩЕНИЕ+МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, поскольку данное значение («19. to grasp the meaning of; understand» (TFD)) является системным, однако относится к так называемой семантической периферии, что в данном случае позволяет говорить о завершившемся эволюционном витке синергетической системы. На функциональном уровне глагол sense, вербализующий рассматриваемое значение, проявляет себя в следующем примере: 88) Sensing that any attempt to resolve this situation by rational argument was doomed to failure, my mother sent everyone back to their beds; but for timebeing she allowed me to stay in her room, where, cocooned between my parents’ bodies, I finally drifted into a half-sleep (A new book, 2005: 44). Идентичная ситуация складывается и в отношении глагола feel, который, также как и предыдущий, способен на системном уровне в определенных условиях номинировать ситуацию представления («5. to be or become conscious of» (TFD)), что на концептуальном уровне отражается в модификации пропозициональной формулы аллотропа. Последняя может быть представлена следующим образом: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ВОСПРИЯТИЕ+ПРЕДСТАВЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Если перенести данное обстоятельство в плоскость лексико-семантической синергетической системы, можно говорить об уже завершившемся витке эволюционной 246 самоорганизации в данном случае. В контексте указанная лексема в значении представления ведет себя следующим образом: 89) Yet Parvez felt his son’s eccentricity as an injustice (A new book, 2005: 96). Как следует из интерпретации семантики данного предложения, особое значение здесь приобретает оттенок оценочного суждения героя, описывающего умозаключение по факту сравнения полученных данных с личным опытом сенсора. Отсюда интерпретатору дискурса очевидна интенция конструктора высветить в описании ситуации представления факт сравнения и ощущения по поводу данной ментальной операции. Следуя цели эксплицировать именно данное обстоятельство, операционная система поиска останавливается именно на лексеме feel, что в дальнейшем запускает флуктуации и последующие концептуальные и, как следствие, семантические изменения. Ретроспекция, отмеченная в системном значении глагола hear («2. To learn by hearing; be told by others» (TFD)), позволяет ему функционировать в качестве вербализатора глагола памяти, преимущественно в предложениях, где описывается личный опыт субъекта ситуации, поступивший посредством слухового рецептора, например: 90) I heard that Lady Gaga has a bunch of nominations, so my guess would be that she's gonna win «at least» one moonman. And yay! mtv VMAs tonight! (Gaia Online, 2014). Изменение параметра локативности компонента ОБЪЕКТ (смещение из плана внешнего в мир внутренний) позволяет глаголу see реализовывать одно из системных значений семантической периферии – значение мышления («4. To understand; comprehend» (TFD)). Таким образом, цель конструктора дискурса – использовать глагол восприятия see для описания интеллектуального акта с указанием функционального синкретизма соответствующих сфер – оправдывает не только операции сознания по поиску этого глагола, но и 247 переструктуризации концептуальных системы параметров гештальта, остальных последующее актантов изменение пропозициональной структуры. На функциональном уровне глагол see употребляется в значении «понимать, представлять, предвидеть» в предложениях, подобных следующим: 91) In the end Bothwell himself saw that there was no hope (BNC, EF2: 928). 92) She saw that to stay here under his wing would be the best thing that could happen to her (BNC, FPX: 1166). В данном случае речь идет о трансформации основной пропозициональной формулы аллотропа, которая поддерживает изменение семантики в пределах системного значения в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ+МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД, ПАРАМЕТРЫ. Глаголы, notice, note, observe и др., которые являются ядерными вербализаторами перцептивного поля, регулярно выступают в качестве глаголов, обрамляющих прямую речь героя, то есть в функции глаголов говорения. Например, глаголы notice и note являются очень близкими по своему первому системному значению: notice («to become aware of or pay attention to; take notice of; observe» (TFD)); note («1. to notice; perceive» (TFD)). Однако примечательным является тот факт, что и глагол note, и глагол notice, исходя из анализа их системного значения, на периферии обладают способностью номинировать ситуацию говорения (note «4. to make particular mention of; remark upon» (TFD)); (notice «3. To comment on; mention» (TFD)). Будучи глаголами восприятия по природе, данные глаголы, помимо концептуального признака целостность, способны актуализировать признак вербализация, стремясь к аттрактору другого ядерного ряда в номинации ситуации говорения, комментария, основанного на наблюдении субъекта за происходящим. На уровне инвариантного следующим образом: каркаса модификация актуализируются 248 семантики компоненты происходит СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ+РЕЧЬ), ОБЪЕКТ и факультативный компонент ВИД, например: 93) ‘The French fleete returned to Brest and from our coast,’ he noted on 13 August, ‘the militia of the trained bands, horse and foot, which were up [i.e. mobilised] throughout England now dismissed’ (BNC, BNB: 124). В отношении глагола observe также можно говорить о его способности к вербализации ситуации говорения, причем это свойство также прописано в основном его системном значении («4. To say casually; remark» (TFD)). Кроме того, свойство глагола observe выступать вербализатором речевого действия является более частотным, в сравнении с функциональными характеристиками двух предыдущих лексем. Приведем примеры: 94) ‘It was only later,’ observed Ken Howard, ‘that I realised the symbolism of the crucifixion pose (BNC, CFL: 1137). 95) ‘You've never mentioned your boyfriend before,’ Deana observed (BNC, H9H: 303). Если условно представить то обстоятельство, что зрительное восприятие и речь (как психические феномены) находятся на некотором удалении друг от друга, можно говорить о сложности семантики рассматриваемых лексем. Дело обстоит гораздо проще с вербализацией одной лексемой процессов восприятия и мышления (такие процессы имеют прямую взаимосвязь). В случае же с вербализацией зрительного восприятия и речи наблюдается умышленное развитие редукции описания стадий, которые описывают мыслительные процессы, следующие за восприятием и ведущие к умозаключению, выражаемому глаголом зрительной перцепции. Здесь также необходимо отметить тот факт, что системное значение глаголов notice, note, observe тяготеет к значению аттрактора ядерного ряда психических процессов, в то время как значение говорения остается в периферической области семантической структуры. В принципе, это и объясняет их положение в ядерном ряду вербализаторов поля восприятия. Специфика такого явления 249 позволяет Ю.Г. Панкрацу сделать вывод о спаянности предикатов (Панкрац, 1992) и указать тем самым на интеграцию статей семантической структуры. Однако сложность, обусловленная модификациями структуры гештальта в рамках воздействия процессуальных факторов, является прерогативой не только перцептивной гештальт-сферы. Забегая вперед, можно утверждать, что любая дискретная единица гештальта способна к семантическим метаморфозам. Обратимся далее к рассмотрению принципов нарушения баланса в интеллектуальной гештальт-сфере. 3.2.2 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Интеллект» и «Эмоция-Воля», «Интеллект» и «Перцепция» Ранее отмечалось, что интеллектуальная гештальт-сфера, несмотря на то, что она обособлена от остальных благодаря определенным концептуальным признакам, может проявлять функциональный синкретизм с остальными сферами гештальта – перцептивной и эмоционально-волевой. На языковом уровне это также выливается в образование сложных семантических структур и в контексте – в создание условий (изменение концептуальных параметров актантов пропозиции) вербализации процесса. Таким образом, пересечение интеллектуальной и эмоционально-волевой гештальт-сфер допускает разнообразие семантических модификаций значения, что является результатом синергетических переструктураций. Обратимся к описанию пересечения поля эмоций и интеллектуального поля. Анализ фактического материала позволяет выявить достаточно небольшой по объему, но репрезентативный по содержанию пласт лексических единиц непроизвольной интеллектуальной деятельности, в семантике которых уже содержится указание на эмоциональную составляющую. Одной из таких лексем является глагол haunt («3. To come to the mind of continually; obsess; 4. To be continually present in; pervade»; «4. to disturb or distress; cause to have 250 anxiety» (TFD)), который на системном уровне способен описывать навязчивые состояния, сопровождающиеся стрессом, волнением, подавленностью. В контексте данная лексема функционирует следующим образом: 96) ‘We will all be haunted by this tragedy every Christmas time from now on (BNC, CBF: 2839). В представленном предложении описывается ситуация эмоционального мышления или неспособности героя отказаться о размышления о ситуации, связанной с неприятными эмоциями, ассоциируемом с определенной датой. Иными словами, на системном и функциональном уровнях данная лексема способна разворачивать пропозициональную структуру, включающую компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-МЫШЛЕНИЕ+ЭМОЦИИ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. При этом компонент ПРОЦЕСС характеризуется таким блендом концептуальных признаков, как рациональность и экспрессия. Компоненты ВИД и ПАРАМЕТРЫ отражают непроизвольность и навязчивость психического состояния, соответственно. Другая глагольная лексема obsess передает ситуацию одержимости, неспособности субъекта справиться со своим состоянием, что отражено уже в семантической структуре данной лексемы («To preoccupy the mind of excessively; v.intr. To have the mind excessively preoccupied with a single emotion or topic» (TFD)). Указанная лексема наиболее репрезентативна в следующем контексте: 97) She was always so obsessed with her appearance, I couldn't let her go to her grave in that state… (BNC, CEY: 62). И если в предыдущем предложении идея навязчивого состояния только имплицируется в объекте такого состояния (переживания субъекта по поводу внешности связаны с определенными аффективными состояниями), то в следующем предложении уже в большей степени очевиден факт переживаний человека по поводу упущенных возможностей, например: 251 98) Her mother had always been obsessed with Lottie's wasted opportunities, and that had let May out (BNC, H9G: 2130). Описание представления на языковом уровне, несмотря на редкие случаи его встречаемости в тексте, также может иметь некоторую эмоциональную подоплеку. В таком случае особая роль принадлежит компоненту ОБЪЕКТ, экспликация которого на языковом уровне происходит за счет описательных конструкций или определений, сопровождающих соответствующие существительные. Таким образом, несмотря на отсутствие в семантической структуре предиката происходит указания выдвижение на гипотетическую видо-параметрических эмоциональность, характеристик самого процесса, например: 99) She was thirty-eight years old, but I was still acutely conscious of being treated as her little brother, and even as she told me of her peculiar visitation, I could detect in her manner an undertone of childlike competitiveness (A new book, 2005: 31). В данном предложении, как следует из интерпретации его семантики, происходит не только формирование образа, первичная категоризация, но и оформляется его оценочная характеристика, полученная сознанием субъекта в результате соотнесения субъектом полученных сведений и имеющегося опыта. Группа ядерного ряда глаголов памяти своим системным значением редко стремится к аттракторам эмоционального поля, поскольку ситуация описания эмоционального состояния есть выдвижение факультативного компонента ВИД, который эксплицирует эмоциональную разновидность памяти. Например, глагол remember, будучи прототипическим глаголом мнемических процессов, как правило, описывает ситуацию памяти в наиболее общем и стилистически нейтральном виде. Однако его семантика не лимитирует видо-параметрические свойства компонента ОБЪЕКТ, что в свою очередь, открывает обширные горизонты для вербализации различных видов памяти. В следующем предложении 252 как раз описываются видовые характеристики процесса преимущественно, эмоциональная память, связанная со стеническими эмоциями, вызываемыми образом: 100) Then, remembering the sick soldier craving water, misery overflowed and I wept (Bainbridge, 143). Одним из глаголов, способных на системном уровне описывать ситуацию эмоций, сопровождающих процесс сохранения или воспроизведения информации, является глагол. Такое значение отражено в его системном значении: reminisce «to talk or think about pleasant events in your past» (LDCE). Например, в следующем предложении, помимо употребления данной лексемы в основном системном значении, описание эмоционального характера памяти и положительных эмоций интенсифицируется благодаря прилегающему контексту, вербализуемому глаголом laugh: 101) A very confident group laughed and reminisced about their summers abroad (BNC, CCM: 2897). Незначительный пласт вербализаторов эмоциональных интеллектуальных актов показывает, что такие процессы (в частности, мышление) как правило, произвольны по своей природе. Однако существуют и бессознательные процессы, такие как формирование представлений, навязчивые состояния, фобии, которые вербализуются посредством аллотропа мышления, когда объект ситуации является ввиду собственных параметрических особенностей и его стимулом. Волевой характер мышления на языковом уровне выражается посредством структурной модификации пропозициональной основы, которая представлена обязательными компонентами СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-МЫШЛЕНИЕ+ВОЛЯ), ОБЪЕКТ, также ВИД и/или параметры. Системное значение лексемы ponder, например, подразумевает произвольную мыслительную деятельность («1. to consider something deeply and thoroughly; meditate» (TFD)), что в контексте проявляется следующим образом, например: 102) Jean pondered on it for a day while we held our breath (BNC, C8E: 1473). 253 Однако зачастую произвольность или непроизвольность процесса мыслительной деятельности остаются за кадром фокуса конструктора и, соответственно, интерпретатора дискурса. Акцент в таком случае приходится на объект мыслительной деятельности, обстоятельства, сопутствующие ей. Например, в предложении: 103) The woman pondered, pushing the baby's pram to and fro absently (BNC, CJX: 1571) не эксплицируется произвольность или непроизвольность процесса. О его характере мы можем судить только по словарному толкованию. При этом особой необходимости в трактовке произвольности/непроизвольности процесса для интерпретатора не возникает, поскольку последующая, осложняющая предложение конструкция, описывает важность объекта размышлений и неспособность сенсора распределять свое внимание. Интерпретация данной лексемы, употребленной в контексте простой, но осложненной причастием конструкции, позволяет судить о послепроизвольном характере процесса мышления, когда некогда произвольный по характеру мыслительный акт (о чем можно судить исходя из интерпретации контекста) ввиду значимости объекта мышления (и в таком случае особая роль принадлежит параметрическим особенностям объекта) переходит в послепроизвольное (термин Н.Ф. Добрынина (Добрынин, 1959)). Произвольность психических процессов, как отмечалось ранее, явление довольно распространенное. Этот феномен особенно касается процессов воображения и памяти. Применительно к процессу воображения произвольность можно понимать как целеполагание при осуществлении планирования, творческого замысла, когда мотивация известна субъекту ситуации, и она предопределяет стратегию его мыслительного акта. В случае с памятью мы говорим о целенаправленном процессе запоминания информации, опять же управляемом внутренней мотивацией. Произвольность мышления и памяти отражена на системном и функциональном уровнях многих лексем. Однако, как показывает анализ фактических данных, отсутствие значения в словарном источнике не является абсолютным показателем невозможности 254 участия лексемы в описания любого процесса. Преимущество синергетической системы гештальта заключается именно в том, что она способна подстраиваться и самонастраиваться под воздействием процессуальных факторов. Опишем процесс отражения произвольности процессов памяти и воображения, проиллюстрировав выдвигаемые предположения примерами фактических данных. Итак, творческий процесс планирования деятельности и создание нового образа на основе имеющихся знаний – это, как правило, процесс произвольный, обусловленный целеполаганием. Он вербализуется посредством глагольных лексем plan, create, design etc. Например, глагол plan уже на уровне системного значения эксплицирует произвольный характер воображения («1. to formulate a scheme or program for the accomplishment, enactment, or attainment of» (TFD)) и даже может выступать в качестве вербализатора волеизъявления («2. To have as a specific aim or purpose; intend» (TFD)). Это означает, что на уровне пропозициональной структуры будут актуальны обязательные компоненты СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВООБРАЖЕНИЕ+ВОЛЯ), ОБЪЕКТ, ВИД и/или ПАРАМЕТРЫ. Актуализация двух последних факультативных компонентов связана с семантикой самого глагола plan, который подразумевает не только волеизъявление, но и предварительное обдумывание стратегии поведения по достижению поставленной цели. Приведем примеры фактического материала, подтверждающие заявленное положение: 104) Or had they all planned it beforehand, for a joke — but it was silly to think that (BNC, FRC: 1875). 105) You don't think I planned it, Angel, do you? (BNC, GW8: 1808) Несколько иные параметрические особенности процесса произвольного воображения описываются посредством глагола project. Его системное значение («to calculate what something will be in the future, using the information you have now» (LDCE)) предполагает не только создание нового образа из 255 предыдущего опыта, но и материальный расчет прогнозируемого результата. Такое значение актуализируется в контексте в соответствующих предложениях, например: 106) She projected a sort of calm, a lack of strife, and so he went over to join her (BNC, APR: 203). Однако интересным видится и обстоятельство использования глагола project в ситуации непроизвольного мыслительного процесса. Например, в предложении: 107) She projected a fused image of her father and mother on to Robert (BNC: BNF, 1335) характер процесса, то есть его целенаправленность, нивелируется за счет динамических свойств объекта. В данном случае речь идет, скорее всего, о бессознательном переносе свойств одного объекта на другой. Соответственно, несколько меняется и семантика глагола. В ней уже совмещается план фантазии и план переноса представления с одной сущности на другую, происходит операция сравнения и первичной категоризации. Одной из самых эмоциональных областей гештальта, то есть областью, способной пересекаться с аффективной сферой, является поле «Речь», которое на уровне ядерных репрезентантов вербализуется лексемами, не только содержащими в своей семантической структуре указание на эмоциональность процесса, но и проявляющими такую способность на функциональном уровне. Одним из глаголов, способных на системном и функциональном уровнях описывать ситуацию эмоционального оформления речи героев, является глагол scream, который в одном из словарей трактуется как «to make a loud high noise with your voice because you are hurt, frightened, excited etc» (LDCE) и на функциональном уровне применяется для описания ситуации эмоционального речевого акта, например: 108) Nina screamed, horribly loud in the confined space (BNC, ALJ: 1620). В данном примере астенический характер аффективного состояния, сопровождающего речевой акт, интенсифицируется за счет словосочетания horribly loud. Однако анализ фактических данных показывает, что семантика 256 глагола scream относительно нестабильна. В некоторых случаях данный глагол ассоциируется со стеническими эмоциями. Это обстоятельство также очевидно благодаря дистрибуции рассматриваемой лексемы, что наглядно можно проиллюстрировать на следующем примере: 109) I have no idea why he picked me, but when I got the call, I screamed with delight (BNC, CH2: 12049). Интерпретация представленного выше предложения позволяет говорить об описании конструктором дискурса положительных эмоций, точнее, их интенсивности, а также утрировании этого эффекта за счет сочетания нетипичных для ее дистрибутивных параметров лексем. Некоторый оттенок эмоциональности на системном и/или функциональном уровнях может приобретать лексема command, которая описывается словарными дефинициями как «to tell someone officially to do something, especially if you are a military leader, a king etc» (LDCE). Такое толкование не содержит прямого указания на эмоции, тем не менее, имплицирует их за счет сравнительной конструкции. На функциональном уровне эмоциональный характер речевого акта также не эксплицирован, однако он очевиден исходя из анализа прилегающего контекста, например: 110) ‘Hold your tongue!’ commanded Lady Merchiston (BNC, HGV: 2126). Из данного предложения не следует указания на тональность высказывания, его специфические особенности, но содержание команды и грубость явно указывают на астенический характер речевого общения в данном случае. В следующем примере глагол command описывает внутреннюю речь героя, способность к самообладанию и управлению эмоциями: 111) I felt a surge of shock rise in my throat and mentally commanded it to recede (BNC, CDX: 1107). Здесь также пропозициональной имеет структуры, место адгезия 257 развертывание компонентов и, инвариантной соответсвенно, концептуальных признаков в пределах компонента ПРОЦЕСС. Таким образом, инвариантная структура аллотропа в данном случае включает следующие компоненты: СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-РЕЧЬ+ЭМОЦИИ), ОБЪЕКТ, ВИД, ПАРАМЕТРЫ. Компонент ПРОЦЕСС в таком случае наделяется целым блендом концептуальных признаков вербализация и экспрессия. Глагол declare, вербализующий аллотроп речи в качестве ядерной единицы, но специфицирующий при этом видо-параметрические особенности процесса, в лексикографическом источнике трактуется следующим образом: «declare to state officially and publicly that a particular situation exists or that something is true» (TFD). На функциональном уровне, ввиду актуализации основного системного значения, данная лексема вводит прямую речь героя и зачастую функционирует самостоятельно, без какого-либо дополнительного указания на эмоциональный фон, сопровождающий процесс говорения. Тем не менее, в текстах встречаются примеры, где дистрибуция лексемы связана с дополнительной спецификацией соответствующих аффективных состояний, например: 112) “I knew that they loved me,” he had declared with emotion in Rome (BNC, G3R: 1098). В представленном предложении посредством дистрибуции лексемы declare дополнительно подчеркивается фактор эмоциональности, что на функциональном уровне позволяет разворачивать бленд аллотропов, который выливается в адгезию элементов аллотропа речи и аллотропа эмоций в пределах компонента ПРОЦЕСС. Таким образом, интерпретация рассматриваемого предложения позволяет заключить, что на функциональном уровне значение лексемы declare модифицируется и структурно представляет собой комбинацию компонентов СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТРЕЧЬ+ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ, ВИД и/или ПАРАМЕТРЫ. 258 Идентичная картина наблюдается и в следующем примере, где с глаголом declare употребляется наречие proudly, выступающее в качестве актуализатора компонента ВИД и интенсификатора процесса речевого акта, точнее, его эмоциональной стороны: 113) He declared proudly. 'I smell something yummy on your breath and there are incriminating …er…dibber dobber crumbs on your dress. Something tells me there is something good to eat in the kitchen. Anzac Biscuits?' (Hollingsworth, 2014). Анализ семантики представленных лексем показывает, каким образом происходит модификация значения на концептуальном и лексико- семантическом уровнях синергетической системы гештальта, за счет чего осуществляется высвечивание того или иного компонента системного значения в зависимости от интенций конструктора дискурса, который в процессе речетворчества с учетом фактора хронотопичности дискурса осуществляет поиск соответствующей лексемы из ядерного ряда и, не найдя релевантную, обращается к другим гештальт-сферам. Выбранная в таких условиях единица должна стремиться к аттрактору описываемого гештальт-поля с целью обеспечения понимания между коммуникантами. И если полученное в результате колебаний синергетической системы значение уже отражено в лексикографическом источнике, можно говорить, что соответствующее изменение есть свершившийся факт эволюционного витка системы. Данное обстоятельство как раз свидетельствует в пользу процессуальной обусловленности значения в пределах наложения гештальт-сфер. 3.2.3 Модификация семантики, обусловленная наложением гештальт-сфер «Эмоция-Воля» и «Интеллект», «Эмоция-Воля» и «Перцепция» Ранее неоднократно говорилось о сопровождении эмоциями и волевыми процессами всей жизнедеятельности человека, однако на лексическом уровне данная взаимосвязь представляется весьма сложным процессом модификации 259 семантики лексем, что на концептуальном уровне опять же выражено посредством трансформации компонентного состава аллотропа. Однако, если в представленных в предыдущих параграфах случаях изменение значения отражено на системном уровне, пусть даже и на периферии семантической структуры, что говорит об эволюционном витке синергетической системы, то в случае с эмоционально-волевой сферой, предполагается больший учет процессуальных факторов. Изучение дискурса, как известно, требует от исследователя анализ не только графического обрамления мыслей говорящего (в противном случае, он просто интерпретирует текст), но и учета всех доступных экстралингвистических факторов, обеспечивающих жизненность такого единства. Таким образом, наиболее релевантными для настоящего исследования источниками информации являются текущие информационные единицы, которые доступны благодаря трансляции в глобальной паутине. Нужно сказать, что примеров употребления интересующих нас лексем как в устном, так и в письменном дискурсе большое количество. Одним из наиболее репрезентативных примеров является нижеследующий: 114) I went to a class that was supposed to develop the ‘sixth sense’ about 20 years ago. There were students who saw ‘spirits’ standing near other students, there were others who saw ‘auras’ around everyone, there were those who went firewalking, they had no burns and could not understand that! Personally I’ve never seen a spirit, an aura or experienced ‘voices’ other than thought, quite a variety of it. But there is obviously some presence, invisible but it’s there (The Sensed-Presence Effect, 2010) Исследование коллокаций существительного voice по данным словаря сочетаемости не выявило ни одного случая употребления с ним глагола experience. Более того, рассматриваемое существительное частотно употребляется в сочетаниях с лексемами heard, sound, low, tone, ask, man, lower, came, deep, own, keep, quiet, raised, did, now (FOCD, 2014). Это положение вещей говорит о его ситуативном, окказиональном появлении в такой 260 дистрибуции и несоблюдении фактора хронотопичности, за счет чего достигается определенный стилистический эффект. Интересным в аспекте совмещения планов вербализации аффективноволевой и интеллектуальной сфер посредством глаголов, предчувствия гештальта видится актуализация номинирующих эмоцию и функционирующих в качестве лексем ядерного ряда. Одной из таких лексем широкой семантики, позволяющей ей функционировать на уровне ядра в качестве вербализатора нескольких психических процессов, является глагол feel. В случае с описанием эмоциональных состояний, довольно существенно влияющих на соматические ощущения, лексикографическим толкованием данного глагола выступает следующее: «3. To be conscious of a specified kind or quality of physical, mental, or emotional state» (TFD). Будучи вербализатором поля ощущения, глагол feel, способный также на системном уровне описывать ситуацию эмоций, может разворачивать на функциональном и системном уровнях инвариантную пропозицию аллотропа эмоционального ощущения или бленда соответствующих аллотропов. Как и в случае с предыдущими лексемами, адгезия компонентов в таком случае наблюдается на характеризоваться уровне компонента ПРОЦЕСС, соответствующими что позволяет концептуальными ему признаками экспрессия и ориентация в пространстве. Соответственно, на уровне пропозициональной структуры актуальными являются следующие компоненты: СЕНСОР, ПРОЦЕСС ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. эмоциональных (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+ОЩУЩЕНИЕ), ощущений На функциональном происходит в уровне предложениях, ОБЪЕКТописание подобных следующему: 115) The House will perhaps understand if I say that I felt a sudden sensation of dread (A new book, 2005: 80-81). При этой способности глагола feel актуализировать аллотропы различных психических процессов, в том числе и эмоций, удивительной особенностью 261 рассматриваемой лексемы является вербализация ею интуиции как процесса, связанного с воображением, основанном на предыдущем опыте и фантазии, что также отражено в семантической структуре данной лексемы: «a. to be persuaded of (something) on the basis of intuition, emotion, or other indefinite grounds» (TFD). На функциональном уровне актуализация указанного системного значения происходит следующим образом: 116) I felt him before I saw him, loping to my side (A new book, 2005: 128). Будучи прототипическим актуализатором аллотропа ощущения и ядерным актуализатором аллотропа эмоций, описывая процесс интуитивного формирования образа, лексема feel разворачивает инвариантную пропозициональную структуру в составе компонентов СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+ВООБРАЖЕНИЕ), ОБЪЕКТ, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Компонент ПРОЦЕСС наделяется в таком случае концептуальными признаками экспрессия и образность. Соответственно, ситуация интуиции, описываемая рассматриваемой глагольной лексемой, позволяет говорить о непроизвольном, соматически переживаемом процессе эмоций и интуиции. Однако описание процесса воображения либо интуиции свойственно не только глаголу feel. Лексема sense также является ярким вербализатором рассматриваемого процесса. Согласно анализу словарных дефиниций глагол sense также включающей наделен и довольно способность обширной семантической номинировать ситуацию структурой, проявления эмоционального и интеллектуального процесса, что в лексикографическом толковании выгдядит следующим образом: «2. to apprehend or detect without or in advance of the evidence of the senses» (TFD). Представленное словарное значение рассматриваемой лексемы предполагает, что глагол sense способен описывать ситуацию предвидения, антиципации, основанной на восприятии признаков предчувствуемого явления и их интерпретации в корреляции с собственным опытом. Нижеследующий пример является яркой иллюстрацией 262 способности лексемы sense быть ядерным вербализатором эмоционального воображения: 117) He sensed the wave coming and prepared to make the journey of a lifetime. Then the sound of the horse drifted away and he heard the cars again. It was totally mortifying. Everything appeared to be going so well but nothing came of it (Dixon, 2014). В рассматриваемом (СЕНСОР) предвидит, предложении заранее субъект ощущает ситуации (ПРОЦЕСС антиципации (ПРЕДИКАТ- ЭМОЦИЯ+ВООБРАЖЕНИЕ)) приход волны (ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР). Такая ситуация наделяет компонент ПРОЦЕСС сходными с лексемой feel признаками экспрессией и образностью. Отличия между ситуациями, вербализуемыми на функциональном уровне обеими лексемами, заключаются только в видопараметрических особенностях лексем. Связь лексем-вербализаторов эмоционального поля с интеллектуальными процессами очевидна также и на уровне их способности описывать процесс памяти. Например, глагол эмоционального состояния regret, трактуемый на системном уровне как астеническое эмоциональное состояние, характеризующееся расстройством, разочарованием и сожалением («1. To feel sorry, disappointed, or distressed about» (TFD)), выступает в качестве ядерного вербализатора астенических эмоций, способных на системном уровне разворачивать инвариантную структуру соответствующего аллотропа в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ- ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ, например: 118) She was too upset to continue the call and I regretted my decision (BNC, CA9: 1302). При этом анализ фактических данных в совокупности с исследованием лексикографических толкований показывает, что глагол regret способен выступать в качестве семантического наполнения компонента ПРОЦЕСС, хакрактеризуемого не только концептуальным признаком экспрессии, но и 263 ретроспективы. Соответственно, данное обстоятельство указывает на способность такой лексемы частично описывать ситуацию памяти. На уровне лексикографических толкований данное обстоятельство отражено следующим образом: «2. To remember with a feeling of loss or sorrow; mourn» (TFD). Работа с фактическими данными подтверждает, что способность к описанию ретроспективы или эмоциональных мнемических процессов у данного глагола довольно высока и проявляется в предложениях, подобных следующему: 119) ‘I don’t regret it,’ I said, defensively. ‘If that’s what you mean.’ (Bainbridge, 146). В представленном выше предложении хронотопичность ситуации, ее предикативность, или соотношение плана говорения и плана описания предшествующей ситуации смещены. Иными словами, человек или субъект ситуации испытывает определенные чувства в отношении свершившегося факта, вспоминает его и ассоциирует его с астенически эмоциональным фоном. Интерпретация данного примера показывает, что для осуществления коммуникативного контакта или понимания между конструктором дискурса и его интерпретатором в сознании каждого из них всплывает идентичная инвариантная картина актуализации пропозиции в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+ПАМЯТЬ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Трактовка глагола suffer в его основном системном значении посредством глагола feel как ядерной лексемы («1. To feel pain or distress; sustain loss, injury, harm, or punishment» (TFD)) (как и в случае с предыдущими лексемами, номинирующими эмоции) позволяет говорить о том, что аффективное состояние есть реакция на отражение действительности, то есть на любой психический процесс. Например, в следующем предложении астенические эмоции героя обусловлены его реакцией на физическую боль, что, в свою очередь, предопределяет общий негативный фон описываемой ситуации: 264 120) I am not mad, most noble Festus, but in sober sadness I have suffered this day more bodily pain than I had before a conception of (BNC, ADA: 739). Восприятие опорной лексемы suffer влечет за собой развертывание бленда аллотропов эмоции и ощущения, что выражается в адгезии компонентов в пределах компонента ПРОЦЕСС, который наделяется соответствующими концептуальными признаками экспрессия и ориентация в пространстве. Основными принципиальными характеристиками, отличающими семантику глагола suffer от других глагольных лексем, вербализующих ситуацию эмоций и ощущения, являются видо-параметрические особенности рассматриваемого процесса. В отношении вербализации эмоциональной интеллектуальной деятельности интересной видится семантика глагола complain, который на системном уровне применяется для описания выражения отношения к астеническим эмоциям – «сomplain 1. to express feelings of pain, dissatisfaction, or resentment» (TFD). При этом анализ фактического материала показывает, что употребление данного глагола в качестве лексемы, номинирующей такое речевое действие, словарем не зафиксировано. Тем не менее, на функциональном уровне такое явление встречается довольно часто, например: 121) ‘He’s surely a rogue,’ I complained to George, when he brought to our table in the Messieri Hotel a young man transparently disreputable (Bainbridge, 8384). Таким образом, на функциональном уровне имеет место описание ситуации эмоционального говорения, которое вызывает в сознании говорящего пропозициональную структуру в составе компонентов СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+РЕЧЬ), ОБЪЕКТ, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Компонент ПРОЦЕСС наделяется в таком случае концептуальными признаками экспрессия и вербализация. Описание ситуации эмоционального речевого акта обладает довольно специфической особенностью на вербальном уровне. Несмотря на тот факт, что эмоции – явление непроизвольное, и в 265 данном случае именно эмоции являются доминирующим компонентом значения, при блендировании аллотропов речи и эмоций доминирующая модель аллотропа речи особенно очевидна. Описывая эмоциональные речевые акты, нельзя не упомянуть глагол dumbfound, который вербализирует ситуации такого эмоционального потрясения, которое приводит к неспособности говорить. На системном уровне рассматриваемый глагол трактуется как «to fill with astonishment and perplexity» (TFD); «(tr) to strike dumb with astonishment» (TFD); «confound adds to astound the suggestion of perplexity and often speechlessness» (TFD). 122) He was completely dumbfounded by the whole incident and could not understand why the rocks had fallen on his cottage (BNC, AMB: 1063). Вербализация аффективного состояния высшей степени, вплоть до потери речи на функциональном уровне, разворачивает в сознании субъекта следующую пропозициональную (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+РЕЧЬ), структуру: СЕНСОР, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Поскольку речь – произвольный по характеру психический процесс, а потеря речи – бессознательно протекающий процесс, явление, сопряженное с эмоциональным потрясением. Соответственно, в таком случае актуализируется бленд аллотропов эмоции и речи с доминирующей пропозициональной структурой речи. Глагол surprise также имеет прямое отношение к интеллектуальной деятельности, поскольку различная степень удивления или изумления является каузатором различных последствий. Так, глагол surprise на системном уровне трактуется следующим образом «3. To cause to feel wonder, astonishment, or amazement, as at something unanticipated» (TFD). Например, интенсивность удивления, эксплицированная в следующем предложении, указывает на взаимосвязь аллотропов эмоции и речи, что носит непроизвольный характер, как и в случае с ситуацией, описываемой глаголом dumbfound. 266 Однако если рассматривать несколько случаев функционирования глагола surprise в различном контекстуальном окружении, можно говорить и об интеллектуальной деятельности сопровождающей процесс удивления, вернее, об аффективной реакции, вызванной сравнением получаемой субектом информации и опыта, сформированного в результате жизнедеятельности. Такую ситуацию можно проиллюстрировать следующим примером: 123) For a time Charles surprised his friends by his enthusiasm for the nursery routine (BNC, ECM: 1660). Интерпретация данного предложения показывает, что в нем ярко выражена оценка происходящего. Иными словами, расхождение получаемой информации и ожиданий субъекта выливается в сравнение и оценивание новых сведений, соответственно, новые характеристики таковых. Процесс сравнения, перекатегоризации, что на языке психологии звучит как операции сравнения и выведения умозаключения, соотносится с процессом мышления. Таким образом, функциональное использование рассматриваемой лексемы в пределах предложения позволяет говорить о развертывании в сознании говорящего пропозициональной структуры бленда аллотропов эмоции и мышления. Тот и другой процесс, как экстралингвистической очевидно литературы, и из контекста, непроизвольный по и из анализа характеру. На концептуальном уровне данное обстоятельство представлено посредством следующего компонентного состава пропозиционального сплита: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ+МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно говорить о систематизации значения лексики эмоциональных психических процессов, что обусловлено систематическим наложением соответствующих гештальт-сфер. Однако интересным является обстоятельство вербализации поля внимания, которое выносится нами за пределы гештальт-сфер ввиду своей способности сопровождать всю деятельность индивида, прежде всего психическую. 267 Обратимся непосредственно к описанию вербализации данного поля в следующем параграфе. 3.2.4 Модификация семантики, обусловленная наложением пересечением поля «Внимание» и полей гештальт-сфер «Перцепция», «Интеллект» и «ЭмоцияВоля» Как известно из экстралингвистики, внимание, воображение и память являются процессами сквозными, сопровождающими всю парадигму динамической характеристики психики. Однако в отличие от воображения и памяти, внимание не имеет собственного содержания и выступает в качестве катализатора остальных психических процессов, чем, собственно, и обусловливает свое нестабильное маргинальное положение в структуре гештальта психических процессов. Итак, отражаясь жизнедеятельности интеллектуальную в экстралингвистической социума, внимание реальности сопровождает во всей перцепцию, деятельность и аффективно-волевые состояния, являясь условием их плодотворного функционирования. В данном случае возникает правомерный вопрос о том, почему внимание выносится в отдельное поле в настоящем исследования, ведь его нестабильное положение есть результат постоянного взаимодействия с остальными психическими процессами в организме. Соответственно, внимание нужно искать только в сплитах аллотропов всех психических процессов и не выносить его в качестве самостоятельно исследуемого процесса. Однако у внимания есть множество видо-параметрических особенностей, которые впоследствии транслируются в язык и, следовательно, заслуживают дополнительного описания. Приступим непосредственно к их рассмотрению вместе с остальными полями гештальта. Экстралингвистические сведения и анализ лексикографических источников указывают на тот факт, что внимание, преимущественно 268 непроизвольное, в качестве базы имеет рефлекс ориентировки в пространстве в борьбе за выживание и сопровождает перцептивные процессы – ощущение и восприятие. Рассмотрим отражение данного обстоятельства в языке. Анализ эмпирического материала показывает, что ядерными репрезентантами поля внимания в языке являются глагольно-именные словосочетания с именным компонентом attention, которые на системном уровне трактуются следующим образом: attention «1. Concentration of the mental powers upon an object; a close or careful observing or listening» (TFD). Из данной словарной дефиниции явно вытекает тот факт, что внимание, в основном, является приоритетом восприятия (слухового и зрительного), а также мышления. В словарной дефиниции также не представлено указания на произвольный или непроизвольный характер рассматриваемого психического процесса, тогда как экстралингвистические сведения постулируют такое деление внимания. Итак, рассмотренное выше существительное attention является мотивирующим и валентностно привлекательным для глаголов различных семантических групп. При этом множество глагольно-именных словосочетаний фиксируются словарными источниками и воспринимаются интерпретатором дискурса как результат сформированных сведений вследствие торможения. Иные образуются ситуативно, подстраиваясь под интенции конструктора дискурса, заставляют лексико-семантическую синергетическую систему гештальта функционировать в условиях хаоса и приобретать новообразования в виде стихийных метаморфоз. К первым глагольно-именным словосочетаниям, фиксированным лексикографическими источниками, относятся pay attention (to someone or something); to give attention (to someone or something); hold someone's attention; to keep someone's attention; to keep someone interested; catch someone's attention и др. Каждое из указанных глагольно-именных словосочетаний имеет собственную словарную дефиницию и на концептуальном уровне способно разворачивать аллотроп внимания в 269 виде нескольких инвариантных пропозициональных структур, релевантных в зависимости от произвольного или непроизвольного характера процесса. Так, например, процесс непроизвольного внимания разворачивает пропозицию в составе обязательных компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, а также факультативные компоненты ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Концептуальным признаком компонента СЕНСОР является сконцентрированность. В данном случае особая роль принадлежит локативности объекта, его характеристикам, способным описывать самые специфические и интересные, привлекательные или же, наоборот, угрожающие жизни обстоятельства. Кроме того, факультативные компоненты, эксплицирующие видо-параметрические особенности процесса, отражают и семантические характеристики рассматриваемых лексем, и их функциональные свойства. Произвольность предполагает процесса развертывание компонентов внимания на концептуальном пропозициональной СЕНСОР-ТРИГГЕР, основы ПРОЦЕСС в уровне составе (ПРЕДИКАТ- ВНИМАНИЕ+ВОЛЯ), ОБЪЕКТ, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Компонент СЕНСОР в таком случае приобретает концептуальные характеристики сконцентрированность и произвольность. В данном случае мотивирующим внимание фактором выступает внутренняя сила субъекта ситуации, его мотивация и интерес. Особых параметрических свойств фокуса внимания не требуется. Тем не менее, такая ситуация эксплицирует и видо-параметрические характеристики процесса, специфицируя при этом модус внимания (чувственное или интеллектуальное) и его свойства (объем, концентрация, распределение и т.д.). Интересным обстоятельством вербализации внимания посредством названных глагольно-именных словосочетаний является качество объекта внимания, его концептуальный признак локативности, который соотносит процесс, его результат с материальным или абстрактным миром. Проиллюстрируем рассмотренные положения 270 примерами фактического материала. Например, непроизвольный характер процесса внимания очевиден из следующего предложения: 124) Deep reds, blues and greens may catch our attention when flicking through a kitchen brochure, but few of us actually choose to live with such bold colours (BNC, EDG: 2338). В представленном примере глагольно-именное словосочетание catch attention на функциональном уровне реализует свое основное системное значение («catch somebody's attention/interest/imagination etc; to make you notice something and feel interested in it» (LDCE)), определяющее его в качестве вербализатора непроизвольного процесса внимания. Данный эффект усиливается за счет формы страдательного залога предиката, что на концептуальном уровне позволяет говорить о неспособности субъекта ситуации управлять непроизвольным процессом внимания. Кроме того, семантическое наполнение компонента ОБЪЕКТ (Deep reds, blues and greens … when flicking through a kitchen brochure…) выдает его видо-параметрические особенности, являющиеся стимулирующим средством привлечения внимания, то есть качествами (яркие краски) и динамикой (мелькать). Помимо непроизвольного внимания, на системном и на функциональном уровнях также актуализируется и произвольное. Среди наиболее рекуррентных вербализаторов процесса осознанной фокусировки сознания выступает глагольно-именное словосочетание pay attention с системным значением «обращать внимание» («to listen to, watch, or consider something or someone very carefully» (LDCE)). На функциональном уровне данное единство подтверждает свое системное значение, например: 125) Action theorists pay close attention to the ways in which ‘definitions of reality’ are used and sustained by actors (BNC, EDH: 340). Интерпретация предложений, в которых описывается произвольный и непроизвольный процесс внимания посредством соответствующих глагольноименных словосочетаний, показывает, 271 что непроизвольное внимание активируется чем-то угрожающим жизни или выделяющимся из общей массы стимулом, который приблизительно одинаково действует на всех, в то время как произвольное внимание есть ни что иное, как понятное или адекватное каждому отдельному субъекту, соответствующее его интересам и потребностям. Таким образом, субъект представленного примера (ученые), следуя профессионально-ориентированным установкам, сознательно обращает внимание и интересуются корреляцией внутреннего и внешнего мира в сознании деятеля. Посредством подобных глагольно-именных словосочетаний, выступающих в качестве опорных лексических единств в современном английском дискурсе, вербализуются различные виды внимания, определяемые с точки зрения его модуса. Иными словами, актуализируются в языке и находят свое отражение на ментальном уровне процессы пересечения аллотропов и модификации синергетической структуры. Учитывая обширную семантическую канву существительного attention и его способность соотносить процесс внимания с перцепцией и интеллектом, а также характер внимания, его параметры, заключенные в семантике глагола в составе глагольно-именного словосочетания, возможно пересечение поля внимания и перцептивной, интеллектуальной сферы гештальта на функциональном уровне, но в пределах системного значения глагольно-именных словосочетаний. В таком случае для выявления вида внимания – перцептивного (или чувственного (внешнего)) либо (интеллектуального (внутреннего)) особое значение придается интерпретации семантического содержания компонента ОБЪЕКТ, концептуального признака его локативности, то есть соотнесения экстралингвистического коррелята фокуса внимания с внешним или внутренним миром. Например, в следующем предложении: 126) His attention was captured by the appearance of a young woman on the screen (BNC, GVT: 431) в качестве объекта непроизвольного внимания выступает появляющийся на экране человек, точнее, его вид, поскольку никаких дополнительных указаний на слуховой раздражитель не представлено. 272 Соответственно, концептуальный признак локативности (принадлежность экстралингвистического коррелята внешнему миру) компонента ОБЪЕКТТРИГГЕР эксплицирует пересечение полей внимания и восприятия, что позволяет говорить о виде внимания и разворачивать в сознании конструктора и интерпретатора компонентов дискурса пропозициональную СЕНСОР. структуру ПРОЦЕСС в составе (ПРЕДИКАТ- ВНИМАНИЕ+ВОСПРИЯТИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД (зрительное). Интеллектуальный вид непроизвольного или внутреннего внимания можно проиллюстрировать на материале следующего примера, где в качестве фокуса внимания выступает объект нематериальной действительности. Соответственно, концептуальный признак локативности (принадлежности внутреннему миру) эксплицирует интеллектуальный вид внимания: 127) They both say it's a great idea and it attracts a lot of attention! (BNC, K20: 1903) В данном предложении разворачивается пропозициональная структура как бленд аллотропов внимания и мышления в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВНИМАНИЕ+МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД (слуховое). Кроме произвольного и непроизвольного видов внимания, вербализуемых устойчивыми и зафиксированными словарными источниками глагольноименными словосочетаниями, разворачивающими в сознании конструктора и интерпретатора дискурса линейные пропозициональные модели (где наблюдается адгезия компонентов ОБЪЕКТ и ТРИГГЕР, либо СЕНСОР и ТРИГГЕР – зависимости от вида внимания), внимание, как ни один другой процесс динамической характеристики психики, способно актуализировать некоторую опосредованность, то есть эксплицировать внешнюю по отношению к объекту и субъекту ситуации силу, запускающую рассматриваемый процесс. В таком случае пропозициональная модель носит опосредованный характер и включает компоненты СЕНСОР, ТРИГГЕР, 273 ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ОБЪЕКТ, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Актуализация заявленных компонентов предопределяется прежде всего системным значением многих глагольноименных словосочетаний, которые уже застыли в лексикокографических источниках и имеют соответствующие словарные дефиниции. Среди наиболее ярких глагольно-именных словосочетаний, разворачивающих опосредованную пропозициональную ментальную основу, выступают следующие: bring someone or something to someone's attention (to make someone aware of someone or something), call attention to someone or something (to cause someone, including oneself, or something to be noticed or observed), call someone's attention to something and call something to someone's attention (to bring something to someone's notice; to make someone recognize some fact), bring something to someone's attention (to make someone aware of something; to mention or show something to someone), direct someone's attention to someone or something (to focus someone's regard or concern on someone or something; to cause someone to notice someone or something), draw something to someone's attention (to make someone aware of something), draw someone's attention to someone or something (to attract someone to notice or focus on someone or something) (TFD) etc. Приведем пример фактического материала, где посредством одного из глагольно-именных словосочетаний, соотносящихся по денотативному статусу с глаголом и способных выступать в качестве опорной лексемы дискурса, в сознании конструктора и интерпретатора дискурса разворачивается опосредованная, нелинейная пропозициональная основа аллотропа внимания: 128) Pickfords marketing man Andrew Jones drew attention to the company's discounting policy, operating until the end of February, and put forward three options (BNC, AAV: 22). В представленном примере стимулирующая непроизвольное внимание функция накладывается на определенного субъекта (Pickfords marketing man Andrew Jones), который вербально выделил скидочную политику компании. Последняя (the company's discounting policy, operating until the end of February) 274 выступает в качестве семантического наполнения компонента ОБЪЕКТ. В то же самое время на вербальном уровне никак не представлен субъект ситуации непроизвольного внимания, однако он имплицирован, то есть подразумевается. В качестве наполнения компонента СЕНСОР выступают люди, имеющие отношение к компании, ее сотрудники либо потребители ее продукции/услуг. Выше представлены основные вербализаторы процесса внимания, способные на системном и функциональном уровнях удовлетворять требованиям своего прототипа, а также эксплицировать видо-параметрические особенности процесса. На этом основании они составляют пласт вербализаторов ядерного ряда, отличаются друг от друга специфическими особенностями предиката, мотивированного компонентом attention. Помимо существующих описывающих внимание на глагольно-именных системном уровне словосочетаний, в качестве ядерных вербализаторов, зафиксированных словарями, существуют и разнообразные глагольно-именные единства, образование которых носит окказиональный характер. Их употребление конструктором дискурса и понимание смысла интерпретатором базируются на эволюционном процессе, который претерпевает синергетическая система при сообщении с внешней средой. Достижение понимания передаваемого конструктором дискурса смысла осуществляется не только посредством инвариантного компонента attention, но и посредством обращения пропозициональной сформированного конструктора структуре аллотропа, глагольно-именного дискурса к подстановке словосочетания инвариантной окказионально в качестве семантического наполнения компонента ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ). Анализ фактического материала показывает, что окказионально сформированных вербализаторов как произвольного и непроизвольного внимания насчитывается достаточное количество, причем, как правило, в их число входят лексемы действия, направленного на изменение объекта, на его когнитивную обработку, что характеризует предикаты всех психических 275 процессов. В данном случае в фокусе внимания оказывается характер, вид и специфические особенности этого действия, что на концептуальном уровне позволяет актуализировать компоненты ВИД и ПАРАМЕТРЫ, указать преимущественно на степень концентрации сознания. Среди таких окказиональных лексических единиц встречаются grab attention, transfer attention, turn attention, fix attention, seek attention, drift attention, take attention, seize attention etc. Для удобства интерпретации представленных глагольно-именных словосочетаний, думается, уместно интерпретировать их семантику в русле анализа по непосредственным составляющим, предварительно условно объединив их по сходству значения глагольного компонента. Первой условно выделенной группой окказионально сформированных глагольно-именных словосочетаний являются единства, вербализующие непроизвольное внимание, специфицирующие его степень – seize attention. Анализ по непосредственным составляющим позволяет представить данное глагольно-именное словосочетание в виде именного компонента attention и глагольного компонента seize. Системное значение ключевого мотивирующего компонента attention уже представлено выше, а предикативный элемент seize на системном уровне трактуется как «to take hold of something suddenly and violently [= grab]» (LDCE). Однако ни в одном из рассмотренных нами лексикографическом источнике словосочетание seize attention не зафиксировано. Тем не менее, сведения, приведенные в словаре в квадратных скобках (тождество с глаголом grab), дают основание говорить о синонимии рассматриваемого словосочетания и глагольно-именного словосочетания grab attention, которое зафиксировано в словаре как идентичное лексическому единству get someone's attention. Значение «заполучить внимание» не содержит никакого указания на способ достижения цели, характер и видо- параметрические особенности процесса, определяемые свойствами фокуса внимания. Тем не менее, семантика глагола grab, когда таковой употребляется 276 изолированно, позволяет говорить о напористости триггера, его силовом характере «to take hold of someone or something with a sudden or violent movement [= snatch]» (LDCE). Применительно к нематериальной сущности (или объекту), воздействие на которую осуществляется исключительно как когнитивное, глагол seize передает значение быстрого, молниеносного и внезапного захвата. Соответсвенно, окказиональное употребление глагола seize по отношению к характеристике процесса внимания позволяет дополнительно специфицировать значимые, яркие наделяющие стимулом соответствующей его характеристики объекта ситуации. внимания, Например, в предложении 129) Orwell was represented by Down and Out in Paris and London and one other volume whose title seized their immediate attention: Homage to Catalonia (BNC, G0N: 1863) в качестве привлекательного объекта сознания выступает актуальность названия книги, которая, видимо, настолько злободневна или интересна для субъекта ситуации, что заставляет его повиноваться непроизвольной концентрации сознания быстро и внезапно. Следующее глагольно-именное словосочетание transfer attention также не фиксируется лексикографическими источниками, однако рекуррентно при описании экстралингвистических параметров процесса внимания, то есть фиксируется его переключаемость, что очевидно уже исходя из семантики глагольного элемента данного лексического единства. Итак, на системном уровне глагол transfer обозначает «to move from one place, school, job etc to another, or to make someone do this, especially within the same organization» (LDCE). Иными словами, данная глагольная лексема передает значение «перенос», что применительно к процессу внимания интерпретируется как переключение и выражает видо-параметрические свойства процесса. Вербализация процесса глагольно-именного внимания словосочетания следующим примером: 277 посредством может быть рассматриваемого проиллюстирована 130) If the newcomer is persistent, however, some of the females may transfer their attention to him (BNC, AMG: 1600). Интерпретация представленного предложения позволяет выявить пропозициональную основу, которая разворачивается в сознании конструктора и интерпретатора, обеспечивая понимание и восприятие смыслов. Такая пропозициональная структура вмещает в себя следующие компоненты: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВНИМАНИЕ+ДВИЖЕНИЕ), ОБЪЕКТТРИГГЕР, ПАРАМЕТРЫ (переключение). Глагольно-именное словосочетание drag attention также не зафиксировано в словаре. Однако сам предикативный элемент – глагол drag – словарными источниками трактуется как «тащить, тянуть с усилием, медленно» («1. to pull along with difficulty or effort; haul» (TFD)). Отсутствие данного лексического единства в словаре не препятствует его рекуррентности для описания ситуации внимания с учетом видо-параметрических характеристик процесса и актуализации непосредственной линейной пропозициональной структуры в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТВНИМАНИЕ+ДВИЖЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ (объем, переключаемость, распределение). На функциональном уровне данное глагольно-именное словосочетание функционирует как опорная лексема и встречается в предложениях типа: 131) She dragged her attention back to Viola and Marion, who were helping themselves to handful of nibbles from another passing tray (Of love and life, 2001: 224). Окказионально сформированным, как показывает анализ лексического материала, является глагольно-именное словосочетание monopolize attention. Непосредственный глагольный компонент monopolize имеет значение полного обладания, тотального контроля («to have complete control over something so that other people cannot share it or take part in it» (LDCE)). Несмотря на то, что данный глагол нетипичен в качестве предикативного элемента для образования 278 лексического единства с существительным attention, он вполне рекуррентен как самостоятельная единица для описания психических процессов, о чем свидетельствует словарная статья: «to use a lot of someone's time or attention» (LDCE). Употребление рассматриваемого глагола применительно к существительному attention предполагает спецификацию непроизвольного психического осуществлять процесса внимания, контроль отсутствие степени возможности концентрации своего субъекта сознания. Соответственно, процесс такого внимания является непроизвольным и на уровне пропозициональной последовательность структуры элементов: имеет СЕНСОР, следующую ПРОЦЕСС линейную (ПРЕДИКАТ- ВНИМАНИЕ+ПОСЕССИВНОСТЬ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. ВИД/ПАРАМЕТРЫ. На функциональном уровне вербализация рассматриваемого глагольноименного словосочетания в качестве опорного лексического единства можеть быть проиллюстрирована следующим предложением: 132) The endless names of divisions and brigades, the numbers of men and tanks, the quantities of fuel and supplies, the rides and depressions and quicksands had monopolized his attention to the exclusion of local sounds (Follett, 1998: 334). Анализ лексикографических источников показывает, что существительное attention с глаголами earn и gain также не зафиксировано в словарях. Оба указанных глагола имеют схожие значения «заполучить» и трактуются словарями как: «2. To acquire or deserve as a result of effort or action» (TFD) и 2. «To attain in competition or struggle; win» (TFD). При этом семантика глагола earn предполагает достижение результата посредством собственных усилий, а семантика глагола указывает на соревновательный характер деятельности по достижению цели. И тот, и другой глагол в сочетании с абстрактным существительным attention передает непроизвольный характер деятельности и указывает на особые параметрические характеристики объекта фокуса, которые позволяют ему не только удерживать, но и постоянно бороться 279 за внимание субъекта. Инвариантная пропозициональная структура, вызываемая актуализаций процесса непроизвольного внимания глаголом earn, может быть условно компонентов представлена как СЕНСОР, линейная последовательность ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ВНИМАНИЕ+ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ), ОБЪЕКТТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ (устойчивость) и проиллюстрирована следующими примерами: 133) A later incident earned more of Slone’s attention (Grey:172). 134) Hoodia, a natural appetite suppressant, is earning attention as a potentially powerful weapon in the war against obesity and the World Wide focus on losing weight (Herbal…, 2007). Пропозициональная структура, которую разворачивает в сознании интерпретатора дискурса глагольно-именное словосочетание gain attention, также носит линейный непосредственный характер и на первый план выводит специфические характеристики компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Кроме того, семантика глагола gain позволяет представить на концептуальном уровне важныую особенность процесса непроизвольного внимания – переключаемость. Итак – пропозициональная основа актуализации глагольноименного словосочетания включает компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВНИМАНИЕ+БОРЬБА), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ (переключение). На функциональном уровне такая пропозициональная структура имеет следующее представление: 135) It was inevitable that she contrived to tell Ivo in such a way that she gained his instant attention … (Neels: 128). Таким образом, глагольно-именные словосочетания с компонентом attention, будучи зафиксированными в словарном источнике или сформированные окказионально для определенных целей коммуниканта, обеспечиваясь семантическую плотность рассматриваемого поля, при этом являются причиной определенных синергетических трансформаций, которые 280 уже не воспринимаются как новообразование ввиду законченного эволюционного витка и отражения словосочетания в лексикографическом источнике, являются новыми как для конструктора, так и для интерпретатора. Наряду с такими лексическими единствами на ядерном уровне процесс произвольного и непроизвольного внимания системно и функционально способны вербализовать другие лексемы, например, те, которые содержат в трактовке системного значения прилагательные и наречия типа carefully, thoroughly. Анализ лексикографических толкований показывает, что подобные лексемы можно условно разделить на лексические вербализаторы перцептивной и интеллектуальной сфер. Среди них наиболее рекуррентными являются observe («2 [intransitive and transitive] to watch something or someone carefully» (LDCE)); watch («[intransitive and transitive] to look at someone or something for a period of time, paying attention to what is happening» (LDCE)); listen («1. to make an effort to hear something; 2. To pay attention; heed» (TFD)); ponder («to spend time thinking carefully and seriously about a problem, a difficult question, or something that has happened [= consider]» (LDCE)) и т.д. Однако относительно факта вербализации аллотропа внимания лексемами перцептивной и интеллектуальной сфер можно сказать, что они используются исключительно для акцента на перцептивной или интеллектуальной стороне психической деятельности. Операционная система сознания индивида обращается к их поиску, в основном, для акцента на сосредоточенной ментальной операции или перцептивном акте. Для описания определенной грани внимания посредством подобных лексем в предложения вводятся соответствующие языковые средства, функционирующие в качестве семантического содержания обстоятельства образа действия, например: 136) He sometimes preached to congregations of some two to three thousand who listened to him with ‘much attention and willingness’ (BNC, ALK: 682). Подводя итог рассмотрению модификации системного значения в пределах ядерного уровня репрезентантов психических процессов, можно 281 констатировать системные синергетические изменения (когда семантическая структура содержит соответствующие сведения, и это отражено в лексикографическом источнике) и окказиональные изменения, когда и конструктор, и интерпретатор дискурса воспринимают значение в качестве новообразования. В последнем случае с течением времени фактор окказиональности способен перейти в фактор системности. Такие случаи довольно частотны на уровне семантической плотности в пределах ядра гештальта. Однако кроме таких модификаций значения, на периферии лексикосемантическая синергетическая система приращивает смыслы и ассоциации, что позволяет ей общаться с внешней средой и пополнять семантический объем за счет притока новых ресурсов в условиях экстрасистемных модификаций значения. 3.4 Экстрасистемная модификация значения Наряду с ядерными вербализаторами сфер гештальта существуют также лексемы периферийного ряда, способные на функциональном уровне отвечать критериям своего аттрактора и отражать модификации синергетической системы. Иными словами, семантика лексем различных тематических групп, не соотносящихся с психическими процессами, служит той внешней средой, которая обменивается информацией с лексико-семантической синергетической системой гештальта, вводит в нее новые лексемы в качестве информационных единиц, влияет на семантическую плотность гештальта. Такие лексические единицы, коррелирующие с разными тематическими группами лексики, попадают в поле синергетической системы при условии их способности актуализировать инвариантные дистинктивные признаки гештальтной структуры, модификации их функционального значения и, следовательно, актуализации соответствующего поля. 282 Анализ фактического материала показывает, что глаголами, описывающими психические процессы на функциональном уровне, являются относящиеся к группам движения, физического воздействия и т.д. лексические единицы, рассмотрение семантики которых условно можно разделить на группы. Например, глаголы, описывающие борьбу – struggle и fight off, имеющие системные значения «1 to try extremely hard to achieve something, even though it is very difficult» (LDCE) и «to defend against or drive back (a hostile force, for example)» (TFD), своим функциональным значением коррелируют со значением интеллектуальной деятельности, описывая процесс мышления, осознанного восприятия и первичной категоризации. Для актуализации значения «ментальный акт» описываемые лексемы разворачивают в сознании интерпретатора дискурса аллотропную модификацию фрейма психических процессов – аллотроп мышления посредством включения в нее всех неотъемлемых составляющих компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТМЫШЛЕНИЕ+БОРЬБА), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. Однако достижение понимания передаваемого конструктором смысла осуществляется не только благодаря линейной последовательности указанных концептуальных составляющих. Одним из важнейших факторов достижения понимания между участниками процесса выступает их семантическое наполнение. Например, в предложениях: 137) The gel covered his body, and Spike's mind struggled to cope with the signals from every neuron in his artificial frame (BNC, HTY: 4137); и 138) His mind fought off the idea furiously, and yet it came back to fret his certainty again (BNC, K8S: 648) осуществляется метафорический перенос. В качестве экстралингвистического коррелята концептуального компонента СЕНСОР в данном случае выступает разум как неотъемлемая составляющая психики субъекта. Разум в этом случае персонифицируется, ему присваиваются характеристики самого носителя разума, то есть человека, разум наделяется функцией восприятия и переработки информации. Соответственно, в такой пропозициональной основе, в ее семантическом содержании и языковом 283 выражении акцент смещается на локализацию психического процесса, тогда как сам субъект, человек нивелируется ввиду непроизвольности происходящего психического процесса. Параметры фокуса и его особенности в данном случае играют важную роль только с точки зрения их значимости для субъекта ситуации. Данное обстоятельство, то есть преимущество описания психических процессов посредством лексики с несистемным значением, позволяет конструктору выделить нетипичные для аллотропной структуры когнитивные элементы, представить их в новом ракурсе, дополнительно специфицировать особенности протекания психических процессов. Соответственно, такие глаголы становятся все более и более рекуррентными для описания психических процессов, что позволяет лексико-семантической синергетической системе рассматриваемого гештальта впитывать информацию и присваивать на периферии новые сведения, которые по определенным параметрам тянутся к семантике аттрактора. Естественно в таком случае данные лексемы не могут быть изолированы от их функционального значения, однако если фактор окказиональности переходит в фактор рекуррентности, та или иная лексическая единица присваивает полученные в результате синергетической эволюции значения. Например, если у глагола struggle в случае модификации системы «работа психических процессов» – значение исключительно функционального порядка, то у глагола fight в результате частотности его употребления для описания состояния психических процессов, их протекания, данное значение в результате эвлюционного приращения смыслов синергетической системой закрепилось уже на периферии семантической структуры: «3 to try hard to get rid of something, especially an illness or a feeling» (LDCE). Тем не менее, глагол struggle достаточно часто употребляется в нетипичных с точки зрения его системного значения ситуациях. Кроме вербализации интеллектуальной сферы, данная глагольная лексема нередко 284 встречается для описания перцептивной сферы. Проиллюстрируем заявленное положение следующим примером: 139) Little shooting beams of light played over the scene of the sea and the crates of bananas as her lowered eyes struggled to cope with the brightness of the sun that had entered them (BNC, ARW: 1058). Интерпретация указанного предложения позволяет говорить об описании приспособительной реакции органов чувств субъекта к восприятию раздражителя. В данном случае опять же синергетической системой соблюдается принцип несовпадения полученного целого и суммы его составляющих. Иными словами, другое контекстное окружение провоцирует иное функциональное значение рассматриваемой лексемы. Возвращаясь к анализу представленного примера, можно говорить о том, что условие семантического наполнения концептуальных составляющих элементов пропозициональной основы соответствующего аллотропа восприятия позволяет глаголу struggle вписываться в формат вербализации соответствующего поля гештальта. В данном случае в качестве компонента СЕНСОР на языковом уровне выступают глаза как орган воприятия человеком окружающей действительности. Компонент ПРОЦЕСС включает в себя ПРЕДИКАТ, подразумевающий сплит компонентов ВОСПРИЯТИЕ+БОРЬБА, компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, который имплицирован, но, тем не менее, его восприятие на экстралингвистическом уровне сопряжено с дистрактором, а также компонент ВИД, характеризующий непроизвольное зрительное восприятие. Пересечение гештальта психических процессов как синергетической системы с гештальтом движения позволяет первому черпать новые сведения и приращивать ассоциативные смыслы на уровне пропозициональной основы соответствующего аллотропа психических процессов. Так, например, глагол drive out, который в словаре понимается как drive out «force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings» (TFD), указывает своим системным значением на движение в обратную от субъекта 285 ситуации движения сторону. Интересным обстоятельством является способность глагола drive out иметь метафорическое значение и сочетаться с абстрактным существительным. Одним из случаев такого метафорического функционирования глагола drive out является следующий пример: 140) All that was important was that she leave here immediately, as soon as Kirsty had gone to Carol's, and start working on driving him out of her heart (BNC, JXS: 3768). Фразовый глагол move over своим системным значением отсылает к описанию процесса движения в направлении от субъекта ситуации, что в словаре отражено следующим образом: «1. to change position so that there is more space for someone else» (LDCE). Несмотря на значение движения, словарная трактовка данного глагола в сочетании с сателлитом over не дает информации о характере движения. С целью определения характера такого движения обратимся к данным словаря, где представленная лексема move дефинируется как «to change in position from one point to another» (TFD) и специфицирует движение по траектории от точки к точке. На языковом уровне глагол move over разворачивает пропозициональную структуру аллотропа восприятия в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ВОСПРИЯТИЕ+ДВИЖЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ, что может быть проиллюстрировано следующим примером: 141) The blue eyes moved over her slender body in the red dress (BNC, JYD: 311). В качестве семантического наполнения компонента СЕНСОР выступает не сам субъект ситуации, а его зрительный перцептирующий орган, дополнительно специфицирующий непроизвольность процесса, локализующий процесс в области органа восприятия, сосредоточивающий внимание интерпретатора дискурса на характере восприятия, а не результате. Анализ фактического материала показывает, что употребление лексем того или иного семантического порядка в качестве вербализаторов психических 286 процессов на функциональном уровне сопряжено с изменением семантического наполнения компонента СЕНСОР, которое вполне согласуется с самим глаголом, функционирующим в качестве компонента ПРОЦЕСС. Причем интересным в данном случае является обстоятельство метафорического переноса части тела, коррелирующей с тем или иным психическим процессом, в область семантического содержания компонента СЕНСОР, что позволяет лексеме с любым системным значением потенциально выступать в качестве вербализатора психических процессов. Так, например, современный английский дискурс пестрит примерами описания зрительного восприятия с определенным коннотативным, оценочным значением. Проиллюстрируем это следующими примерами: 142) Leonora snatched her hand away, her eyes hunted as they scanned the large, square hall (BNC, JYC: 3897). 143) His small bright blue eyes swept disparagingly over the minimalized black and white flooring, stainless steel chairs and black wooden bar (BNC, AB9: 942). 144) His dark-brown eyes burnt into mine; he took a long moment to reply (BNC, G13: 570). Из представленных выше примеров, очевидно, что глаза (eyes) как семантическое содержание компонента СЕНСОР, и в метафорическом смысле выполняющее те же функции, что и субъект ситуации, способны преследовать, рыскать (пример 142), быстро окидывать взглядом (пример 143), обжигать (пример 144). В таком случае, как и во всех ранее нами рассмотренных, где указывается локализация протекания психического процесса, непроизвольный психический процесс на уровне языка представляет собой актуализацию следующей пропозициональной структуры: СЕНСОР, ПРОЦЕСС, ОБЪЕКТТРИГГЕР, ВИД/ПАРАМЕТРЫ. На уровне же компонента ПРОЦЕСС происходит адгезия компонентов ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ+ДВИЖЕНИЕ или ВОСПРИЯТИЕ+РАЗРУШЕНИЕ. 287 Естественно, семантические характеристики компонента ПРОЦЕСС влияют на видо-параметрические особенности процесса, локализованного, как следует из когнитивной интерпретации примеров, в органе зрительной перцепции, что естественным образом влияет на передаваемый смысл сообщения. Подытоживая рассмотрение периферии семантической плотности гештальта психических процессов, можно прийти к выводу о том, что устройство лексико-семантической синергетической системы репрезентантов гештальта позволяет ей ввиду собственной открытости сообщаться с любыми другими гештальт-системами с целью получения максимальной семантической плотности. Если перенести это обстоятельство на конкретный коммуникативынй уровень, можно говорить о динамике рассматриваемой синергетической системы, способности подстраиваться под интенции говорящего (то есть включать новую информацию) и хранить базовый каркас высокой степени абстракции для достижения понимания между коммуникантами. При этом в параметре семантической плотности можно выделить фактор окказиональности, который характеризует передаваемый смысл только в настоящем контексте, когда значение лексемы не отвечает требованиям хронотопичности. Можно также вести речь о факторе системности, когда окказиональное употребление становится рекуррентым и впоследствии отражается в лексикографическом источнике. При таком динамическом развитии системы, когда она готова совершать эволюционные витки в достижении окказиональное максимальной изменение способно семантической превратиться плотности, в системное, любое чем, собственно, и объясняется модификация значения лексики. Семантические модификации непосредственно оказывают влияние на дистрибутивный потенциал рассматриваемой лексики. Следовательно логичным будет описать дистрибутивный и синтагматический потенциал вербализаторов ментальных структур психических процессов в следующем параграфе. 288 3.5 Дистрибутивный и синтагматический потенциал вербализаторов ментальных структур психических процессов Вопрос синтагматики или «идея сочетаемости» (в терминологии Е.В. Рахилиной (Рахилина, 2008), несмотря на свой изменчивый характер и продолжительную историю, связан с вопросом передачи смысла (Рахилина, 2008). Проведенный анализ вербализации ментальных структур психических процессов с позиций процессуально-синергетического подхода показывает, что все значения рассматриваемой лексики допускают изменения и уточнения на функциональном уровне в результате окказиональных или системных словоупотреблений, что соотносится с проблемой полисемии и, синонимических отношений такой лексики, а также говорит о комплексном характере семантической плотности вербализуемого ею гештальта. При этом акцентируется неизолированность и лабильность лексико-семантической синергетической системы за счет метаморфоз и переносов значения. А сама полисемия (что можно заметить в результате наблюдения за фактическими данными) как системное или контекстуально обусловленное, окказиональное явление хранит этимологическую память и актуализирует накопленные сведения на уровне синтагматического окружения слова. Это обстоятельство особенно очевидно на уровне высокой степени абстракции, лексически репрезентированном заявленного прототипическими положения возможно глаголами. благодаря Доказательство соответствующим лингвистическим процедурам, базирующимся на этимологическом анализе, а также на интерпретации синтагматического окружения слов. Приступим непосредственно рассматриваемой к рассмотрению лексики и дистрибутивного иллюстрации фактического материала. 289 сказанного потенциала на примерах Прототипический глагол sense в современном лексикографическом толковании («1. To become aware of; perceive; 2. To grasp; understand» (TFD)) понимается «понимать». в значении «воспринимать Этимологический посредством источник органов фиксирует чувств»; происхождение рассматриваемого глагола приблизительно 1590-м годом и указывает на идентичную современной трактовку: «to perceive by the senses» (ED). Также по свидетельству этимологического словаря, приблизительно с 1960-го года значение рассматриваемого глагола несколько изменяется и указывает на сознательное внутреннее ощущение (состояние) – «be conscious inwardly of (one's state or condition)». Смещение акцента значения на абстрактный фокус и соответствующую внутреннюю психологическую реакцию субъекта происходит в 1872 году («perceive (a fact or situation) not by direct perception» (ED)). На современном этапа глагол sense функционирует в качестве вербализатора аллотропа «Ощущение» или аллотропа «Мышление», сказуемое sense сочетается с подлежащим, функцию которого выполняет либо одушевленное существительное, либо личное местоимение, например: 145) A researcher suggests that humans, like butterflies and other animals, can sense the earth's magnetic field and use it to navigate (Wade, 2011). 146) But she also sensed it wasn't enough. She wanted something else, something different, something more. Passion and romance, perhaps, or maybe quiet conversation in candlelit rooms, or perhaps something as simple as not being second (Sparks, 2007) В представленных предложениях подлежащее выражено одушевленным существительным и соответствующим местоимением, обозначающим человека 18. И в том, и в другом случае семантика глагола sense в сочетании его с соответствующим подлежащим не меняется. Более того, в данном случае высвечивается прямое значение ядерного глагола – «ощущать, чувствовать». 18 Напомним, что в качестве субъекта ситуации психических процессов мы рассматриваем только человека, поскольку именно ему характерен весь диапазон процессов психики, что позволяет наиболее полно учесть отражение соответствующих ситуаций на языковом уровне. 290 Также в данном случае нельзя не отметить, что указание на рецепторный орган и в первом, и во втором случае отсутствует, что, тем не менее, не противоречит, а подтверждает соответствующее системное значение рассматриваемого глагола. В следующем примере также нивелируется указание на органы чувств, однако речь здесь идет, скорее не об ощущениях, а о мыслительной операции. Иными словами, семантика глагола sense в нижеследующем предложении способствует вербализации аллотропа «Мышление»: 147) He sensed cricket, understood it personally (Ugra, 2011). Актуализация МЫШЛЕНИЕ), компонентов СЕНСОР, ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, а не ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ- ОЩУЩЕНИЕ) эксплицирована благодаря употреблению синонима understand, который в предложении актуализирует аллотроп «Мышление» своим системным значением. Итак, выше представлены наиболее типичные случаи употребления глагола sense в своем системном значении, позволяющем ему сочетаться с существительными или местоимениями для описания соответствующей ситуации. В нижеследующих предложениях речь идет о той же дистрибуции на синтагматическом уровне, однако в качестве дополнения выступают абстрактные сущности, непостижимые органам чувств: 148) He sensed my aura and he felt he should protect him (Fer, 2014). 149) Mourinho says he sensed Chelsea would suffer against Stoke (Mourinho…, 2013). В предложении (148) в качестве дополнения на синтаксическом уровне и в качестве концептуального наполнения компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР выступает существительное aura. Последнее соотносится только с экстрасенсорным уровнем, интуицией и предчувствием, что в принципе не поддается восприятию анализаторов. В предложении (149) в качестве концептуального наполнения компонента 291 ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР выступает предчувствие, отрицательная эмоция, переживание по поводу любимой футбольной команды. Несмотря на способность глагола sense называть ситуацию ощущения и мышления в зависимости от контекста (что говорит о высвечивании системного значения) глагол, как очевидно из анализа двух предыдущих примеров, может также выступать в качестве вербализатора аллотропа «Предчувствие» на функциональном уровне, который в настоящей диссертации не рассматривался намеренно, поскольку ситуация предчувствия коррелирует с эмоциональными состояниями, традиционно к ситуации психических процессов не относится и является производным психическим процессом (Предчувствия, эмоции, 2014). Случаи употребления глагола sense в качестве вербализатора аллотропа «Предчувствие» довольно частотны, если в качестве концептуального наполнения компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР выступает абстрактная нематериальная сущность. Это говорит о разнообразии его когнитивносемантических особенностей и расширении его семантической структуры. И в данном случае способность глагола сочетаться с одушевленным существительным или соответствующим личным местоимением неизменна, как и в случае с актуализацией этим глаголом основного системного значения, в то время как очевидными являются метаморфозы в отношении лексических вербализаторов компонента ОБЪЕКТ. Интересным для настоящего диссертационного исследования также является следующий пример: 150) It sensed that Thanksgiving was coming (Barry, 2013). В данном случае в качестве вербализатора компонента СЕНСОР выступает местоимение подлежащего. Это it в синтаксической предложение следует функции переводить как формального «Казалось, приближается День благодарения». Нетипичное употребление формального подлежащего со сказуемым, которое априори согласуется с одушевленным существительным – явление крайне 292 редкое. В анализируемом нами фактическом материале это единичный случай, взятый из названия Интернетблога. Очевидно, что автор таким образом старался добиться определенного стилистического эффекта и указать на всеобщую заинтересованность предстоящим праздником. Несмотря на тот факт, что персонификация любого рода в настоящем исследовании исключается, в некоторых случаях допустима метонимия. Например, концептуальным наполнением компонента СЕНСОР может выступать не сам человек, а тот орган, где локализована психическая активность – рука, голова, сердце, глаза, уши и т.д. Таким образом, конструктору дискурса удается сместить акцент на непроизвольность процессов динамической характеристики психики. Данное обстоятельство нетипично для глагола sense. Тем не менее, в ряде случаев при сплошной выборке встречаются факты метонимического замещения субъекта, например: 151) Instead, your skin can sense the difference in temperature of a new object (Test…, 2014). Следующий прототипический глагол, вербализатор аллотропа «Восприятие» – глагол perceive – на концептуальном уровне способствует актуализации всех участников ситуации восприятия концептуального уровня: СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ВОСПРИЯТИЕ), ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Данная информация легко выводится из лексикографических толкований («1. to understand or think about something in a particular way; 2. to notice or realize something; a. to notice something using your senses (=your ability to see, hear, smell etc» (MDT)), которые трактуют глагол perceive как «понимать, воспринимать», «замечать, подмечать, примечать». По данным этимологического словаря, глагол perceive образовался в 1300-х годах от французского *perceivre, который имел значение, идентичное сегодняшнему: «perceive, notice, see; recognize, understand,» from Latin percipere «obtain, gather, seize entirely, take possession of,» also, figuratively, «to grasp with the mind, learn, comprehend,» literally «to take entirely,» from per «thoroughly» (see 293 per) + capere «to grasp, take» c., via Anglo-French parceif, Old North French (Old French perçoivre) (ED). Данный глагол имел значение «восприятие или понимание информации». Сегодняшнее толкование глагола perceive, как следует из современных толковых словарей, также не отличается существенной вариативностью, например: «to notice or become aware of (something); to think of (someone or something) as being something stated» (MWOD). Данное толкование, равно как и предыдущее, закреплено на функциональном уровне языка, например: 152) His eyes were closed as he perceived pleasure from all of his senses, except that of sight (BNC, BPA: 35). 153) When Hazel woke he perceived at once that it was morning — some time after sunrise, by the smell of it (BNC, EWC: 2099). В представленных выше примерах особенно четко прослеживается сам механизм восприятия, вербализуемый глаголом perceieve и заключащийся в получении ощущений от анализаторов с последующей интерпретацией полученных данных, что очевидно благодаря акценту на органы восприятия или компонент ВИД (his senses; perceived by the smell of it). В качестве концептуального наполнения компонента СЕНСОР здесь также, как и в случае с глаголом sense, выступает человек, который номинируется существительным или соответствующим местоимением. Акцент на интеллектуальную деятельность или ментальную обработку смещается в том случае, когда в качестве концептуального наполнения компонента ОБЪЕКТ выступает абстрактная, недоступная органам чувств, сущность: 154) More importantly, this is the relationship as it is perceived by many speakers, both in the Caribbean and in Britain (BNC, HXY: 620). В следующих примерах роль компонента ОБЪЕКТ выполняют инфинитив и придаточное предложение, которые уточняют концептуальное содержание компонента и специфицируют тем самым семантику предиката, 294 смещая акцент на мыслительную деятельность, позволяя ему актуализировать аллотроп «Мышление»: 155) She had defined what she perceived to be reality, and she kept trying to rub Scarlet's nose in it (BNC, G1D: 2247). 156) I had another client, Maureen, who described herself as a woman who was “not easely liked by others”. She perceived that when she engaged another person socially and felt a connection, afterwards that person wouldn’t like her or want to see her again (Ahern, 2007). 157) Socially, she perceived that others vieved her as not friendly enough, boring and unmemorable (Ahern, 2007). Прототипический глагол concept является самым трудно дефинируемым и сложным для лингвистического анализа, в том числе для лексикографического и этимологического описания, поскольку он, равно как и номинируемое им явление – представление, редко встречается в повседневной жизни с точки зрения конструктора и интерпретатора ненаучного дискурса. Дело в том, что глагол concept обозначает исключительно ненаблюдаемый феномен, коррелирующий с неподдающейся обывательскому описанию областью сознания. Его низкая встречаемость, видимо, является результатом сложной этимологии, которая, как говорится в соответствующих лексикографических источниках, связана с семантикой глагола conceive, появившимся в конце 13-го века и от прямого значения «забеременеть» («take (seed) into the womb, become pregnant» from stem of Old French conceveir (Modern French concevoir), from Latin concipere (past participle conceptus) «to take in and hold; become pregnant, from com-, intensive prefix, + comb. form of capere «to take» from PIE *kap- «to grasp» (ED)) в старофранцузском языке перешло в образное – «отпечатать в сознании» (Meaning «take into the mind» is from mid-14c., «a figurative sense also found in the Old French and Latin words» (ED)). Лексическая единица concept, опять же согласно данным лексикографических источников, появилась уже в середине 16-го столетия и по частеречной принадлежности функционировала 295 исключительно в качестве существительного: «from Medieval Latin conceptum «draft, abstract» in classical Latin «(a thing) conceived» from concep-, past participle stem of concipere «to take in». In some 16c. cases a refashioning of conceit (perhaps to avoid negative connotations)» (ED). В современных лексикографических источниках глагол concept встречается крайне редко, чаще в качестве существительного, в то время как глагол conceive, в принципе, заменяет его значение в качестве предиката, для обозначения ментальной деятельности: а) значение представления со следующим за ним дополнением или придаточным предложением («1. (when: intransitive, followed by of; when transitive, often takes a clause as object) to have an idea (of); «imagine; think»» (TFD)); б) значение мнения со следующим за ним дополнением, придаточным предложением или инфинитивом («2. (transitive; takes a clause as object or an infinitive) to hold as an opinion; believe» (TFD)); в) значение «развивать», когда глагол является переходным («3. (transitive) to develop or form, esp in the mind: she conceived a passion for music» (TFD). В первом случае речь идет о сформированном представлении о ком/чемлибо, что на функциональном уровне выражается в актуализации аллотропа «Представление» благодаря экспликации компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, например: 159) This suggests that with to the infinitive's event is conceived as something which is known and attributed to someone as a result of experience (BNC, HXG: 569). Аллотроп «Мышление» актуализируется в нижеследующем примере благодаря экспликации компонентов СЕНСОР-ТРИГГЕР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ПРЕДСТАВЛЕНИЕ+МЫШЛЕНИЕ), ОБЪЕКТ, например: 160) Schleiermacher conceives of religion as pre-existing particular historical manifestations which are grounded in the fundamental unity of religion, an a priori condition (BNC, C9B: 232). 296 Третье значение полисеманта как номинация плана или какой-либо мысли актуализируется в следующем предложении, например: 161) For his part, he conceived a plan of setting fire to the St Louis off Beachy Head, which would compel the rescuing nation to take his passengers in (BNC, G1X: 800). 162) Thus perception, as he conceives it, is tied too closely to the human paradigm; those normal contexts in which we require that someone be able to tell us about what they see (BNC, CM8: 204). 163) And he conceives a contempt for what he does not understand; habit and custom appear bad in themselves, a kind of nescience of behaviour (BNC, EAJ: 129). Прототип аллотропа внимания heed происходит от староанглийского hedan («to heed, observe; to take care, attend» from West Germanic *hodjan (cf. Old Saxon hodian, Old Frisian hoda, Middle Dutch and Dutch hoeden, Old High German huotan, German hüten «to guard, watch»), from PIE *kadh- «to shelter, cover» (ED)). Данный прототип указывает на вербализацию заботы, наблюдения, что в дефинициях современных толковых словарей отражено только как одна из составляющих соответствующей семантической структуры: «1. to give careful attention to: He did not heed the warning; 2. to give attention; have regard» (DС). В данном случае нельзя не отметить, что она отодвигается на периферию семантической структуры, а на первый план выходит значение внимания как психического процесса. Несмотря на преимущества глагола heed в обозначении стилистически нейтральной ситуации психических процессов, он достаточно нечастотен в современном английском дискурсе. Тем не менее, встречаются примеры, в которых данный глагол имеет прямую современную номинацию и выражает значение внимания: 164) But Fergie failed to heed the advice and missed out when Keane was sold to Coventry City (CD). 165) Should you be considering engaging in such an affair, please heed my advice: Don't ever read the ingredients label (CD). 297 166) Stephen Willis, Silver Spring, MD Heathens, heed the sacred words of the Right Reverend Gene Simmons (CD). 167) There seemed to be cries in the woods behind, but he did not heed them (CD). Интерпретация представленных выше примеров показывает, что ни один из них не указывает на описание рассматриваемым глаголом ситуации заботы. Более того, все они иллюстрируют ситуацию внимания, что говорит о вербализации аллотропа «Внимание» благодаря экспликации соответствующих обязательных компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ВНИМАНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. Порядок актуализации обязательных компонентов при этом соответствует положению главных и второстепенных членов предложения, то есть порядку следования вербализаторов соответствующих компонентов: подлежащее (выражено одушевленным существительным или соответствующим ему местоимением, вербалитором копонента СЕНСОР), сказуемое (выражено глаголом heed, вербализующим компонент ПРОЦЕСС), дополнение (выражено существительным, вербализующим компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР). Идентичная ситуация складывается в отношении глагола imagine, прототипа аллотропа «Воображение». Этот глагол наиболее сходен по значению с глаголом concept, о чем свидетельствуют данные этимологических словарей, например: «imagine (13c.), from Latin imaginari «to form a mental picture to oneself, imagine» (also, in Late Latin imaginare «to form an image of, represent»); (mid-14c.) «to form a mental image of,» from Old French imaginer «sculpt, carve, paint; decorate, embellish» (ED). Современное толкование рассматриваемой лексемы не противоречит этимологии и позволяет глаголу способствовать актуализации вербализации аллотропа компонентов «Воображение» СЕНСОР, благодаря ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ+ВООБРАЖЕНИЕ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, например: «1. (when transitive, may take a clause as object) to form a mental image of» (CD). 298 На функциональном уровне рассматриваемый глагол частотен для описания воображения, что очевидно из ситуаций вербализации аллотропа «Воображение», когда на уровне дистрибуции явно просматривается сочетание глагола imagine с существительным или соответствующим местоимением, выступающим на синтаксическом уровне в роли подлежащего: 166) Somehow he had imagined it larger, more forbidding (BNC, CDE: 2150). В роли дополнения может выступать существительное или местоимение, преимущественно с левосторонним определением или в постпозиции. Однако глагол imagine также встречается в предложениях, где концептуальным наполнением компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР вербализуемая придаточным дополнительно смещает предложением. акцент на является Это, стимулирующую в целая ситуация, свою очередь, функцию фокуса воображения, например: 169) In it, he imagines what would happen to London if it became so choked with cars that no-one could move (BNC: A70, 1346). 170) He imagines he is going to be arrested and whisked off to Siberia (BNC, A18: 1441). 171) I suspect that, if he imagines a dark grizzly bear trying to stalk seals over the snow, the Bishop will immediately see the answer to his problem (BNC, J52: 733). Таким образом, равно как и в предыдущих случаях рассмотрения дистрибутивного потенциала прототипов соответствующих аллотропов, глагол imagine выступает в типовых синтаксических конструкциях, наполненных соответствующими частями речи, что акцентирует его статичную семантику относительно этимологии. Следующий глагол remember, также как и предыдущие прототипы, практически не модифицировал свою семантику. По данным этимологического словаря, он появился в начале 14-го века для обозначения процессов памяти («early 14c., «keep in mind, retain in the memory»») (ED), причем он номинировал 299 не только процесс запоминания, но и процесс воспроизведения информации («from Old French remembrer «remember, recall, bring to mind» (ED)). Современный глагол remember не утратил свою способность к полисемии, хотя зачастую имеет более узкую спецификацию и обозначает запоминание «to retain (an idea, intention, etc) in one's conscious mind» (CD). Данное обстоятельство также можно проиллюстрировать примерами фактического материала: 172) She remembered that July day, the kitchen door open to the patio, the scent of herbs and sea stronger even than the spicy, buttery smell of newly baked biscuits (BNC, C8T: 2138). 173) She vaguely remembered taking it out of the bag last night (BNC, CJA: 1379). Глагол think не отличается вариативностью значения на диахроническом срезе, что вполне очевидно, если рассматривать его этимологию («conceive in the mind, think, consider, intend»; form of the distinct Old English verb þyncan «to seem or appear" Both are from PIE *tong- «to think, feel» which also is the root of thought and thank. The two meanings converged in Middle English and þyncan «to seem» was absorbed, except for archaic methinks «it seems to me» (ED). Современное толкование глагола практически идентично первоначальному, хотя и несколько расширено, например: «1. (transitive; may take a clause as object) to consider, judge, or believe: he thinks my ideas impractical; 2. (intransitive) often foll by about to exercise the mind as in order to make a decision; ponder; 3. (intransitive) to be capable of conscious thought ⇒ man is the only animal that thinks; 3. to remember; recollect: I can't think what his name is; 4. (intransitive) foll by of to make the mental choice (of)» (CD). На синтаксическом уровне глагол think встречается в функции предиката, который сочетается с подлежащим, выраженным одушевленным существительным или соответствующим ему местоимением и дополнением: 300 174) On the other hand, he thought the situation was grave enough to justify further investigation (BNC, FDD: 230). Порядок следования соответственно, элементов вербализаторов синтаксической основных структуры, компонентов аллотропа «Мышление», как правило, прямой. Однако встречаются случаи, когда дополнение, выраженное существительным/местоимением, вербализатором компонента ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР, фиксируется на первом месте. Соответственно, акцент смещается на объект мысли, что может быть проиллюстрировано следующим примером: 175) Typical English, thought Pamela, their first day and straight out into the midday sun (BNC, EFG: 1149). Прототип аллотропа «Речь» глагол speak по сравнению с предыдущими прототипами имеет довольно сложную историю развития значения. В принципе, предполагается, что эта лексема происходит от староанглийского specan («variant of sprecan «to speak, utter words; make a speech; hold discourse (with others))» (ED). Современное толкование рассматриваемого глагола повторяет этимологическое, например: «1. to make (verbal utterances); utter (words); 2. to communicate or express (something) in or as if in words; 3. (intransitive) to deliver a speech, discourse, etc» (CD). Выступая в качестве предиката в предложении, прототип аллотропа «Речь» актуализирует обязательные компоненты СЕНСОР и ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР: 176) Benny spoke with an authority she didn't know that anyone could have, let alone herself (BNC, CCM: 2421). Глагол will по данным этимологического словаря («Old English *willan, wyllan «to wish, desire, want»» (ED)) и современных лексикографических источников («used as an auxiliary to express resolution on the part of the speaker» (CD)), также не отличается особенной динамикой значения, что можно подтвердить примерами фактического материала: 177) But you will be careful, won't you? (BNC, JY0: 4635) 301 Однако по сравнению с рассмотренными выше прототипическими единицами функции данного глагола варьируются в зависимости от его семантики и, как следствие, дистрибуции. Например, в предложении: 178) Or perhaps some plants will always be plants, part of the building blocks of creation (BNC, BMY: 40) глагол will в составе составного сказуемого выполняет функцию вспомогательного глагола для образования аналитической конструкции будущего времени и, соответственно, десемантизируется. В связи с этим на способы выражения подлежащего это не накладывает никаких семантических ограничений. одушевленным или Подлежащее неодушевленным может быть выражено существительным. Основная семантическая нагрузка здесь падает на смысловой глагол, который, в свою очередь, предопределяет вербализацию соответствующего аллотропа, функционируя в качестве опорной единицы. Глагол experience в 1530 году имел значение «испытывать, пробовать» («1530s, «to test, try»» (ED)), причем такое значение было несколько буквальным. Семантика, приближенная к сегодняшнему значению прототипа аллотропа «Эмоция», была зафиксирована в 1580 году («feel, undergo» first recorded 1580s (ED)). Современное толкование глагола experience («to be emotionally or aesthetically moved by; feel» (CD)) явно указывает на актуализацию аллотропа «Эмоция», при этом семантическая структура рассматриваемой лексемы не отрицает и этимологически первородного значения («to participate in or undergo» (CD)), что может быть проиллюстрировано следующими примерами: 179) I experienced my hands being numb and slightly swollen, then being pressed or clasped by an unseen force (BNC, BN1: 2641). 180) The Cheshires enjoyed no such luxury and had to control the anger and revulsion that engulfed them as they experienced the horror for real (BNC, K4E: 664). 302 181) He experienced the joy of scoring Omagh's first two goals in the opening period but had the opposite feelings of emotion when he was sent off in the last minute (BNC, HJ3: 5577). Как и все предыдущие прототипические лексемы, глагол experience, описывая ситуацию психических процессов и являясь вербализатором соответствующего аллотропа, активизирует в сознании интерпретатора и конструктора компонентами дискурса прототипическую СЕНСОР, ПРОЦЕСС схему, которая представлена (ПРЕДИКАТ-ЭМОЦИЯ), ОБЪЕКТ- ТРИГГЕР. Пропозиция в составе обязательных и факультативных компонентов, будучи посредником между концептуальным и вербальным уровнями, имеет естественное выражение в виде соответствующих членов предложения, выраженных определенными частями речи. Данное обстоятельство на вербальном уровне характеризует дистрибутивный потенциал лексемы в соответствующем значении в пределах семантической структуры. Последнее также профилируется благодаря соответствующим синтаксическим конструкциям, вербальное наполнение которых зависит не только от интенций говорящих (и это релевантно по отношению к языкам аналитического типа, где четко ограничено число синтаксических вариаций), но и от так называемой этимологической памяти. По этому поводу Е.В. Пономаренко справедливо замечает, что «традиционное представление о том, что линейность расположения элементов при функционировании языка «есть фактически синтагматика языка» и что линейность – это форма существования всех элементов языка и форма функционирования языка (В.М. Солнцев, Ф. де Соссюр, М.Л. Макаров и др.) по-своему верно. Однако содержание речевого произведения создается как результат не только сложения семантики последовательно – линейно – выстроенных фрагментов дискурса, но и возникновения новых смысловых компонентов, присущих именно целостному произведению» (Пономаренко, 2013). Данное утверждение особенно актуально 303 при рассмотрении других репрезентантов ментальных структур психических процессов. Дело в том, что прототипические лексемы, как очевидно из анализа фактических данных, представляют собой так называемый аттрактор системы вербализаторов гештальта, к которому стремятся все вербализаторы ядра и периферии независимо процессов. Поэтому от полноты выражения трансформации значения значения психических под воздействием антропоцентрического и/или темпорального факторов – явление нечастотное, что совершенно точно вытекает из сравнения данных этимологических словарей и современных лексикографических источников. Полученные сведения о стабильности значения прототипической лексики дополнительно подтверждают правомерность их выделения в качестве «лучших образцов категории». Кроме того, в данном случае уместно вести речь также об их способности «помнить» синтагматические связи на уровне дистрибуции в предложении, то есть сочетаться с подлежащим и дополнением вне зависимости от темпорального фактора. На концептуальном уровне предопределяемая данными лексемами пропозициональная основа также явно указывает на соответствие собственному аллотропу и, тем не менее, допускает незначительные изменения семантики в угоду контекста при воздействии процессуального фактора в дискурсе. Более полно картина изменения системного значения в пределах семантической структуры рассматриваемых лексем может быть представлена на уровне ядерных вербализаторов моделируемых ментальных структур. Однако в данном случае речь идет не о всех лексемах психических процессов, а исключительно о тех, которые способны изменять свой дистрибутивный потенциал в пределах семантической структуры в зависимости от интенций конструктора дискурса. Данное обстоятельство влечет за собой исследование вопроса об их категориальном статусе, поскольку очевидно, что попытки привести такие лексемы под один общий знаменатель не приведут к 304 положительным результатам, о чем свидетельствуют труды лингвистов предшественников, которые усматривали в лексике психических процессов полистатусные единицы (подробнее см. параграф 1.3.1). Речь идет о таких лексемах, которые способны на системном уровне выражать и осознанность и неосознанность психических процессов, смещая акцент то на субъекта ситуации (компонент СЕНСОР), то на его объект (компонент ОБЪЕКТ) на концептуальном уровне. К таким лексическим единицам относятся ядерные глаголы smell, feel, taste и т.д. Приступим к иллюстрации заявленных положений. Лексикографические толкования указанных предикатов позволяют представить полноценную картину их категориального статуса: smell «1. [LINKING VERB] to have a particular smell; 2. [TRANSITIVE] [NEVER PROGRESSIVE] to notice or recognize the smell of something; 3. [TRANSITIVE] to experience the smell of something by putting your nose close to it (MDT); late 12c., «emit or perceive an odor» not found in Old English, perhaps cognate with Middle Dutch smolen, Low German smelen «to smolder» (see smolder). However, OED says «no doubt of Old English origin, but not recorded, and not represented in any of the cognate languages» (ED) feel «1. [LINKING VERB] to be in a particular state as a result of an emotion or a physical feeling; 2. [LINKING VERB] [NOT USUALLY PROGRESSIVE] if something feels nice, good, strange etc, it gives you this feeling; 3. [TRANSITIVE] to touch something with your hand so that you can discover what it is like» (MDT); «Old English felan «to touch, perceive,» from Proto-Germanic *foljan (cf. Old Saxon gifolian, Old Frisian fela, Dutch voelen, Old High German vuolen, German fühlen «to feel,» Old Norse falma «to grope»), from PIE root *pal- «to touch, feel, shake, strike softly» (cf. Greek psallein «to pluck (the harp),» Latin palpare «to touch softly, stroke,» palpitare «to move quickly», perhaps ultimately imitative» (ED). «The sense in Old English was «to perceive through senses which are not referred to any special organ.» Sense of «be conscious of a sensation or emotion» 305 developed by late 13c.; that of «to have sympathy or compassion» is from c.1600. To feel like «want to» attested from 1829” (ED). taste «1. [LINKING VERB] to have a particular flavour; [TRANSITIVE] to eat or drink something and to experience its flavour; 3. [TRANSITIVE] to experience something for a short time (MDT); late 13c., «to touch, to handle» from Old French taster «to taste» (13c.), earlier «to feel, touch» (12c.), from Vulgar Latin *tastare, apparently an alteration of taxtare, a frequentative form of Latin taxare "evaluate, handle». Meaning «to take a little food or drink» is from c.1300; that of «to perceive by sense of taste» is recorded from mid-14c. Of substances, «to have a certain taste or flavor,» it is attested from 1550s (replaced native smack (n.1) in this sense). For another PIE root in this sense» (ED). «The Hindus recognized six principal varieties of taste with sixty-three possible mixtures ... the Greeks eight .... These included the four that are now regarded as fundamental, namely «sweet», «bitter», «acid», «salt». ... The others were «pungent» (Gk. drimys, Skt. katuka-), «astringent» (Gk. stryphnos, Skt. kasaya-), and, for the Greeks, «rough, harsh» (austeros), «oily, greasy' (liparos), with the occasional addition of 'winy» (oinodes)» (ED). Из интерпретации представленных словарных трактовок очевидно, что все перечисленные предикаты имеют комплексную семантическую структуру, которая предопределена их категориальным статусом (это также отражено в их переходном/непереходном характере). В свою очередь, это позволяет им обозначать три качественно разные ситуации психических процессов. Данное обстоятельство заставляет нас отказаться от употребления термина «амбивалентность», который полностью соответствовал бы описанию случаев произвольных и непроизвольных психических процессов. Соответственно, поиск причины способности одного и того же глагола транслировать различные смыслы следует искать в пределах определенного контекстуального окружения на синтаксическом уровне с учетом его дистрибутивного потенциала. В данном случае особенно актуален учет выбранного в качестве приоритетного 306 направления вербоцетризма, что отсылает к анализу пропозиционных моделей в корреляции с синтаксическими конструкциями, характерными для выбранных предикатов. При этом пропозиция соответствующего аллотропа служит условным абсолютом для сравнения, поскольку она выступает коррелятом экстралингвистической ситуации познания на концептуальном уровне, что не позволяет ей быть отождествленной с синтаксической структурой, имеющей непосредственное отношение к вербализации. Анализ фактического материала показывает, что глаголы типа smell, feel, taste etc, наделенные сложной семантикой, на синтаксическом уровне встречаются в нескольких типах конструкций (Синтаксическая специфика…, 2013). Каждая такая синтаксическая конструкция эксплицирует одно из значений комплексной структуры. Тем не менее, порядок главных членов предложения, характерный для большинства языков аналитического типа, сохраняется, что выражается в последовательности элементов – подлежащее, сказуемое (дополнение). Например, в предложении: 182) The earth smelt clean and sweet <…> (BNC, BMU: 1394) с точки зрения классической синтаксической теории можно выделить следующий обязательный компонентный состав членов предложения: подлежащее (the earth), сказуемое (smelt clean and sweet). Причем в таком случае глагол smell выполняет функцию глагола связки, составляя сложное сказуемое, специфицирующее обстоятельство образа действия. Когнитивная интерпретация рассматриваемого предложения явно указывает на актуализацию ситуации восприятия и соответствующее значение глагола smell («[LINKING VERB] to have a particular smell» (MDT)), что семантически соответствует лексикографическая справка русскому глаголу эксплицирует «пахнуть». актуализацию Данная следующих компонентов: ОБЪЕКТ (the earth), наделенный особыми характеристиками для описания ситуации неосознанного восприятия и ПРЕДИКАТ (smelt clean and sweet). Кроме того, семантическое наполнение компонента ОБЪЕКТ явно указывает на экспликацию компонента ВИД. Компонент СЕНСОР, как следует 307 из анализа предложения, имплицируется, то есть предполагается. Данное обстоятельство закономерно указывает и дополнительно подчеркивает факт неосознанности процесса, нивелируя функции и характер компонента СУБЪЕКТ, за которым в данном случае закрепляются неагентивные характеристики. И если заявленную схему для иллюстративности соотнести с условными обозначениями, О+П, окажется что П соответствует средствам языковой актуализации компонента ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), С соответствует средствам языковой актуализации компонента СЕНСОР, О соответствует средствам языковой актуализации компонента ОБЪЕКТ, В соответствует видовым характеристикам восприятия или средствам языковой актуализации компонента ВИД. Целесообразность представления шаблонов синтаксических конструкций в виде схем имеет целью генерировать общие смыслы, имплицирующиеся в типизированной синтаксической конструкции (Алефиренко, 2005: 245). Индивидуализация схем осуществляется благодаря их семантической наполненности, способствующей экспликации/импликации обязательных и/или факультативных компонентов пропозиции. Тем не менее, структурное единство рассматриваемой модели, несмотря на семантическую наполняемость, закреплена в сознании соответствующего лингвокультурного сообщества как базовая модель предложения, реализующаяся на вербальном уровне (Кобрина, 1975: 78). В следующей синтаксической структуре, организованной по принципу подлежащее (she), сказуемое (глагол smell), дополнение (a sickening odour), находят свое вербальное выражение компоненты СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ТРИГГЕР, ОБЪЕКТ, ВИД. Причем каждый их этих компонентов эксплицирован, что на уровне соотнесения вербального и концептуального уровней может быть представлено в схеме типа: С+П+В+О, например: 183) … she … smelt a sickening odour (BNC, BPA: 2417). 308 В представленном предложении речь идет о непроизвольности процесса восприятия, что опять говорит в пользу экспликации особых концептуальных свойств компонента актуализируются ОБЪЕКТ, посредством которые на определения синтаксическом (sickening). уровне Благодаря спецификации качеств объекта ситуации восприятия глагол smell может восприниматься реципиентом в значении «почувствовала» («2. [TRANSITIVE] [NEVER PROGRESSIVE] to notice or recognize the smell of something»). Отрицательная коннотация определения sickening говорит о непроизвольности восприятия объекта субъектом ситуации, эквивалентной по семантике русскому предложению «Она почувствовала тошнотворный запах». Интересной в данном случае видится употребления и грамматическая неопределенного сторона артикля вопроса, указывается где посредством незнакомый, но отождествляемый с неприятным (с точки зрения когнитивного опыта субъекта ситуации) запах. В то же время анализ фактических данных позволяет утверждать, что в большинстве случаев употребление определенного артикля в идентичной синтаксической структуре П+С+О говорит о произвольности процесса, например, в предложении: He smelt the book (BNC, HTY: 1893) – Он понюхал книгу. В данном случае актуализируется третье значение в семантической структуре, где профилируется произвольность процесса: «3. [TRANSITIVE] to touch something with your hand so that you can discover what it is like» (MDT). В данном случае акцентируются агентивные характеристики субъекта ситуации восприятия. По поводу изменения концептуальных характеристик компонента СЕНСОР относительно его позиции в ситуациях осознанного и неосознанного процесса, Я.Г. Тестелец отмечает наличие принципа единственности в языке, оправдывающего невозможное сосуществование двух агенсов или двух пациенсов (Тестелец, 2001: 218). Применительно к ситуации чувственного восприятия эта ситуация может трактоваться как смена модуса контролирующей силы: в случае произвольного восприятия контролирующая и агентивная функция накладывается на 309 компонент СЕНСОР, в случае непроизвольного восприятия основной фокус приходится на характеристики компонента ОБЪЕКТ, который выступает в качестве основного фактора, предопределяющего непроизвольное восприятие. Об амбивалентности, то есть способности лексической единицы сенсорного восприятия актуализировать произвольное и непроизвольное сенсорное восприятие можно говорить в случае с лексемой taste, которая в лексикографических источниках трактуется следующим образом «1. [LINKING VERB] to have a particular flavour; 2. [TRANSITIVE] to eat or drink something and to experience its flavour» (MDT). На уровне семантического синтаксиса структуры, профилирующие произвольность процесса, можно шаблонно представить формулой О+П. На языковом уровне компонент субъект актуализируется посредством местоимения it, компонент ПРОЦЕСС – посредством глагола taste, компонент ВИД – посредством семантики рассматриваемой лексемы. Компонент СЕНСОР в данном случае нивелируется, как и во всех случаях актуализации ситуации неосознанного непрерывного восприятия. Данное обстоятельство вполне согласуется с необходимостью смещения акцента на особые параметрические качества компонента ОБЪЕКТ, за счет чего редуцируется агентивная роль и контролирующие функции субъекта, например: 184) It tasted sweet (BNC, HD6: 313). 185) This cigarette tasted different; it was a Gauloise, and it tasted of France, as pungent, as unacceptably alien as that knotty sausage (BNC, EFP: 602). Глагол taste, равно как и любой другой глагол, способный на системном уровне обозначать произвольный и непроизвольный процесс восприятия, на функциональном уровне, будучи основной предикативной единицей в пропозициональной структуре, предопределяет семантическое содержание остальных обязательных компонентов, что естественным образом отражается на синтаксическом уровне посредством следующего расположения основных элементов: С+П+В+О. Например: 310 186) He tasted his brandy (BNC, ARJ: 3027). В представленном предложении эксплицируется целенаправленное воздействие субъекта восприятия на его объект, причем такое воздействие носит не только когнитивный характер. В данном случае речь идет об изменении количественного параметра объекта в сторону его уменьшения. Субъект при этом осуществляет целенаправленный контроль вкуса посредством соответствующего анализатора и участия сознания. Помимо этого в процесс включена соответствующая целенаправленная двигательная активность. Учет таких факторов обусловливает восприятие семантики глагола taste как глагола целенаправленного вкусового восприятия. Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что интерпретация смысла предложения в корреляции с той или иной структурой дает возможность интерпретатору воспринимать соответствующее значение полисеманта. Иными словами, интерпретатор бессознательно соотносит сведения, заложенные в предложении, с семантическими ментальными структурами, что обеспечивает адекватное понимание смысла. Не менее интересным наблюдением при работе с фактическим материалом в рамках процессуально-синергетического подхода стало описание непроизвольного характера процесса, то есть актуализация соответствующего аллотропа без учета факультативного компонента ВОЛЯ. В данном случае речь идет не о предикатах, а, скорее о лексическом наполнении компонента СЕНСОР. Дело в том, что актуализация непроизвольного психического процесса возможна только в том случае, когда в качестве субъекта ситуации выступает человек, причем на том основании, что только психика человека предполагает весь диапазон психических процессов. Однако для эмфазы непроизвольности процесса возможно метонимическое замещение одушевленного лица в положении компонента СЕНСОР отдельной его составляющей (органом перцепции, например). В таком случае особую роль приобретает локативность протекания процесса: 311 187) And I think —’ her eyes wandered doubtfully to Ferryman, who was still grinning, wondering what all the fuss was about —‘they got quite a lot out of it.’ (BNC, AEB: 1645). 188) He'd caught a glimpse of the two of them reflected in the hall mirror and his heart had lurched because it looked as if he was propping up a corpse (BNC, C86: 3735). 189) Idly she let her eyes drift over his desk, over the orderly piles of papers and files arranged there (BNC, H97: 2449). 190) Suddenly his heart beat faster and he quickened his pace, in the grip of dreadful panic (BNC, H84: 2776). 191) Another hazy memory floated tantalisingly at the edge of his mind (BNC, HH1: 2181). 192) It's impossible , her mind was saying (BNC, AC4: 1557). 193) Her mind was taken up with puzzling over a fact which had become increasingly clear the longer she stayed in the apartment (BNC, H94: 3335). 194) Her memory returned fully… (BNC, HE: 32) 195) His memory of her became dulled and blocked, a stalemate of the imagination that began to have the taste of sloth and suicide, like the evil torpor that can ensue from spending night after night without a dream (BNC, FSP: 2129). 196) His imagination rested firmly on observed fact and carefully preserved records: his extant notebooks abound in transcriptions of scenes and encounters, interlarded with direct quotations from ordinary speech (BNC, ABL: 622). Во всех представленных выше предложениях профилируется непроизвольный характер психического процесса, поскольку в качестве вербального наполнения компонента СЕНСОР (на синтаксическом уровне выраженного подлежащим) выступают глаза (eyes) (187, 189), сердце (heart) (188, 190), разум (mind) (193), что напрямую специфицирует область протекания процесса, а также указывает на сам психический процесс, дополняя его некоторыми неспецифическими характеристиками. В данном случае речь 312 идет о предложениях, где в качестве вербального наполнения компонента СЕНСОР выступают лексемы, называющие память (memory (191, 192, 195) и воображение (imagination) (197). Здесь вербализатором компонента ПРОЦЕСС выступает нехарактерная лексика, то есть не соотносящаяся с рассматриваемыми лексемами по денотативному статусу. В таком случае глаголы float (191), say (192), take up (193), return (194), dull and block (195), rest (196), вербализирующие другие ментальные структуры, уточняют и специфицируют видо-параметрические особенности. Выше представлены ядерные и прототипические вербализаторы психических процессов, которые уже на уровне синтаксиса выступают в типовых конструкциях, интерпретация содержания которых позволяет указать, что компонент ТРИГГЕР имплицирован в особых качествах компонента ОБЪЕКТ, когда речь идет о непроизвольном психическом процессе, и качествах компонента СЕНСОР при описании ситуации произвольного процесса. Соответственно, происходит заявленная ранее адгезия компонента ТРИГГЕР и компонента СЕНСОР (либо компонента ОБЪЕКТ). Но, как показывает анализ фактического материала, существуют немалочисленные случаи, когда компонент ТРИГГЕР эксплицирован за счет указания на внешнюю по отношению к ситуации психических процессов силу благодаря так называемой каузативной конструкции. Данное обстоятельство особенно явно просматривается на примерах глагольно-именных словосочетаний, в которых ТРИГГЕР, элемент, позволяющий является «вводить» факультативным. К вербализаторы таким компонента глагольно-именным словосочетаниям относятся, например: attract (sb’s) attention, bring your/sb’s attention to sb/sth, call sb’s attention to sb/sth, direct your/sb’s attention at sb/sth, drag your attention to sb/sth, draw (sb’s) attention to sth/sb, transfer (your) attention to sb/sth, turn your/sb’s attention to sb/sth etc. Интересным в таком случае представляется то обстоятельство, что экспликация компонента ТРИГГЕР происходит за счет соответствующего 313 вербализатора, который, как правило, функционирует в качестве подлежащего. В роли вербального выражения компонента СЕНСОР выступает само существительное attention (часть рассматриваемого глагольно-именного словосочетания). За счет профилирования процесса над самим субъектом ситуации внимания (это происходит в результате замещения существительного, вербализующего человека, абстрактным существительным, называющим сам процесс) конструктору дискурса удается акцентировать непроизвольность процесса. Сравним, например, следующие предложения: 198) When she was about to move forward though, ready to go up to that front door and ring the bell, some sound drew her attention to the corner of the house (BNC, JYF: 466). 199) Corbett became tired of her constant witticisms and sly innuendoes so she transferred her attention to Ranulf, who was overjoyed to see the tedium of staying in a manor on the Scottish coast so pleasantly broken (BNC, BMN: 1908). В примере (198) имеет место каузация психического процесса, когда внимание субъекта ситуации существительным-заместителем благодаря неизвестному звуку (компонент attenton) СЕНСОР, удерживается (компонент ТРИГГЕР, вербализуемый и направляется вербализуемый существительным sound и его определением some) к фокусу концентрации сознания (компонент ОБЪЕКТ, вербализуемый именной группой the corner of the door). В предложении (199) предикат, в котором глагольный компонент представлен глаголом transfer, в семантике имеет указание на и на волитивность процесса, на ее отсутствие («1. to change or go or cause to change or go from one thing, person, or point to another» (TFD)). Кроме того, в данном случае не нарушен порядок следования компонентов при описании психического процесса, где компонент ОБЪЕКТ сливается с компонентом ТРИГГЕР, что говорит о естественном протекании психического процесса, когда смена фокуса внимания обусловлена таким его свойством как переключение. 314 Подытоживая обзор синтагматического и дистрибутивного потенциала вербализаторов ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе, отметим, что функционируя в качестве предикатов предложений, прототипические лексемы подтверждают свой статус аттракторов синергетической системы, поскольку они не только отличаются более или менее устойчивой семантикой, что очевидно на диахроническом срезе, но и имеют этимологическую дистрибутивную память, поскольку выступают в фиксированном количестве синтаксических конструкций, позволяющих им профилировать произвольность/непроизвольность того или иного психического семантическая процесса. структура На претерпевает уровне ядерных определенные репрезентантов изменения, что провоцирует полисемию, вопрос о которой снимается, когда конструктор дискурса помещает ту или иную ядерную предикативную единицу в соответствующую синтаксическую конструкцию. Современное состояние семантической структуры некоторых ядерных глаголов настолько распространилось в отношении полистатусности, что позволяет нам отказаться от термина амбивалентность и указать на их способность профилировать зачастую диаметрально противоположные грани процесса. Не менее интересным наблюдением в ходе анализа дистрибутивного потенциала лексем психических процессов существительными, стала способность номинирующими не к их комбинаторике человека, а его с орган, непосредственно то место, где локализован сам психический процесс, что позволяет говорить о профилировании непроизвольности процесса. И если для глаголов ядерного ряда может в этих целях меняться только согласуемое с ним существительное, выполняющее функцию подлежащего в предложении, то в случае с глагольно-именными словосочетаниями с компонентом attention меняется не только состав, но и функции их составных частей. Думается, что исследование семантического синтагматики синтаксиса и дистрибутивного сквозь призму 315 потенциала соотнесения в русле синтаксической структуры и ее пропозиционального (концептуального) воплощения позволит выявить наиболее типичные схемы передачи смысла, а также впоследствии определить траектории синергетических метаморфоз изменений под семантики воздействием процессуального фактора. 316 в русле системных антропоцентрического Выводы по Главе 3 1. Представленность психических процессов в жизнедеятельности социума обусловливает наличие большого количества языковых средств их описания, что характеризует в нашем случае семантическую плотность гештальта. При этом все лексические средства организуют лексико- семантическую синергетическую систему вербализаторов гештальта, которая находится в состоянии относительного покоя и стабильности в вертикальном измерении, когда все лексические средства-вербализаторы находятся в определенной удаленности от прототипа своего поля. Однако любые процессуальные факторы антропоцентрического характера могут повлечь за собой нарушение равновесия и хаосное состояние системы, что ведет ее к эволюционным изменениям самоорганизации, к модификации положения лексем, что отражается на их семантике. 2. Динамический характер лексико-семантической синергетической системы гештальта позволяет ей постоянно самоорганизовываться и совершенствоваться в зависимости от процессуальных условий, при этом она способна также идентифицироваться благодаря наличию инвариантных составляющих высокой степени абстракции, чем, собственно, и обусловлена целостность такой системы. 3. Анализ лексикографических источников и тезаурусов позволил выявить ряд лексических единиц, которые являются синонимичными прототипам своего поля, так называемым аттракторам синергетической системы. Последняя находится в состоянии относительной стабильности, если такие лексемы в дискурсе (при условии фактора хронотопичности) используются в прямом системном значении «психические процессы» и соответствуют идентификационным критериям своего аллотропа, то есть разворачивают инвариантную пропозицию с учетом факультативных видопараметрических элементов. Соответственно, не меняя положения ядерных 317 вербализаторов относительно аттракторов, операционная система сознания просто выбирает соответствующую лексему из списка ядерного ряда и не нарушает относительной гармонии системы, аппелируя при этом к ментальному уровню высокой степени абстракции интерпретатора дискурса. Однако такое положение дел характеризует преимущественно ситуацию научного дискурса или художественного нарратива, когда тот или иной психический процесс находится не в фокусе внимания конструктора и интерпретатора, а лишь сопровождает интересующую обоих коммуникантов деятельность. 4. Любые попытки акцентировать ту или иную грань психического процесса, поместить ее в фокус внимания интерпретатора дискурса заставляют операционную систему конструктора дискурса нарушать фактор хронотопичности, обратившись к ядерному ряду вербализаторов смежного поля или поля другой гештальт-сферы. Выбранный таким образом вербализатор стремится к аттрактору вербализуемого поля и начинает модификацию семантики за счет адгезии соответствующих компонентов на уровне аллотропа. В синергетической системе происходят флуктуации, и в точке бифуркации вербализатор принимает ту или иную стратегию развития семантики. При этом совершенствование синергетической системы от хаоса к эволюции на уровне семантических модификаций происходит достаточно быстро, особенно если это касается внутрисистемных трасформаций. Более того, анализ лексикографических фактов показывает, что некоторые вербализаторы уже закрепили за собой полученные в результате эволюционных изменений значения, что отражено на периферии их семантической структуры. Остальные вербализаторы меняют значение окказионально и со временем могут приобретать это значение на системном уровне. 5. Анализ семантики представленных лексем показывает, каким образом происходит модификация значения на концептуальном и лексико- семантическом уровне синергетической системы вербализаторов гештальта, за 318 счет чего осуществляется высвечивание того или иного компонента системного значения в зависимости от интенций конструктора дискурса, который в процессе речетворчества (с учетом фактора хронотопичности дискурса) осуществляет поиск соответствующей лексемы из ядерного ряда и, не найдя релевантную, обращается к другим гештальт-сферам. Выбранная в таких условиях единица должна стремиться к аттрактору описываемого гештальтполя с целью обеспечения понимания между коммуникантами. И если полученное в результате колебаний синергетической системы значение уже отражено в лексикографическом источнике, можно говорить, что соответствующее изменение есть свершившийся факт эволюционного витка системы. Данное обстоятельство как раз свидетельствует в пользу процессуальной обусловленности значения в пределах наложения гештальтсфер. 5. Кроме внутрисистемных модификаций значения, существуют экстрасистемные, или периферийные. На уровне лексико-семантической синергетической системы такие модификации свидетельствуют в пользу ее открытости. Кроме того, такие модификации говорят о приращении смыслов на ментальном уровне конкретного коммуниканта. Иными словами, существуя в качестве синергетической системы, на внешней границе гештальт приращивает смыслы и ассоциации, что позволяет ему общаться с внешней средой и пополнять семантическую плотность за счет притока новых ресурсов в условиях экстрасистемных модификаций значения. 6. На периферии лексико-семантической синергетической системы гештальта флуктуации особенно заметны, в точке бифуркации вербализаторы, как правило, семантически не соответствуют фактору хронотопичности и расширяют свое значение, приобретая коннотации. Однако даже на этом уровне очевидны эволюционные сдвиги системы, когда некоторые лексические единицы систематизируют такое значение. 319 7. Рассмотрение ментальных структур психических процессов с точки зрения теории гештальтов как единой лексико-семантической системы, с позиций разрабатываемого процессуально-синергетического подхода показывает, что гештальт психических процессов – это инструмент познания и отражения действительности, с одной стороны, и концептуальное начало, обеспечивающее постоянство и модификацию значения своих вербализаторов, с другой. Последняя функция актуальна благодаря способности такой синергетической системы к эволюции и самоорганизации. Иными словами, лексико-семантическая синергетичекая система вербализаторов гештальта психических процессов, устроенная в виде инвариантного уровня высокой степени абстракции и ментального уровня конкретного коммуниканта, способна на первом уровне хранить базовый каркас для достижения понимания между коммуникантами и включать новую информацию на ментальном уровне конкретного субъекта. На последнем уровне наблюдается особая динамика системы, где она осуществляет свои эволюционные витки самоорганизации. И если учесть то обстоятельство, что фактор окказиональности со временем переходит в фактор системности, можно гипотетически предсказать развитие семантики лексики психических процессов. 8. Рассмотрение дистрибутивного и синтагматического потенциала вербализаторов ментальных структур психических процессов позволяет говорить об определенных валентностных закономерностях, которые очевидны на нескольких уровнях своего проявления. Во-первых, если говорить о семантике лексем и ее динамике на срезе диахронии, можно заметить, что, несмотря на некоторые метаморфозы значения (это реже всего касается прототипов), лексемы прототипического и ядерного ряда «хранят синтагматическую память». Это проявляется в их способности сочетаться с существительными, либо соответствующими последним местоимениями, выполняющими функцию подлежащего (вербализаторы компонента СЕНСОР), а также лексемами, номинирующими конкретные или абстрактные объекты, 320 функционирующими в качестве дополнения (вербализаторы компонента ОБЪЕКТ). Естестенная непроизвольность психического процесса на синтаксическом уровне подчеркивается не только посредством семантики предиката, но и за счет порядка следования вербализаторов компонентов СЕНСОР и ОБЪЕКТ. В случае непроизвольного психического процесса компонент ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР часто занимает первостепенное положение относительно компонента СЕНСОР. Глагольно-именные компоненты рекурренты в каузативных конструкциях, где они способны профилировать компонент ТРИГГЕР и тем самым смещать акцент на внешнюю по отношению к психическому процессу силу, специфицировать ее особенности. Думается, что учет синтагматики и дистрибутивного потенциала вербализаторов, соотнесение синтаксических схем с их концептуальным содержанием позволяет интерпретатору дискурса адекватно воспринимать смысл, передаваемый конструктором в процессе создания дискурса. 321 Заключение Психические процессы как экстралингвистическая сущность всегда привлекали и продолжают привлекать ученые умы различных отраслей наук. Наиболее важными вопросами, по мнению специалистов, являются проблемы положения психических процессов среди прочих процессов человеческого организма, их взаимосвязь и функционирование. Большое количество таких вопросов обусловливает появление множества работ в области философии, психологии, физиологии, которые по-разному трактуют рассматриваемый феномен, причем независимо от методологии и направленности исследования, все они относят психические процессы к классу сложных и противоречивых, трудно дефинируемых явлений особого статуса. В лингвистических работах по исследованию вербализаторов психической сферы в синхронии и диахронии также царит плюрализм мнений на предмет количественного и качественного состава группы. Однако при всем многообразии теорий на сегодняшний день не существует единой методологии, описывающей взаимосвязь процессов на языковом уровне, а также отражающей системность их слаженного функционирования. Кроме того, отмеченные учеными постоянные модификации лексического значения единиц рассматриваемой группы диахронической динамики также обращают семантической к максимальному структуры учету вербализаторов психических процессов. Современными достижениями, релевантными для исследования сложных процессов вербализации психических процессов в языке, являются, на наш взгляд, положения гештальт-психологии, усматривающие инструментальную роль гештальта как ментального конструкта, разработки психологии энергетизма, постулирующей обмен энергией между системами и ее высвобождение, а также физиологии, дающей эмпирическое основание для разработки единой теории психических процессов, в настоящем исследовании 322 принимой в качестве приоритетной экстралингвистической основы. Таким образом, мы полагаем, что в основе существования гештальта психических процессов как искомой нами ментальной структуры лежит единая рефлекторная теория, отвечающая за запуск и функционирование психических процессов. Такая теория единства психических процессов указывает на их онтологическую взаимосвязь и дистинктивные качественные характеристики, способствующие дальнейшей дифференциации: предметность, спонтанная активность, чувственная недоступность и субъектность. Предположение о том, что психологический гештальт является структурой, тождественной языковой структуре знания, обращает нас к менталистской теории для исследования гештальта психических процессов как феномена «вещь в себе» с учетом его функциональной и инструментальной ролей. Последняя заключается в способности рассматриваемой ментальной структуры отражать и хранить в сознании индивида данные об экстралингвистическом феномене динамической характеристики психики и возможнсти транслировать ее в единицы номинации. Особенности изучения вербализации такой информации выявляются с учетом знания концептуального содержания искомой ментальной структуры, которое, в свою очередь, может быть описано благодаря анализу лингвистической и релевантной нелингвистической информации. Отождествление психологического гештальта с ментальной структурой психических процессов позволяет учитывать весь диапазон психических процессов, их комплексную взаимосвязь, а также специфику каждого из них. При этом решение вопроса о трансляции смысла, хранимого в ментальной структуре в семантике вербализаторов, решается нами с учетом антропоцентрического фактора, который отправляет к деятельностному или процессуальному подходу. Последний специально адаптируется к лингвистическому знанию с целью акцентирования роли коммуникантов при формировании и модификации значения в процессе конструирования или 323 интерпретации дискурса. Процессуальными факторами, влияющими на процесс трансляции смыслов в дискурсе, являются структура деятельности, характер коммуникативного акта, контекст, потенциальное значение высказывания, речевые стратегии и тактика поиска говорящими единиц номинации. Передача смыслов, развертывание ментальных структур осуществляется в дискурсе. Именно дискурсивное пространство выступает в качестве среды, обеспечивающей жизнеспособность гештальтов, которые поочередно попадают в поле внимания субъекта и находятся в режиме активации. Таким образом, в дискурсе осуществляется постепенное раскручивание ментальных структур психических процессов от гештальта до его минимальных составляющих – фреймов (аллотропов) с их пропозициональными основами. Как было заявлено ранее, структурно гештальт представляет собой ментальную структуру психических процессов, обладающую инвариантными дистинктивными признаками субъектности, чувственной недоступности, предметности и спонтанной активности. Гештальт образован перцептивной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферами с включенными в них полями, структурируемыми в аллотропные модификации фреймов, вмещающие аллотропы «Ощущение», «Восприятие», «Представление», «Мышление», «Воображение», «Память», «Речь», «Эмоция», «Воля». Многомерность гештальта позволяет ему условно коррелировать с иерархической структурой интеллекта в двух уровнях – уровне высокой степени абстракции (или прототипической основой) и уровне ментальности конкретного субъекта (вариативные, факультативные составляющие). Первый уровень обеспечивает инвариантный каркас ситуации психических процессов, второй – обеспечивает его вариативные составляющие. Такой комплексный характер гештальта позволяет ему также характеризоваться с позиций дискретности и синкретизма, которые определяют его расчлененность, с одной стороны, и слитность, с другой. Данная характеристика согласуется с основными параметрами экстралингвистического 324 гештальта «фигура» и «фон». Синкретизм гештальта проявляется в его субъектности, спонтанной активности, чувственной недосягаемости и предметности, а также пропозициональной структуре инвариантного фрейма в составе компонентов СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ), ОБЪЕКТ, ТРИГГЕР. Дискретность обеспечивается за счет факультативных компонентов, специфицирующих каждый аллотроп в отдельности. Вербализация гештальта в синкретизме и дискретности позволяет ему выступать в качестве мотивирующего начала репрезентантов. Последние отличаются друг от друга согласно критерию полноты выражения значения психических процессов, то есть согласно способности каждой лексической единицы отвечать условиям классификаторов гештальта и инвариантной структуры аллотропа. Наличие стабильного системного и функционального значения, стилистическая нейтральность и частотность позволяют выявить прототипы каждой лексической группы, номинирующей тот или иной аллотроп. Последующее ранжирование базируется на способности лексем номинировать видо-параметрические особенности любого из психических процессов, что позволяет выявить ядерно-периферийную группу. Диссипативность периферийных границ гештальта, способных принимать приток информации из внешней среды, и его инвариантное ядро, обеспечивающее жизнеспособность и аттракцию, дают возможность соотнести гештальт психических процессов с синергетической системой, которая при определенных процессуальных условиях, в зависимости от интенций конструктора дискурса и его интерпретатора, реагирует на внешние и внутренние факторы, приходит в состояние хаоса и совершает флуктуации, стремясь к аттрактору. Флуктуациями в данном случае выступают внутрисистемные колебания, которые, в конечном счете, приводят к эволюционному витку и новому состоянию относительного равновесия. Способность периферии гештальта быть диссипативной и поддаваться изменениям позволяет нам разработать 325 авторский процессуально- синергетический подход к описанию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе. Последний принимает в расчет и относительную стабильность системы гештальта, и ее способность к самоорганизации в условиях воздействия антропоцентрического процессуального фактора. На уровне семантики изменения значения в случае метаморфоз синергетической системы выглядят как результат приращения ассоциативных фоновых знаний, актуальных фактору хронотопичности (то есть значению в условиях «здесь и сейчас»). Разработанный в диссертации процессуально-синергетический подход позволяет объяснить интрасистемные и экстрасистемные трансформации значения, носящие окказиональный, темпоральный или системный характер. Например, акцент на той или иной стороне психического процесса возможен, если конструктор дискурса, подчиняясь общей идее передачи смысла, нарушает фактор хронотопичности, актуальности значения сегодняшнему дню, и обращается к ядерным репрезентантам ментальной структуры. Употребленная в несвойственном контексте лексема стремится к аттрактору несвоего аллотропа и начинает соответствующих модификацию компонентов на семантики уровне за другого, счет адгезии окказионально вербализуемого ею аллотропа. Таким образом, синергетическая система происходит в состояние колебаний, и в точке бифуркации вербализатор принимает ту или иную стратегию развития семантики. При этом нужно отметить, что эволюция системы в таком случае происходит достаточно быстро, если речь идет о внутрисистемных трансформациях. Более того, модификации значения зачастую фиксируются в языке, что уже отражено в словарных толкованиях лексем на периферии семантической структуры. Некоторые вербализаторы таким же образом меняют значение окказионально, но даже это не исключает их способности впоследствии закреплять данное значение на системном уровне. Не менее интересными кажутся и экстрасистемные или периферийные 326 модификации значения, которые опять же говорят об открытости границ синергетической системы гештальта и приращении смыслов на ментальном уровне конкретного коммуниканта. Таким образом, функционирование гештальта в качестве синергетической системы позволяет ему на внешней границе плодотворно общаться с внешней средой и пополнять семантическую плотность за счет притока новых ресурсов. Не менее интересным фактом, на наш взгляд, является и дистрибутивный потенциал лексических репрезентантов гештальта психических процессов. В качестве принципиального наблюдения за синтагматическими свойствами соответствующих предикатов можно отметить следующее: лексемы прототипического ряда довольно консервативны в отношении семантических изменений, что отражено не только в лексикографических толкованиях современных словарей и этимологических источниках, но и в отношении дистрибуции. Анализ их способности сочетаться с различными лексемами в роли подлежащего и дополнения показывает, что инвариантный каркас синергетической системы хранит сведения об дистрибутивном потенциале. Наиболее лабильными в этом отношении являются периферийные вербализаторы. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что для определенных лексем восприятия существует ряд типичных синтаксических моделей, в который они профилируют произвольность и непроизвольность процесса, смещая, таким образом, акцент то на компонент СЕНСОР, то на компонент ОБЪЕКТ. Подытоживая вышесказанное, можно вести речь о плодотворности процессуально-синергетического подхода к исследованию механизмов вербализации ментальных структур психических процессов в современном английском дискурсе. Именно этот подход позволил учесть не только специфику гештальта психических процессов, доподлинно отразив его на концептуальном уровне, но и представить рассматривемый гештальт в качестве единой лексико-семантической системы с синергетическим характером, как 327 инструмент познания и отражения действительности, с одной стороны, и концептуальное начало, обеспечивающее постоянство и модификацию значения своих вербализаторов, с другой. Представленная концепция не только способствует объяснению корреляции «системное – функциональное значение», но и открывает перспективы изучения вербализации психических структур лексикой других семантических групп на разных уровнях языковой иерархии. 328 Список используемой литературы 1. Авдукова, А. М. Глагол think в предложных словосочетаниях, выражающих делиберативные отношения, и тематические ряды глаголов, объединенных значением think [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. М. Авдукова ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – Москва, 1972. – 23 с. 2. Александрова, О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. На материале английского языка [Текст]: учеб. пособие. / О. В. Александрова. – Изд. 2-е, испр. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. – 216 с. 3. Алефиренко, Н.Ф. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н.Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с. : ил. 4. Ананьев, Б. Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия [Текст] / Б. Г. Ананьев, М. Д. Дворяшина, H. A. Кудрявцева ; Акад. пед. наук СССР. – Москва : Просвещение, 1986. – 334 с. 5. Аристотель. Сочинения [Текст] : в 4 т. : пер. с древнегреч. / Аристотель ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва : Мысль, 1976. – Т. 1 : [Метафизика ; О душе] / ред. и авт. предисл. В. Ф. Асмус. – 550 с. – (Филос. наследие). 6. Арутюнова, Н. Д. Дискурс. Языкознание // Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. редактор В. Н. Ярцева. – М.: Большая советская энциклопедия, 1998. – С. 136-137. 7. Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семант. проблемы [Текст] / Н. Д. Арутюнова ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1976. – 383 с. 8. Арутюнова, Н. Д. Сравнительная оценка ситуаций [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. – 1983. – Т. 42, № 4. – С. 330-341. 329 9. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека [Текст] / Н. Д. Арутюнова. – 2е изд., испр. – Москва : Яз. рус. культуры, 1999. – 895 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 10. Аршинов, В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки [Текст] / В. И. Аршинов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – Москва : ИФРАН, 1999. – 200 с. 11. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи [Элекстронный ресурс] / А. Карманов. – Воронеж, 2002. – Режим доступа: http://azps.ru/ 12. Баданина, Л. П. Познавательные процессы [Текст] : курс лекций / Л. П. Баданина. – Санкт-Петербург : РГПУ, 2002. – 64 с. 13. Базылев, В. Н. Новая метафора языка: семиотико-синергетический аспект [Текст] : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / В. Н. Базылев ; [Рос. акад. наук, Ин-т языкознания]. – Москва, 1999. – 53 с. 14. Балашова, Л. В. Метафора в диахронии: на материале рус. яз. XI-XX веков [Текст] / Л. В. Балашова ; Ин-т рус. яз. и лит. при филол. фак. Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Сарат. ун-т, 1998. – 216 с. 15. Беляевская, Е. Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах: когнитивные основания семантической структуры слова [Текст] : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Е. Г. Беляевская. – Москва, 1992. – 401 с. 16. Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов [Текст] / Л. фон Берталанфи // Системные исследования : ежегодник / Акад. наук СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1969. – С. 30-54. 17. Богданов, А. А. Тектология: всеобщ. организационная наука [Текст] : [в 2 кн.] / А. А. Богданов ; отв. ред. Л. И. Абалкин ; Отд-ние экономики Акад. наук СССР [и др.]. – Москва : Экономика, 1989. – Кн. 2. – 350 с. – (Экон. наследие). 330 18. Богданов, В. В. Текст и текстовое общение [Текст] : учеб. пособие / В. В. Богданов ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 1993. – 67 с. 19. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию [Текст] : [в 2 т.] / И. А. Бодуэн де Куртенэ ; Акад. наук СССР, Отд-ние лит. и языка. – Москва : АН СССР, 1963. – Т. 2. – 388 с. 20. Болдырев, Н. Н. Инварианты и прототипы в системной и функциональной категоризации английского глагола [Текст] / Н. Н. Болдырев // Проблемы функциональной грамматики: семантическая инвариантность/вариативность / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. – СанктПетербург, 2003. – С. 54-75. 21. Бондарко, А. В. Субъектно-предикатно-объектные ситуации [Текст] / А. В. Бондарко // Теория функциональной грамматики: субъектность. Объектность. Коммуникатив. перспектива высказывания. Определенность/неопределенность / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. ; отв. ред. А. В. Бондарко. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 29-71. 22. Борисова, И. Н. Семантическая организация высказываний, описывающих ситуации познания: на материале рус. яз. [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Н. Борисова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СанктПетербург, 1991. – 15 с. 23. Бостонов, А. Х. Ролевая семантика правостороннего актанта английских сенсорных глаголов [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / А. Х. Бостонов ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа, 2005. – 21 с. 24. Брунер, Дж. Психология познания. За пределами непосредств. информации [Текст] / Дж. Брунер ; пер. с англ. К. И. Бабицкого. – Москва : Прогресс, 1977. – 412 с. – (Обществ. науки за рубежом. Философия и социология). 25. Булыгина, Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке [Текст] / Т. В. Булыгина // Семантические типы предикатов / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; [отв. ред. О. Н. Селиверстова]. – Москва, 1982. – С. 7-85. 331 26. Буянова, Л. Ю. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности [Текст] / Л. Ю. Буянова, Е. Г. Коваленко ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КГУ, 2004. – 165 с. 27. Бызова, Ю. П. Предложения с глаголами зрительного восприятия в русском и английском языках [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Ю. П. Бызова ; [Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского]. – Саратов, 2004. – 25 с. 28. Валиева, P. M. Репрезентация эмоциональных концептов «Радость», «Горе», «Страх» в русском языке: с элементами сопоставления с башкирским [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / P. M. Валиева. – Уфа, 2003. – 212 с. 29. Варшавская, А. И. Смысловые отношения в структуре языка: на материале соврем. англ. яз. [Текст] / А. И. Варшавская. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 135 с. 30. Василенко, Л. А. Интернет в информатизации государственной службы России: социол. аспекты [Текст] : монография / Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2000. – 251 с. 31. Васильев, Л. М. Современная лингвистическая семантика [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Л. М. Васильев. – Москва : Высш. шк., 1990. – 175 с. 32. Введение в психолингвистику : [Учеб. для вузов по филол. спец.] / А.А. Залевская; Ин-т "Открытое о-во", Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : [б. и.], 1999. - 382 с. : ил. - ISBN 5-7281-0282-4 : Б. ц. 33. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов [Текст] / Л. М. Веккер ; под общ. ред. А. В. Либина. – Москва : Смысл, 1998. – 679 с. – (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое о-во). 34. Веккер, Л. М. Сквозные психические процессы и механизмы психической интеграции [Электронный ресурс] / Л. М. Веккер // Веккер Л. М. 332 Психика и реальность: единая теория психических процессов. – Москва, 1998а. – Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books/1/0183/1_0183-296.shtml. 35. Верани, А. Роль внутренней речи в высших психических процессах [Электронный ресурс] / А. Верани // Культурно-историческая психология. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/files/29152/KIP_2010_1_Werani.pdf. 36. Верньо, Ж. К интегративной теории представления [Текст] / Ж. Верньо // Иностранная психология. – 1995. – № 5. – С. 9-17. 37. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление [Текст] : пер. с англ. / М. Вертгеймер ; общ. ред. С. Ф. Горбова, В. П. Зинченко. – Москва : Прогресс, 1988. – 335 с. 38. Витяев, Е. Е. Информационная теория эмоций П. В. Симонова [Электронный ресурс] / Е. Е. Витяев // Витяев Е. Е. Извлечение знаний из данных. Компьютерное Новосибирск, познание. 2006. Модели – когнитивных процессов. Режим – доступа: http://www.math.nsc.ru/AP/ScientificDiscovery/pages/Chapter_9_84.htm. 39. Вишнякова, О. Д. Функциональные особенности языкового знака в языке и речи: на материале соврем. англ. яз. [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / О. Д. Вишнякова ; [МГУ им. М. В. Ломоносова]. – Москва, 2003. – 49 с. : ил. 40. Воображение: понятие и значение в жизни человека [Электронный ресурс] // Интегральная медицина XXI века: теория и практика / АНО НИИЦ «Радиофизические Тестовые Технологии» ; рук. Г. И. Сергеев. – СанктПетербург, 2002. – Режим доступа: http://www.it- med.ru/library/v/voobrajenie.htm. 41. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 2. Проблемы общей психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 42. Гайсина, Р. М. К семантической типологии глаголов русского языка [Текст] / Р. М. Гайсина // Семантические классы русских глаголов : межвуз. сб. 333 науч. тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; отв. ред. Э. В. Кузнецова. – Свердловск, 1982. – С. 15-21. 43. Гак, В. Г. Пространство мысли: опыт систематизации слов ментального поля [Текст] / В. Г. Гак // Логический анализ языка. Ментальные действия : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Ин-т языкознания ; [отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева]. – Москва, 1993. – С. 22-29. 44. Гамезо, М. В. Развитие психики в животном мире и становление сознания человека [Текст] / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко // Гамезо М. В. Атлас по психологии : информ.-метод. пособие к курсу «Психология человека». – 3-е изд., доп. и испр. – Москва, 1999. – С. 43-59. 45. Герман, А. И. Введение в лингвосинергетику [Текст] : монография / И. А. Герман, В. А. Пищальникова ; Алт. гос. ун-т. – Барнаул : Алт. гос. ун-т, 1999. – 127 с. 46. Гиппенрейтер, Ю. Б. Деятельность и внимание [Текст] / Ю. Б. Гиппенрейтер // А. Н. Леонтьев и современная психология : сб. ст. памяти А. Н. Леонтьева / под ред. А. В. Запорожца [и др.]. – Москва, 1983. – С. 165-177. 47. Гончарова, Н. Ю. Формирование фактообразующего значения английского глагольного предиката в системе языка и в речи [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Н. Ю. Гончарова ; [Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина]. – Тамбов, 2000. – 20 с. 48. Грегори, Р. Л. Разумный глаз [Текст] : [как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях] / Р. Л. Грегори ; пер. с англ. А. И. Когана. – 2-е изд. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 232 с. 49. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры [Текст] : пер. с нем. / В. Гумбольдт ; сост., общ. ред. и вступ. ст. А. В. Гулыш, Г. В. Рамишвили. – Москва : Прогресс, 1985. – 451 с. – (Языковеды мира). 50. Дейк, Т. А. ван. Контекст и познание. Фреймы знаний и понимание речевых актов [Текст] / Т. А. ван Дейк // Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : сб. работ / сост. В. В. Петрова. – Москва, 1989. – С. 12-40. 334 51. Декарт, Р. Разыскание истины [Текст] / Р. Декарт ; пер. с англ.: М. Позднева [и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 286 с. – (Азбукаклассика). 52. Демьянков, В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Электронный ресурс] / В. З. Демьянков // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [отв. ред. М. Н. Володина]. – Москва, 2003. – С. 116-133. – Режим доступа: http://www.infolex.ru/SMI1.htm. 53. Денисенко, Л. Г. Глаголы зрительной перцепции в системном и речевом контексте: на материале испан. яз. [Текст] / Л. Г. Денисенко ; Пятигор. гос. лингв. ун-т. – Пятигорск : ПГЛУ, 2005. – 160 с. : табл. 54. Джеймс, У. Внимание [Текст] / У. Джеймс // Хрестоматия по вниманию / под ред. А. Н. Леонтьева, А. А. Пузырей, В. Я. Романова. – Москва, 1976. – С. 50-65. 55. Дискретность [Электронный ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике // Академик, 2000-2013. – Режим доступа: dic.academic.ru/searchall.php?SWord=дискретность&from=ru&to=xx&submitForm Search=Найти&stype=0 56. Дмитровская, М. А. Философия памяти [Текст] / М. А. Дмитровская // Логический анализ языка. Культурные концепты : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; [отв. ред. Н. Д. Арутюнова]. – Москва, 1991. – С. 78-85. 57. Добросельский, П. В. Общие аспекты психики, или Введение в православную психологию [Электронный ресурс] / П. В. Добросельский. – Москва : Благовест, 2008. – 350 с. – (Очерки православной антропологии ; вып. 3). – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/dobroselskiy-3/index.htm. 58. Добрынин, Н. Ф. Основные вопросы психологии внимания [Текст] / Н. Ф. Добрынин // Психологическая наука в СССР : [сб. ст. : в 2 т.] / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. – Москва, 1959. – Т. 1. – С. 202-442. 59. Дормашев, Ю. Б. Психология внимания [Текст] : учебник / Ю. Б. 335 Дормашев, В. Я. Романов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3е изд., испр. – Москва : МПСИ : Флинта, 2002. – 376 с. : ил. – (Б-ка психолога). 60. Дорофеева, Н. В. Удивление как эмоциональный концепт: на материале рус. и англ. яз. [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Н. В. Дорофеева ; [Волгогр. гос. пед. ун-т]. – Волгоград, 2002. – 19 с. 61. Елкина, Е. В. К вопросу о функционировании глаголов чувственного восприятия в художественном тексте [Текст] / Е. В. Елкина // Структура синтаксиса словосочетания и предложения в современном английском языке : межвуз. сб. науч. тр. / Пятигор. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; отв. ред. П. И. Шлейвис. – Пятигорск, 1988. – С. 71-74. 62. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология [Текст] : учебник для вузов / М. И. Еникеев. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 611 с. 63. Ждан, А. Н. История психологии: от античности до наших дней [Текст] : учебник / А. Н. Ждан. – Москва : МГУ, 1990. – 366 с. 64. Заботкина В. И. К вопросу о динамической концептуальной семантике [Текст] / В.И. Заботкина // Пелевинские чтения – 2005: межвуз. сб. науч. тр. / Российский государственный университет им. Э.Канта отв. ред. В. И. Заботкина. – Калининград, 2005. – С. 3-11 65. Психолингвистические аспекты взаимодействия слова и текста [Текст] / А.А. Залевская, Э.Е. Каминская, И.Л. Медведева, Н.В. Рафикова ; Твер. гос. ун-т. - Тверь : [б. и.], 1998. - 206 с. : ил. - Б. ц. 66. Залевская, А. А. Информационный тезаурус человка как база речемыслительной деятельности // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М.: Прогресс, 1985. – С. 150-171. 67. Залевская, А. А Различные подходы к трактовке значения как достояния индивида [Текст] / А. А. Залевская // Психолингвистические исследования слова и текста : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. А. А. Залевская. – Тверь, 1997. – С. 11-24. 336 68. Залевская, А. А. Концепция «живого знания»: задачи исслед. и некоторые пути решения [Текст] / А. А. Залевская // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. науч. тр. / [Твер. гос. ун-т, С.Петерб. гос. ун-т ; отв. ред.: А. Ф. Шикун, Ю. П. Платонов]. – Тверь, 1995. – Т. 7-8. 69. Залевская, А. А. Понимание текста: психолингв. подход [Текст] : учеб. пособие / А. А. Залевская ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1988. – 95 с. 70. Залевская, А. А. Психолингвистические проблемы семантики слова [Текст] : учеб. пособие / А. А. Залевская ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1982. – 80 с. 71. Залевская, А. А. Слово в лексиконе человека [Текст] : психолингв. исслед. / А. А. Залевская. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 1990. – 204 с. 72. Зубкова, Е. М. Глаголы умственной деятельности, речи и физического восприятия в английской художественной и научной прозе [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Е. М. Зубкова. – Саранск, 1986. – 233 с. 73. Изард, К. Э. Психология эмоций [Текст] / К. Э. Изард ; [пер. с англ.: А. Татлыбаева]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 460 с. – (Мастера психологии). 74. Ильин, Е. П. Психология воли [Текст] : [учеб. пособие] / Е. П. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 368 с. : ил. – (Мастера психологии). 75. Ирисханова, О. К. Лингвокреативные основания теории номинализации [Текст] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / О.К. Ирисханова ; [МГЛУ]. – Москва, 2004. – 332 c. 76. Калимуллина, Л. А. Диахронический аспект семантической деривации [Текст] / Л. А Калимуллина // Вестник Томского государственного педагогического университета. Сер. Гуманитарные науки (филология). – 2006. – Вып. 5. – C. 21-28. 337 77. Каминская, Э. Е. Психолингвистическое исследование динамики смыслового поля слова: на материале пер. поэтич. текста [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Э. Е. Каминская. – Тверь, 1996. – 229 c. 78. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего [Текст] / С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – 2-е изд. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 288 с. – (Синергетика: от прошлого к будущему). 79. Карандашова, Н. Э. Синонимические ряды глаголов психической деятельности: функционально-семантический аспект [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. Э. Карандашова. – Санкт-Петербург, 2003. – 209 с. 80. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / В. И. Карасик ; Науч.-исслед. лаб. «Аксиол. лингвистика». – Москва : ГНОЗИС, 2004. – 389 с. 81. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов ; Акад. наук СССР, Отд-ние лит. и яз. ; отв. ред. Д. Н. Шмелев. – Москва : Наука, 1987. – 261 с. 82. Карпичев, B. C. Организация и самоорганизация социальных систем [Текст] : словарь / В. С. Карпичев ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2001. – 126 с. 83. Карташкова, Ф. И. Номинация в речевом общении [Текст] / Ф. И. Карташкова ; Иван. гос. ун-т. – Иваново : ИГУ, 1999. – 200 с. 84. Касевич, В. Б. Субъектность и объектность: пробл. семантики [Текст] / В. Б. Касевич // Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность / Рос. акад наук, Ин-т лингв. исслед. ; отв. ред. А. В. Бондарко. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 5-29. 85. Касевич, В. Б. Языковые структуры и когнитивная деятельность [Текст] / В. Б. Касевич // Язык и когнитивная деятельность : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. Р. М. Фрумкина. – Москва, 1989. – С. 8-18. 338 86. Кацнельсон, С. Д. Типология языка и речевое мышление [Текст] / С. Д. Кацнельсон ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1972. – 216 с. 87. Кашкин, В. Б. Сопоставительные исследования дискурса [Текст] / В. Б. Кашкин // «Концептуальное пространство языка». – Тамбов: ТГУ, 2005. – С. 337 – 353. 88. Кибрик, А. А. Когнитивные исследования по дискурсу [Текст] / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С. 126-139. 89. Кибрик, А. Е. Константы и переменные языка [Текст] / А. Е. Кибрик ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2003. – 719 с. : ил. 90. Ким Ен Ок. Модально-предикативная организация предикатного актанта в предложениях с глаголами памяти в современном английском языке [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Ким Ен Ок. – Иркутск, 1997. – 123 с. 91. Клиническая психология [Текст] : учебник / В. А. Абабков, А. П. Бизюк, Н. Н. Володин [и др.] ; под ред. Б. Д. Карвасарского. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер принт, 2002. – 960 с. – (Нац. мед. биб-ка). 92. Князева, Е. Н. Синергетическое расширение антропного принципа [Текст] / Е. Н. Князева, C. П. Курдюмов // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов / отв. ред. В. И. Аршинов [и др.]. – Москва, 2000. – С. 80-106. 93. Князева, Е. Н. Синергетика и новые подходы к процессу обучения [Текст] / Е. Н. Князева, C. П. Курдюмов // Синергетика и учебный процесс / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ ; под ред. В. С. Егорова, В. И. Корниенко. – Москва, 1999. – С. 8-18. 94. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика [Текст] : учеб. / И. М. Кобозева. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с. 339 95. Кобрина, Н.А. Предложение со вставной предикативной единицей в современном английском языке: [Текст] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Н. А. Кобрина. – Л., 1975. – 396 с. : ил. 96. Ковшиков, В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов педвузов / В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 318 с. – Режим доступа: http://www.syntone.ru/library/books/content/5004.html?current_book_page=20 97. Колесов, И. Ю. Проблемы концептуализации и языковой репрезентации зрительного восприятия: на материале англ. и рус. яз. [Текст] : монография / И. Ю. Колесов ; Барнаул. гос. пед. ун-т. – Барнаул : БГПУ, 2008. – 354 с. : ил., табл. 98. Колшанский, Г. В. Соотношение объективных и субъективных факторов в языке [Текст] / Г. В. Колшанский ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 231 с. 99. Коновалова, О. А. Категория результативности и специфика ее проявления в лексико-семантическом поле зрительного и слухового восприятия: на материале рус. и нем. яз. [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / О. А. Коновалова. – Саратов, 2001. – 209 с. : ил. 100. Корди, Е. Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке [Текст] / Е. Е. Корди ; отв. ред. В. С. Храковский ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Наука, 1988. – 165 с. 101. Котельников, Г. А. Теоретическая и прикладная синергетика [Электронный ресурс] / Г. А. Котельников. – Белгород : БелГТАСМ : Крестьян. дело, 2000. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/kotelki.htm. 102. Коффка, К. Восприятие: введ. в гештальттеорию [Текст] / К. Коффка // Хрестоматия по ощущению и восприятию / МГУ ; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – Москва, 1975. – С. 96-113. 103. Кравков, С. В. Внимание [Текст] / С. В. Кравков // Психология 340 внимания : учеб. пособие / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. А. Романова. – Москва, 2001. – С. 22-38. – (Хрестоматия по психологии). 104. Кравченко, А. В. Язык и восприятие: когнитив. аспекты языковой категоризации [Текст] / А. В. Кравченко. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1996. – 159 с. 105. Краткий словарь терминов лингвистики текста [Текст] / сост. Т. М. Николаева // Лингвистика текста : сб. ст. / сост. и общ. ред. Т. М. Николаевой. – Москва, 1978. – С. 467-472. – (Новое в зарубеж. лингвистике ; вып. 8). 106. Крушевский, Н. В. Очерк науки о языке [Текст] : [соч.] / Н. В. Крушевский. – Казань : Тип. Казан. ун-та, 1883. – 149 с. 107. Крылов, В. Ю. Психология и синергетика [Текст] / В. Ю. Крылов, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – Препр. – Москва : ИПМ, 1990. – 32 с. : ил. – (Ин-т прикл. математики им. М. В. Келдыша ; № 41). 108. Кубрякова, Е. С. Актуальные проблемы современной семантики [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Кубрякова ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – Москва : МГПИИЯ, 1984. – 130 с. 109. Кубрякова, Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика, психология, когнитивная наука [Текст] / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 34-47. 110. Кубрякова, Е. С. О тексте и критериях его определения [Текст] / Е. С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика : докл. VIII междунар. конф., Москва, 3-5 апр. 2001 г. : в 2 т. / Моск. гос. открыт. пед. ун-т им. М. А. Шолохова ; отв. ред. Е. И. Диброва. – Москва, 2001. – Т. 1. – С. 72-81. 111. Кубрякова, Е. С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи [Текст] / Е. С. Кубрякова, А. М. Шахнарович, Л. В. Сахарный ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. Е. С. Кубрякова. – Москва : Наука, 1991. – 238 с. 112. Кубрякова, Е. С. Языковое сознание и языковая картина мира [Текст] / Е. С. Кубрякова // Филология и культура : тез. 2 междунар. конф., 341 Тамбов, 12-14 мая 1999 г. : [в 3 ч.] / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; отв. ред. Н. Н. Болдырев. – Тамбов, 1999. – Ч. 1. – C. 6-13. 113. Куприева, И. А. Вербализация ментальных структур психических процессов в аспекте процессуально-синергетического подхода [Текст] : монография / И. А. Куприева. – Москва : Флинта : Наука, 2014. – 160 с 114. Куприева, И. А. «Вещь в себе» или менталистский подход к вербализации психических процессов в английском дискурсе [Электронный ресурс] / И. А. Куприева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]. – Краснодар, 2013. – № 91. – Ст. 0911307047. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/47.pdf. 115. Куприева, И. А. Инструментальная роль психических процессов в исследовании проблем вербализации действительности [Электронный ресурс] / И. А. Куприева // Современные проблемы науки и образования. – 2014а. – № 1. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/115-11897. 116. Куприева, И. А. Концептуальные основания формирования значения лексики, номинирующей психические процессы в современном английском дискурсе [Текст] / И. А. Куприева // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013а. – № 10 (138). – С. 2431. 117. Куприева, И. А. Лингвокультурологические аспекты языковой репрезентации ментальных культур [Текст] / И. А. Куприева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – № 4. – C. 105-109. 118. Куприева, И. А. Ментальная структура «психические процессы»: факультативные компоненты [Текст] / И. А. Куприева // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2010. – № 24, вып. 8. – С. 145-151 119. Куприева, И. А. О преимуществах представления ментальной структуры психических процессов: на материале английского языка [Текст] / И. 342 А. Куприева // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – № 24 (143), вып. 16. – С. 67-73. 120. Куприева, И. А. Организация ментальных структур психических процессов [Текст] / И. А. Куприева // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2013б. – № 27 (170), вып. 20. – С. 51-61. 121. Куприева, И. А. О специфике вербализации дискретности и синкретизма динамической характеристики психики [Текст] / И. А. Куприева // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Лингвистика. – 2013в. – № 2. – С. 45-50. 122. Куприева, И. А. Семантико-синтаксические особенности лексических репрезентантов фрейма «внимание»: на материале глаголов и глагольно-именных словосочетаний [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / И. А. Куприева. – Белгород, 2007. – 198 с. 123. Куприева, И. А. Внимание – фрейм «внимание» [Текст] : семантико-синтаксические характеристики глаголов и глагольно-именных словосочетаний с общим значением «внимание» : монография / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова. – Саарбрюккен, Германия : Lap Lambert Acad. Publ., 2012. – 225 с. 124. Куприева, И. А. Национальный компонент семантики абстрактных лексических и фразеологических единиц [Текст] / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай ; НИУ БелГУ // Язык и культура. – 2013г. – № 2. – С. 68-81. 125. Куприева, И. А. Опыт компаративно-семантического анализа «универсальных» глаголов в английском и французском языках [Текст] / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – № 18 (137), вып. 15. – С. 76-81. 126. Куприева, И. А. Преимущества когнитивного картирования в изучении лексики с общим значением «психические процессы»: на материале англ. яз. [Текст] / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай; НИУ БелГУ 343 // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2011. – № 18 (113), вып. 11. – С. 134-141. 127. Куприева, И. А. Процессуально-синергетический подход в исследовании вербализации ментальных структур психических процессов [Текст] / И. А. Куприева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2014б. – № 3, ч. 1. – С. 110-113. 128. Курс лекций по дисциплине «Деятельностный подход в психологии» [Электронный ресурс] / сост. М. Н. Волкова // Морской государственный университет Владивосток, 2013. имени адмирала – Г. И. Невельского. Режим – доступа: http://www.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/Volkova1.pdf. 129. Кустова, Г. И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений [Текст] / Г. И. Кустова // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4. – С. 85-109. 130. Лакофф, Дж. Когнитивное моделирование [Текст] / Дж. Лакофф // Язык и интеллект : [сб.] / сост. В. В. Петрова ; пер. с англ. и нем. яз. под общ. ред. В. И. Герасимова, В. П. Нерознака. – Москва, 1995. – С. 143-184. 131. Лакофф, Дж. Лингвистические гештальты [Текст] / Дж. Лакофф ; пер. с англ. Н. Н. Перцовой // Лингвистическая семантика : сб. ст. / сост., общ. ред. В. А. Звегинцева. – Москва, 1981. – С. 350-368. – (Новое в зарубеж. лингвистике ; вып. 10). 132. Лакофф, Дж. Мышление в зеркале классификаторов [Текст] / Дж. Лакофф // Когнитивные аспекты языка : сб. ст. / под ред. В. В. Петрова, В. И. Герасимова. – Москва, 1988. – С. 12-51. – (Новое в зарубеж. лингвистике ; вып. 23). 133. Ланге, Н. Н. Теория волевого внимания [Текст] / Н. Н. Ланге // Хрестоматия по вниманию / под ред. А. Н. Леонтьева. – Москва, 1976. – С. 107143. 344 134. Лапшина, М. Н. Семантическая эволюция английского слова: изучение лексики в когнитив. аспекте [Текст] / М. Н. Лапшина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 1998. – 159 с. 135. Лексическая репрезентация фрейма «внимание»: семант. аспект [Текст] : монография / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай, Ж. Багана. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 108 с. – (Науч. мысль). 136. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Психология» / А. А. Леонтьев. – 4-е изд., испр. – Москва : Academia : Смысл, 2005. – 287 с. – (Психология для студента). 137. Леонтьев, А. А. Психологическая структура значения [Текст] / А. А. Леонтьев // Семантическая структура слова: психолингв. исслед. : сб. ст. / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. А. А. Леонтьев. – Москва, 1971. – С. 718. 138. Леонтьев, А. Н. Деятельность и сознание [Текст] / А. Н. Леонтьев // Вопросы философии. – 1972. – № 12. – С. 129-140. 139. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 304 с. 140. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Леонтьев. – Москва : Смысл, 2001. – 511 с. 141. Леонтьев, А. Н. Речь [Текст] / А. Н. Леонтьев // Психология / под ред. К. Н. Корнилова, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1948. – С. 262-287. 142. Лурия, А. Р. Мозг человека и психические процессы [Текст] / А. Р. Лурия ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1963. – 88 с. – (Материалы к совещ. по филос. вопросам физиологии высш. нервной деятельности и психологии). 345 143. Лучинин, А. С. История психологии [Текст] : конспект лекций : [учеб. пособие ] / А. С. Лучинин. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 158 с. – (Экзамен в кармане). 144. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. – Москва : Гнозис, 2003. – 276 с. 145. Мак-Гайр, Р. Установление каналов связи: развитие интуиции и восприимчивости [Текст] : [полн. рук.] : пер. с англ. / Р. Мак-Гайр. – Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2005. – 158 с. 146. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маклаков. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 583 с. : ил. – (Учебник нового века). 147. Марцинковская, Т. Д. История психологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. Д. Марцинковская. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2004. – 544 с. – (Высш. проф. образование. Психология). 148. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Маслова. – Москва : Академия, 2001. – 202 с. – (Высш. образование). 149. Ментальные структуры и их репрезентация лексическими средствами в германских и романских языках [Текст] : монография / О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай, И. А. Куприева, Ж. Багана – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 336 c. 150. Минина, Н. М. Сопоставительный анализ семантики глаголов зрения русского и немецкого языков [Текст] / Н. М. Минина // Иностранные языки в высшей школе [Текст] : темат. сб. / 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; [отв. ред. Г. В. Колшанский]. – Москва, 1962. – С. 69-77. 151. Минский, М. Фреймы для представления знаний [Текст] / М. Минский ; пер. с англ. О. Н. Гринбаума ; под ред. Ф. М. Кулакова. – Москва : Энергия, 1979. – 151 с. 346 152. Молчанова, Г. Г. Синергия как основной типообразующий параметр современных языковых и межкультурных инноваций [Текст] / Г. Г. Молчанова // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2006. – № 4. – С. 15. 153. Морозов, А. В. Деловая психология [Текст] : курс лекций / А. В. Морозов. – Санкт-Петербург : Союз, 2000. – 576 с. – (Учебник для вузов). 154. Морослин, П. В. Семантическая структура глаголов мышления и их функция в тексте: на материале рус. и англ. яз. [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / П. В. Морослин. – Москва, 2001. – 210 с. 155. Мясищев, В. Н. Психология отношений [Текст] : избр. психол. тр. / В. Н. Мясищев ; под ред. А. А. Бодалева ; Акад. пед. и социал. наук, Моск. психол.-социал. ин-т. – Москва ; Воронеж : Ин-т практ. психологии, 1995. – 356 с. – (Психологи отечества). 156. Найссер, У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии [Текст] / У. Найссер. – Москва : Прогресс, 1981. – 232 с. 157. Недялков, И. В. Глагольное слово и пресуппозиция предикатного актанта в английском и русском языках: лексико-грамматические корреляции [Текст] / И. В. Недялков // Семантика английского глагола в соотношении с признаками различных языковых уровней : [сб. ст.] / Смол. гос. пед. ин-т им. К. Маркса ; отв. ред. Г. Г. Сильницкий. – Смоленск, 1988. – С. 106-111. 158. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов вузов : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 3-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 1998. – Кн. 1 : Общие основы психологии. – 687 с. : ил. 159. Немов, Р. С. Психология [Текст] : учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 4-е изд. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологии. – 686 с. : ил. ; Кн. 2 : Психология образования. – 607 с. ; Кн. 3 : Психодиагностика: введ. в науч. психол. исследования с элементами мат. статистики. – 630 с. : ил. 347 160. Нефедова, Л. Б. Статистические и динамические аспекты глагольной семантики в современном английском языке [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Б. Нефедова ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – Москва, 1983. – 26 с. 161. Нечипоренко, В. Ф. Биолингвистика в её становлении : биолингвистические основы систем памяти, мышления, языка и речи [Текст] : автореф. дис. … д-ра филол. наук / В. Ф. Нечипоренко. – Москва, 1995. – 34 с. 162. Общая психология [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 7 т. / МГУ им. М. В. Ломоносова ; под ред. Б. С. Братуся. – Москва : Academia, 2005-2008. – Т. 1 : Введение в психологию / Е. Е. Соколова. – Москва, 2005. – 352 с. 163. Овчинникова, Л. О. Сенсорная лексика как средство выражения ценностной картины мира Ю. Н. Куранова [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. О. Овчинникова ; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. – Калининград, 2009. – 22 с. 164. Озонова, Л. Г. Репрезентация фрейма «радость» в современном французском языке [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 / Л. Г. Озонова ; Иркут. гос. лингв. ун-т. – Иркутск, 2003. – 15 с. 165. Олейник, Ю. Н. Философско-психологическая мысль нового времени (период научной революции XVII в.) [Электронный ресурс] / Ю. Н. Олейник, В. А. Кольцова // Олейник Ю. Н. История психологии / Ин-т междунар. прогр. РУДН. – Москва, 2013. – Режим доступа: http://imp.rudn.ru/psychology/history_of_psychology/6.html. 166. Оллпорт, Г. В. Личность в психологии [Текст] / Г. В. Оллпорт ; [пер. с англ. И. Ю. Авидон]. – Москва : КСП+ ; Санкт-Петербург : Ювента, 1998. – 347 с. – (Теория личности). 167. Определение памяти [Электронный ресурс] // А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи / А. Карманов. – Воронеж, 2002. – Режим доступа: http://azps.ru/articles/proc/proc6.html. 348 168. Отражение процесса познания в языке: в поисках концептуальных оснований [Текст] / И.А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай, Ж. Багана, Е.А. Сапронова ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – № 24 (143), вып. 16. – С. 104-110. 169. Павлов, И. П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга [Текст] / И. П. Павлов // Полное собр. соч. Т. 4. .... Т. 3/ Н. Г. Чернышевский. – М., 1949. – 473 с. 170. Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст] : [в 6 т.] / И. П. Павлов ; Акад. наук СССР. – 2-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1951-1952. – Т. 5 : [Лекции по физиологии / ред. Э. Ш. Айрапетьянц]. – Москва, 1952. – 566 с. 171. Падучева, Е. В. Семантические исследования: семантика времени и вида в рус. яз. Семантика нарратива [Текст] / Е. В. Падучева. – Москва : Яз. рус. культуры, 1996. – 464 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 172. Память [Электронный ресурс] // Психотерапевт / Компания «Московский врач». – Москва, 2009. – Режим доступа: http://www.mentally.ru/view_art.php?art=33&page=22. 173. Панкрац, Ю. Г. Пропозициональные структуры и их роль в формировании значений языковых единиц разных уровней: на материале сложноструктурированных глаголов соврем. англ. яз. [Текст] : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ю. Г. Панкрац. – Москва, 1992. – 333 с. 174. Пауль, Г. Принципы истории языка [Текст] : пер. с нем. / Г. Пауль ; под ред. А. А. Холодовича. – Москва : Иностр. лит., 1960. – 499 с. 175. Первушина, О. Н. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов / О. Н. Первушина. – Новосибирск : Науч.-учеб. центр психологии НГУ, 1996. – 90 с. http://www.syntone.ru/library/books/content/2565.html. 349 – Режим доступа: 176. Петренко, М. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : справ. изд. / М. В. Петренко. – Москва ; Санкт-Петербург, 2005. – Режим доступа: http://metropolys.ru/artic/11/01/h-0091.html. 177. Петренко, М. В. Эмоциональные процессы и их характеристика [Электронный ресурс] / М. В. Петренко // Петренко М. В. Психология и педагогика. – Москва, 2005а. – http://metropolys.ru/artic/11/01/h-0091-04000.html. 178. Петрова, С. Н. Контексты интерпретации и прагматика адресата [Текст] / С. Н. Петрова // Язык и социальное познание. – М., 1990. – С.77-81. 179. Петровский, А. В. Основы теоретической психологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 526 с. 180. Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении [Текст] : популяр. очерк : пособие для самообразования и шк. / А. М. Пешковский. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1920. – 504 с. 181. Пивоварова, Елена Леонидовна. Перформативные глаголы речи в ... Южного моря" : монография / Е.Л. Пивоварова .— Воронеж : Истоки, 2009 .— 138 с. 182. Пивоварова, Е. Л. Поэтика цикла рассказов У. С. Моэма «Трепет листа: маленькие истории островов Южного моря» [Текст] : монография / Е. Л. Пивоварова. – Воронеж : Истоки, 2009а. – 138 с. 183. Пименова, М. В. Ментальность: лингв. аспект: на примере рус. и англ. яз. [Текст] : учеб. пособие / М. В. Пименова ; Кемер. гос. ун-т. – Кемерово : КемГУ, 1996. – 82 с. 184. Пименова, М. В. Семантико-синтаксический аспект ментальных глаголов: на материале рус. и англ. яз. [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / М. В. Пименова. – Санкт-Петербург, 1995. – 207 с. 185. Пищальникова, В. А. К становлению лингвосинергетики [Текст] : [вступ. ст.] / В. А. Пищальникова // Москальчук Г. Г. Структурная организация 350 и самоорганизация текста : монография / Г. Г. Москальчук. – Барнаул, 1998. – С. 5-11. 186. Познавательные психические процессы [Текст] : учеб. пособие для учащихся пед. классов / Л. И. Панкова, Г. П. Редя, С. Г. Афанасенко [и др.] ; Пенз. гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. – Пенза : ПГПУ, 1999. – 66 с. 187. Пономаренко, Е. В. Функциональная системность дискурса: на материале англ. яз. [Текст] : монография / Е. В. Пономаренко. – Москва : Моск. гос. ун-т, 2004. – 328 с. 188. Пономаренко, Е. В. O самоорганизации и синегретизме функционального пространства английского дискурса [Текст] / Е. В. Пономаренко ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2013. – № 13 (156), вып. 18. – С. 131-141. 189. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика [Электронный ресурс] / З. Д. Попова, И. А. Стернин // Библиотека Zinki.ru. – Москва, 2013. – Режим доступа: http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/. 190. Попова, З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях [Текст] / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 1999. – 30 с. 191. Потебня, А. А. Слово и миф [Текст] / А. А. Потебня ; [сост., подгот. текста и примеч. А. Л. Топоркова]. – Москва : Правда, 1989. – 623 с. 192. Предчувствия, эмоции - откуда берутся 'нутряные чувства'? [Электронный ресурс] // Психология. – 2011 – 2014. – Режим доступа: http://psixologiya.org/differenczialnaya/psixofiziologiya/1803-predchuvstviyaemocii-otkuda-berutsya-nutryanye-chuvstva.html 193. Пригожин, И. Перспективы исследования сложности [Текст] / И. Пригожин // Системные исследования : ежегодник 1986 / Акад. наук СССР, Инт истории естествознания и техники. – Москва, 1987. – С. 45-57. 351 194. Пригожин, И. Порядок из хаоса [Текст] : новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. Ю. А. Данилова ; общ. ред. В. И. Аршинова [и др.]. – Москва : Прогресс, 1986. – 431 с. 195. Принцип оценочной актуализации в современном английском языке [Текст] : монография / И. В. Чекулай, О. Н. Прохорова, И. А. Куприева, Ж. Багана – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – (Науч. мысль). 196. Прохорова, О. Н. Психологическая основа рассмотрения фрейма «внимание» и его репрезентация в английском языке [Текст] / О. Н. Прохорова, И. А. Куприева // Вестник университета / Гос. ун-т управления. Сер. Социология и управление персоналом. – 2006. – № 8. – С. 153-157. 197. Психические познавательные процессы [Электронный ресурс] // Библиотека психолога. – Иркутск, 2010-2011. – Режим доступа: http://www.libpsyx.ru/?Article=7. 198. Психические процессы [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл. / Wikimedia Foundation, Inc. – San Francisco, [2012]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. 199. Психические свойства [Электронный ресурс] // BioXplorer. Секреты биологии. – 2014. – Режим доступа: http://www.bioxplorer.ru/bilers-646-1.html 200. Психологические исследования [Текст] : практикум по общ. психологии для студентов пед. вузов / Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.соц. ин-т ; сост.: Т. И. Пашукова [и др.]. – Москва : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 176 с. 201. Психологический словарь [Электронный ресурс] // Мир Психологии : науч.-попул. информ. психол. портал / В. Ахметов. – СанктПетербург, 2000-2013. – http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=157. 202. Психология. Восприятие [Электронный ресурс] // О психологии в Интернете : [сайт] / Н. Мясников. – Берлин, 2000-2013. – Режим доступа: http://opsychology.ru/2008/04/23/vospriyatie/. 352 203. Радченко, О.А. Исследование агрессивного дискурса: проблемы и перспективы [Текст] / О.А. Радченко // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». – 2009. – № 1(3). – С. 60 – 67. 204. Развитие психологических знаний в рамках философии и естественных наук [Электронный ресурс] // Психология : электрон. учебник / сост.: И. В. Макарова, О. И. Михайленко ; разраб. И. Шартаев ; Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова. – Нальчик, 2013. – Режим доступа: http://kpip.kbsu.ru/ps/glava2.html. 205. Рафикова, Н. В. Психологическая структура значения слова как набор фиксированных установок [Текст] / Н. В. Рафикова // Психолингвистические исследования слова и текста : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. А. А. Залевская. – Тверь, 1997. – С. 54-65. 206. Рахилина, Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость [Текст] / Е.В. Рахилина. – М.: Русские словари, 2008. – 416 с. 207. Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней [Текст] : [пер. с итал.] / Д. Реале, Д. Антисери. – Санкт-Петербург : Петрополис, 19941997. – Т. I : Античность. – Санкт-Петербург, 1994. – 320 с. 208. Рогачева, Ю. Н. Репрезентация фрейма «память» в современном английском языке: на материале глагольной лексики [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ю. Н. Рогачёва. – Белгород, 2003. – 182 с. 209. Розенфельд, М. Я. Перцептивная составляющая лексического значения: теорет. основания проблемы [Текст] / М. Я. Розенфельд // Язык и национальное сознание : [межвуз. науч. сб.] / Воронеж. гос. ун-т, Центр коммуникат. исслед., Центр.-Чернозем. регион. отд-ние НМС по иностр. яз. ; редкол.: И. А. Стернин [и др.]. – Воронеж, 1998. – Вып. 11. – С. 11-28. 210. Ромашина, О. Ю. Формирование фрейма эмоционального звучания и его репрезентация в глагольных лексемах современного английского языка [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / О. Ю. Ромашина. – Белгород, 2004. – 189 с. 353 211. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание: о месте психического во всеобщ. взаимосвязи явлений материального мира [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1957. – 328 с. 212. Рубинштейн, С. Л. Внимание [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Психология внимания : [учеб. пособие] / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. А. Романова. – Москва, 2001. – С. 39-52. – (Хрестоматия по психологии). 213. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1998. – 705 с. – (Мастера психологии). 214. Рудик, П. А. Психология [Текст] / П. А. Рудик. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 428 с. 215. Рыскина, О. Ю. Репрезентация фрейма «принятие решения» в современном английском языке: на материале глагольной и субстантивной лексики [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / О. Ю. Рыскина ; Иркут. гос. лингв. ун-т. – Иркутск, 2004. – 18 с. 216. Рябинина, Н. А. Когнитивная модель восприятия в русском языке: на материале фразеологизмов с компонентами «глаз», «ухо», «нос» [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. А. Рябинина ; Том. гос. ун-т. – Томск, 2005. – 20 с. 217. Сахарный, Л. В. Введение в психолингвистику [Текст] : курс лекций / Л. В. Сахарный ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1989. – 181 с. 218. Сахарный, Л. В. Психолингвистические аспекты теории словообразования [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Сахарный ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 97 с. 219. Селиверстова, О. Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикативных типов русского языка [Текст] / О. Н. Селиверстова // Семантические типы предикатов / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания ; отв. ред. О. Н. Селиверстова. – Москва, 1982. – С. 86-216. 354 220. Серебренников, Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление [Текст] / Б. А. Серебренников ; отв. ред. В. М. Солнцев ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1988. – 247 с. 221. Серио, П. Как читают тексты во Франции [Текст] / П. Серио // Квадратура смысла : фр. шк. анализа дискурса : пер. с фр. и португ. / общ. ред. П. Серио. – Москва, 1999. – С. 12-53. 222. Сеченов, И. М. Избранные произведения [Текст] : в 2 т. / И. М. Сеченов ; ред. и послесл. Х. С. Коштоянца. – Москва : АН СССР, 1952-1956. – Т. 1 : Физиология и психология. – Москва, 1952. – 772 с. 223. Сильницкий, Г. Г. Семантические классы глаголов в английском языке [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Сильницкий ; Смолен. гос. пед. ин-т им. К. Маркса. – Смоленск : СГПИ, 1986. – 112 с. 224. Синтаксическая специфика вербализации ментальных структур [Электронный ресурс] / О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай, И. А. Куприева, Ж. Багана ; НИУ БелГУ // Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн. – 2013. – № 5. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/11110393. 225. Словарь терминов [Электронный ресурс] // Мануйлов А. В. Основы химии : интернет-учебник по химии для 8-11 кл. сред. шк. / А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. – Новосибирск, 2001-2012 – Режим доступа: http://www.hemi.nsu.ru/slovar.htm. 226. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов и преподавателей фак. и отд-ний журналистики / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – 3-е изд., стер. – Москва : Academia, 2005. – 252 с. 227. Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности [Текст] / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века : cб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т языкознания, Рос. гос. гуманит. ун-т ; под ред. Ю. С. Степанова. – Москва, 1995. – С. 35-73. 355 228. Тарасов, Е. Ф. Тенденции развития психолингвистики [Текст] / Е. Ф. Тарасов ; отв. ред. Ю. А. Сорокин ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. 229. Телия, В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц [Текст] / В. Н. Телия ; отв. ред. А. А. Уфимцева ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1986. – 143 с. 230. Телия, В. Н. Русская фразеология: семант., прагмат. и лингвокультурол. аспекты [Текст] / В. Н. Телия. – Москва : Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. – 286 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 231. Тестелец, Я. Г. Введение в общий синтаксис: учеб. [Текст] / Я. Г. Тестелец. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 796 с. : ил., табл. 232. Усманова, М. Г. Функционально-семантическая классификация глаголов башкирского языка [Текст] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / М. Г. Усманова. – Уфа, 2002. – 415 с. 233. Уфимцев, Р. Гештальт [Электронный ресурс] / Р. Уфимцев // Когнитивист: когнитив. методы и технологии. – Москва, 2012. – Режим доступа: http://www.cognitivist.ru/er/kernel/map/gestalt.xml. 234. Филлмор, Ч. Д. Фреймы и семантика понимания [Текст] / Ч. Д. Филлмор // Когнитивные аспекты языка / сост., ред.: В. В. Петрова, В. И. Герасимова. – Москва, 1988. – С. 52-92. – (Новое в зарубеж. лингвистике ; вып. 23). 235. Фундаментальные направления современной американской лингвистики [Текст] : сб. обзоров / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. А. Кибрика [и др.]. – Москва : МГУ, 1997. – 454 с. 236. Функциональный синкретизм концептуальных сфер ВИДЕТЬ и ЗНАТЬ в различных европейских языках [Текст] / И. А. Куприева, О. Н. Прохорова, И. В. Чекулай, Ж. Багана; НИУ БелГУ // Научная мысль Кавказа. – 2012. – № 3. – C. 134-139. 356 237. Хакен, Г. Синергетика [Текст] / Г. Хакен ; под ред. Ю. Л. Климонтовича, С. М. Осовца ; пер. с англ. В. И. Емельянова. – Москва : Мир, 1980. – 404 с. 238. Хакен, Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? [Текст] / Г. Хакен // Синергетика и психология. Тексты. Вып. 2. «Социальные процессы». - М. : «ЯнусК», 2000. - С. 11 - 26. 239. Хартунг, В. Уровни структуры текста [Текст] / В. Хартунг // Общение. Текст. Высказывание / [Т. Я. Андрющенко, В. И. Батов, В. П. Белянин и др.] ; отв. ред.: Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов ; Акад. наук СССР, Инт языкознания. – Москва, 1989. – С. 55-71. 240. Цимеринова, О. С. Системные связи в лексико-семантической группе слов, обозначающих умственные процессы (глаголы памяти) в английском языке [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / О. С. Цимеринова. – Москва, 1987. – 221 с. 241. Чейф, У. Значение и структура языка [Текст] / У. Чейф ; пер. с англ. Г. С. Щура. – Москва : Прогресс, 1975. – 432 с. 242. Чейф, У. Значение и структура языка [Текст] / У. Чейф ; пер. с англ. Г. С. Шура. – 2-е изд., стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 428 с. – (Лингв. наследие XX века). 243. Чекулай, И. В. Ценность и оценка в категориальной структуре современного английского языка [Текст] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / И. В. Чекулай. – Белгород, 2006. – 473 с. 244. Чернейко, Л. О. Имя СУДЬБА как объект концептуального и ассоциативного анализа [Текст] / Л. О. Чернейко, В. А. Долинский // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 1996. – № 6. – С. 20-41. 245. Чернейко, Л. О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени [Текст] / Л. О. Чернейко. – Москва : [б. и.], 1997. – 320 с. 246. Шатуновский, И. Б. Семантика предложения и нереферентные слова: значение, коммуникатив. перспектива, прагматика [Текст] / И. Б. 357 Шатуновский ; Междунар. ун-т природы, о-ва и человека «Дубна». – Москва : Шк. «Яз. рус. культуры» : Кошелев, 1996. – 399 с. 247. Шендяпин, В. М. Синергетика и психология [Текст] : аналит. обзор / В. М. Шендяпин // Синергетический подход к моделированию психологических систем : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Ин-т психологии ; [под ред. Т. Н. Савченко]. – Москва, 1998. – С. 3-16. 248. Шмальгаузен, И. И. Факторы эволюции [Текст] : теория стабилизирующего отбора / И. И. Шмальгаузен ; Акад. наук СССР, Науч. совет по пробл. генетики и селекции. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 451 с. 249. Шмелева, Т. В. Пропозиция и ее репрезентация в предложении [Текст] / Т. В. Шмелева // Проблемы теории и истории русского языка : [сб. ст.] / под ред. К. В. Горшковой. – Москва, 1980. – С. 131-137. – (Вопросы рус. языкознания ; вып. 3). 250. Щедровицкий, Г. П. Знак и деятельность [Текст] : 34 лекции 19711979 годов : [в 3 кн.] / Г. П. Щедровицкий. – Москва : Вост. лит., 2005. – Кн. 1 : Структура знака: смыслы, значения, знания : 14 лекций 1971 года. – 464 с. 251. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность [Текст] / Л. В. Щерба ; Акад. наук СССР, Отд-ние лит. и яз. – Ленинград : Наука, 1974. – 428 с. 252. Юрин, И. А. Парадигматический и синтагматический аспекты лексико-семантической группы глаголов мыслительной деятельности в современном английском языке [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / И. А. Юрин. – Ленинград, 1979. – 22 с. 253. Юрченко, Г. Е. К проблеме выделения глаголов со значением состояния [Текст] / Г. Е. Юрченко // Семантика и функционирование английского глагола : межвуз. сб. науч. тр. / Горьков. гос. пед. ин-т им. М. Горького ; отв. ред. Л. А. Львов. – Горький, 1985. – С. 114-120. 358 254. Язык и моделирование социального взаимодействия [Текст] : сб. ст. : [переводы] / сост.: В. М. Сергеева, П. Б. Паршина ; общ. ред. В. В. Петрова. – Москва : Прогресс, 1987. – 462 с. 255. Ярошевский, М. Г. История психологии: от античности до середины ХХ в. [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Г. Ярошевский. – Москва : Академия, 1996. – 410 с. 256. Ярошевский, М. Г. Л. С. Выготский: поиск принципов построения общ. психологии [Текст] : к 90-летию со дня рождения / М. Г. Ярошевский // Вопросы психологии. – 1986. – № 6. – С. 95-107. 257. Ярошевский, М. Г. Проблема детерминизма в психофизиологии XIX века [Текст] / М. Г. Ярошевский ; Душанбин. гос. пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко. – Душанбе : [б. и.], 1961. – 435 с. 258. Anderson, J. R. Human associative memory [Text] / J. R. Anderson, G. H. Bower. – Washington : Winston, 1973. – 524 p. 259. Baker, M. J. Perceiving, explaining and acting [Text] / M. J. Baker. – New York : Vantage P., cop. 1979. – 288 p. 260. Barsalou, L. W. Frames, concepts, and conceptual fields [Text] / L. W. Barsalou // Frames, fields and contrasts: new essays in semantic and lexical organization / ed. by A. Lehrer, E. F. Kittay. – Hillsdale, N.J. [u.a], 1992. – P. 21-74. 261. Beaugrande, R. de. Introduction to text linguistics [Text] / R. de Beaugrande, W. U. Dressler. – London ; New York : Longman, 1981. – 270 p. 262. Blakemore, D. Understanding utterances: [an introduction to pragmatics] [Text] / D. Blakemore. – Oxford [u.a.] : Blackwell, 1993. – 191 p. : ill. – (Blackwell textbooks in linguistics ; № 6). 263. Bower, G. H. Psychology of learning and motivation : advances in research and theory [Text] / G. H. Bower. – Burlington : Elsevier, 1979. – 433 p. 264. Chafe, W. Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing [Text] / W. Chafe. – University of Chicago Press, 1994. – 327 p. 359 265. Cognition and categorization [Text] / ed. by E. Rosch. – Hillsdale, N.J. [u.a.] : Erlbaum [u.a.], 1978. – 328 p. : ill. 266. Cook, W. A. Case grammar: development of the matrix model (19701978) [Text] / W. A. Cook. – Washington, DC : Georgetown Univ. Press, 1979. – 223 p. 267. Croft, W. Cognitive linguistics [Text] / W. Croft, D. A. Cruse. – Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 2004. – 356 p. 268. Different Kinds of Mental States [Electronic resource] // Philosophy of Mind : Handouts and Lecture Notes / Jim Pryor. – New York, NY, 2002. – Mode of access: http://www.jimpryor.net/teaching/courses/mind/notes/mentalstates.html. 269. Dijk, T. A. van. Strategies of discourse comprehension [Text] / T. A. van Dijk, W. Kintsch. – New York, NY [u.a.] : Academic Press, 1983. – 418 p. 270. Dijk, T. A. van. Studies in the pragmatics of discourse [Text] / T. A. van Dijk. – The Hague [u.a.] : Mouton, 1981. – 331 p. 271. Dijk, T. A. van. Study of discourse [Text] / T. A. van Dijk // Discourse studies: a multidisciplinary introduction : 2 vol. / ed. by T. A. van Dijk. – London [u.a.], 1997. – Vol. 1 : Discourse as structure and process. – P. 1-34. 272. Eckardt, B. von. What is cognitive science? [Text] / B. von Eckardt. – Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 1993. – 466 p. 273. Evans, V. Cognitive linguistics: an introduction [Text] / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh Univ., 2006. – 830 p. : ill. 274. FrameNet. The Berkeley FrameNet project [Electronic resource]. – FrameNet / University California Berkeley. – Berkeley, 2007– . – Mode of access: http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_content&task=blogcategory &id=0&Itemid= 275. Geeraert, D. Diachronic extensions of prototype theory [Text] / D. Geeraert // Meaning and the lexicon / by G. A. J. Hoppenbrouwers, P. A. M. Seuren, A. J. M. M. Weijters. – Dordrecht, Holland [u.a.], 1985. – P. 354-362. – (Proceedings of the Second International Colloquium on the Interdisciplinary Study of the 360 Semantics of Natural Language, held at Cleves, Germany, August 30-September 2, 1983). 276. Geeraerts, D. Reclassifying semantic change [Text] / D. Geeraerts // Quaderni di Semantica. – 1983. – Vol. 4, № 2. – P. 217-240. 277. Givón, T. Syntax : a functional-typological introduction [Text] : 2 vol. / T. Givón. – Amsterdam : J. Benjamins Pub. Co., 1984-1990. – Vol. 1. – Amsterdam, 1984. – 464 p. 278. Grice, H. P. Logic and conversation [Text] / H. P. Grice // Syntax and semantics / general ed. J. P. Kimball. – New York, 1975. – Vol. 3 : Speech acts / ed. by P. Cole, J. L. Morgan. – P. 41-58. 279. Hoepelman, J. Verb classification and the Russian verbal aspect: a formal analysis [Text] / J. Hoepelman. – Tübingen : Narr, 1981. – 233 p. – (Tübinger Beiträge zur Linguistik ; № 173). 280. Johnson-Laird, P. N. Mental models: towards a cognitive science of language, inference, and consciousness [Text] / P. N. Johnson-Laird. – Cambridge, Mass. [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 1983. – 513 p. : ill. – (Cognitive science series ; № 6). 281. Kiparsky, P. Linguistic universals and linguistic change [Text] / P. Kiparsky // Universals in linguistic theory / eds.: E. Bach, R. T. Harms. – New York [u.a.], 1968. – P. 170-202. – (Papers presented at a symposium held at the University of Texas at Austin on April 13-15, 1967). 282. Koivisto-Alanko, P. Abstract words in abstract worlds [Text] : directionality and prototypical structure in the semantic change in English nouns of cognition / P. Koivisto-Alanko. – Helsinki : Société Néophilologique, 2000. – 270 p. : ill. – (Mémoires de la Société néo-philologique à Helsingfors ; № 58). 283. Labov, W. The linguistic consequences of being a lame [Text] / W. Labov // Language in Society. – 1973. – Vol. 2, № 1. – P. 81-115. 284. Lakoff, R. T. The pragmatics of modality [Text] / R. T. Lakoff. – Göteborg : OSCULD, 1972. – 18 p. : ill. 361 285. Lakoff, G. Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind [Text] / G. Lakoff. – Chicago [u.a.] : Univ. of Chicago Press, 1987. – 614 p. 286. Leech, G. N. Principles of pragmatics [Text] / G. N. Leech. – London ; New York : Longman, 1983. – 250 p. – (Longman linguistics library ; № 30). 287. Material Vs Mental Processes [Electronic resource] // Systemic functional linguistics : a guide for the theoretically ready willing & able : [blogs]. – Mode of access: http://systemictheory.blogspot.ru/2011/08/material-vs-mental- processes.html. 288. Minsky, M. A framework for representing knowledge [Text] / M. Minsky // Frame conceptions and text understanding / ed. by D. Metzing. – Berlin ; New York, 1980. – P. 1-25. – (Research in text theory ; vol. 5). 289. Models of visuospatial cognition [Text] / M. de Vega, M. J. IntonsPeterson, P. N. Johnson-Laird [et al.]. – New York : Oxford Univ. Press, 1996. – 230 p. : ill. 290. Müller, J. Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen [Text] / J. Müller. – Coblenz : Hölscher, 1840. – 780 p. : ill 291. Oppentocht, A. L. Lexical semantic classification of Dutch verbs: towards construction NLP and human-friendly defininitons [Text] / A. L. Oppentocht. – Utrecht : Uitgever LEd, 1999. – 291 p. : graph. darst. 292. Paivio, A. Mental representations: a dual coding approach [Text] / A. Paivio. – New York : Oxford Univ. Press ; Oxford [England] : Clarendon Press, 1990. – 322 p. : ill. – (Oxford psychology series ; № 9). 293. Quine, W. V. O. Word and object [Text] / W. V. O. Quine. – Cambridge, Mass. : MIT Press, 1960. – 294 p. 294. Rosch, Е. H. Cognitive representations of semantic categories [Text] / E. H. Rosch // Journal of Experimental Psychology: General. – 1975. – Vol. 104, № 3. – P. 192-233. 362 295. Sacks, H. Language [Text] / H. Sacks, E. A. Schegloff, G. Jefferson. Language. – Vol. 50, No. 4, Part 1 (Dec., 1974), pp. 696-735 296. Schank, R. C. Dynamic memory: a theory of reminding and learning in computers and people [Text] / R. C. Schank. – Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge Univ. Press, 1982. – 234 p. : ill. 297. Schiffrin, D. Approaches to discourse [Text] / D. Schiffrin. – Oxford [u.a.] : Blackwell, 1994. – 470 p. – (Blackwell textbooks in linguistics ; № 8). 298. Sinclair, J. McH. Teacher talk [Text] / J. McH. Sinclair, D. Brazil. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1982. – 174 p. 299. Sinclair, J. McH. Towards an analysis of discourse : the english used by teachers and pupils [Text] / J. McH. Sinclair, R. M. Coulthard. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1978. – 163 p. 300. Stevenson, S. A competition-based explanation of syntactic attachment preferences and garden path phenomena [Text] / S. Stevenson // 31st annual meeting of the Association for Computational Linguistics : proceedings of the conference, 2226 June, 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA / Association for Computational Linguistics, Ohio State University. – Columbus, Ohio, 1993. – P. 266273. 301. Taylor, J. R. Linguistic categorization ; prototypes in linguistic theory [Text] / J. R. Taylor. – Oxford : Clarendon Press, 1995. – 312 p. : graph. Darst. 302. Thomas, L. Beginning syntax [Text] / L. Thomas. – Oxford [u.a.] : Blackwell, 1996. – 209 p. 303. Ungerer, F. An introduction to cognitive linguistics [Text] / F. Ungerer, H.-J. Schmid. – London [u.a.] : Longman, 1996. – 306 p. 304. Vendler, Z. Linguistics in philosophy [Text] / Z. Vendler. – Ithaca : Cornell Univ. Press, 1967. – 203 p. 305. Weinreich, U. On the semantic structure of English [Text] / U. Weinreich // Universals of language : report of a conference held at Dobbs Ferry, 363 New York April 13-15, 1961 / ed. by J. H. Greenberg. – 2 ed. – Cambridge, Mass., 1966. – P. 142-217. 306. Yule, G. Pragmatics [Text] / G. Yule. – Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1996. – 138 p. 364 Список используемых словарей и энциклопедий 1. Восприятие [Электронный ресурс] // Мир психологии / созд. В. Качалов. – Москва, 1999-2014. – Режим доступа: http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=157. 2. Краткий словарь когнитивных терминов [Текст] / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – Москва : МГУ, 1996. – 245 с. 3. ООО Психологический словарь [Электронный ресурс] // Мир Вашего Я / «Мир Вашего Я». – Москва, 2000-2014. – Режим доступа: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm. 4. Система [Электронный ресурс] / Большой энциклопедический словарь. – 2014. – Режим доступа: www.vedu.ru/bigencdic/57627/ 5. Словопедия [Электронный ресурс] : словари. – [Москва], 2007-2014. – Режим доступа: http://www.slovopedia.com. 6. Хронотоп [Электронный ресурс] // Большой психологический словарь / сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – Санкт-Петербург, 2004. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/30/word/hronotop. 7. Cambridge Dictionaries Online [Electronic resource] : The most popular online dictionary and thesaurus for learners of English / Cambridge University Press. – Cambridge, 2013. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/. 8. Collins Dictionary [Electronic Resouce] / Collins. – 2014. – Mode of Access: http://www.collinsdictionary.com. 9. Dictionary.com [Electronic resource] / Dictionary.com, LLC. – Cambridge, MA, 2014. – Mode of access: http://dictionary.reference.com. 10. Limited. Macmillan Dictionary [Electronic resource] / Macmillan Publishers – London, 2009-2013. – Mode of access: http://www.macmillandictionary.com/. 11. Merriam-Webster Online Dictionary [Electronic resource] / Merriam- Webster, Incorporated, 2005 – . – Mode of access: http://mw1.merriam- 365 webster.com/dictionary/attention 12. Online Etymology Dictionary [Electronic resource] / compos. Douglas Harper. – San Antonio, 2001-2013. – Mode of access: http://www.etymonline.com/. 13. University Oxford Dictionaries: Language matters [Electronic resource] / Oxford Press. – Ashburn (Virginia), 2013. – Mode of access: http://www.oxforddictionaries.com/. 14. Computing The British National Corpus [Electronic resource] / Oxford University Services. – Oxford, 2010. – Mode of access: http://www.natcorp.ox.ac.uk/. 15. The Free Dictionary [Electronic resource] : Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus / Farlex, Inc. – Huntingdon Valley, 2003-2014. – Mode of access: http://www.thefreedictionary.com/. 16. Farmhouse Free Online Collocations Dictionary [Electronic resource] / College (Denton, Oxford). – Oxford, 2014. – Mode of access: http://prowritingaid.com 17. The Longman Dictionary of Contemporary English [Electronic resource] / Pearson Education Limited. – Edinburgh, 2014. – Mode of access: http://www.ldoceonline.com/. 366 Список источников фактического материала 1. A New book of Contemporary British Stories [Text] / ed. by Karen Hewitt. Oxford, England. Perspective Publications, 2005. – 205 p. 2. Ahern, A. Snap out of it now: four steps to inner joy [Electronic resource] / A. Ahern ; foreword by J. A. Ray, aut. of the science of success. – 1st Sentient Publ. ed. – Boulder, Color. : Sentient Publications, 2007. – 194 р. – Mode of access: http://books.google.ru/books?id=laVCtUAJP- cC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 3. Bainbridge, B. Master George. Short Stories for the Booker Prize [Text] / B. Bainbridge. – Great Britain. – 2011. – 212 p. 4. Barry, D. It sensed that thanksgiving was coming [Electronic resource] / D. Barry// Dave Barry.com : the official Dave Barry blog. – Miami FL, 2013. – Sept. 6. – Mode of access: http://blogs.herald.com/dave_barrys_blog/2013/09/it-sensedthat-thanksgiving-was-coming.html. 5. Cognitive Psychology: Sensation and Perception [Electronic resource] // Psychology : [psu.rin.ru] / RIN (Russian Information Network). – Irkutsk, 2001-2002. – Mode of access: http://psy.rin.ru/eng/article/8-101.html. 6. Dixon, M. E. Seventh Circle [Electronic resource] / M. E. Dixon // PublicBookshelf / PublicBookshelf Corporation. – Burlingame, CA, 2014. – Mode of access: http://www.publicbookshelf.com/fantasy-paranormal/seventh-circle/talisman-3. 7. Fer, Sh. In The Money by [Electronic resource] / Sh. Fer // Rap Genius : [site] / Genius Media Group Inc. – New York, 2014. – Mode of access: http://rapgenius.com/Shad-fer-in-the-money-lyrics#lyric. 8. Follett, K. The Key to Rebecca [Text] / K. Follett. – London : Pan Books, 1998. – 480 p. 9. Gaia online [Electronic resource] / Gaia Interactive, Inc. – San Jose, CA, US, 2003-2014. – Mode of access: http://www.gaiaonline.com/forum/mtv/mtv-videomusic-awards-gonna-watch-it-let-s-chat/t.65380615. 367 10. Grey, Z. Wildfire [Text] / Z. Grey. – London : Hamish Hamilton, 1949. – 11. Herbal Medicom [Electronic resource] : The Natural Way Of Health & 255 p. Beauty / Herbal Medicom. – Lansing, MI, 2003-2007. – Mode of access: http://herbalmedi.com/. 12. Hollingsworth, G. G. Fate [Electronic resource]. Chapter 4 / G. G. Hollingsworth // PublicBookshelf / PublicBookshelf Corporation. – Burlingame, CA, 2014. – Mode of access: http://www.publicbookshelf.com/contemporary/fate/troubledsleep-4. 13. James, R. Underground [Text] / by. R. James. – London : Gollancz, 1989. – 256 p. 14. Lyall, G. The conduct of Major Maxim [Text] / G. Lyall. – London : Hodder and Stoughton, 1982. – 255 p. 15. Mitchel, D. Black Swan Green [Text] / D. Mitchel. – Sceptre, 2006. – 374 16. Mourinho says he sensed Chelsea would suffer against Stoke [Electronic p. resource] // ITV [site] / ITV plc. – London, 2013. – Dec. 7. – Mode of access: http://www.itv.com/sport/football/article/2013-12-07/mourinho-says-he-sensedchelsea-would-suffer-against-stoke. 17. Neels, B. The Fifth Day of Christmas [Text] / B. Neels. – Richmond : Mills & Boon, 1971. – 219 p. 18. Of love and life [Text] : three novels selected and condensed by Reader's Digest : Thirtynothing / L. Jewell. Kiss and tell / D. Hay. Whispers in the sand / B. Erskine. – London : Reader's Digest, [2001]. – 478 p. : ill 19. So very English [Text] : a Serpent's Tail compilation / ed. by M. Rowe. – London : Serpent's Tail, 1991. – 288 p. 20. Sparks, N. The Notebook [Text] / N. Sparks. – London : Sphere, 2007. – 21. Suffolk Sound Archive: interview (Leisure). Rec. 1986 with 2 partics, 272 214 p. 368 utts Conduct of Major Maxim. Lyall, Gavin. Sevenoaks, Kent: Hodder& Stoughton Ltd, 1982, pp. 63-186. 3359 s-units 22. Test Your Sense of Touch [Electronic resource] // Home Science Tools / Home Training Tools, Ltd. – Billings, MT, 2014. – Mode of access: http://www.hometrainingtools.com/sense-touch-perception-experiment/a/1387. 23. The Sensed-Presence Effect [Electronic resource] // Scientific American / M. Shermer. – San Francisco, CA. – 2010. – April. – Mode of access: http://www.michaelshermer.com/2010/04/the-sensed-presence-effect. 24. Wade, N. Magnetic field sensed by gene, study shows [Electronic resource] / N. Wade // The New York Times. – 2011. – June 21. – Mode of access: http://www.nytimes.com/2011/06/28/science/28magnet.html. 25. Ugra, Sh. He sensed cricket, understood it personally [Electronic resource] / Sh. Ugra // The Indian Express. – 2011. – Nov. 20. – Mode of access: www.indianexpress.com/news/he-sensed-cricket-understood-it-personally/878113. 369 Список условных сокращений 1. КСКТ – Краткий словарь когнитивных терминов 1. BNC – British National Corpus 2. CD – Collins Dictionary 3. CDO – Cambridge Dictionaries Online 4. DC – Dictionary.com 5. ED – Online Etymology Dictionary 6. FOCD – Free Online Collocations Dictionary 7. LDCE – Longman Dictionary of Contemporary English 8. MDT – Macmillan Dictionary and Thesaurus 9. MWOD – Merriam Webster Online Dictionary 10. OD – Oxford Dictionary 11. TFD - The Free Dictionary by Farlex 370