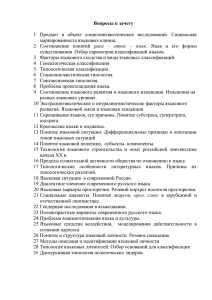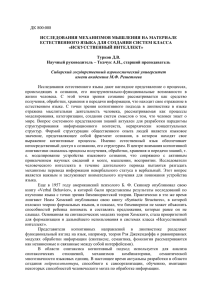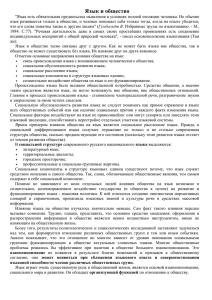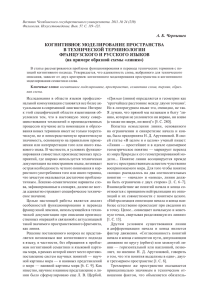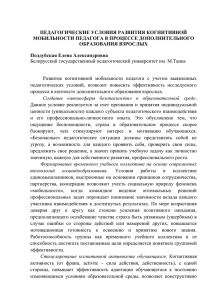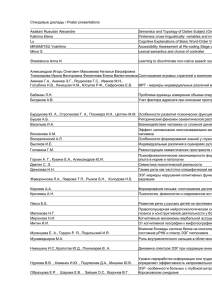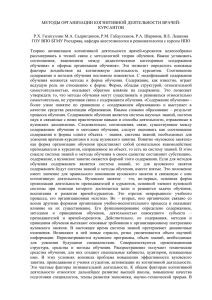Н.Н.Болдырев (Тамбовский государственный университет
advertisement

Н.Н.Болдырев (Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина) Принципы и методы когнитивных исследований языка В статье рассматриваются основные принципы и методы исследования языка с позиций когнитивной лингвистики. Особое внимание уделяется новым методам изучения языкового знания и способам его категориальной репрезентации. The article discusses the basic principles and methods of cognitive linguistics. Special attention is given to the newly-derived methods and their application to the study of knowledge representation in linguistic categories. Каждое научное направление представляет собой определенную систему взглядов на объект исследования, его внутренние свойства и законы их внешнего проявления. Данная система научных взглядов складывается в результате постановки специфических для избранного направления целей и задач, выдвижения новых теорий для обоснования предлагаемых решений, разработки оригинальных принципов, подходов, методов и приемов исследования, обеспечивающих необходимый ракурс рассмотрения объекта. Именно эти моменты оказываются в центре внимания, когда требуется охарактеризовать то или иное направление, его теоретическую и методологическую значимость, и только с этих позиций можно говорить о принципах и методах когнитивного исследования языка как особом научном направлении – когнитивной лингвистике. Специфичность принципов и методов изучения языка в когнитивном аспекте обусловлена выдвижением на передний план его когнитивной функции, подходом к языку как когнитивной способности человека, неразрывно связанной с его другими способностями. Данный ракурс рассмотрения языка, в свою очередь, предполагает выделение его главных отличительных особенностей, характеризующих его преимущественно с этой точки зрения. Эти особенности и ложатся в основу определения общих принципов, которые реализуются в конкретных методах и приемах анализа языкового материала, в различных классификациях и типологиях языковых явлений, систематизирующих результаты исследования и дающих представление о той или иной функции языка во всех ее проявлениях. К числу таких особенностей и, соответственно, принципов исследования языка как когнитивной способности можно отнести: междисциплинарность, антропоцентричность, многоуровневость и структурно-функциональную целостность (об отличительных особенностях когнитивного подхода к языку см. также: [Кубрякова 2004]). Данные принципы раскрывают специфику когнитивной лингвистики как научного направления и демонстрируют ее основные отличия от других направлений. Первое отличие, характеризующее когнитивный подход к языку и определяющее в той или иной мере содержание всех вышеперечисленных принципов, связано с преодолением жесткой границы между "внутренней" и "внеш- 2 ней" лингвистикой, очерченной Ф. де Соссюром в рамках структурного подхода, выходом за пределы собственно языковой системы и обращением к различным структурам знания и психическим процессам. Помимо наблюдения, описания и констатации собственно языковых фактов, что было свойственно структурной лингвистике, новое научное направление стремится объяснить, как устроен язык и как он используется, как находят свое отражение в языковой деятельности многие физические, физиологические и психические процессы и явления, т.е. выполнить главную, объяснительную функцию науки. Для этого и требуется выход за пределы собственно языковой системы в область психики человека и рассмотрение этой системы в контексте общих знаний о восприятии, о памяти, о поведении человека. Оставаясь внутри языковой системы, можно объяснить некоторые формальные связи и зависимости между ее единицами, звуковые законы, но практически невозможно понять и объяснить, как язык реализует свои основные функции, того, как формируются, хранятся и передаются смыслы и значения, т.е. того, для чего нужен язык. Поэтому само становление когнитивной лингвистики было связано с учетом и обобщением многих данных, полученных в разных сферах научной деятельности: в области психологии, психолингвистики, философии, логики, теории информации, физиологии, медицины и других сферах. Это определило междисциплинарный характер нового научного направления и стало одним из главных принципов когнитивных исследований языка. Междисциплинарность когнитивно-лингвистических исследований обусловлена стоящими перед ними целью и задачами и является основным условием их реализации. Невозможно игнорировать, по словам Е.С.Кубряковой [2004: 45], сведения о том, что такое память, что такое восприятие, на каких принципах организована когнитивная, или концептуальная система в нашем сознании, когда речь идет о сущностных характеристиках языка, об общей модели его организации как неотъемлемого элемента разума, когнитивной способности человека. Необходимый в этом случае выход на другие науки и обеспечивает междисциплинарность когнитивного подхода. Важность междисциплинарного подхода к исследованию языка постулируется во многих работах последних лет и стала научной аксиомой. В то же время трактовка данного принципа, как и многие понятия в когнитивной лингвистике, не отличается единообразием. Некоторые исследователи, забывая о собственно языковых фактах и эмпирическом языковом опыте, трактуют данный принцип слишком широко. Иногда цель когнитивной лингвистики понимают, ни много, ни мало, как изучение работы человеческого сознания (см. также: биологическая, эволюционистская и другие теории языка). Занимаясь лингвокогнитивным анализом, следует отдавать себе отчет в том, что лингвист никогда не сможет (да и не должен ставить перед собой подобных нереальных задач) в полной мере объяснить, как работает человеческий мозг: это задача других специалистов и других наук, которые, однако, не могут обойтись без учета данных, полученных лингвистами. На современном этапе развития науки когнитивная лингвистика решает более скромную задачу – показать соотноше- 3 ние и взаимодействие языковых единиц и лежащих в их основе структур знания, а также на основе изучения языкового опыта – опыта использования языковых единиц – смоделировать, насколько это возможно, сами эти структуры, их содержание и связи, внося тем самым свой посильный вклад в общую теорию интеллекта. Иначе говоря, междисциплинарность когнитивного подхода к языку следует понимать в узком смысле этого слова, то есть как использование данных других наук, а не проведение собственных исследований в других областях знания. Ни один ученый-энциклопедист современности не в состоянии опытным путем овладеть всей системой знаний, накопленных в разных отраслях науки в течение многих столетий. С другой стороны, невозможно получить полное представление об объекте, оставаясь в узких рамках одной научной области. Второе отличие, и соответственно принцип исследования, когнитивной лингвистики, связанное с особым ракурсом рассмотрения языка как когнитивной способности, обусловлено признанием центральной роли человека в процессах познания и в речевой деятельности, т.е. антропоцентризма языка. Когнитивный подход к исследованию языка исходит из того, что значительная роль в формировании языковых значений принадлежит человеку как наблюдателю и как носителю определенного опыта и знаний. Именно человек как познающий и как говорящий на определенном языке субъект формирует значения, а не воспроизводит их в готовом виде (принцип креативности речевого мышления), и именно говорящий субъект сознательно осуществляет выбор языковых средств выражения для описания той или иной ситуации. Это означает возможность обращения к любому фрагменту собственного опыта в процессе формирования значения языкового знака, т.е. использование как языковых, так и неязыковых, энциклопедических знаний. Единственное условие успешной коммуникации при этом – эти знания должны быть общими (разделенными) для собеседников. Возникновение антропоцентрического подхода в науке в целом обусловлено повышенным вниманием к вопросам изучения человеческого сознания, его роли в решении различного рода проблем, в том числе научных. Это, в свою очередь, объясняет повышенный интерес к языку, выступающему в качестве единственно возможного средства доступа к работе сознания, к пониманию его основных принципов и механизмов. Данный подход и принцип исследования позволяет по-новому поставить проблему соотношения языка и мышления, выйдя за рамки собственно философских учений и обратившись непосредственно к практическому повседневному опыту. Он дает возможность перенести акцент с теоретических знаний на обыденные, которые в большей степени определяют ежедневное использование языка. Сама постановка вопроса о роли человеческого фактора в языке не является принципиально новой для лингвистических исследований (см. об этом, например, в: [Серебренников 1988; Человеческий фактор в языке 1991]). Данная проблема изучалась с разных позиций: тема-рематическое членение предложения и понятие функциональной перспективы, авторизация высказывания и от- 4 ражение позиции наблюдателя, антропоцентрический характер лексических значений отдельных языковых единиц, понятие языковой личности и т.д. Ее новизна в контексте когнитивных исследований связана именно с обращением к системе знаний человека, с интерпретацией значения любой языковой единицы в контексте всей его концептуальной системы, необходимость и обязательность которой подчеркивают многие ученые, работающие в данной области, см., например [Jackendoff 1995]. Последнее предполагает разработку особой, многоуровневой теории значения, что, в свою очередь, также дает основание говорить о третьем кардинальном отличии (и принципе исследования) когнитивной лингвистики как научного направления в целом – многоуровневом подходе к семантике языковых единиц. В истории отечественного и зарубежного языкознания появлялось немало семантических теорий, базировавшихся на различных принципах и исходных представлениях о языке: его природе, функциях, системно-структурных и функциональных характеристиках. Многие из этих теорий в той или иной степени развивали представления о системе языка в том виде, как их изложил Ф. де Соссюр, смещая собственные акценты в сторону порождающего процесса (процесса порождения высказывания) либо в сторону функционирования. Неизменным при этом оставалось понимание языковой единицы как единства формы и содержания, т.е. двухуровневый подход, ограничивающий содержание языковой единицы областью собственно языкового знания – ее языковым значением. Другие теории пытались отразить всю сложность отношений окружающего мира и человеческого сознания в его языковом проявлении. Становление когнитивного подхода во второй половине XX-го столетия ознаменовано именно разработкой многоуровневой теории значения – когнитивной семантики, отличительной особенностью которой является выход за пределы собственно языковых знаний и обращение к знаниям неязыкового, энциклопедического характера и определение роли этих знаний в процессе формирования языковых значений и смысла высказывания. В соответствии с общей целью когнитивной лингвистики – изучение когнитивной функции языка во всех ее проявлениях (см. об этом подробнее в: [Кубрякова 2004а; Болдырев 2004]) – центральными для семантической теории становятся понятия концептуализации и категоризации, двух важнейших познавательных процессов, связанных с формированием системы знаний (картины мира) в виде концептов и категорий в сознании человека. В рамках этой теории семантика языковых единиц (когнитивная семантика) рассматривается как результат определенного способа осмысления мира на основе соотнесения языковых значений с конкретными концептами и категориями, т.е. как отражение процессов концептуализации и категоризации в языке. Это обусловило ведущее положение и самой когнитивной семантики как теории концептуализации и категоризации в языке и как особого направления исследований в когнитивной лингвистике. Тем самым был провозглашен принципиальный отход от одного из основных постулатов структурной лингвистики о необходимости 5 строго исключать все, что относится к области "внешней" лингвистики, из программы исследования языка. Как следствие, претерпело существенные изменения и одно из ключевых положений семантической теории о контекстуальной обусловленности значений языковых форм. В его трактовке и проявляется понимание рассматриваемого отличия и, соответственно, принципа когнитивных исследований языка – их многоуровневости. В рамках структурной лингвистики контекстуальная обусловленность определения значения понимается как внутриязыковой (парадигматический и синтагматический) контекст, т.е. синтагматические и парадигматические отношения между языковыми знаками внутри языковой системы. В качестве классического примера обычно приводится слово hand (кисть руки) в английском языке или Hand (с той же семантикой) в немецком языке, – объем значения которых, по мнению структуралистов, определяется наличием других слов: arm и Arm соответственно. В русском языке оба эти значения покрываются одним словом рука, поскольку в русском языке нет отдельного слова для выражения концепта "кисть руки", сравните: держите ребенка на руках/за руку в русском языке и hold the baby in the arms/by the hand в английском языке. С другой стороны, невозможно не заметить заключенное в данном утверждении противоречие: во многих языках есть слова обобщающей семантики типа: родственники, родители, - что трудно связать с существованием слов типа: мать, отец и т.д., или в немецком языке слово Geschwiester (братья и сестры вместе), которого нет в других языках. Для сторонников когнитивного подхода контекст, на фоне которого определяется языковое значение, является внешним по отношению к системе языка. Значения – это когнитивные структуры, включенные в модели знания и мнения, конкретные концептуализации (см.: [Langacker 1991; Jackendoff 1991, 1995, 1997; Taylor 1995; Ungerer, Schmid 1997]). Например, Д.Бикертон [Bickerton 1981: 230] считает, что значение слова toothbrush (зубная щетка) определяется значениями других единиц в языковой системе, таких как: nailbrush (щетка для ногтей) и hairbrush (щетка для волос). Возникает закономерный вопрос, действительно ли человек, не знающий слов nailbrush и hairbrush, по-другому понимает слово toothbrush в сравнении с теми, кто знает эти слова. Носители русского языка, например, могут и не догадываться, что в других языках есть специальное слово для обозначения кисти руки или братьев и сестер вместе или, наоборот, нет специальных слов для различения значений "синий" и "голубой", как например, в английском, немецком и французском языках. Более вероятно, что слово toothbrush получает свое значение от той функции, которая предназначена для зубной щетки в повседневном жизненном опыте человека (чистить зубы), а не в результате парадигматического противопоставления другим словам в системе языка. Полемизируя с Д.Бикертоном, Дж.Тейлор [Taylor 1995: 84], в частности отмечает, что концепт "toothbrush" ("зубная щетка") не имеет ничего общего с тем, как люди ухаживают за своими ногтями, волосами или как они метут полы. Правда следует заметить, что категоричное утверждение Дж.Тейлора об отсутствии такой связи тоже нуждается в определенной оговорке, чтобы избежать 6 другой крайности в интерпретации значений производных слов. Дж.Тейлор, вероятно, не учитывает того, что вышеназванные слова образованы по единой словообразовательной модели и, следовательно, получают свое значение в том числе по отношению к общей когнитивной области, названной словом brush, а это, в свою очередь, не может не означать, что передаваемые ими концепты в той или иной мере связаны между собой. Данная оговорка только подтверждает суть главного вывода о том, что значение языковой единицы становится понятным лишь в контексте других когнитивных структур. При этом вопрос о том, вербализованы ли эти структуры в системе языка отдельными словами или нет, в принципе не является существенным (важен сам факт вербализации или иной актуализации данных когнитивных структур). Например, значение слова пятерка "высший балл" становится понятным только в контексте общих представлений о системе оценок знаний в отечественных учебных заведениях, т.е. на фоне концепта "оценка", который должен быть активизирован языковыми или другими средствами (знать названия других оценок, чтобы понять, что пятерка – это высший балл, при этом вовсе не обязательно). Иностранец, не знакомый с этой системой, не будет иметь основы для понимания названного слова, если соответствующий концепт у него не активизирован (например, в Англии, в США и в других странах, как известно, существуют разные системы оценок). Для человека, не связанного с системой образования, это слово также может означать: "денежная банкнота", "номер троллейбуса, автобуса или трамвая", "марка автомобиля, вина, пива, сигарет" и т.д., т.е. может определяться разными когнитивными структурами. Интересный аргумент в пользу того, что лексическое значение слова в большей степени определяется своим когнитивным основанием, чем другими, противопоставленными ему словами, приводит Ч.Филлмор [Филлмор 1988: 60]. Это пример со словом гипотенуза. Мы можем понять это слово, только если нам знакомо понятие прямоугольного треугольника: гипотенуза – это сторона прямоугольного треугольника, лежащая напротив прямого угла. В английском варианте теоремы Пифагора другие стороны прямоугольного треугольника называются просто "двумя другими сторонами", в то время как в немецком и русском языках эти стороны имеют специальное название катеты (Katheten), и это единственная функция данных слов. С когнитивной точки зрения, значение каждого из этих слов (и гипотенуза, и катет) определяется конкретной когнитивной структурой – знанием характеристик прямоугольного треугольника. С позиций же структурной лингвистики, английское слово hypotenuse и его немецкий и русский эквиваленты должны обладать различными значениями, поскольку в русском и немецком языках имеются другие слова, которым данное слово противопоставлено, т.е. слова, обеспечивающие эффект "взаимного определения". Более того, по логике полевого подхода, слово гипотенуза для немецких и русских школьников должно иметь иное значение, чем для их одноклассников, не выучивших слово катет, или чем для их английских сверстников, вообще не знающих такого слова, что уж совершенно мало вероятно. Ход данных рассуждений приводит к естественному выводу о том, что значения слов в системе языка соотносимы не столько с парадигматическим и 7 синтагматическим контекстами, сколько с определенными когнитивными контекстами – когнитивными структурами, или блоками знания, которые стоят за этими значениями и обеспечивают их понимание. Сознательно вводя этот термин обобщающего, родового характера "когнитивный контекст", мы хотели бы специально подчеркнуть то общее, что отличает когнитивный подход как отдельное научное направление и объединяет работы многих авторов, использующих, однако, для выражения похожих понятий разную терминологию. В частности, говоря о таких когнитивных структурах, или блоках знания, Р.Лэнекер [Langacker 1991: 3] пользуется термином "cognitive domains" (когнитивные области, сферы, или контексты), Ж.Фоконье [Fauconnier 1985] и Дж.Лакофф [Lakoff 1990] используют термин "ментальные пространства", а Ч.Филлмор называет их фреймами. Так, обсуждавшиеся выше концепты "прямоугольный треугольник", "оценка" и другие – это и есть те когнитивные контексты, или фреймы, обеспечивающие понимание соответствующих слов (гипотенуза, пятерка и т.д.). Выделение данной области концептуализации, обеспечивающей означивание слова или его понимание, в рамках когнитивной лингвистики анализируется, в частности, в терминах "профиль – основание" (Р.Лэнекер), "фигура – фон" (Л.Талми), "ментальное пространство – ментальная область" (Ж.Фоконье). Признание определяющей роли когнитивных контекстов в процессах формирования и понимания языковых значений и объясняет необходимость привлечения к языковому анализу как языковых, так и неязыковых (энциклопедических) знаний, придавая семантической теории многоуровневый характер. Четвертое отличие (и соответственно принцип когнитивного исследования языка) менее всего обсуждается в когнитивной лингвистике и поэтому заслуживает более детального анализа. Оно связано с трактовкой языка-речи как единого объекта изучения. Необходимость такого рассмотрения языка обусловлена единством и взаимосвязью всех его реальных зависимостей – от предметного мира, мыслительных процессов и речевого использования. Выступая как средство обобщенного, концептуального отражения мира, как "система знаков, выражающих понятия" [Соссюр 1977: 54], язык выполняет функцию универсальной таксономической системы. Однако эта таксономическая система приобретает значимость лишь в рамках главного назначения языка – быть средством общения. Сам модус существования языка, его специфика как знаковой системы определяется тем, что он является "единством общения и обобщения" (по Л.С.Выготскому). Даже в системном аспекте язык отражает признаки своего функционирования, поскольку относится, как в свое время удачно подметил Э.Косериу, к явлениям целевого характера, которые определяются своей функцией. Соответственно язык необходимо понимать функционально, "сначала как функцию, а потом как систему, … поскольку язык функционирует не потому, что он система, а, наоборот, он является системой, чтобы выполнять свою функцию и соответствовать определенной цели" [Косериу 1963: 156]. Представление о двупланном модусе языка: как комплексе категорий, существующих in potentia, и как беспрерывно повторяющемся процессе [Бодуэн де Куртенэ 1963: 77], - в практике лингвистических исследований часто приводит к искусственному разделению единого объекта – языка-речи. Приемы и 8 способы анализа языка иногда получают онтологический статус, т.е. рассматриваются как свойство самого языка. В результате, как отмечает В.М.Павлов, "совершенно оправданная и необходимая в исследовательских целях процедура "поуровневого" анализа объекта, которая требует различения уровней, оборачивается их р а з д е л е н и е м в теоретическом отображении объекта, претендующем на онтологическую адекватность, вместо того, чтобы завершаться попыткой синтеза его разноуровневых определений" [Павлов 1984: 45]. "Там, где рассудок ничего раньше не связал, ему нечего и разлагать", - подчеркивал И.Кант [1994: 99]. Разделяя целое на составные части, мы часто упускаем из виду специфику целого, тем более что выделение именно этих частей, а не других, во многих случаях определяется целью исследования или же исходными представлениями о природе изучаемого объекта. Действительно, данные для определения значений языковых форм, рассматриваемых как особым образом организованная система, извлекаются из речевого материала. Вспомним известное утверждение Э.Бенвениста о том, что именно в речи формируется и оформляется язык, что "нет ничего в языке, чего не было бы раньше в речи" [Бенвенист 1974: 140]. Аналогично высказывался и С.Д.Кацнельсон: "Вне функционирования языка не существует и языковой материал" [Кацнельсон 1972: 102]. Исследовательская процедура здесь отражает направление реальной зависимости в самом объекте. Забвение этого, как справедливо подчеркивает В.М.Павлов [1984: 45-52], влечет за собой представление реальных зависимостей в упрощенном, одностороннем виде: значение языковой формы предстает как абсолютно исходная языковая реальность, которая задается всем речевым реализациям этой формы и определяет семантическую общность и единство всех ее конкретных употреблений. В результате такого искусственного деления может сложиться не совсем правильное впечатление, что исходная языковая семантическая величина определяется в своем содержании исключительно отражательной функцией знака, ориентированной на внеязыковую действительность, что, по сути, и имеет место при вариантноинвариантном подходе к языку. Соответственно цепочка зависимостей в этом случае приобретает одностороннюю направленность: от "кусочка" действительности через его концептуальный образ, закрепленный в значении языкового знака, к значениям того же знака в его конкретных речевых проявлениях. Правомерность такого исследовательского подхода к языку и языковым значениям вызывает определенные сомнения. Несмотря на то, что данный подход не исключает полностью обратного воздействия "речевых значений" на языковые, а лишь считает возможным отвлекаться от подобного рода модификаций и не учитывать их в процессе анализа, такое отвлечение представляется не совсем оправданным. Оно приводит на практике к забвению самих механизмов использования языка, а именно в них и раскрываются его сущностные свойства. Сама возможность воздействия "речевых значений" на языковые значения знака свидетельствует о том, что в основе этого взаимодействия лежит зависимость не случайного, а регулярного, сущностного характера. Даже в своем статическом аспекте эта зависимость предстает как обобщение речевых значений в значении языковом, как "единство в многообразии". Используя фило- 9 софское определение, можно сказать, что всеобщее в его диалектическом понимании "осуществляется в действительности в виде закона, связующего многообразие явлений в единое целое, в систему" [Ильенков 1960]. Поэтому в центре лингвистических исследований должно находиться изучение взаимосвязей всех компонентов языкового знака, которые принадлежат ему в языке и в речи, а значение языкового знака должно рассматриваться с учетом "двух направлений связей, "питающих" содержание его обобщающей функции" - с фрагментом действительности (через посредство мыслительного отображения) и "с его актуальными семантическими наполнениями во всем многообразии его речевых реализаций" [Павлов 1984: 53]. В свете вышеизложенного представляется правильным принять точку зрения Э.Косериу [1963: 157-161], утверждавшего, что не следует искать выхода из существующей антиномии "язык - речь", пытаясь определить, что является первичным. Эта антиномия действительно имеет место в речевой деятельности, и нет никаких оснований рассматривать один из полюсов в качестве первичного. С этих позиций очевидными являются преимущества именно когнитивнодискурсивного подхода, предложенного Е.С.Кубряковой, позволяющего охватить одновременно и речь и язык, тем более что, как замечает Э.Косериу [1963: 158], "язык дан в речи, в то время как речь не дана в языке". Понимание языка и речи как концептуального и, следовательно, структурно-функционального единства в определенной мере позволяет разрешить известное противоречие между значением и смыслом языковой единицы. Единая концептуальная основа всех способов осмысления слова в процессе его использования свидетельствует о том, что первостепенную важность имеет лишь его главное, основное значение, которое раскрывает его репрезентативную связь с определенным концептом. Эта связь представлена в словарной дефиниции как определенная содержательная характеристика концепта, репрезентируемого данным словом. Именно за счет этой связи и на ее основе данное слово может передавать другие характеристики концепта, изначально не представленные в словарной дефиниции, т.е. формировать и передавать различные смыслы в конкретных условиях общения: открылось окно, открылась истина, открылся вид и т.д. При этом само лексическое значение слова активизирует соответствующий концепт, а его грамматические и контекстуальные характеристики конфигурируют передаваемый смысл, указывая на то, какая часть концептуального содержания задействована в общении. Философским и психологическим обоснованием онтологического единства всех аспектов языка и его взаимосвязей служит понятие категории как основной формы и организующего принципа процессов мышления и познания. В основе этого понятия лежит общая для разных сторон деятельности человеческого сознания способность к типизации явлений (абстрагирующая функция). Будучи одинаково свойственной мышлению, психике и языку, эта функция связывает в единую цепь процессы перевода невербальной информации в слова, а также обратные процессы декодирования слов на основе прототипических связей между событиями и репрезентирующими их концептами, между концепта- 10 ми и репрезентирующими их словами, т.е. между категориями событий и языковыми категориями. По способу формирования любая категория – это концептуальное объединение объектов, или объединение объектов на основе общего концепта. Как формат знания, категория – это знание и класса объектов и того общего концепта, который служит основанием для объединения этих объектов в одну категорию. Именно концептуальное сходство объектов, устанавливаемое человеком, и есть то универсальное свойство категории, которое, с одной стороны, отличает ее от других форматов знания и, с другой стороны, обеспечивает широкое разнообразие естественных и языковых категорий. Выбор того или иного концептуального основания для выделения сходных характеристик у объектов обусловливает выбор соответствующих принципов и механизмов их объединения. Знание этих принципов и механизмов также является составной частью общего знания категориального формата, поскольку говорить об особом формате знания можно лишь в том случае, если он обнаруживает отличия не только содержательного характера, но и собственную специфику в своей структурной организации, т.е. собственную содержательную и структурную типологии. Это объясняет принципиальную важность вопросов о природе, принципах формирования, границах, структуре и типах языковых категорий, категориальной принадлежности и некоторых других для общей проблемы исследования языкового знания и применения соответствующих методов его изучения. Языковое знание, которое является неотъемлемой частью общей концептуальной системы человека и формируется по тем же законам, что и другие типы знания, есть результат концептуализации и категоризации окружающего мира и языка как его неотъемлемой части. Как и любое знание, получаемое человеком, оно весьма неоднородно по своему содержанию. Можно говорить, по меньшей мере, о трех его видах, или разновидностях, специфика которых обусловливает разработку и применение специальных методов исследования: 1. Вербализованное знание об объектах окружающего мира, отраженное в лексических значениях языковых единиц. 2. Знание собственно языковых форм, их значений и категорий, отражающих специфику языковой организации, а также специфику представления знания о мире в языке. 3. Знание языковых единиц и категорий, имеющих внутриязыковую природу и служащих целям интерпретации и реинтерпретации любого концептуального содержания в языке. В системе языковой категоризации эти виды знания представлены в трех типах категорий: лексические, грамматические, в том числе лексико-грамматические, и модусные категории (см. подробнее: [Болдырев 2006]). Выделение именно данных типов категорий продиктовано потребностью совмещения и одновременного выполнения языком двух его основных функций – когнитивной и коммуникативной, необходимостью снятия противоречия между индивидуальностью процесса познания и коллективным характером общения, между коллективным и индивидуальным знанием в процессе общения. 11 Главное отличие современного этапа в разработке данной проблематики заключается в том, что на смену собственно лингвистическому моделированию (лексико-семантические группы, функционально-семантические поля, структурно-семантические таксономии) приходят методы когнитивного моделирования знаний, репрезентируемых языковыми единицами, в виде фреймов и других концептуальных структур, концептуальных таксономий и категорий: фреймовый, прототипический, концептуально-таксономический, когнитивно-матричный анализ и т.д. (о когнитивной матрице и когнитивно-матричном анализе см. подробнее: [Болдырев, Куликов 2006]). Лексические категории отражают онтологию мира и результаты его познания человеком: знания конкретных предметов, явлений, их характеристик и категорий, т.е. категоризацию естественных объектов. Поэтому они представляют собой аналоговые (по отношению к категориям естественных объектов) категории и имеют логическую по своей природе структуру. В основе их формирования лежит инвариантно-вариантный, логический принцип. В соответствии с этим принципом центром категории становится слово с наиболее общим значением, которое одновременно служит названием категории, ее инвариантом и основным идентификатором по отношению к другим элементам данной категории – словам с конкретным значением, т.е. вариантам. Например, для лексической категории "птица" слово птица служит одновременно ее названием, центральным элементом (инвариантом) и категориальным идентификатором, что иллюстрирует следующее определение одного из элементов данной категории (варианта): аист – крупная перелетная птица с длинным прямым клювом [Ожегов, Шведова 1993: 17]. Логический характер структуры лексических категорий проявляется в том, что она не совпадает с прототипической структурой категорий естественных объектов, поскольку слово, называющее прототип естественной категории (как показали исследования Э.Рош, в данном случае это воробей или малиновка), в составе лексической категории занимает не центральное, а периферийное положение одного из вариантов, и не может служить категориальным идентификатором. Отсюда невозможность следующего определения: аист – *это крупный перелетный воробей с длинным прямым клювом. Логическая природа данных категорий является следствием логического принципа самого процесса категоризации: в направлении от верхнего к нижнему уровню или наоборот. В то время как в естественной категоризации базовым, исходным считается срединный уровень и два направления: от базового к верхнему уровню (обобщение) или от базового к нижнему уровню (конкретизация). Данная специфика организации лексических категорий обусловливает перспективность исследования первого типа языкового знания (вербализованного знания) с помощью таких методов, как концептуальный, фреймовый и концептуально-таксономический анализ во всех их возможных разновидностях. Эти методы позволяют выявить конкретные концептуальные характеристики, лежащие в основе формирования лексических значений в системе языка и речевых смыслов, показать специфику концептуализации предметов и явлений в семантике разных языковых единиц и тем самым их функциональные отличия. 12 Концептуальный анализ предполагает выделение и изучение той единицы знания, которая репрезентирована конкретной языковой единицей, т.е. определенного концепта. Данный метод исследования представляет собой систему приемов, направленных на выделение конкретных структурных и содержательных характеристик концепта. Соответственно его название может быть применено в качестве родового термина в отношении любых когнитивных приемов анализа знаний на концептуальном уровне их репрезентации. Фреймовый анализ используется в тех случаях, когда репрезентируемое знание представляет собой стереотипную иерархически организованную структуру элементов в виде пропозиции (например, знание события) или уровневого характера (например, знание об определенном учреждении: университет, театр и т.п.). Методы концептуального и фреймового анализа достаточно хорошо известны, широко используются в настоящее время во многих лингвистических работах и поэтому не требуют специальных пояснений. Остановимся несколько подробнее на методе концептуально-таксономического анализа, поскольку сам термин был впервые введен нами в работе [Болдырев 2007] с целью обобщения отдельных приемов когнитивного анализа, используемых фрагментарно в некоторых лингвистических исследованиях (см., например: [Болдырев, Белау 2002; Сафонова 2003] и др.). В языкознании таксономия означает классификацию, представленную в виде иерархически организованной системы лингвистических объектов (см.: [ЛЭС 1990: 504]). Концептуально-таксономический анализ – это система приемов исследования иерархической организации лингвистических объектов, основанной на концептуальной иерархии, т.е. на иерархии концептов. Это предполагает разграничение концептов базового, высшего и низшего уровней иерархии, выявление их основных характеристик и на их основе – таксономическое моделирование лексической подсистемы языковых единиц, репрезентирующих данную концептуальную область за счет реализации соответствующих концептуальных характеристик. Например, концептуально-таксономический анализ глаголов движения или существительных, обозначающих транспортные средства, предусматривает моделирование их иерархической организации согласно иерархии передаваемых ими концептов или их отдельных характеристик: двигаться, перемещаться – идти, ходить, бегать, бежать – подниматься, опускаться – крутиться, подпрыгивать, приседать и т.д.; транспортное средство – автомобиль – легковой, грузовик - седан, пикап, купе, контейнеровоз, самосвал и т.д. Уровневое представление лексических единиц, основанное на концептуальной иерархии, позволяет показать не только их место в структуре соответствующей категории, не только системные различия и функциональные возможности этих единиц, но и их роль в структуре языкового сознания как базовых или обобщающих или конкретизирующих элементов, репрезентирующих разные уровни концептуализации предметов и явлений. Языковые таксономии, учитывающие иерархию соответствующих концептов, также дают возможность эксплицировать многообразие межконцептуальных связей в сознании человека. 13 Грамматические категории как принципиально иной тип языковых категорий имеют непосредственное отношение к онтологии языка, его природе, внутреннему устройству и законам функционирования. По отношению к языку они являются категориями естественных объектов. Это во многом объясняет различия в структуре и принципах формирования лексических и грамматических категорий. Для грамматических категорий как категорий естественных объектов в большей степени характерна прототипическая структура, в то время как лексическим категориям (тематическим группам, синонимическим рядам и т.п.), как уже отмечалось, свойственна логическая (инвариантно-вариантная) структура без прототипических эффектов. Прототипический принцип организации грамматических категорий выдвигает на передний план прототипическую семантику как метод исследования языкового знания второго типа. Этот метод предполагает выявление прототипических характеристик для той или иной категории посредством анализа концептуальных характеристик прототипа. Выделенные характеристики служат основой формирования значений языковых форм, а подведение формы под конкретную категорию за счет приписывания ей соответствующей характеристики создает основу формирования смыслов (см. подробнее: [Болдырев 1995]). Специфика языкового знания, передаваемого грамматическими категориями, нашла свое отражение в признании особого формата его единиц – классификационных фреймов, которые в отличие от ситуативных, или событийных, фреймов ориентированы не на внешний мир, а на систему языка. Это также не исключает возможности использования метода фреймового анализа в рассматриваемой области. Языковые категории модусного типа обеспечивают возможность передачи отдельных смыслов на основе различной интерпретации говорящим того или иного концептуального содержания. К числу таких категорий можно отнести: отрицание, аксиологические (собственно оценочные) категории, категории апроксимации, эвиденциальности, экспрессивности и т.п. В основе их формирования лежат соответствующие модусные концепты. Специфика формирования и организации модусных категорий заключается в том, что они объединяют определенные языковые средства на основе общности их концептуальной (интерпретирующей) функции. Интерпретирующий характер модусных категорий подчеркивает их особую природу и место в общей концептуальной системе человека, а именно: как форм отражения онтологии человеческого сознания, его интерпретирующей функции, как форм проявления индивидуального опыта, знания, оценок. Интерпретация является неотъемлемым свойством человеческого сознания и познавательных процессов, в частности. В онтологической триаде "система мира – система языка – концептуальная система человека" она связана именно с человеком, его восприятием и оценкой системы мира и системы языка. Из этого можно заключить, что данный тип категорий является онтологическим для человеческого сознания и гносеологическим по отношению к окружающему миру и миру языка. Следовательно, модусные категории, если учесть их языковую, прежде всего, реализацию, обнаруживают концептуально-языковую природу. 14 При этом необходимо специально оговорить, что речь идет о категориях языковых единиц, которые являются продуктом интерпретирующей функции сознания, поскольку концептуальную основу имеют, в принципе, все категории. Отмеченная особенность модусных категорий, их логико-языковая природа сближает их, с одной стороны, с полевыми структурами, организованными по инвариантно-вариантному принципу. С другой стороны, в них могут выделяться прототипы и прототипические средства выражения данной функции в языке вследствие их неразрывной связи с категориями естественных объектов, содержание которых они призваны интерпретировать. Сочетание разных принципов организации в структуре модусных категорий требует использования различных методов и приемов когнитивного анализа репрезентируемого ими знания. Помимо известных и названных выше методов концептуального, фреймового, прототипического анализа актуальным может быть когнитивно-матричный анализ, впервые предложенный нами в работе [Болдырев, Куликов 2006] и предполагающий одновременное обращение к нескольким концептуальным областям. Понятие когнитивной матрицы было ранее использовано Р. Лэнекером для описания конфигурации знания, служащей основанием значения языковой единицы [Langacker 1987: 147]. На наш взгляд, это понятие может быть использовано и для описания структуры модусных, например, диалектных, стилистических, этнических, культурных концептов как единиц знания о диалектных, стилистических и других отличиях в языке. Именно когнитивная матрица как особый формат знания позволяет отразить различные связи модусного концепта с теми концептуальными областями, которые служат источниками его содержания. В качестве таких источниковкомпонентов матрицы для диалектного концепта, в частности, могут рассматриваться следующие концептуальные области: “диалект”, “территория”, “культура”, “свой-чужой”, “оценка”, “языковая репрезентация” (см.: [Болдырев, Куликов 2006]). В отношении других концептов будут меняться только отдельные компоненты-области, например: вместо диалекта – стиль, религия и т.д. Специфика когнитивно-матричного анализа заключается в том, что он направлен на изучение многоаспектного знания, которое не является ни стереотипным, ни иерархически организованным. Его цель – выявить и свести воедино в виде когнитивной матрицы различные когнитивные контексты, в рамках которых та или иная языковая единица может получать необходимое осмысление. Например, топоним церковная дорога в рамках того или иного когнитивного контекста может пониматься как: дорога, ведущая к церкви; дорога, которая когда-то вела к церкви; дорога, построенная на средства церкви; платная дорога, доход от которой поступает в распоряжение церкви и т.д. Выявленные контексты осмысления данного топонима отражают различные возможные аспекты знания о христианстве и поэтому могут быть объединены в единый формат как компоненты когнитивной матрицы ХРИСТИАНСТВО (см. также: [Алпатов 2007]). Подводя итог, следует подчеркнуть, что использование результатов как теоретического, так и обыденного мышления, признание особой роли человека и его знаний в порождении речевых произведений, учет взаимодействия раз- 15 личных типов знания (энциклопедического и языкового, коллективного и индивидуального), а также разграничение собственно мышления и других познавательных (в том числе психических) процессов с целью исследования их соотношения с языковыми структурами и процессами формирует специфику когнитивной лингвистики как самостоятельного научного направления, определяя ее отличие от традиционной лингвистики в отношении трактовки природы изучаемого объекта. Эта специфика, в свою очередь, обусловливает общие принципы когнитивного подхода к языку, а также использование конкретных методов исследования языкового материала с когнитивных позиций. Список литературы Алпатов В.В. Концептуальные основы формирования английских христианских топонимов: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Тамбов, 2007. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т.1. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Болдырев Н.Н. Функциональная категоризация английского глагола: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. СПб., 1995. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики //Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. Болдырев Н.Н. Языковые категории как формат знания //Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2. Болдырев Н.Н. Проблемы исследования языкового знания //Концептуальный анализ языка: современные направления исследования. М.: Изд-во "Эйдос", 2007. Болдырев Н.Н., Белау М.Ю. Концепт "подъем" и репрезентирующие его глаголы в современном английском языке //Композиционная семантика: Матер. Третьей международной шк.-семинара по когнитив. лингвистике. Тамбов: Издво ТГУ им. Г.Р.Державина, 2002. Болдырев Н.Н., Беседина Н.А. Когнитивные механизмы морфологической репрезентации в языке //Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 1. Болдырев Н.Н., Куликов В.Г. О диалектном концепте в когнитивной системе языка //Известия РАН. Серия литературы и языка. 2006. Т. 65. № 3. Ильенков Э.В. Всеобщее //Философская энциклопедия. Т.1. М.: Сов. Энциклопедия, 1960. Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история //Новое в лингвистике. Выпуск III. М.: Прогресс, 1963. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики //Вопросы когнитивной лингвистики. 2004а. № 1. 16 Павлов В.М. Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике "временных форм" немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения //Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л.: Наука, 1984. Сафонова Н.В. Концепт благо/добро как сегмент ментального поля нации. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2003. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.: Наука, 1988. Соссюр де Ф. Курс общей лингвистики //Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. Bickerton D. Roots of Language. Ann Arbor: Karoma, 1981. Fauconnier G. Mental Spaces. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. Jackendoff R. Semantic Structures. Cambridge., Mass.: The MIT Press, 1991. Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995. Jackendoff R. The Architecture of the Language Faculty. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequesites. Stanford: Stanford University Press, 1987. Langacker R. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin – N.Y.: Mouton de Gruyter, 1991. Taylor J.R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clarendon Press, 1995. Ungerer F., Schmid H.J. An Introduction to Cognitive Linguistics. L. and N.Y.: Longman, 1997.