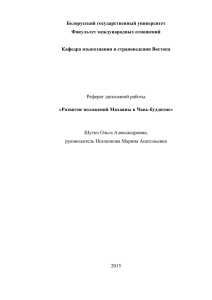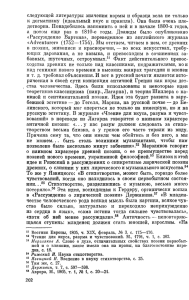ASIATICA Труды по философии и культурам Востока
advertisement
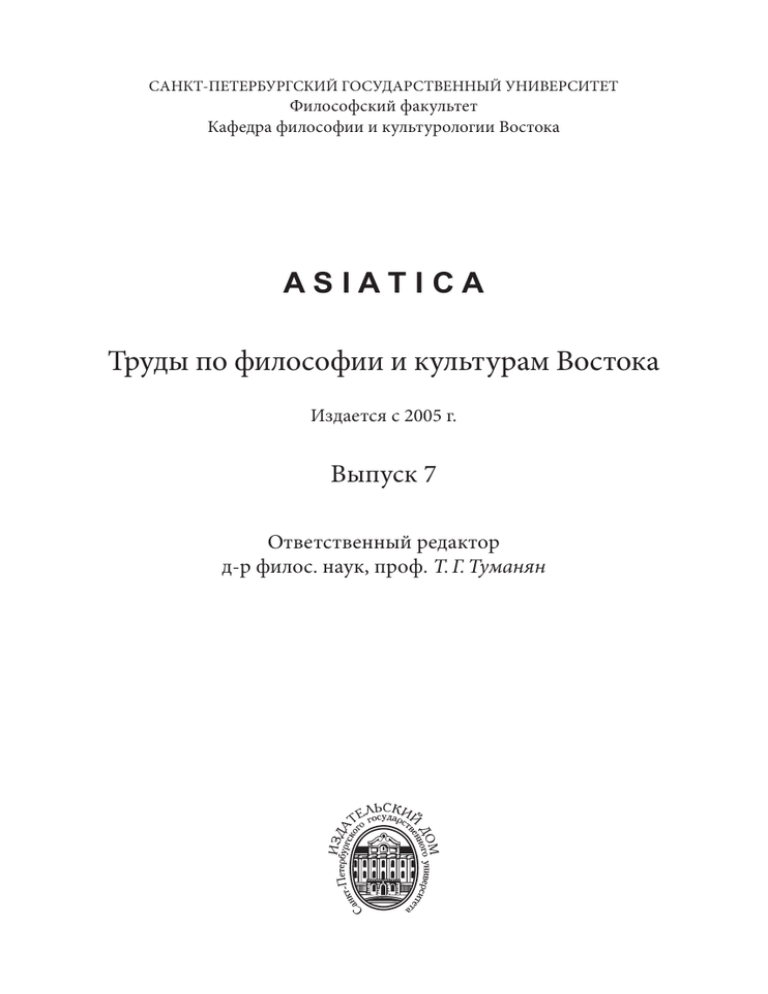
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Философский факультет Кафедра философии и культурологии Востока ASIATICA Труды по философии и культурам Востока Издается с 2005 г. Выпуск 7 Ответственный редактор д-р филос. наук, проф. Т. Г. Туманян ББК 86.33 А35 Р е д к о л л е г и я: М. Е. Кравцова (С.-Петерб. гос. ун-т), И. Ф. Попова (Ин-т восточных рукописей РАН), К. Ю. Солонин (С.-Петерб. гос. ун-т), Р. А. Сафрастян (Ин‑т востоковедения НАН Армении), Т. Г. Туманян (главный редактор, С.-Петерб. гос. ун-т), М. М. Шахнович (С.-Петерб. гос. ун-т), Tessa Savvidis (Freie Universität, Berlin) О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р в ы п у с к а д-р филос. наук Т. Г. Туманян Р е ц е н з е н т ы: д-р филос. наук, проф. Р. В. Светлов (С.-Петерб. гос. ун-т); д-р филос. наук, проф. А. А. Хлевов (Рос. Христианско-гуманит. академия) Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета философского факультета С.-Петербургского государственного университета А35 Asiatiсa: Труды по философии и культурам Востока. Вып. 7 / отв. редактор Т. Г. Туманян. — СПб.: Изд-во С.‑Петерб. ун-та, 2013. — 158 с. В настоящий сборник включены научные статьи в таких областях востоковедения, как индология, синология, арабистика и др. Издание предназначено для читателей, интересующихся культурой, философией и религиями стран и регионов Востока. ББК 86.33 © С.-Петербургский государственный университет, 2013 К. Ю. Солонин МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КРАВЦОВА: УЧЕНЫЙ И УЧИТЕЛЬ О коллегах писать трудно: кажется, что, зная их столько лет, можешь легко сочинить что-нибудь приятное и необязывающее. Все, казалось бы, известно, все достижения налицо. В уме уже сложился образ человека, так что казалось бы чего проще: возьми и перепиши. Однако как только начинаешь писать, оказывается, что ничего не знаешь, и те слова, которые казались очевидными и правильными, вдруг оказываются незначащими. Как говорили в старину китайцы, слова не достигают смысла. Хотя, кроме как словами, смысла все равно ничем не выразишь. Так что пытаться стоит. Марина Евгеньевна занимается китаеведением. Это слово настолько многозначно, что не значит уже ничего: я, например, тоже как бы китаист, но фактически не имею ни одной работы по собственно Китаю. А Марина Евгеньевна китаист в изначальном, классическом значении этого слова: она исследователь всех аспектов истории, культуры и искусства классического Китая. То есть Марина Евгеньевна изучает то, как Китай воплощает себя во времени через посредство культурных форм; она ищет и находит преемственность традиции в ее постоянном обновлении. Это есть главная суть, пятая эссенция китаеведения, и именно этим и занимается Марина Евгеньевна уже в течение многих лет. На этом поприще ею достигнуто очень и очень многое. Идеальный китаист — это тот, кто про Китай знает все; это энциклопедист, который может окинуть мысленным взором все пять ты© К. Ю. Солонин, 2013 3 сяч лет китайской истории. Для него эти года были как будто вчера: он знаком с совершенномудрыми и понимает, чему учил и чему не учил Конфуций, а также чем обряды Лу лучше, чем ритуалы Цинь, какие варвары основали Западную Лян, и чем они отличаются от Восточной Вэй. Для него также не секрет китайские правила стихосложения: он знает, почему Ли Бо великий поэт, а Бай Цзюйи тоже великий, но не настолько. Китаист умеет пользоваться словарями рифм и знает как иероглифы читаются в транскрипции Карлгрена. Китаист не только знает все это в глубине души: его существо движется по скрытому вектору, который однажды пересекается с таинственным ходом времени. В этот момент китаист оказывается способен рассказать о том, что знает, так что время его понимает и принимает, и вечные истины Китая предстают современными и понятными, как будто освещенные полуденным солнцем. Таким китаистом и является Марина Евгеньевна. Идеальный китаист обладает особой внутренней природой, тем, что на обыденном языке называется способностями. Но сама по себе внутренняя природа недостаточна: она должна быть отшлифована годами упорной учебы и работы с тем, чтобы засветиться тем светом, которым светится настоящий жемчуг, и который никак невозможно подделать. Именно по этому трудному пути идет Марина Евгеньевна. Она никогда с этого пути не сворачивала: и во время обучения в Университете, и в годы ее работы в Институте востоковедения она выбирала самые сложные темы и всегда с ними справлялась. Ей была понятна важная вещь: как десять тысяч вещей происходят из Дао, так и вся литературная традиция управляется некоей общностью, которую Марина Евгеньевна назвала «каноном». Именно «литературный канон» стал предметом ее изысканий, и именно на основании исследования «канона» Марина Евгеньевна смогла сделать выводы уже не только литературоведческого, но и исторического плана. Ибо литература — это метаистория, и канон литературы есть канон истории. Но литература есть не только изящная словесность и украшенная речь: это «вырезание дракона», т. е. выявление скрытых сущностей вещей, их самости, которая сама не выражена, но которую выражает всякая поэзия, если она истинна. Без этой сущности нет ничего. Именно это и отражено в основных научных трудах Марины Евгеньевны по китайской поэзии древности и средних веков, и в этом, как мне кажется, главный смысл ее достижений. 4 Канон литературы есть канон истории. Одной из форм исторического сознания является то, как общество осознает себя и как оно формулирует свои задачи и представляет себя в космосе. Иначе говоря, литература как история выражается в идеологии, т. е. в тех мыслях и идеях, которые общество вырабатывает, чтобы руководить собой. В этом качестве идеология — еще один важный предмет исследований Марины Евгеньевны. Именно в китайской идеологии, синтезе архаики и современности, мифа и литературы выражается то кáк общество видит себя в прошлом, и каким надеется увидеть себя и весь мир в будущем. А Марина Евгеньевна видит то, каким китайское общество видело себя в течение тысячелетий и продолжает видеть сейчас. Подобная отстраненность и одновременно вовлеченность в предмет составляют сущность научного подхода, которым Марина Евгеньвена прекрасно овладела. Работы Марины Евгеньевны служат подтверждением того, что современность устаревает, а классика вечна не потому что ее пытаются преподавать в школе, а потому что она выражает то, что есть, глубинные основы общественного бытия. Такие исследования трудны, а Марина Евгень­евна прокладывает и здесь новый путь. Ее исследования отмечены наградами, которые представляют собой не просто декорации к датам, но отражают ее новаторство и непреходящий исследовательский энтузиазм. Плох тот исследователь, который знает, но не передает. Этот упрек к Марине Евгеньевне неприменим. Переход из Института востоковедения в Университет стал для нее и переходом в новое качество, которое более всего ценил Конфуций: она передает знаемое. И здесь достигнуты выдающиеся успехи: поколения студентов знакомятся с китайской культурой, литературой и искусством по книгам Марины Евгеньевны. Ибо она, как никто другой, знает, чего хочет время от синолога и выражает это ясным языком. Марине Евгеньевне свойственно одно редкое качество: она встает на место студента: «Как бы я хотела, чтобы меня учили, когда я была студенткой». Этот подход дает прекрасные результаты: студенты действительно знают то, что не помешало бы знать и мне, когда я учился, но никто мне этого не рассказал. Педагогическое мастерство Марины Евгеньевны получило широкое признание: пособия, которые она составила целиком, или в которых приняла активное участие, распространены повсюду в России и признаны в качестве образцовых. Авторитетные 5 тексты, которым можно доверять. И награды за педагогическое мастерство подчеркивают успехи Марины Евгеньевны в преподавании и ее место в российском китаеведении. Свидетельством таланта исследователя выступает искусство представить знаемое кратко, т. е. в виде энциклопедической статьи. В этом отношении Марина Евгеньевна также — «знающая Путь»: в общих и специальных энциклопедиях именно ей принадлежат базовые статьи по китайской литературе. Более того, как редактор и составитель энциклопедических томов, она формирует концептуальную парадигму энциклопедических сборников, которые оказываются, таким образом, не набором несвязанных статей, а интегрированным исследованием. И здесь важно то, что понимание китайской литературы, изобразительного искусства, разработанное Мариной Евгеньевной, становится в России общепринятым. Так что порой многие даже и не знают, что базовые представления, которые вроде бы самоочевидны, на самом деле сформулированы впервые Мариной Евгеньевной. Конечно, ученый может работать в стол. Но признание — это двигатель дальнейших усилий. И важнейшая форма признания китаиста состоит в признании его в Китае. И Марина Евгеньевна удостоена этой редкой чести как переводчик и исследователь китайской литературы. Юбилейные тексты принято завершать пожеланиями. По моему мнению, для Марины Евгеньевны подойдут самые обычные пожелания здоровья и долгих лет жизни. Но тут даже такие банальности обретают особый смысл: именно здоровье и долголетие позволят Марине Евгеньевне достичь новых глубин в постижении тайны великого Китая и передать свои знания еще большему числу учеников. В конечном счете, приобретение знания и его передача будущему составляет суть поприща совершенномудрого. На этом пути пройдено много, но еще больше предстоит пройти; так что пожелание «десяти тысяч лет» будет соответствовать сути дела. 6 И. А. Алимов ЗАМЕТКИ О СЯОШО: КРАТКО О «ЗАПИСЯХ О ТЬМЕ И СВЕТЕ» ЛЮ И-ЦИНА (403–444)1 «Ю мин лу» (幽明錄, «Записи о тьме и свете») — один из широко известных, знаменитых дотанских сборников сюжетной прозы сяошо, вышедший из-под кисти не менее знаменитого литератора Лю И-цина (劉義慶, 403–444)2. Средний сын Лю Дао-ляня (劉道憐, 368– 422), младшего брата основателя дома Лю-Сун Лю Юя (劉裕, 363– 422), Лю И-цин был объявлен наследником дяди, другого младшего брата Лю Юя — линьчуаньского вана Лю Дао-гуя (劉道規, 370–412), у которого не было сыновей, и скоро унаследовал его титул. Отпрыск знатного рода, Лю И-цин в возрасте тринадцати лет принял участие в своем первом военном походе вместе с Лю Юем, а в пятнадцать лет получил должность начальника области. Он занимал много разных высоких постов при дворе, в свите императора: в семнадцать лет стал помощником начальника Управления департаментов, был начальником императорского книгохранилища — и здесь с детства неравнодушному к изящному слову Лю И-цину открылись книжные богатства, сыгравшие неоценимую роль в его будущем художественном творчестве. Так продолжалось до того, пока при дворе атмос1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в проекте проведения научных исследований «История китайской классической литературы с древности и до XIII века: поэзия, проза», проект № 12-34-09001. 2 Другие названия: «Ю мин лу» (幽冥錄, «Записи о мрачно-загробном»), «Ю мин цзи» (幽冥記, «Записки о мрачно-загробном»). Вариант перевода названия, предложенный И. С. Лисевичем (1932–2000): «Истории света и тьмы» [Пурпурная яшма 1980: 239]. Английский вариант перевода: «Records of the Hidden and Visible Worlds» [Campany 1996: 75]. © И. А. Алимов, 2013 7 фера подозрительности и интриг не достигла апогея, и тогда Лю И-цин, всерьез опасаясь за свою жизнь, подал в отставку, испросив должность в провинции. В Цзинчжоу (пров. Хубэй), куда Лю И-цин получил назначение в 432 г. и где он провел восемь спокойных лет. Это был хорошо укрепленный район с сильным военным гарнизоном, здесь служили и жили многие отпрыски августейшей фамилии (например, в разное время начальниками этой области были Лю Дао-гуй и Лю Дао-лянь), сюда по призыву Лю И-цина приезжали и оставались служить многие знаменитые ученые-книжники и литераторы того времени3. Ближе к концу жизни Лю И-цин серьезно заинтересовался буддизмом и стал делать обильные пожертвования буддийским монахам; это увлечение нашло отражение и в его письменном наследии, в чем мы убедимся в дальнейшем. А в 442 г. Лю И-цин серьезно заболел и испросил разрешения вернуться в столицу, где и умер в самом начале 444 г. в возрасте сорока одного года4. После Лю И-цина осталось несколько письменных памятников, роль которых в истории китайской сюжетной прозы весьма велика, и в первую очередь — «Ши шо синь юй» (世說新語, «Новое изложение рассказов, в свете ходящих») и «Ю мин лу»5. Сборник «Ю мин лу» значится в цз. 33 суйской династийной истории: «”Записи о тьме и свете”, двадцать цзюаней, автор Лю И-цин». В старой и новой танских династийных историях (цз. 46 и 59 соответственно) этот сборник значится уже в размере тридцати цзюаней. После этого «Ю мин лу» из поля зрения библиографических сочинений пропадает, — видимо, сборник был утерян при династии Сун. 3 Среди них поэты Хэ Чан-юй (何長瑜 V в.), Лу Чжань (陸展 V в.), поэт и историк Сяо Сы-хуа (蕭思話, 400–455), любимец Сяоу-ди (годы правления 453–464) Хэ Янь (何偃 413–458), составивший «Цзин чжоу цзи» (荊州記, «Записки о Цзинчжоу», 437 г.), Шэн Хун-чжи (盛弘之, V в.), знаменитый поэт Бао Чжао (鮑照, 415?–470), и другие. Подробнее см.: [Лю Сай 2007]. 4 Подробнее о Лю И-цине см. его официальную биографию в цз. 51 «Сун шу» (宋書, «История [династии] Сун» и в цз. 13 «Нань ши», а также: [Чжоу И-лян 1985: 159–161; 1991: 16–23; Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань 2004: 50–56]. 5 Помимо этого нам известен сборник сяошо «Сюань янь цзи» (宣驗記, «Записки о подлинных свидетельствах»), который будет рассмотрен в ряду буддийских сяошо; также нам известно о «Сюй чжоу сянь сянь чжуань» (徐州先賢傳, «Жизнеописания мудрецов былых времен из Сюйчжоу») в десяти цзюанях, «Цзян цзо мин ши чжуань» (江左名士傳, «Биографии славных мужей к востоку от Реки») в одной цзюани, «Цзи линь» (集林, «Лес собраний») в двухстах цзюанях; все эти произведения были утеряны, сохранились в лучшем случае фрагменты.Также до нас дошли два стихотворения Лю И-цина. 8 По крайней мере, южносунский библиофил, ученый и литератор Хун Май (洪邁, 1123–1202) в датированном 1198 г. предисловии к одной из частей своего знаменитого собрания сяошо «И цзянь чжи» (夷堅志, «Записи И-цзяня») привел текст рассказа из «Ю мин лу», найденный им в «Тай пин юй лань» (太平御覽, «Императорское обозрение годов Тай-пин»), и в конце посетовал: «Ныне “Записи о тьме и свете” уж нигде не встретишь, оттого [я] и использовал [этот рассказ] для предисловия» [Хун Май 1994: III, 1358]6. Отсюда ясно, что энциклопедические собрания и глобальные антологии танского и сунского времени активно использовали «Ю мин лу» и сохранили некоторые фрагменты из этого сборника; начиная с минского времени китайские книжники неоднократно предпринимали попытки свести воедино как можно больше фрагментов из утерянного сборника Лю И-цина: так, наибольшее количество утерянных фрагментов из этого сборника (158) собрано в книжной серии «Линь лан ми ши цун шу» цинского библиофила и издателя Ху Тина7. Наибольших успехов на данном поприще достиг Лу Синь, включивший в «Гу сяошо гоучэнь» (古小說鈎沉, «Извлечения из книг старой прозы») 265 фрагментов «Ю мин лу»8. В результате многолетней текстологи6 Текст рассказа такой: «Цзя Би (賈弼) из Хэдуна, по детскому имени И-эр (醫兒), был назначен помощником начальника управления в Ланъе. [Однажды] ночью ему приснился человек с лицом, сплошь покрытым прыщами и волдырями, огромным носом и огромными белками глаз. [он] обратился к [Би]: “Мне так нравится ваше лицо, мой господин! Хотел бы поменяться с вами головами!” И [Би] во сне согласился на обмен. С рассветом [Би] поднялся, ни о чем не помня, — а люди в ужасе шарахаются от него! Князь Ланъе призвал [Би] пред свои очи, лишь взглянул издали, поднялся и вернулся во внутренние покои. Тогда Би взял зеркало, посмотрел на себя и тут понял, что случилась удивительная странность. Вернулся домой, а жена и служанки убежали-попрятались. Би уселся и рассказал подробно, [как все было]. Спустя долгое время из управления прислали людей, [те] подробно все узнали — лишь тогда поверили. Потом [Би] научился половиной лица печалиться, а другой половиной — смеяться, и еще писал одновременно двумя кистями, по одной в руке». 7 «Линь лан ми ши цун шу» (琳琅秘室叢書, «Книжная серия драгоценностей из запретного кабинета») была издана с досок Ху Тином (胡珽 1822–1861) в 1853 г. в составе четырех сборников, включавших тридцать сочинений, напечатанных по редким сунским и юаньским спискам из его библиотеки, носившей название «Линь лан ми ши», где таких рукописей и ксилографов Ху Тином было собрано несколько тысяч. 8 См.: [Лу Сюнь 1973: 351–436]. Китайские текстологи более позднего времени, и в частности Ли Цзянь-го, указывают, однако, на ряд сохранившихся фрагментов из «Ю мин лу», которые в реконструкции Лу Синя отсутствуют, а также на некоторые, которые есть у Лу Синя, но оказались причислены к составу «Ю мин лу» по ошибке и на самом деле принадлежат другим сборникам [Ли Цзянь-го 1984: 357]. 9 ческой работы появился современный критический текст сборника Лю И-цина, подготовленный Чжэн Вань-цин 鄭晚晴 и вышедший в 1988 г. в Пекине. В нем в шести разновеликих цзюанях объединены 273 фрагмента: в первой — 41 фрагмент, во второй — 33, в третьей — 56, в четвертой — 64, в пятой — 50, в шестой — 29 фрагментов, и еще одиннадцать даны в приложении9. Название «Ю мин» восходит к древнейшему памятнику «Чжоу и» (周易, «[Канон] перемен эпохи Чжоу»), где в комментариях сказано: «… и сможет постичь суть темного (ю 幽) и светлого (мин 明)» [Чжоу и ичжу 2007: II, 379]. Лю И-цин подразумевает под этим в первую очередь непостижимые чудеса, связанные с загробным миром и различными его проявлениями, взаимодействие мира потустороннего, обиталища умерших, и мира людей, светлого мира живых, — именно об этом «Ю мин лу». Ли Цзянь-го (李劍國, род. в 1943 г.) отмечает большое сходство этого сборника с «Соу шэнь цзи» (搜神記, «Записки о поисках духов») Гань Бао (干寶, 280?–336): то же стремление к всеохватности материала о чудесном в самых разных его прояв9 Помещенные в приложении фрагменты относятся к сомнительным: Лу Синь включил их в свою реконструкцию, исходя из того, что составители танских и сунских антологий часто отождествляли «Ю мин лу» с другим сборником Лю И-цина — «Ши шо синь юй», в комментариях к которому были позднее обнаружены и отрывки из «Ю мин лу»; однако же в известном ныне тексте «Ши шо синь юй» эти фрагменты не содержатся. Издание Чжэн Вань-цин выгодно отличается добротными, обстоятельными примечаниями, фрагментам («для удобства читателя») даны заголовки — на сегодняшний день оно самое, пожалуй, удачное; в настоящем исследовании я пользуюсь именно им. Кроме того, «Ю мин лу» в редакции Ван Гэнь-линя (王根林) были выпущены в составе антологии «Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань» (漢魏 六朝筆記小說大觀, «Большое обозрение бицзи сяошо эпох Хань, Вэй и Шести династий»), вышедшей в 1999 г. в Шанхае (С. 689–747); это издание также основывается на списке Лу Синя и включает в себя такое же количество фрагментов, не разделенных на цзюани, идущих сплошным текстом, — по-видимому, издание 1988 г. Ван Гэнь-линь игнорировал, а принципы его собственной работы нигде в антологии толком не изложены. Также наиболее выигрышные и известные фрагменты из «Ю мин лу» неоднократно издавались в КНР в различных сборниках и антологиях старого рассказа — так, 107 прокомментированных, снабженных переводом на современный китайский язык фрагментов вошли в «Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси» (中國古代十大志怪小說賞析 «Де­сять великих древнекитайских сборников сяошо об удивительном, с анализом». Т. II. C. 580–694). Существует русский перевод пятнадцати фрагментов из «Ю мин лу», выполненный И. С. Лисевичем и К. И. Голыгиной (1 фрагмент) [Пурпурная яшма 1980: 239–256] по тексту Лу Синя; переводчик дал рассказам тематические заголовки, у Лу Синя отсутствующие. Тематические заголовки рассказов есть и в переводах восьми фрагментов из «Ю мин лу», сделанных А. Тишковым [Рассказы о необычайном 1977: 69–78]. 10 лениях [Ли Цзянь-го 1984: 357]. Действительно, эти сборники достаточно близки, но сборник Лю И-цина в то же время имеет свои существенные особенности. Как и у Гань Бао, в «Ю мин лу» содержится достаточное количество записей легенд, преданий и слухов, частично позаимствованных из предшествующих сочинений, частично записанных впервые, и среди героев таких фрагментов — ханьский император У-ди (годы правления 141–87 до н. э.), Цао Цао (曹操, 155–220), Сунь Цюань (孫權, 182–252) и др.10 Однако заимствования не превышают четверти объема «Ю мин лу», а основная хронология сборника — более современная: события времен от Цзинь и до начала Лю-Сун, и это одно из главных достоинств «Ю мин лу», выделяющее сборник Лю И-цина среди прочих собраний об удивительном. Здесь во множестве содержатся действительно свежие истории, в предшествующей письменной традиции еще не зафиксированные, и обработанные Лю И-цином в художественном ключе. Хронологически материал в «Ю мин лу» практически не организован: относящиеся к ханьскому, цзиньскому или к лю-сунскому времени сюжеты можно встретить в самых разных местах сборника, хотя нельзя не отметить и некоторую тенденцию к исторической последовательности, которую пытался соблюсти еще Лу Синь. Какой-либо очевидной тематической организации материала также нет, можно лишь отметить, что, скажем, фрагменты, в которых животные проявляют необычайные способности, более сосредоточены в третьей цзюани, а связанные с душами умерших сюжеты преобладают в четвертой; это, однако, не значит, что сходные фрагменты нельзя встретить и в иных цзюанях «Ю мин лу». Линь Чэнь (林辰, псевдоним Ван Ши-нуна 王詩農, 1912–2003) выделяет три основные тематические группы сборника: неофициальные исторические события; рассказы о местных диковинках и связанных с ними поветриях; рассказы об удивительных проис10 Что касается заимствований Лю И-цином из предшествующих собраний сюжетной прозы, то, согласно исследованию Ван Го-ляна 王國良, таких сочинений двенадцать: «И вэнь цзи» (1 фрагмент), «Ле и чжуань» (4), «Бо у чжи» (2), «И линь» (1), «Соу шэнь цзи» (11), «Чжи гуай» Цзу Тай-чжи (1), «Чжи гуай» Цао Пи (1), «Чжи гуай» г-на Куна (1), «Го-цзы» 郭子 (1), «Соу шэнь хоу цзи» (9), «Чжэнь и чжуань» (2), «Лин гуй чжи» (1 фрагмент). В то же время материалы из шестнадцати фрагментов «Ю мин лу» были использованы при составлении цзиньской династийной истории [Ван Го-лян 1980: 58–60]. 11 шествиях сверхъестественного характера [Линь Чэнь 1998: 158]. Что касается первых (их в «Ю мин лу» содержится около двух десятков), то среди них попадаются достаточно традиционные исторические (псевдоисторические): «Ханьский У-[ди] увидел [однажды] нечто, напоминающее бычью печень — [оно] вросло в землю и не двигалось. Спросил Дунфан Шо, Шо отвечал: “Это порождение духа печали. Лишь вином можно заглушить печаль, и ежели ныне [мой государь] окропит ее вином, то [она] рассеется”» [Лю И-цин 1988: 31]»11. Однако же подобные приведенному выше фрагменты для «Ю мин лу» не столь характерны: иные рассказы об этом же ханьском времени представляют собой длинные (более тысячи иероглифов 11 Дунфан Шо (東方朔, 154–93 до н. э.) — знаменитый ханьский сановник, толкователь чудес при дворе императора У-ди. Был неплохим поэтом, с его именем связаны многочисленные легенды. Неоднократно преподносил У-ди различные «волшебные» подарки, а однажды якобы вознесся на небо на зеленом драконе. Дунфан Шо — популярный образ древнекитайского придворного мудреца-острослова, герой многих художественных произведений, кроме того, он — бессмертный, персонаж китайского народного пантеона, где выступает в качестве покровителя золотых и серебряных дел мастеров. Интересная вариация на эту тему содержится в сборнике «Сяо шо» (小說, «Пустяковые россказни») лянского литератора Инь Юня (殷芸, 471–529): «У-ди осчастливил посещением дворцы Ганьцюаньгун. Ехал верхом и на дороге наткнулся на букашек: красного цвета, голова, глаза, жвалы, прочее все, как и должно быть, но никто [из свиты] таких не знал. Император послал поглядеть на них [Дунфан] Шо, тот вернулся и доложил: “Это гуайцзай (о ужас!). В древности при Цинь [людей] хватали безо всякой вины, и люди, обратив лица к небу, причитали: ‘о ужас! о ужас!’ Видно, и [их] страдания тронули Небо, и [оно] породило [этих существ], и оттого имя им гуайцзай. В этом месте раньше определенно было циньское узилище”. Сверились с картами земель — действительно [там] было старое узилище. [Император] еще спросил: “Как прогнать этих букашек?” Шо отвечал: “Такому помогает исчезнуть вино. Окропите их вином, и [они] рассеются”. Тогда [император] послал людей собрать букашек и положить в вино — и действительно: тут же растаяли!» [Инь Юнь 1999: 1027]. Ср. также с «Соу шэнь цзи»: «Ханьским император У-ди отправился в путешествие на Восток. Когда он еще не выехал из заставы Ханьгугуань, какая-то тварь перегородила ему дорогу. Длиной она была в несколько чжанов, видом походила на вола, у нее были черные глаза с мерцающими зрачками. Четыре ноги вросли в землю, так что невозможно было сдвинуть ее с места. Все чиновники дрожали от страха. Тогда Дунфан Шо посоветовал окропить эту тварь вином. Вылили на нее несколько десятков ху (один ху — ок. 52 литров. — И. А.) — тварь рассеялась. Император потребовал объяснений. Было сказано: “Тварь эта зовется Невзгода. Она есть порождение духа печали и, как установлено, возникла из-за беззаконий во времена Цинь. Иногда связывают ее появление с другими преступными беззакониями. Известно, что печали забываются за вином. Потомуто вино и заставило эту тварь рассеяться”. “Да! — сказал император. — Вот чего может достигнуть муж, проникший в суть вещей”» [Гань Бао 1994: 261]. 12 объемом) полноценные сюжетные повествования, наполненные деталями, живыми описаниями и диалогами. В отличие от второй тематической группы, фрагменты которой фактически наследуют традиции сборников типа «Бо у чжи» (博物志, «Записи обо всех вещах») Чжан Хуа 張華, 232–300), это достаточно лаконичные записи о различного рода диковинках и чудесных явлениях, в первую очередь географического характера, построенные по схеме «в таком-то месте существует нечто необычайное, обладающее такими-то и такими-то свойствами»: «В горах, что у озера Гунтинху, есть несколько камней — по форме как круглые зеркала, светлые, отражают человека. Их зовут “каменные зеркала”. Некогда один проходивший [там] путник развел на одном [таком камне] огонь, и [камень] перестал отражать, а человек тот вскоре ослеп» [Лю И-цин 1988: 71]12. Иначе обстоит дело с третьей тематической группой: она самая многочисленная, в первую очередь — фрагменты о душах умерших (гуй 鬼)13. Сразу надо отметить существенно возросший художественный уровень этих рассказов и то, что если в предшествующих собраниях историй об удивительном таковому уровню соответствовали лишь несколько особенно выдающихся фрагментов, то в «Ю мин лу» подобное положение вещей можно назвать практически нормой. «В конце годов правления под цзиньским девизом Шэн-пин у одного жившего глубоко в горах старика из уезда Гучжансянь была дочка, и […] Гуан (廣) из уезда Юйхансянь сватался к ней, но [старик] согласия не дал. После того как старик заболел и умер, девушка отправилась в уездный [город] купить [для отца] гроб и на полпути встретила Гуана. Девушка рассказала ему обо всем произошедшем. — [Я] в такой сильной нужде, — сказала девушка. — И если вы, сударь, согласитесь отправиться в наш дом и присматривать за телом отца, пока я не вернусь, то я стану вашей женой! Гуан согласился. Гунтинху — старое название юго-восточной части озера Поянху в пров. Цзянси. Согласно подсчетам Жун Сяо-цо (榮小措, род. в 1976 г.) и Чжан Сяо-цянь (張 曉倩), примерно в восьмидесяти фрагментах из «Ю мин лу» речь идет о человеческой смерти: это треть сохранившегося текста. Что вовсе не удивительно, учитывая неспокойное время, в которое жил их автор [Жун Сяо-цо, Чжан Сяо-цянь 2005: 106]. 12 13 13 — У нас в загоне есть свинья, — сказала еще девушка. — Забейте ее, [сударь], чтобы угостить тех, кто придет [на похороны]. Подходя к дому девушки, Гуан услышал, что внутри кто-то хлопает в ладоши и радостно танцует. Гуан приник к щели, видит — а в зале полно бесов-гуй: ликуют, окружив тело хозяина. Схватив палку, Гуан с громким криком вбежал в ворота — и вся нечисть тут же разбежалась. Гуан стал охранять тело, потом пошел и забил свинью. Настала ночь, и у тела [хозяина] появился старый гуй — протянул руки, прося мяса, и тут Гуан ухватил его за запястья, так что гуй уж не мог улизнуть, и держал гуя крепко-крепко. Тут слышит: снаружи собрались давешние бесы, кричат хором: — Старый дурак, обжора, за едой явился! Вот здорово! — Так это ты убил господина! — сказал Гуан старому гую. — Если сумеешь тотчас вернуть его душу обратно, я тебя отпущу, а коли не вернешь, не отпущу никогда! — Да, это мы убили господина, — сознался гуй, а потом крикнул остальным. — Верните душу! Тут господин стал оживать, и [Гуан] отпустил гуя. Вернулась девушка с гробом — она и отец зарыдали от счастья. Так [Гуан] и получил девушку в жены» [Лю И-цин 1988: 11]14. В «Ю мин лу» достаточно историй, главные герои которых не боятся нечисти, смело противостоят ей и одерживают верх. Не все из них откровенно «бесоборческие», как вышеизложенная, есть такие, в которых люди просто проявляют стойкость перед лицом души умершего, чего оказывается достаточно для прекращения нападок и безобразий. «Позади дома Чэнь Цин-суня (陳慶孫) из Иньчуани росло волшебное дерево. Многие приходили к нему молить о счастье, а затем [там] соорудили храм, назвали — Тяньшэньмяо (Храм небесного духа). У Цин-суня был черный бык. [Вдруг] из пустоты раздались слова духа: — Я — небесный дух, и [мне] нравится этот бык. Если не отдашь [его] мне, в двенадцатый день будущей луны я убью твоего сына! — Жизнь человека предопределена, — отвечал Цин-сунь. — И предопределена не тобой! Подошел срок, и сын [Цин-суня] и впрямь умер. 14 Годы правления под цзиньским девизом Шэн-пин — 357–361. Уезд Гучжансянь располагался в границах современного уезда Аньцзисянь пров. Чжэцзян. Юйхансянь располагался неподалеку, в районе совр. г. Ханчжоу. […] — знак, показывающий отсутствие одного иероглифа. Таким образом, фамилия Гуана остается нам неизвестной. 14 — Не отдашь мне [быка], придет пятая луна, и [я] убью твою жену! — снова раздался голос. [Цин-сунь] опять [быка] не отдал. Подошел срок, и жена и впрямь умерла. — Не отдашь мне [быка], осенью убью тебя самого! — снова раздался голос. [Цин-сунь] опять [быка] не отдал. Пришла осень, а [он] все не умирал. Тут явился дух и покаянно сказал: — Вы, господин, человек твердый, и во всем суждено [вам] великое счастье. Прошу не рассказывать никому эту историю, ведь если небо и земля узнают [о ней], вина моя будет велика! На самом деле [я] — всего лишь мелкий бес, которому повезло служить в Управлении судеб, [я] узнал срок кончины ваших, господин, жены и сына и таким вот образом обманывал вас, думая выманить еду. Очень прошу простить меня. А вам, господин, записано восемьдесят три года [жизни], в доме [у вас] будет согласно [вашим] желаниям, души умерших и духи станут помогать [вам] и защищать, да и я буду служить [вам] как покорный слуга! И было слышно, как [дух] бьется лбом о землю» [Лю И-цин 1988: 93]15. Впрочем, даже короткие истории о душах умерших из «Ю мин лу» вполне законченны, своеобразны и заслуживают внимания. Некоторые не лишены юмора. «Жуань Дэ-жу однажды по дороге в уборную столкнулся нос к носу с бесом — [тот был] ростом более чжана, весь черный, глаза огромные, в повя- 15 Этот рассказ в переводе И. С. Лисевича см.: [Пурпурная яшма 1980: 246–247]. Иньчуань — цзиньский военный округ, располагавшийся на территории средней части современной пров. Хэнань. Интересно сравнить эту историю с другой, также содержащейся в «Ю мин лу», но повествующей не о душе умершего, а о мыши-шантажистке: «Во времена вэйского Ци-вана [по имени] Фан (Цао Фан (曹芳, 231–274), титул которого был Ци-ван (齊王) и который, оказавшись на троне в восьмилетнем возрасте, правил с 239 по 254 г. — И. А.) в Чжуншани (в районе современного уезда Динсянь в пров. Хэбэй. — И. А.) жил некто Ван Чжоу-нань (王周南), он стал начальником Сянъи (уезд, располагавшийся на территории современной пров. Хэнань. — И. А.). Однажды [к нему] из норы вылезла мышь и говорит: “Чжоу-нань! В такой-то день ты умрешь!”. Чжоу-нань не обратил [на мышь] внимания. В назначенный срок [мышь] появилась снова — одетая в официальное платье и шапку. Сказала: “Чжоунань! К полудню ты умрешь!” [Чжоу-нань] опять не обратил [на мышь] внимания, и та ушла в нору. День клонился к закату, когда снова появилась мышь в официальном платье: “Чжоу-нань! Раз ты не реагируешь, что я еще могу сделать?” — сказала, повалилась наземь и сдохла. Официальное платье и шапка куда-то исчезли. [Чжоунань] подошел, присмотрелся: мышь как мышь, ничего особенного» [Лю И-цин 1988: 83]. 15 занном на военный манер головном платке. Дэ-жу не почувствовал страха в сердце своем, но засмеялся и сказал: — А ведь правду говорят, что бесы отвратительны! Бес покраснел от стыда и скрылся с глаз» [Лю И-цин 1988: 111]16. Такие рассказы — о людях, не верящих в волшебную силу душ умерших и в то, что они могут причинить вред, достаточно показательны для сборника Лю И-цина, хотя есть тут и вполне традиционные истории, например, о людях, не веривших в существование душ умерших и поплатившихся за это17. В «Ю мин лу» рассказы о душах умерших весьма разнообразны: тут и история о Ма Чжун-шу (馬仲叔), который после смерти, озабоченный тем, что его друг Ван Чжи-ду (王志都) до сих пор не женат, устроил его свадьбу; и о душе умершего, привлеченной искусной игрой Хэ Сы-лина (賀思令) на цине и подарившей ему мелодию, которая стала впоследствии очень известной; и о бездетном Ху Фу-чжи (胡馥之), чья умершая жена воскресла исключительно для того, чтобы родить ему наследника; и т. п.18 16 Жуань Дэ-жу — известный цзиньский поэт и лекарь Жуань Кань (阮侃, IV в.), второе имя которого было Дэ-жу 德如. Способностями выделился среди сверстников еще в детстве. Наивысшим служебным его достижением стал пост начальника Хэнэя (одна из ключевых цзиньских областей, располагалась на территории современной пров. Хэнань). 17 Апофеозом этой темы — когда души умерших запугивают живых, дабы те приносили им жертвы — может считаться весьма примечательный и один из самых выразительных в «Ю мин лу» рассказ о том, как душа вновь умершего человека в поисках пищи обращается к своему родственнику, тоже умершему, но ведущему вполне сытое существование, за советом и получает его: попугай людей, и все у тебя будет. После двух неудачных попыток, когда голодный умерший был вынужден трудиться день напролет (желая как следует испугать, молол зерно жерновами), а в результате не получил ничего, третья попытка увенчалась успехом: увидев, как в воздух взмыла поднятая невидимым умершим собака, жители принесли собаку ему в жертву. «После этого [он] время от времени именно так безобразничал — как и научил его другумерший» [Лю И-цин 1988: 132]. Рассказ написан с известной долей юмора, и из него мы узнаем как минимум две важные вещи: во-первых, в мире мертвых необходимые знания передаются, если так можно выразиться, из поколения в поколение — как и у живых; а во-вторых, что и запугивать живых нужно тоже с умом, правильно выбирать, кого именно запугивать: первые два дома, куда явился незадачливый герой этого рассказа, принадлежали приверженцам буддизма и даосизма, зато в третьем жили не связавшие себя ни с одним религиозным учением люди. См. этот рассказ под названием «Тощая душа» в переводе А. Тишкова [Рассказы о необычайном 1977: 76–78]. 18 Историю о Ма Чжун-шу см. в русском переводе И. С. Лисевича (под названием «Как покойный друг помог жениться») [Пурпурная яшма 1980: 253–254]; о Ху Фучжи (под названием «Как мертвая родила») [там же: 249]. 16 Впервые именно в «Ю мин лу» возникает и мотив расставшейся с телом души — по причине сильных любовных чувств. «В Цзюйлу жил некто Пан Э (龐阿), красивый наружностью и манерами. [У жившей] в том же округе семьи Ши была дочь — однажды [она] украдкой увидела Э, и [он] запал в ее сердце. Вскоре и Э увидел ее — и пригласил заходить к нему. Жена Э была очень ревнива — велела служанкам связать [девушку] и отправила обратно в дом Ши, но на половине дороги [девушка] вдруг обратилась в туман и пропала. Тогда служанки явились в дом Ши и рассказали о произошедшем. Отец Ши в большом изумлении воскликнул: — Моя дочь за ворота и носа не казала, да как [вы] смеете так ее порочить! С тех пор жена Э стала постоянно следить за ним и однажды ночью обнаружила девицу [Ши] в [его] кабинете — схватила за руку и отвела к господину Ши. Отец Ши, увидев дочь, в изумлении вытаращил глаза: — Да я только что из внутренних покоев и видел там, как дочь и [ее] мать вместе сидели за работой! Откуда [она] здесь-то взялась?! И велел служанке бежать во внутренние покои, позвать дочь, — и тут та, что была связана, опять исчезла! Подозревая странное, отец особо наказал матери разобраться, [в чем тут дело]. — Когда Пан Э приходил [к нам] в дом в прошлом году, [я] увидела его в щелочку, — сказала девушка. — А потом [он] как будто во сне пригласил меня прийти, и [я] пришла, а жена [Э] связала меня! — Сколь удивительные вещи случаются в Поднебесной! — проговорил Ши. Так сердце было охвачено чувством, и душа устремилась темными путями [к Пан Э], а та, что исчезала, — и была отлетевшая душа! После этого девица [Ши] зареклась выходить замуж. Минул год, и жена Э вдруг заболела злой болезнью — ни лекари, ни снадобья не помогали. Тогда Э послал семье Ши свадебные дары, и девушка стала его женой» [Лю И-цин 1988: 16]19. Этот рассказ базируется на традиционных китайских представлениях о двойственности духовной составляющей человека: «телесной» душе по (魄) и «духовной» душе хунь (魂), и последняя при определенных обстоятельствах может покидать физическую обо19 Цзюйлу — округ, административный центр которого находился на территории современного уезда Пинсянсянь пров. Хэбэй. См. этот рассказ в переводе А. Тишкова (под названием «Любовь с первого взгляда») [Рассказы о необычайном 1977: 75–76]. Этот сюжет позднее получил достойное развитие в знаменитой танской новелле «Ли хунь цзи» (離魂記, «Записки о душе, расставшейся [с телом]») Чэнь Сюань-ю (陳玄祐, VIII в.). 17 лочку, так что, строго говоря, к душам умерших история о Пан Э и девице Ши отношения не имеет, но должна быть отнесена, скорее, к историям об оборотнях, ибо душа хунь девицы Ши, стремясь к возлюбленному, обретала физическое воплощение, и теряла его, будучи приближена к своему настоящему телу. Рассказов на эту тему в «Ю мин лу» в общей сложности три. Куда более многочисленны рассказы (более полутора десятков) о возвращении души в бренное тело — разнообразных воскрешениях, восстании из мертвых, в том числе в результате стремления к любви, которой умершие были лишены20. «Ма-цзы (馬子), сын начальника Гуанпина Фэн Сяо-цзяна (馮孝將), [однажды] увидел во сне девушку лет восемнадцати — девятнадцати, и [она] сказала: “Я — дочь прежнего начальника [этого] округа Сюй Сюань-фана (徐玄方). К несчастью, [я] рано умерла, и с [моей] смерти прошло уж четыре года. Незаслуженно была [я] изничтожена бесами, а такто в книге жизней [мне] было записано долголетие больше чем до восьмидесяти лет! Нынче мне позволено сызнова вернуться к жизни, [я] хотела бы стать вашей, сударь, женой. Согласны ли?” Ма-цзы раскопал [могилу], открыл гроб, смотрит — а та девушка уж ожила! Так [они] и поженились» [Лю И-цин 1988: 12]21. Хоу Чжун-и (侯忠義, род. в 1936 г.) отмечает, что в «Ю мин лу» есть только один рассказ о влюбленных, которых разлучила смерть, где воскресает юноша, — во всех остальных к жизни возвращаются девушки [Хоу Чжун-и 1990: 142]22. Но к особенностям именно сбор20 Линь Чэнь замечает, что такие и им подобные рассказы, в сравнении с похожими, которые мы можем найти в собраниях предшествующей прозы, у Лю И-цина заиграли новыми красками как по форме, так и по содержанию [Линь Чэнь 1998: 160]. По наблюдениям Жун Сяо-цо и Чжан Сяо-цянь, к любовное теме в «Ю мин лу» имеют отношение, по крайней мере, тридцать фрагментов [Жун Сяо-цо, Чжан Сяо-цянь 2005: 106]. 21 Гуанпин — цзиньский округ, находившийся на территории современной пров. Хэбэй и при Восточной Цзинь переименованный в Сюйчжоу. 22 Это весьма поэтический рассказ о юноше, влюбившемся в торговку пудрой и постоянно покупавшем ее товар, дабы иметь возможность поглядеть на предмет обожания. Когда же девушка дозналась до причины и удостоила юношу свидания, тот от радости умер в ее объятиях. Родственники умершего выяснили, кто стал причиной смерти их сына, но перед тем, как передать торговку пудрой властям, позволили ей оплакать юношу. Он воскрес, и молодые люди поженились. См. этот рассказ в переводе А. Тишкова под названием «Торговка пудрой» [Рассказы о необычайном 1977: 71–72]. 18 ника Лю И-цина это отнести нельзя: такова общая тенденция сюжетной прозы рассматриваемого (и более позднего) времени. Несколько рассказов из «Ю мин лу» продолжают тему любви — уже между земным мужчиной и небожительницей. Эти рассказы носят явную даосскую окраску и восходят к истории о Персиковом источнике из знаменитого сборника «Соу шэнь хоу цзи» (搜神後 記, «Последующие записки о поисках духов») Тао Юань-мина (陶淵 明, 365–427). Наиболее выразительных таких историй у Лю И-цина две23. Обе связаны с посещением труднодоступных обителей бессмертных, расположенных глубоко в горах; именно там герои находят прекрасных бессмертных дев, предаются с ними любви, а потом расстаются. В отличие от подобных историй из «Соу шэнь цзи», где небожительницы нисходят из заоблачных сфер к смертным мужчинам, в «Ю мин лу» бессмертные девы принимают гостей на, так сказать, своей территории; а если сравнивать эти фрагменты с похожими из «Соу шэнь хоу цзи» Тао Цяня, то развитие также налицо: в «Ю мин лу» бессмертные девы живут в просторных домах, богато убранных и изящно украшенных, в их распоряжении уже находятся многочисленные служанки, в честь прибытия (или проводов) гостей тут устраивают роскошный пир с музыкой и пением, а за недолгое, казалось бы, время отсутствия героев в земном мире проходят многие годы; нельзя не отметить и возросшую детализацию описаний24. Присутствуют в «Ю мин лу» и оборотни. «Люй Цю (呂球) из Дунпина был богат и хорош собой. [Он] направлялся на лодке к озеру Цюйэху, как поднялся ветер, путь продолжать было нельзя, [и Цю] причалил у зарослей цицании. Видит — юная девушка в лодке, собирает водяные орехи, а одета с ног до головы в листья лотоса. — Девушка, ты не злобный оборотень? — спросил тогда [Цю]. — Откуда у тебя такая одежда? Девушка переменилась в лице от испуга и отвечала: — Вы не слушали разве — “платье из лотосов — о! — орхидеевый пояс, вдруг появилась — о! — и тут же пропала”? Но вид [у девушки] по-прежнему был испуганный — развернула лодку, перехватила весло, чуть помедлила и поплыла прочь. Цю выстрелил из лука 23 См.: «Обитель бессмертных дев» в переводе И. С. Лисевича [Пурпурная яшма 1980: 243–245], «Как женился Хуан Юань» в переводе А. Тишкова [Рассказы о необычайном 1977: 69–70]. 24 Подробнее о любовных историях в «Ю мин лу» см.: [Мэн Цин-ян 2007]. 19 [ей] вослед — и убил выдру! А лодка ее оказалась сплетенной из водорослей. [Тут Цю] увидел стоящую на берегу старушку-мать — [она] словно ждала кого-то и, увидев проплывающую лодку [Цю], спросила: — Вы, сударь, не видели там девицу, собирающую на озере водяные орехи? — Плывет прямо за мной! — отвечал Цю, прицелился, выстрелил и снова убил выдру, старую. Те, кто живет у озер, все говорят, что на озерах постоянно попадаются собирающие водяные орехи девушки — красы такой, что среди людей не бывает, временами [они] приходят в дома к людям, очень многие вступают [с ними] в связь» [Лю И-цин 1988: 73]25. Ли Цзянь-го отмечает, что это третий случай в китайской сюжетной прозе, когда в качестве оборотня выступает выдра [Ли Цзянь-го 1984: 367]26. Также в «Ю мин лу» в качестве оборотня можно встре25 Этот рассказ в переводе И. С. Лисевича под названием «Мать и дочь — оборотни» см. в: [Пурпурная яшма 1980: 247–248]. Дунпин — округ, располагавшийся в пределах современного уезда Дунпинсянь пров. Шаньдун. Цюйэху — озеро на территории современного уезда Даньянсянь пров. Цзянсу. Цициания (Zizania aquatic) — она же «водной рис», болотная трава высотой до полутора метров, растущая в стоящих или медленно текущих водоемах, по берегам рек и озер. «Платье из лотосов…» — цитата из «Чу цы» (楚辭, «Чуские строфы»). Цзэн Мэй-хай (曾美海, род. в 1980 г.) и Ян Сянь (楊嫻) отмечают, что всего в «Ю мин лу» есть восемь фрагментов, содержащих стихотворные вставки [Цзэн Мэй-хай 2009: 54]. 26 Первая выдра-оборотень в китайской письменной традиции зафиксирована у Гань Бао (XVIII. 436): «В уезде Уси округа Уцзюнь есть большой пруд, называемый Шанху. Дин Чу 丁初, служитель на этом пруду, каждый раз после ливня обходил плотину. Как-то весной, после обильных дождей, Чу вышел из дому и пошел вдоль пруда. Солнце клонилось к закату. Оглянувшись назад, он заметил какую-то женщину, всю в темно-зеленом с головы до ног, и сверху над ней зонт, тоже темно-зеленый. Она крикнула ему вслед: “Подождите меня, смотритель Чу!” Чу вначале пожалел ее, хотел было остановиться, но потом усомнился: “Что-то я раньше такого не видел: внезапно появляется женщина и идет, прикрываясь от дождя. Пожалуй, это бесовка”. И Чу ускорил свои шаги. Оглянулся — женщина тоже спешит вслед за ним. Чу пошел еще быстрее. Уйдя извилистым путем довольно далеко, оглянулся — а женщина бросилась в пруд, разнесся громкий всплеск, одежда ее и зонт разлетелись в разные стороны. Пригляделся — да это большая голубая выдра, а платье и зонт — листы лотоса. Когда такая выдра принимает человеческий облик, она чаще всего превращается в миловидную девушку» [Гань Бао 1994: 435–436]. Второй раз выдру-оборотня можно встретить в одном из сохранившихся фрагментов «Чжэнь и чжуань» (甄異傳, «Повествования, выявляющие странное») Дай Цзо (戴祚, конец IV — первая половина V в.), где Ян Чоу-ну 楊丑奴 вечером на озере встречает очень красивую девушку, с лодки, собирающую водяные орехи, и девушка в виду наступающей ночи предлагает разделить с ней трапезу, а потом «вдруг погасила огонь и стала [с ним] спать. [Чоу-ну] почувствовал исходящее от нее зловоние, и пальцы на [ее] 20 тить петуха, черепаху, летучую мышь, даже метлу. И, конечно, лису. Лисы-оборотни в «Ю мин лу» — те, что оборачиваются женщинами, практически все не причиняют людям зла; напротив, именно лисы становятся в таких рассказах жертвами. Прочие же лисы — вредны и коварны, как им и положено, строят козни, но знающие люди с ними успешно борются. «Во времена цзиньского Хайси-гуна у одного человека умерла мать. Был [тот человек] беден, похороны устроить не мог, а оттого утащил гроб глубоко в горы, соорудил могилу в склоне, как почтительный сын денно и нощно без устали скорбя [подле могилы]. Однажды вечером появилась женщина с ребенком на руках — попросилась на ночлег. Настала ночь. Почтительный сын еще не покончил с делами, а женщина попросилась спать — прилегла у костра, и оказалось, что это лиса с черной курицей в лапах. [Тогда] почтительный сын зарубил их и сбросил в яму позади [могилы]. Наутро появился молодой человек. — Моя родственница тут проходила вчера, — обратился он [к почительному сыну]. — Но настала ночь, [ей] пришлось заночевать. Где она теперь? — Тут была лишь лисица, — отвечал почтительный сын. — И я ее зарубил. — Да вы, сударь, ни за что мою жену убили! — сказал молодой человек. — Как же можете выдавать [ее] за лису? А ну, где та лисица? [Они] вместе подошли к яме, смотрят — а лиса вновь стала женщиной, лежит в яме мертвая! Молодой человек связал почтительного сына, потащил к властям, дабы в отместку покарали его смертью. — Но [он] на самом деле оборотень! — сказал почтительный сын начальнику. — Вы лишь охотничьих собак выпустите, сразу распознаете! Начальник спросил псаря: — Помогут собаки распознать [лиса]? — [Лисы] по природе своей собак боятся, — был ответ. — но может и не получиться. Тогда спустили собак, и [молодой человек] превратился в старого лиса — тут его и застрелили. Смотрят — а женщина снова превратилась в лису» [Лю И-цин 1988: 89]27. руках оказались страшно короткие — и понял: это оборотень. А тварь эта уж знала, что у человека на уме — выскочила прочь, обернулась выдрой и стремительно скрылась в воде» [Цао Пи 1988: 88–89]. 27 Хайси-гун — имеется в виду Сыма И (司馬奕, 342–386), цзиньский император Фэй-ди (годы правления 365–371), в результате заговора уступивший трон Сыма Юю (司馬昱, 320–372, Цзяньвэнь-ди, годы правления 371–372) и отправленный в ссылку сначала в ранге вана — Дунхай-вана, а в 372 г. получивший понижение до титула Сихай-гуна. 21 Примерно то же самое происходит в «Ю мин лу» и с прочими животными-оборотнями. «Цзиньский мишуцзян28 Вэнь Цзин-линь (溫敬林) из Тайюаня уж год как умер, как вдруг супруга его, госпожа Сюань, видит: [Цзин-]линь вернулся домой! Стали жить вместе как прежде. [Цзин-линь] опасался попасться на глаза другим домочадцам, и когда к нему пришел племянник, [Цзин-]линь говорил с ним из-за едва приоткрытого окна. Потом однажды [Цзин-линь] напился допьяна, раз — и оказался старой желтой собакой из соседнего дома! [Собаку] забили до смерти» [Лю И-цин 1988: 74–75]. Увлечение Лю И-цина буддизмом в последние годы жизни нашло отражение и в «Ю мин лу»: в сборнике весьма сильны буддийские мотивы. Правда, на мой взгляд, они сильны не настолько, чтобы можно было рассматривать этот сборник в ряду «буддийских» сяошо, как это делает Хоу Чжун-и. В «Ю мин лу» действительно есть фрагменты, содержание которых иллюстрирует идею неотвратимости загробного воздаяния или же веры в Будду как средства спасения от несчастий и нечисти, но удельный вес таких фрагментов в этом пестром собрании всевозможных историй о душах умерших, духах, оборотнях и разных удивительных случаях не столь велик, так что говорить об исключительно буддийском характере «Ю мин лу» было бы преувеличением. А среди фрагментов буддийского характера особый интерес представляют рассказы (они в основном сосредоточены в последних двух цзюанях), повествующие о посещении загробного мира. Линь Чэнь обращает внимание, что именно Лю И-цин в «Ю мин лу» одним из первых в истории китайской словесности ввел в сяошо подробное описание ужасов ада и мук, ждущих там грешников [Линь Чэнь 1998: 161]. Идущие друг за другом истории о Шу Ли (舒禮), Кан А-дэ (康阿得), Ши Чан-хэ (石長和) и Чжао Тае (趙泰) — довольно объемные повествования, построенные по шаблону, когда главного героя, после того как он умер, загробные посланцы доставляют в судилище, но позднее, поскольку он оказался там в результате ошибки, позволяют герою вернуться в мир живых, а перед этим — немного познакомиться с устройством ада и подробностями воздаяния (а для 28 Мишуцзянь — придворная должность, существовавшая с ханьского времени. Исполнявший ее чиновник ведал подготовкой докладов императору, а также курировал составление государ­ственной истории и обеспечивал хранение августейших документов, собрание картин и книг. 22 праведника Кан А-дэ в качестве своеобразного извинения перед воскрешением устраивают по аду экскурсию). Вот самый короткий из указанных трех фрагментов. «В уезде Бацюсянь был шаман-заклинатель Шу Ли — в первый год под цзиньским девизом правления Юн-чан [он] заболел и умер, и тудишэнь собрался направить [его] на Тайшань. А молва гласила, что шаманы — [они] даосы, и потому, лишь прибыв к странноприимному дому в загробном управлении, тудишэнь спросил привратника: — Это что за место? — Странноприимный дом даосов, — был ответ. — Шу Ли как раз даос, — сказал тудишэнь и передал [Шу Ли] привратнику. Ли вошел, видит — сотни тысяч комнат, всюду повешены занавеси, стоят лежанки, мужчины и женщины отдельно, кто-то молится, кто-то поет славословия, естественные еда, питье — непередаваемое благолепие! Имя Ли уже было послано на Тайшань, а самого его все не отсылали. [Ли] пристал с расспросами к тудишэню. — Вы же видели те тысячи комнат, [мы] спросили привратника, сказали, [что вы] даос — вот [вас] сюда и приписали, — ответил [туди]шэнь. Тогда [Ли] попросил [туди]шэня изъять его из этих списков. Вдруг видит Ли: какой-то человек, с восемью руками, четырьмя глазами устремился к нему, схватив золотую палицу. Ли в испуге выбежал прочь [из странноприимного дома], а за воротами уж был [туди]шэнь, — схватил Ли и повлек на Тайшань. Владыка Тайшани спросил Ли: — Чем вы, сударь, занимались в бренном миру? — Служил тридцати шести тысячам духов, избавлял людей от скверны, приносил [кровавые] жертвы духам и умершим! — отвечал Ли. — Так ты, угодничая духам, убивал животных! — вскричал владыка. — Это самое страшное преступление, поджарить его! Передал [Ли] прислужниками, и те потащили [Ли] за собой. Ли увидел существо — с бычьей головой и человечески телом, с железными вилами в руках. [Существо] насадило Ли на вилы и опрокинуло на железное ложе, и все тело [Ли] сгорело до углей, и [он] молил о смерти, но безответно. Так прошло несколько дней и ночей, и становилось все хуже. Потом владыка навел справки и узнал, что отпущенные Ли годы жизни еще не вышли, дал приказ вернуть [его] обратно, и строго наказал: — Не смей более убивать животных в угоду непристойным ритуалам! Тут Ли ожил и более заклинательством не занимался» [Лю И-цин 1988: 170]29. Бацюсянь — уезд, располагался на территории современной пров. Хэнань. Первый год под цзиньским девизом правления Юн-чан — 322. Тудишэнь — духпокро­ви­тель местности, одно из низших божеств китайского пантеона и одно из са29 23 Это один из самых своеобразных рассказов на интересующую нас тему в «Ю мин лу». Последователи даосского и буддийского учений, объединенные в народном сознании в «даосы» (道士, «люди Пути»), собранные в одном месте, пользуются всеми благами земной жизни, но молятся Будде (нянь сунн, 念誦) и поют буддийские славословия (бай чан, 唄唱); да и само их пристанище обозначено словом фу шэ (福舍, «странноприимный дом», от санскр. puхyaчala). Идея загробного ада, реализованная в некоторых предшествующих сборниках, в «Ю мин лу» получает дальнейшее развитие, и владыка горы Тайшань, где, как мы помним, в сознании китайского народа и находилось загробное судилище, тоже поменял взгляды на буддийские: самое страшное преступление для него — наносить вред живым существам. В этой коллизии Хоу Чжун-и склонен видеть противоборство буддизма и даосизма [Хоу Чжун-и 1990: 141]. Мы не будем столь категоричны и увидим здесь скорее религиозный синкретизм. «… Кто убивал живых, должен стать поденкой, что родится утром, а к вечеру умирает, а если и родится человеком, то срок жизни его будет короткий; промышлявший разбоем станет свиньей или овцой, и ее забьют, а мясо пойдет в пищу; кто развратничал, станет лебедем или уткой со змеиной шеей; злоязыкий станет совой с мерзким голосом, от звука которого хочется выть и даже умереть» [Лю И-цин 1988: 181]. Если обратиться к материалу «буддийских» сяошо (фактически собраний притч, представленных читателю с очевидной утилитарной целью), то мы увидим, что путешествие в загробный мир — один из основных их мотивов; в «Ю мин лу» же истории, имеющие буддийскую направленность, переработаны в сюжетные рассказы, и учительная нагрузка в них — не самоцель; эти рассказы органично вплетены в общую пеструю картину сверхъестественной изнанки окружающего мира. В целом же следует подчеркнуть, что «Ю мин лу» — неординарный сборник, выдающийся как по форме, так и по содержанию; здесь мы находим значительные по объему сюжетные повествования, насыщенные тонко прописанными деталями и геромых почитаемых. По традиционным ки­­тайским представлениям, любая мест­ность имела своего тудишэня, назначаемого «за­­гробной админи­стра­цией» и ведавшего всеми духами и волшебными существами дан­ной местности, включая сюда и души умерших. Для взаимоотношений с туди сооружались кумирни — маленькие, как правило до метра в высоту, примитивные и грубые. 24 ями, а также диалогами, масштабом вполне способные сравниться с некоторыми образцами танских новелл (таких в «Ю мин лу» более двух десятков). Характерной особенностью сборника Лю И-цина можно считать и то обстоятельство, что подавляющее большинство его героев — простые люди, чиновники невысокого ранга, монахи буддийские и даосские, словом, все те, чьи имена, как правило, не отмечены в исторических сочинениях. Этот сборник вместе с «Ши шо синь юй» сыграл значительную роль в становлении старой китайской сюжетной прозы; а все составляющие его фрагменты, говоря словами Хоу Чжун-и, «обладают сюжетной сложностью, законченностью структуры и отчетливостью образов» [Хоу Чжун-и 1990: 145]. Продолжая существующие традиции, Лю И-цин вдохнул свежее содержание в старые сюжеты, привнес совершенно новые мотивы (такие, как мотив покинувшей тело души), поднял на более высокий художественный уровень стиль изложения, отметив очередную реперную точку на пути китайского литературного процесса30. ЛИТЕРАТУРА На русском языке Гань Бао 1994 — Гань Бао. Записки о поисках духов (Соу шэнь цзи) / пер. с древнекит., предисл., прим. и словарь-указатель Л. Н. Меньшикова. СПб., 1994. Пурпурная яшма 1980 — Пурпурная яшма: китайская повествовательная проза I– VI вв. / пер. с кит. М., 1980. Рассказы о необычайном 1977 — Рассказы о необычайном: Сб. дотанских новелл / пер. с кит. [А. Тишкова и В. Панасюка]. М., 1977. Ср.: «… Мы видим, что “Записи о тьме и свете” не только продолжили художественную традицию сюжетной прозы о удивительном “Записок слышанного о странном” Чэнь Ши, “Отдельных повествованиях о странном” Цао Пи, “Записок о поисках духов” Гань Бао и “Последующих записок о поисках духов” Тао Цяня, но и в то же время восприняли художественные стороны исторической литературы, исторической прозы и буддийской культуры; в этом сборнике есть не только то, что родилось из разговоров на улицах, пересудах в переулках и беседах в дороге, когда автор всего лишь фиксировал подобный материал, но есть и такие произведения, в которых автор сосредоточился на собственных мыслях и чувствах, в согласии с собственными эстетическими установками создав предшественников танской новеллы» [Ван Хэн-чжань 2002: 151–152]. 30 25 На английском языке Campany 1996 — Campany R. Strange Writings: Anomaly Accounts in Early Medieval China. Albany, 1996. На китайском языке Ван Го-лян 1980 — Ван Го-лян (王國良). «Ю мин лу» яньцзю (〈幽明錄〉研究, Исследование «Записей о тьме и свете») // Чжунго гудянь сяошо яньцзю чжуаньцзи (中國古典小說研究專集, Отдельный сборник исследований китайской классической прозы). Вып. 2. Тайбэй, 1980. C. 47–60. Ван Хэн-чжань 2002 — Ван Хэн-чжань (王恆展). И ши «юи вэй сяошо» — «Ю мин лу» саньлунь (已始《有意為小說》 — 《幽明錄》散論, Начало «осознанного написания сюжетной прозы» — заметки о «Записях о тьме и свете») // Пу Сун-лин яньцзю (蒲松齡研究, Исследования Пу Сун-лина). 2002. №4. С. 142–152. Жун Сяо-цо, Чжан Сяо-цянь 2005 — Жун Сяо-цо (榮小措), Чжан Сяо-цянь (張曉倩). «Ю мин ду» чжундэ сяньши цзинсян (《幽明錄》中的現實鏡像, Зеркальное отображение реальности в «Записях о тьме и свете») // Шанло шифань чжуанькэ сюэсяо сюэбао (商洛師範專科學校學報, Вестник специализированного педагогического училища в Шанло). 2005. №19. С. 105–108. Инь Юнь 1999 — Инь Юнь (殷芸). Сяо шо (小說, Пустяковые росказни) / Ван Гэньлинь цзяодянь (王根林校點, крит. текст Ван Гэнь-линя) // Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань (漢魏六朝筆記小說大觀, Большое обозрение бицзи сяошо эпох Хань, Вэй и Шести династий). Шанхай, 1999. С. 1011–1046. Цао Пи 1988 — Цао Пи (曹丕). Ле и чжуань дэн у чжун (列異傳等五種, Отдельные повествования о странном и другие четыре сборника) / Чжэн Сюэ-тао цзяочжу (鄭學弢校注, крит. текст и комм. Чжэн Сюэ-тао). Пекин, 1988. Ли Цзянь-го 1984 — Ли Цзянь-го (李劍國). Танцянь чжигуай сяошо ши (唐前志怪小 說史, История дотанских рассказов об удивительном). Тяньцзинь, 1984. Линь Чэнь 1998 — Линь Чэнь (林辰). Шэньгуай сяошо ши (神怪小說史, История волшебного рассказа). Ханчжоу, 1998. Лу Сюнь 1973 — Лу Сюнь (魯迅). Гу сяошо гоучэнь (古小說鈎沉, Извлечения из книг старой прозы) // Лу Сюнь цюаньцзи (魯迅全集, Полн. собр. соч. Лу Сюня): в 20 т. Т. 8. Шанхай, 1973. С. 119–657. Лю И-цин 1988 — Лю И-цин (劉義慶). Ю мин лу (幽明錄, Записи о тьме и свете) / Чжэн Вань-цин цзичжу (鄭晚晴輯注, ред. и ком­м. Чжэн Вань-цина). Пекин, 1988. Лю Сай 2007 — Лю Сай (劉賽). Линьчуань-ван Лю И-цин чжаоцзи вэньши ходун каобянь (臨川王劉義慶 招集文士活動考辨, Разыскания о деятельности Линьчуаньского князя Лю И-цина по объединению вокруг себя литераторов) // Хубэй дасюэ сюэбао (湖北大學學報, Вестник Хубэйск. ун-та). 2007. № 6. С. 73–77. Мэн Цин-ян 2007 — Мэн Цин-ян (孟慶陽). «Ю мин лу» чжундэ хуньлянь тицай сяошо (《幽明錄》中的婚戀題材小說, Рассказы о любви в браке в «Записях о тьме и свете») // Ибинь сюэюань сюэбао (宜賓學院學報, Вестник Ибиньск. академии). 2007. №3. С. 20–22. 26 Фань Чун-гао 2011 — Фань Чун-гао (范崇高). «Ю мин лу» цыюй чжуши шанцюэ (《幽明錄》詞語注釋商榷, Дискуссия о толковании речевых оборотов из «Записей о тьме и свете») // Ибинь сюэюань сюэбао (宜賓學院學報, Вестник Ибиньск. академии). 2011. № 1. С. 63–65. Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань 1999 — Хань Вэй Лючао бицзи сяошо дагуань (漢魏六朝筆記小說大觀, Большое обозрение бицзи сяошо эпох Хань, Вэй и Шести династий). Шанхай, 1999. Хоу Чжун-и 1990 — Хоу Чжун-и (侯忠義). Чжунго вэньянь сяошо шигао (中國文言 小說史稿, Черновая история китайской сюжетной прозы на классическом языке): в 2 т. Т. I. Пекин, 1990. Хун Май 1994 — Хун Май (洪邁). И цзянь чжи (夷堅志, Записи И-цзяня): в 4 т. Тайбэй, 1994. Цзэн Мэй-хай 2009 — Цзэн Мэй-хай (曾美海), Ян Сянь (楊嫻). «Ю мин лу» дэ чжигуай тиши цзици вэньсюэ цзячжи (〈幽明錄〉的志怪體式及其文學價值, Форма записей об удивительном из «Записей о тьме и свете», а также ее литературная ценность) // Яньчэн гунсюэюань сюэбао (鹽城工學院學報, Вестник Яньчэнск. технолог. академии). 2009. №3. С. 52–55. Чжоу И-лян 1985 — Чжоу И-лян (周一良). Вэй Цзинь Наньбэйчао ши чжацзи (魏晉 南北朝史札記, Разные заметки по истории Вэй, Цзинь и Южных и северных династий). Пекин, 1985. Чжоу И-лян 1991 — Чжоу И-лян (周一良). Вэй Цзинь Наньбэйчао ши луньцзи сюйбянь (魏晉南北朝史論集續編, Продолжение сборника статей по истории Вэй, Цзинь и Южных и северных династий). Пекин, 1991. Чжоу и ичжу 2007 — Чжоу и ичжу (周易譯注, «[Канон] перемен эпохи Чжоу» с переводом на современный язык и комментариями) / Хуан Шоу-ци, Чжан Шаньвэнь ичжу (黃壽祺,張善文譯注, пер. и комм. Хуан Шоу-ци и Чжан Шаньвэня): в 2 т. Шанхай, 2007. Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань 2004 — Чжунго вэньянь сяошоцзя пинчжуань (中國文言小說家評傳, Критические биографии авторов сюжетной прозы на древнекитайском языке) / Сяо Сян-кай чжубянь (蕭相愷主編, гл. ред. Сяо Сян-кай). Чжэнчжоу, 2004. Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси 1992 — Чжунго гудай ши да чжигуай сяошо шанси (中國古代十大志怪小說賞析, Де­сять великих древнекитайских сборников сяошо об удивительном, с анализом / Е Гуй-ган, Ван Гуй-юань чжубянь (葉桂岡,王貴元主編, под ред. Е Гуй-гана и Ван Гуй-юаня): в 2 т. Пекин, 1992. 27 М. Е. Кравцова ОПЫТ ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КИТАЙСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ ЭПОХИ ШЕСТИ ДИНАСТИЙ (III–VI вв.)1 Эпоха Шести династий (Лючао 六朝) — один из самых сложных и противоречивых этапов в истории китайской цивилизации. Называемая с полным на то основанием «эпохой смутного времени», она образует как промежуточную фазу между двумя могущественными имперскими государствами — Хань (漢 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) и Тан (唐 816–907). Вслед за традиционной хронологией, III– VI вв. подразделяют на несколько периодов: Троецарствие (Саньго 三國, 220–264), когда на руинах древней империи Хань возникли три суверенных государства — Вэй (魏 220–264), У (吳 222–280) и Шу (Хань-Шу 漢蜀, 221–263); династия Западная Цзинь (264–317), ненадолго реставрировавшая централизованную империю; династия Восточная Цзинь (317–420), возникшая в ходе частичного завоевания Китая; и Южные и Северные династии (Наньбэйчао 南 北朝, 420–589) — окончательное разделение Китая на Юг (регионы нижнего и среднего течения Янцзы), где сохранилась собственно китайская государственность, и Север (регионы бассейна Хуанхэ), оказавшийся под властью чужеземных правящих домов. За V–VI вв. на Юге сменилось четыре династии: Лю Сун (劉宋 420–479), Южная Ци (Нань Ци 南齊, 479–502), Лян (梁 502–557) и Чэнь (陳 557–589). Вопреки историко-политическим коллизиям, духовная жизнь китайского общества ознаменовалась бурными новаторскими про1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в проекте проведения научных исследований «История китайской классической литературы с древности и до XIII в.: поэзия, проза», проект № 12-34-09001. © М. Е. Кравцова, 2013 28 цессами, затронувшими все сферы интеллектуально-творческой деятельности. К числу важнейших новаций относится утверждение в авторской лирической поэзии2. Еще в литературно-теоретической мысли V–VI вв.3 утвердилось структурирование истории поэзии эпохи Шести династий через выделение литературно-поэтических образований (объединений и направлений), связываемых с плеядами поэтов-современников4. Это: Цзяньаньская поэзия (Цзянь-ань фэн гу 建安風骨, букв. «Остов и ветер эры Цзянь-ань», от девиза правления Цзянь-ань, 190–220)5, возникшая благодаря творческой активности членов клана Цао (曹 будущего царствующего дома царства Вэй) и литераторов из их 2 Лирическая поэзия Лючао представлена двумя ведущими жанровыми разновидностями — юэфу (樂府 «песни») и ши (詩 «стихи»). Как юэфу, в более точной научной терминологии, вэньжэнь юэфу (文人樂府 «юэфу литераторов/образованных людей» [Сяо Ди-фэй 1984: 124]), «книжные песни юэфу» или «авторские юэфу», определяют произведения, созданные в подражание (от парафраза до отдаленных вариаций на тему) песенному фольклору (анонимной песенной лирике), занимавшей господствующее положение в поэтическом творчестве эпохи Хань. Ши — собственно стихотворные произведения, созданные вне музыкально-песенной стихии. Традиция авторской лирики имеет древние истоки, однако до рубежа II–III вв., она занимала, по не совсем понятным причинам, относительно скромное место в литературной практике. Несмотря на определенные формальные и смысловые различия между указанными жанровыми разновидностями, их правомерно рассматривать в качестве компонентов общего поэтического массива. 3 Формирование литературно-теоретической мысли (кит. вэньсюэ пипин 文學 批評, «литературная критика») в качестве самостоятельного интеллектуального направления также относят к числу важнейших культурных достижений Лючао. 4 Такое видение литературного процесса проистекают из социально-культурных фактов. В условиях дестабилизации общественной жизни страны образованные люди искали защиты у военно-политических лидеров, при дворах которых, превратившихся в «островки безопасности», и возникали литературные объединения, членов которых связывали, помимо общности духовных интересов, мировоззренческих позиций и эстетических установок, лояльности своему сюзерену (например [Balazs 1964: 233]). Традиционную схему истории поэзии Лючао с определенными корректировками, но в целом стереотипно, используют и в современных китайских исследованиях, примером чего служат новейшие академические «История литературы Вэй и Цзинь» [Сюй Гун-чи 1999] и «История литературы Южных и Северных династий» [Цао Дао-хэн 1998]. 5 Девиз правления (нянь хао 年號) — двухсловная или, реже, трехсловная лексическая формула, в которой кратко декларировались принципы и задачи ближайшего грядущего царствования. Обязательно провозглашалась при воцарении очередного монарха и могла меняться во время его правления. Исходя из девизы правления, в официальной историографической литературе вели летоисчисление, чем и объясняется введение нянь хао в названия литературных феноменов. «Эра Цзянь-ань» охватывает последние две декады существования империи Хань. 29 окружения6; Поэзия в стиле Чжэн-ши (Чжэн-ши ти 正始體, от девиза правления Чжэн-ши, 240–249); Поэзия в стиле Тай-кан (Тай-кан ти 太康體, от девиза правления Тай-кан, 265–290), почитаемая ведущим поэтическим феноменом Западной Цзинь; Стихи о сокровенном (Сюань янь ши 玄言詩) — направление идейно-тематического характера, занимавшее главенствующее положение в литературном творчестве первой половины Восточной Цзинь; Поэзия в стиле Юнмин (Юн-мин ти 永明體, от девиза правления Юн-мин, 483–494), представляющая поэзию заключительной трети V в.; и Поэзия дворцового стиля (Гун ти ши 宮體詩) — тоже тематическое направление, полагаемое самым значительным литературным явлением 530–540‑х годов. Теоретикам литературы Лючао принадлежит и первый опыт тематической классификации синхронной лирической поэзии. Речь идет о композиции знаменитой антологии «Вэнь сюань» (文選 «Избранные произведения изящной словесности»), созданной авторским коллективом по инициативе и под руководством Сяо Туна (蕭 統 501–531, второе имя Дэ-ши 德施), наследного принца (Чжаоминтайцзы 昭明太子, 502–531) династии Лян7. В ней стихотворные произведения распределены по 18-ти тематическим рубрикам: «Бу ван» (補亡 «Указания на ошибки правления»), «Шу дэ» (述德 «Изложение добродетелей»), «Цюань ли» (勸勵 «Поощрения стараний»), «Сянь ши» (獻詩 «Стихи о подношениях»); «Гун янь» (公讌 «Пир князя»), «Цзу цзянь» (祖賤 «Падение уважения к предкам»), «Юн ши» (詠史 «Воспевание истории»), «Ю сянь» (遊仙 «Путешествие к бессмертным»), «Чжао инь» (招隱 «Призывание сокрывшегося от мира»), 6 Ведущими представителями считаются Три Цао (Сань Цао 三曹) и Семеро мужей эры Цзянь-ань (Цзянь-ань ци цзы 建安七子, Семеро Цзяньаньских мужей). К Трем Цао относят главу названного клана — Цао Цао (曹操 155–220, второе имя Мэн-дэ 孟德), бывшего одной из ключевых политических фигур конца эпохи Хань, и двух его сыновей: Цао Пи (曹丕, 187–226, второе имя Цзы-хуань 子桓, основатель царства Вэй, Вэй Вэнь-ди 魏文帝, на троне 220–226) и Цао Чжи (曹植, 192–232, второе имя Цзы-цзянь 子建, официальный посмертный титул Чэньсы-ван 陳思王, Чэньсыский принц). Общая характеристика Цзяньаньской поэзии, всех перечисленных далее литературно-поэтических образований и творчества их ведущих представителей дана мною в статьях, опубликованных в: [Духовная культура Китая 2008]. 7 «Вэнь сюань» является одним из наиболее значительных и авторитетных литературных памятников Китая. Общие сведения о его создании, композиционных особенностях и теоретической значимости см.: [Духовная культура Китая 2008: 255–262]. 30 «Фань чжао инь» (反招隱 «Отрицания призывания сокрывшегося от мира»), «Ю лань» (游覽 «Путешествия»), «Юн хуай» (詠懷 «Воспевание переживаний»), «Ай шан» (哀傷 «Скорби и печали»), «Цзэн да» (贈答 «Дары и ответы»), «Син лю» (行旅 «Странствования»), «Цзюнь жун» (軍戎 «Военные действия»), «Цзяо мяо» (郊廟 «Жертвоприношения в предместных храмах и храмах предкам») и «Вань гэ» (挽歌 «Поминальные песни») [Вэнь сюань 1959: I, 405–684]8. Классификация, предложенная в «Вэнь сюань», не нашла должного внимания в научных исследованиях, хотя сами по себе попытки тематического анализа китайской поэзии неоднократно предпринимались ранее9. Более того, до недавнего времени господствовал тезис о тематической узости лирической поэзии эпохи Шести династий, о чем свидетельствуют тематические классификации, разработанные китайскими учеными в первой половине XX в. В одном случае выделены: шаньшуйши (山水詩 «поэзия гор и водах»), т. е. пейзажная лирика, тяньюаньши (田園詩 «поэзия полей и огородов») и поэзия на любовные темы, отождествляемая с Поэзией дворцового стиля. В другом — пейзажная лирика, обозначенная как «стихи с пейзажными описаниями» (се цзин дэ ши 寫景的詩), любовно-лирическая поэзия (цин ай дэ ши 情愛的詩, «стихи о любовных чувствах») и «стихи, воспевающие предметы» (юн у дэ ши 詠物的詩) [Лу Кань-жу 1956: II, 394–396]. Тематические рубрики предложены также для одической поэзии (фу 賦), занимавшей господствующее положение в авторской поэзии эпохи Хань, что свидетельствует о повышенном интересе создателей антологии к тематике поэтического творчества. «Вэнь сюань» далеко не единственный памятник такого типа. Известно, что к середине VI в. в императорской библиотеке числилось 356 литературных собраний, почти все в дальнейшем были утрачены [Wang 2012: 57]. Велика вероятность наличия среди них трудов, организованных по тематическому принципу. 9 В отечественном китаеведении тематический подход к китайской поэзии был впервые заявлен и апробирован академиком В. М. Алексеевым (1881–1951), составившим список тем лирической поэзии эпохи Тан [Алексеев 1978: 103–114; 2002: I, 257–276]. Среди них видим: «Природа и поэт» («Природа и я»), «Прочь от мира», «Мой друг», «На чужбине» и т. д. По тематическому и тематико-хронологическому принципу построены и некоторые зарубежные издания, в первую очередь [Frankel 1976; Owen 1996]. Выделенные в них тематические блоки, например, «Человек и природа» («Man and nature»), «Человек и его взаимоотношения с другими людьми» («Man and his relations with other men»), «В пути» («Longing on the road»), «Ночное одиночество («Alone at night»), «Путник и женщина» («The stranger and the woman»), явно опираются на опыт в большей степени европейского литературоведения, чем китайской литературно-теоретической мысли. 8 31 Главной причиной такой скудности набора тем послужил, думается, «выборочный подход» к поэтическому наследию эпохи Шести династий, проистекающий, в свою очередь, из общего отрицательного к нему отношения, утвердившегося в китайской гуманитарии приблизительно с эпохи Тан. Возобладало мнение, что социальнополитические коллизий III–VI вв. были вызваны общим падением нравственности и духовности, что неизбежно должно было повлечь за собой и деградацию поэтического творчества (подробно см.: [Кравцова 2001: 77]). Исключение сделали лишь для нескольких поэтов, которые смогли благодаря своему дару и нравственности избежать «тлетворного влияния времени». В такой список вошли: Цао Чжи, Цзи Кан (嵇康 224–263, второе имя Шу-е 叔夜) и Жуань Цзи (阮 籍 310–263, второе имя Сы-цзун 嗣宗), оба — лидеры Поэзии в стиле Чжэнши, Тао Юань-мин (陶淵明, или Тао Цянь 陶潛, 365?–427?), Се Лин-юнь 謝靈運 (385–433), почитаемый основоположником шаньшуйши, Бао Чжао (鮑照 405?–466, второе имя Мин-юань 明遠) и Юй Синь (臾信 513–581, второе имя Цзы-шань 子山). Попытка тематического анализа поэзии Лючао на материале творческого наследия единичных фигур лучше всего видна в разработках академика Н. И. Конрада (1891–1970), предложившего весьма оригинальный для своего времени тематический вариант [Конрад 1959: 22–23]. Он выделил, во-первых, проповедь эпикурейства, культ вина и отрицание «искусственного» — норм, правил и законов общежития, связав их с поэзией Цзи Кана и Жуань Цзи. Во-вторых, мотивы неудовлетворенности поэтов своей жизнью и желания бегства в деревню от тягот службы, которые и нашли воплощение в «поэзии садов и огородов», представленной творчеством Тао Юань-мина. В-третьих, воспевание дикой природы. Нельзя не признать наличия в тематической классификации «Вэнь сюань» достаточно внушительного числа спорных и малопонятных мест. Выделение некоторых тематических рубрик остается загадкой, тем более что они представлены единичными произведениями малоизвестных авторов. Вместе с тем эта классификация не только указывает на широту тематического диапазона лючаоской лирической поэзии, но и содержит ориентиры для соответствующих изысканий. Имеющиеся сегодня результаты исследований поэтического наследия эпохи Шести династий в соотнесении их с композицией 32 «Вэнь сюань» позволили выделить десять магистральных тематических направлений: ритуальная поэзия, официальная лирика, поэзия на конфуцианские, на даосско-философские, даосско-религиозные и буддийские темы, пейзажная лирика, любовно-лирическая поэзия, поэзия дружбы и стихотворения-аллегории, в оригинальной терминологии «воспевания-юн» (詠, этот иероглиф обязательно присутствует в названиях текстов). В каждом направлении насчитывается несколько тематических групп, различающихся по содержанию и иногда имеющих разные литературные и культурные истоки. Существует и некоторое число самостоятельных групп, прослеживаемых только в определенные исторические моменты или в творчестве отдельных авторов. Учитывая статейный характер предлагаемой публикации, я ограничусь самой общей характеристикой перечисленных тематических направлений. Под «ритуальной поэзией» имеются в виду тексты культовых (для исполнения во время служб) и церемониальных (для сопровождения различных придворных мероприятий) песнопений, которые определяются в традиции как гун юэ (宮樂 «официальные песни») и относятся к песенной лирике (юэфу). Традиция гун юэ возникла в эпоху Хань и изначально включала в себя сугубо авторские произведения (подробнее см.: [Духовная культура Китая 2008: 626–627]). Гун юэ составляют значительный пласт поэтического наследия Лючао10, занимая особое в нем место: в собраниях сочинений литераторов и в сводных изданиях лирической поэзии они, как правило, помещены в разделы, композиционно отделенные от всех прочих произведений. Независимо от времени создания, гун юэ отмечены стилизацией под древние ритуальные песнопения. Они представляют собой тексты малых и средних форм (6–12 строк), написанные «архаическим» поэтическим размером (строки в 3–4 иероглифа) и 10 От III–VI вв. сохранились в общей сложности около 250 текстов только культовых песнопений [Го Мао-цянь 1955: I, цз. 1–12]. Среди их авторов фигурируют многие прославленные литераторы, в том числе Фу Сюань (傅玄 218–278, второе имя Сю-и 傅休奕): цикл «Цзинь тянь ди цзяо Минтан у шоу» (晉天地郊明堂五首 «Пять песен [династии] Цзинь [для исполнения во время жертвоприношений] Небу и Земле в предместных храмах и в [святилище] Минтан»); Шэнь Юэ (沈約 441–513, второе имя Сю-вэнь 休文): «Лян я юэ гэ» (梁雅樂歌 «Высокоторжественные песни [династии] Лян»); Юй Синь: цикл (12 текстов) «Чжоу цзун мяо гэ» (周宗廟歌 «Песни [династии Северная] Чжоу [для исполнения] в храме императорских предков») [там же: цз. 1, 256–258; цз.3, 283–284; цз. 9, 445–449]. 33 с употреблением специфической лексики: терминов ритуально-церемониального ряда и образов-мифологем, восходящих, как правило, к древним же обрядовым практикам и верованиям. Как таковые «официальные песнопения» видятся связующим звеном между как древним и лючаоским поэтическим творчеством, так и традициями культовой и светской поэзии; и выступают важнейшими источниками по государственным верованиям и религиозным практикам (см., напр.: [Манучарова 2009: 70–74]). Как «официальная лирика» предлагается обозначать поэтические панегирики правящей династии и императорского дома, которые чаще всего создавались по августейшему повелению и во время (или в честь) проведения государственных праздников и придворных торжеств. Это тематическое направление зародилось в Цзяньаньской поэзии, что и зафиксировано в «Вэнь сюань» (рубрика «Пир князя»)11. Среди наследия «цзяньаньских» поэтов сохранилось и несколько стихотворений, первоначально имевших, подобно гун юэ, ритуальный характер12. Практика поэтических воспеваний различных придворных мероприятий окончательно утвердилась при Западной Цзинь. Наиболее показательные, на мой взгляд, образцы официальной лирики того времени, принадлежат Лу Юню (陸雲 262–303, второе имя Шилун 士龍, представитель Поэзии в стиле Тай-кан). Примечательны прежде всего их названия, в которых точно указаны обстоятельства создания произведения, например: «Стихи, созданные по августейшему повелению [о том, как] в четвертый месяц лета второго года [под девизом правления] Великое спокойствие Верховный главнокомандующий прибыл [в сопровождении] двух князей Ян, потомков предка основателя [династии], в Южный зал [внутри] города» («Да-ань эр нянь ся сы юэ да-цзянцзюнь чу цзу ван Ян эр гун юй 11 Эта рубрика (всего 13 произведений) открывается одноименными («Пир князя») стихотворениями Цао Чжи и еще двух поэтов из Семерых мужей эры Цзяньань — Ван Цаня (王粲 177–217, второе имя Чжун-сюань 仲宣) и Лю Чжэня (劉楨 ?–217, второе имя Гун-гань 公幹) [Вэнь сюань 1959: I, цз. 30, 423–424]. Их рассматривают, как правило, вне какой-либо связи с ритуальной деятельностью и культовой поэзией (напр.: [Ван Чжун-лин 1988: 246–247]). 12 Например, циклы «Тай мяо сун» (太廟頌 «Славословие храму предков», 3 текста) и «Юй-эр у гэ» (俞兒舞歌 «Песни на танец Юй-эр», 4 текста) Ван Цаня, созданные, по свидетельству источников, для исполнения во время государственных торжеств [Сун шу 1983: II, цз. 19, 534]. 34 чэн Наньтан хуан бэй мин цзо сы ши» 大安二年夏四月大將軍出祖 王羊二公於城南唐皇作此詩) [Дин Фу-бао 1959: I, 353]. Подобные названия, в которых обязательно оговорен и факт создания стихотворения по высочайшему (монарха или принцев крови) повелению, относятся к числу опознавательных примет всей официальной лирики. Ей также свойственно обилие «словесных украшений» (красочных образов, метафор, реминисценций), велеречивостью и, как следствие — стилистическая вычурность и содержательная громоздкость. Неудивительно, что в исследовательской литературе таким произведениям нередко отказывают в художественной ценности13. Между тем официальная лирика тоже составляет значительный пласт в поэтическом наследии эпохи Лючао и представляет интерес с различных точек зрения. Она позволяет проследить типологические особенности и эволюцию стилистики придворной поэзии (как бы к ней ни относились современные авторы) и служит, подобно гун юэ, релевантным источником для изучения официальной ритуально-церемониальной деятельности (см., напр.: [Кравцова 2001: 176–187]). Поэзия на конфуцианские темы образована произведениями, отвечающими общественно-значимым функциям поэтического творчества, очерченным в конфуцианской мысли14. Прослеживаются три основные группы: произведения на исторические, на военные и на социально-политические темы. Последняя чаще всего фигурирует в исследовательской литературе как «гражданская лирика» и наиболее хорошо изучена. Поэтому ограничусь замечанием, что к ней относятся произведения, в которых либо критикуется современный автору правящий режим через описание народных бедствий или страданий отдельного человека, несправедливо обиженного властями; либо излагается позитивная социально-политическая программа автора. 13 Так, при анализе поэтического наследия Лу Юня эти произведения, как правило, упускают (напр., [Сюй Гун-чи 1999: 377–383]). 14 В конфуцианских поэтологических воззрениях (дидактико-прагматический подход) поэтическое творчество объявлено главным способом самоусовершенствования личности, пропаганды конфуцианских же морально-этических ценностей в целях воспитания населения страны и улучшения всей государственной системы, а также поучения правителя и его окружения, в том числе, и путем критики изъянов его правления (см., напр.: [Алексеев 2002: I, 126]). 35 Поэзия на исторические темы лучше всего представлена стихотворениями под названием «Юн ши» (詠史 «Воспевание истории/ прошлого», «Воспеваю историю/прошлое», «Стихи на исторические темы»), которые и составляют одноименную тематическую рубрику в «Вэнь сюань». В них повествуется об эпизодах национальной истории и о людях прошлого, которые иллюстрируют собой «праведное» или «неправедное» правление и олицетворяют добродетельные или порочные личности. Очевидна генетическая связь «воспеваний истории» с историографической литературой, что подчеркивается в традиционной версии их происхождения. Их возводят к стихотворным вставкам (на исторические темы) из поэтического произведения («Оды о Восточной столице», «Дун цзин фу» 東京賦) прославленного ученого-историка Бань Гу (班固 32–92) [Чэнь Цзянь-гэнь 1990: 1–3]. Первое «Юн ши» принадлежит Ван Цаню [Лу Цинь-ли 1983: I, 363–364]. Более показательными из наследия «цзяньаньских поэтов» видятся циклы Цао Цао «Шань цзай син» (善哉行 «О, как прекрасно») и «Дуань гэ син» (短歌行 «На отрывистые мелодии» [там же: 348, 352]; переводы и анализ см. в: [Кравцова 1994: 306–307; 415–416; 2004: 41–45; Dieny 2000: 41–48, 56–61]. В них повествуется о деяниях знаменитых государственных деятелей I тыс. до н. э. (эпохи Чжоу 周). Каждое стихотворение сводится к лапидарному переложению соответствующих разделов из «Ши цзи» (史記 «Исторические записи/Записки историка») Сыма Цяня (司馬遷 145?–86? г. до н. э.) — основополагающего сочинения по национальной древности. От произведений Цао Цао заметно отличается цикл Цзо Сы (左 思 250?–305?, второе имя Тай-чун 太沖, представитель Тай-кан ти) «Юн ши ши ба шоу» (詠史詩八首 «Восемь стихотворений на исторические темы» [Вэнь сюань 1959: I, цз.21, 444–448]; перевод [Антология 1957: I, 325–330], относимый к числу шедевров всей поэзии Лю-чао (напр.: [Сюй Гун-чи 1999: 393–401; Ю Го-энь 1981: I, 232– 234]). В нем говорится не о личностях государственного масштаба, а о «простых» мыслителях, которые вопреки превратностям судьбы и житейским невзгодам, продолжали работу над своими трудами, видя в том жизненные смысл и цель. Образ «бедного ученого», готового пожертвовать материальным благополучием во имя сохранений личной духовной чистоты, был тоже органически присущ конфуцианской традиции. Цикл Цзо Сы показывает пространность идейного потенциала «воспеваний истории», могущих обсуждать 36 самые разные вопросы, связанные с государственным правлением и качествами личности. Таковым предстает тоже широко известный цикл (27 стихотворений) «Юн хуай» (詠懷 «Пою о чувствах», «Воспоминания») Юй Синя [Лу Цинь-ли 1983: III, 2367–2370], частичный перевод [Антология 1957: I, 370–374]; подробно см.: [Томихай 1988: 86–95]. Впечатляют хронологический диапазон произведения — с середины XIV в. до н. э. по VI в. н. э., и многочисленность его персонажей (древние правители, прославленные политики, мыслители и литераторы), на примере судеб которых поэт рассуждает о закономерностях исторического процесса, принципах правления и нравственных ценностях. Одновременно цикл Юй Синя доказывает степень устойчивости «воспеваний истории» в литературной практике III–VI вв. Поэзия на военные темы занимает значительно менее заметное место в лирическом наследии Лючао, чем это можно было бы ожидать, исходя из текущего историко-политического контекста. Бросается в глаза скудость произведений с батальными сценами и воспеваниями победы [Кравцова 2001: 158–159]. Подавляющее большинство стихотворений повествуют о тяготах воинской доли и о страданиях солдат, оказавшихся на чужбине. Их противником оказывается сама природа: лютый мороз, пронизывающий ветер, свирепые хищные звери [Кравцова 1994: 85–87]. Мотивы тяжести воинской доли превалирует и в лучшем, по традиции, произведении разбираемой группы — цикле Ван Цаня «Цун цзюнь син» (從軍行 «Походная песня»), которым и исчерпывается одноименная рубрика в «Вэнь сюань»; см. также: [Лу Цинь-ли 1983: I, 361–363]; переводы и анализ в: [Miao 1982: 156–172; Owen 1996: 264]. Созданный по следам военных кампаний 214–216 гг., он, правда, содержит восхваления в адрес ее полководца (Цао Цао). Но панегирические интонации намного уступают по силе звучания отмеченным выше мотивам15. Антивоенный, по сути, пафос лючаоской лирики на военные темы в определенной степени продолжает содержательную линию, свойственную древней, особенно происходящей от песенного фольклора, поэзии [Лю Го-хуэй 1990: 1–2]. Вместе с тем такой пафос уж 15 Мотивы тяжести воинской доли варьируются и в 16-ти одноименных, в подражание циклу Ван Цаня, «авторских юэфу», созданных на протяжении III–VI вв. [Го Мао-цянь 1955: II, цз. 32, 957–965]. Выразительный пример — «Походная песня» Шэнь Юэ (перевод и анализ [Кравцова 2001:140]). 37 слишком резко контрастирует не только с общим историко-политическим фоном, но и фактами биографии поэтов, многие из которых были полководцами или непосредственными участниками военных действий. Логично предположить, что произведения на военную тему не столько о реальных событиях, сколько служат выражением конфуцианского концепта «военной силы» (у 武), резко опротестовывающим войны и насилие (напр.: [Алексеев 1978: 368]). Поэзия на даосско-философские темы тоже содержит различные по содержанию тексты. В них могут перелагаться те или иные даосские доктринальные положения, воспеваться предлагаемые даосизмом ценностные ориентиры, обыгрываться легенды о даосских персонажах и отдельные образы, подчерпнутые из древних книг, в первую очередь, «Канона о Дао и Дэ» («Дао дэ цзин» 道德經) и знаменитого «Сочинения учителя Чжуана («Чжуан-цзы» 莊子). Пик популярности данного тематического направления принято соотносить с Поэзией о сокровенном, хотя даосские философствования в том или ином виде присутствуют в произведениях многих поэтов Лючао. Наибольший интерес, на мой взгляд, вызывают стихотворения с отшельническими мотивами, чаще всего имеющие название «Чжао инь ши» (招隱詩 «Призывание сокрывшегося от мира», «Призывание того, кто сокрылся от мира»), для которых предусмотрена, напомню, отдельная рубрика в «Вэнь сюань». Эта тематическая группа вновь обозначилась в Цзянь-ань фэн гу16, и обрела литературную самостоятельность в рамках Поэзии в стиле Тай-кан. Самыми выразительными ее произведениями оправданно признают «Призывания» Лу Цзи (陸機 261–303, второе имя Ши-хэн 士衡) и Цзо Сы [Вэнь сюань 1959: I, цз. 22, 465–466]; переводы в: [Frodsham 1967а: 91, 94–97; Кравцова 1994: 432–434; 2004: 150–152, 165–166]. Их лейтмотивом служит мысль о пагубном влиянии на человека служебной деятельности, ибо она приводит к его нравственной деградации. Только бытие на лоне природы позволяет личности, через приобщение к первозданной красоте окружающей действительности, отринуть от себя суетные устремления и встать на путь духовного совершенствования. Поэзия с отшельническими мотивами, по единодушному мнению исследователей, послужила одним из важнейших литературных истоков пейзажной лирики. В ней был впервые чет16 Стихотворение «Инь ши» (隱士 «Сокрывшийся от мира») Жуань Юя (阮瑀 ?–212, второе имя Юань-юй 阮元瑜) [Дин Фу-бао 1959: I, 189]. 38 ко сформулирован взгляд на природу как источник нравственного и духовного очищения человека, наметилось эстетическое восприятие окружающей действительности и началась разработка образных средств для передачи красоты дикой природы [Ван Чжун-лин 1988: 441–442; Holzman 1996: 113–119]. К поэзии на отшельнические темы формально примыкает и «поэзия полей и огородов». Ее принципиальное отличие от «Призываний» заключается в том, что вместо собственно отшельничества предлагается бытие в сельской местности и занятие простым крестьянским трудом. Мотивы, свойственные тяньюаньши, впервые прослеживаются в творчестве Чжань Фан-шэна 湛方生, мелкого чиновника, жившего предположительно во второй половине IV в. и впоследствии фактически забытого17. Наиболее отчетливо они звучат в его прозопоэтическом произведении «Ци тань» (七歎 «Семь сожалений» [Янь Кэ-цзюнь 1987: III, 2269]; о нем см.: [Сюй Гун-чи 1999: 555–556]. О радостях сельского бытия мельком сказано и в стихотворениях «Хоу чжай ши» (後齋詩 «Стихи, [написанные] после поста», «Кабинет на задворках») и «Ю юань юн» (游園詠 «Воспеваю прогулку по саду»; о них см.: [Бежин 1982: 174]. Правомерно предположить, что идея «сельского отшельничества» к моменту жизни Тао Юань-мина уже получила распространение в среде низового чиновничества. Важнее, что она возникла в определенных социокультурных условиях: город (прежде всего столица и региональные административные центры), бывший местом сосредоточения административно-бюрократических структур, олицетворял собой тоталитаризм государства. Деревня же, где продолжала существовать система самоуправления (восходящая к древнему патронимическому укладу и затем поддержанная имперскими властями), отождествлялась с внутренней свободой личности [Balazs 1964: 70]. Наиболее полно идею «сельского отшельничества», бесспорно, раскрыл Тао Юань-мин. Его поэзия не оставляет сомнений в том, что он искренне видел в крестьянском труде средство для обретения 17 Сохранились только 9 (или 12) его стихотворений и 6 прозопоэтических произведений [Дин Фу-бао 1959: I, 491–494; Лу Цинь-ли 1983: I, 943–946; Янь Кэ-цзюнь 1987: III, 2268–2270]. Поэтическое наследие Чжань Фан-шэна попало в поле зрения исследователей относительно недавно [Сюй Гун-чи 1999: 551–556], вначале в связи с проблемами генезиса пейзажной лирики [Frodsham 1960: 95–97]; см. также [Кравцова 2001: 154–155; 2004: 191–194]. 39 душевной гармонии и духовного самосовершенствования18. Столь же очевидно влияние на его мировоззренческие позиции, как конфуцианских идей — представления об экономической и космологической (для поддержания мирового порядка) значимости аграрной деятельности, идеал «бедного ученого», так и даосских социальноутопических воззрений. То есть «поэзия полей и огородов», безусловно, обладает глубинным философским подтекстом и опирается на национальный духовно-нравственный опыт. Вместе с тем, идеал «благородной бедности» и призывы жить в деревне, занимаясь крестьянским трудом, если и могли найти отклик среди низового чиновничества, то никак ни в среде представителей социальной элиты, кто и образовывал большую часть интеллектуально-творческих кругов IV–VI. Творчество Тао Юань-мина, поднявшее проблемы «маленького человека», на самом деле было нетипичным для того времени, что предопределило и периферийность «поэзии полей и огородов». Уместно сослаться на наблюдение Б. Б. Вахтина (1930–1981), кто первым из отечественных китаеведов подверг сомнению традиционные (начиная с эпохи Тан) и догматические принятые в свое время в науке оценки творчества этого поэта19: «Тао Цянь с его тематикой “возвращения к полям”, с его воспеванием индивидуальной свободы поэта, с его темой смерти долго не был популярен и считался поэтом второстепенным20. В V–VII вв. его идеи не получили скольконибудь заметного развития. Но этого поэта стали все чаще вспоминать в VIII–IX вв., когда произошел поразительный подъем поэзии и с новой силой закипели страсти вокруг концепции поэта…» [Вахтин 1984: 149]. 18 Предложенная характеристика творчества Тао Юань-мина опирается на результаты многочисленных исследований, из отечественных работ см.: [Эйдлин 1967; Тао Юань-мин 1999], из зарубежных изданий в первую очередь [Hightower 1979; Davis 1983]. 19 А именно: исключительный поэт, родоначальник новой поэзии, освободившийся от многих наследованных образцов, обязательств и условностей [Алексеев 2002: I, 60]; см. также: [Духовная культура Китая 2008: 444–445]. 20 Речь идет об оценке творчества Тао Юань-мина в еще одном выдающемся литературно-теоретическом сочинении Лючао — трактате «Ши пинь» (詩品 «Категории стихов») Чжун Жуна (鍾嶸 469?–518), где тот помещен во вторую (из трех возможных) категорий поэтов, то есть, сочтен «второстепенным» (второразрядным») автором [Чжун Жун 1994: 127–128]. Вполне ожидаемо, что последующие теоретики литературы единодушно оспаривали точку зрения Чжун Жуна, вплоть до обвинений того в крайней субъективности и некомпетентности (на русском языке подробно см.: [Эйдлин 1967: 45–50]). 40 Единственное в чем можно не согласиться с Б. Б. Вахтиным, так это намек на непопулярность в поэзии Лючао и «темы смерти». Переживания бренности человека, усиленные страхом непредсказуемости кончины, составляют, напротив, одну из центральных тем лючаоской лирики. Отчетливее всего тема смерти нашла воплощение в группе «Поминальные песни» («Вань гэ»), также выделенной в «Вэнь сюань». Мотивы бренности человеческой жизни явственно звучат уже в ханьской лирической поэзии, включая юэфу. Однако в них лишь констатируются неизбежность кончины без драматизма в ее восприятии [Лисевич 1979: 214]. С подлинно трагической интонацией о смерти заговорили «цзяньаньские» поэты [Owen 2006: 178–204]. Появились стихотворения, лирическим героем которых выступает дряхлый старец, измученный физическими недугами и с ужасом ожидающий скорой кончины; и стихотворения, в которых повествование ведется от лица усопшего21. Впервые название «Вань гэ» употребил тоже представитель Цзянь-ань фэн гу (но малоизвестный в дальнейшем поэт) — Мяо Си (繆襲 186–245, второе имя Си-бо 熙伯) [Вэнь сюань 1959: I, цз. 28, 624; Davis 1983: I, 167–168]. Из наиболее известных литераторов (полная коллекция «поминальных песен» представлена в [Го Маоцянь 1955: II, цз. 27, 855–858]), «Вань гэ» присутствуют в творчестве Лу Цзи, Тао Юань-мина (цикл из трех стихотворений, переводы см.: [Классическая поэзия 1977: 221–222; Hightower 1979: 248–253; Davis 1983: I, 172–191]), Бао Чжао [Кравцова 2004: 198–200; Рудис 1984]. Во всех произведениях нарисована воображаемая автором картина собственной смерти и последующего телесного разложения со всеми физиологическими подробностями (см. также: [Малявин 1978: 100]). Появление и устойчивость этой тематической группы обусловлено в первую очередь социально-психологическим фактором. В условиях постоянных военных конфликтов, заговоров и переворотов люди, особенно те, кто входил в правящие круги или находился вблизи от них, находились под постоянной угрозой насильственной гибели. 21 Самые выразительные произведения — стихотворения Жуань Юя «Ши ти ши» (失題詩 «Стихи без заглавия») и «Ци ай ши» 七哀詩 («Стихи о семи печалях») соответственно [Дин Фу-бао 1959: I, 189]; перевод и анализ [Малявин 1978: 36; Кравцова 2004а: 156]. 41 Такой социально-психологический климат послужил благодатной почвой для роста популярности идей и практик, связанных с обретением бессмертия, что и создало условия для формирования собственно даосизма22 и поэзии на даосско-религиозные темы. Идеи обретения бессмертия и сопряженная с ними образность получили распространение в китайской культуре задолго до появления даосизма как оформленной религиозной системы. И они достаточно активно использовались в поэтическом творчестве, включая песенную лирику [Лисевич 1969: 34; Holzman 1994: 109–111; Цянь Чжи-си 2000: 110–122]. Тем не менее начальный этап развития разбираемого тематического направления вновь соотносится с Цзянь-ань фэн гу, где проявилась и самая заметная его группа — «ю сянь» («путешествие [к] бессмертным»), также запечатленная в «Вэнь сюань». Наиболее полно лирика на даосско-религиозные темы представлена в творчестве Цао Чжи и Цао Цао23. Сопоставительный анализ их произведений показывает, что в них использован литературный сюжет мистического странствования (ю 遊), воспроизводящий полет на волшебной колеснице через надземное пространство и имеющий целью вступить в контакт с божествами для получения от них снадобья бессмертия. Указанный сюжет, в свою очередь, восходит к религиозно-космологическим представлениям царства Чу (楚 XI– III вв. до н. э.) или, шире — южного региона Древнего Китая (подробно см.: [Кравцова 1994: 172–183; 2004б])24. Споры по поводу научных дефиниций даосизма, определяемого в оригинальной терминологии как Даоцзяо (道教 букв. «даосское учение», или «учение о дао»), активно велись на протяжении последних нескольких десятилетий. Сегодня получила окончательное и всеобщее признание понимание даосизма в качестве религиозной системы (национальной религии китайцев). 23 У Цао Чжи присутствует 13 стихотворений, среди них — «Юань ю пянь» (遠遊詩 «Песнь о путешествии в даль»), «Фэй лун пянь» (飛龍篇 «Песнь о летящем драконе»), «Цюй чэ пянь» (驅車篇 «Еду в повозке») [Дин Фу-бао 1959: I, 142–154]; переводы [Цао Чжи 2000: 117–124; Кравцова 2004: 104–107; 2004а: 150–151]. Объединенные в некоторых китайских изданиях в цикл «Ю сянь» [Черкасский 1963: 121], все они повествуют о волшебном странствовании лирического героя к местам обитания бессмертных и о стремлении поэта обрести вечную жизнь (см. также: [Owen 2006: 139–169; Kirkova 2009: 394, 396]). Для Цао Цао особо выделяют цикл (три стихотворения) «Ци чу чан» (氣出唱 «Песнь вырвавшемуся духу») [Лу Цинь-ли 1983: I, 345–346]; переводы и анализ: [Balazs 1964: 173–186; Кравцова 1994: 425–427; Dieny 2000: 78–88; Owen 2006: 160–161]. 24 Литературный вариант ю впервые воспроизведен в поэме «Ли сао» (離騷 «Скорбь разлученного») из свода «Чу цы» (楚辭 «Чуские строфы»), общие сведения о ней см. в [Духовная культура Китая 2008: 238–330]. Сочетание «ю сянь» восхо22 42 Следующие стадии эволюции «ю сянь» соотносятся с Поэзией в стиле Тай-кан, с Сюань янь ши и с Поэзией в стиле Юн-мин (подробно см.: [Кравцова 2001: 117–122; Kirkova 2011]). В «путешествиях» представителей Тай-кан ти по-прежнему преобладают картины мира богов и духов25. В рамках Стихов о сокровенном содержание «ю сянь» заметно расширилось26. В том числе появились стихотворения по процедурному аспекту обретения бессмертия и порою производящие впечатление миниатюрных алхимических трактатов. В «ю сянь» IV в. окончательно сложился арсенал художественных приемов, с помощью которых создавались картины фантастического мира. Использовались элементы и явления окружающей действительности, которые превращались в искомые образы с помощью, во-первых, их гиперболизации и приложения к ним категориальных терминов сюань (玄 «сокровенное»), шэнь (神 «божественное, чудесное»»), лин (靈 «божественное, волшебное»), мяо (妙 «таинственное»). Во-вторых, объединялись понятия, передающие элементы живой (растительность) и неживой (металлы, минералы) природы. Деревья оказываются состоящими из нефрита и тому подобных драгоценных (с точки зрения китайцев) минералов, трава — из золота и т. д. В-третьих, употреблялись необычные для естественных феноменов цветовые обозначения, например, бирюзовая заря, пурпурные волны. За поэтическим миром «ю сянь» закрепилась специфическая цветовая гамма с преобладанием красных тонов: красного (хун 紅), багряного (чжу 朱), вишневого (цзян 絳), пурпурнофиолетового (цзы 紫). Наиболее же часто фигурирует киноварный цвет (дань 丹), что, возможно, объясняется особенностями алхимических практик: самым распространенным ингредиентом снадобий бессмертия полагалась киноварь (дань) — сульфид ртути. Минерал белого цвета с красными вкраплениями, она мыслилась воплощедит к названию еще одной поэмы из этого свода — «Юань ю» (遠遊 «Путешествие в даль»), созданной, предположительно, во II–I вв. до н. э. [там же: 610], и где использованы уже прото-даосские идеи и образы. 25 Например, цикл (три стихотворения) «Ю сянь» Чжан Хуа (張華 232—300, второе имя Мао-сянь 茂先) [Дин Фу-бао 1959: I, 285]; перевод и анализ [Straughair 1973: 84–86, 284; Кравцова 1994: 432–433]. 26 Лучшим образцом «ю сянь» IV в. признан цикл (14 стихотворений) «Ю сянь ши» (遊仙詩 «Стихи о путешествии к бессмертным») Го Пу (郭璞 276–324, второе имя Цзин-чун 景純) [Вэнь сюань 1959: I, цз. 21, 460–464]; переводы и анализ [Frodsham 1967а: 92–93; Ван Чжун-лин 1988: 481–497; Holzman 1994: 103–118; Сюй Гун-чи 1999: с. 489–500; Кравцова 2001: 118, 153; 2004а: 181–182]. 43 нием соединения Женского (инь 陰) и Мужского (ян 陽) мировых начал. Принципиально важно, что образная система, свойственная поэтическому языку «путешествий», активно использовалась и в даосских текстах, принадлежащих к школе Высшей чистоты (Шанцин 上清) [Филонов 2011: 503–505]27. Это служит еще одним свидетельством органической и неразрывной связи между даосскими феноменами и поэтическим творчеством. В результате «ю сянь» (а также аналогичные по содержанию, но имеющие другие названия стихотворения) выступают важнейшим дополнительным (по отношению к теоретическим сочинениям) источником по истории развития даосизма, позволяя уточнить многие нюансы соответствующих религиозных представлений. С литературной точки зрения, они служат уникальным материалом для рассмотрения проблем формирования китайского поэтического языка: дают возможность наглядно проследить происхождение тех или иных лексических клише, переход от терминов к поэтизмам, от мифологем — к метафорам и т. д., и выяснить семантику пласта лексической образной системы. Сказанное во многом относится и к поэзии на буддийские темы. Начальный этап формирования поэзии с буддийскими мотивами соотносится с IV в.28 Представительное собрание поэтических произведений, включая 29 стихотворных текстов, приведено в буддийском своде «Гуан хун мин цзи» (廣弘明集 «Расширенное “Собрание [сочинений], светоч [истины] распространяющих”»), составленном в начале 660-х годов [Гуан хун мин цзи 1963: цз. 30; Лу Цинь-ли 1983: I, 1074–1090]. Они принадлежат исключительно монашествующим, включая крупнейших буддийских деятелей того времени — Хуэйюаня (惠遠 334–416) и Кумарадживу (Цзюемолоши 鳩摩羅什, 344– 413); см. также: [Вахтин 1982: 115]. С формальной точки зрения, поч27 Содержательная и терминологическая близость лирики на даосско-религиозные темы к учению Шанцин особо явственно прослеживается в «ю сянь» представителей Поэзии в стиле Юн-мин, что объясняется не только растущей популярностью этой школы во второй половине V в., но и личными контактами литераторов с ее пат­ риархом (с 490-х годов) — Тао Хун-цзином (陶弘景 456–536) [Кравцова 2001: 119–122]. 28 Специфические буддийские термины (например, шамэнь 沙門, шраман, монашествующий) изредка употребляли еще в поэзии эпохи Хань, однако они не придавали произведением каких-либо значимых смысловых оттенков [Вахтин 1982: 98]. Произведения с буддийскими мотивами отсутствуют (или, пока что не опознаны) и в поэтическом наследии III в., хотя уже в то время шел достаточно интенсивный процесс формирования буддийской монашеской общины (сангха) и переводов индо-буддийских текстов. 44 ти все эти произведения совпадают со светской лирикой III–IV вв., никаких специфических черт, могущих восходить к поэтике буддийских сочинений, в них не выявлено. Отдельного упоминания заслуживает лирика (18 стихотворений [Гуан хун мин цзи 1963: цз. 30, 349–350]) Чжи Дуня 支盾 (Чжи Дао-линь 支道林, 314–366), считающегося крупнейшим буддийским поэтом второй половины IV в. Его творчество наглядно показывает ход поисков средств выражения буддийских идей через собственно китайскую поэтическую образность. Так, в стихотворениях, воспевающих буддийское вероучение, широко использованы, наряду со специфическими буддийскими терминами, образы, заимствованные из художественного арсенала культовой поэзии и поэзии на даосско-религиозные темы [Кравцова 2001: 127–128]. В стихотворения, описывающие процесс медитации, введены пейзажные зарисовки, вторящие картинам природы из «Призываний» [Frodsham 1967: I, 86–105]. Следовательно, ферментную роль в формировании поэзии на буддийские темы сыграли поэтико-тематические направления, связанные с государственной ритуальной деятельностью и с даосизмом. Кроме того, есть серьезные основания сомневаться, что поэтические эксперименты Чжи Дуня были вызваны исключительно его буддийским вероисповеданием. Известно, что он был признанным знатоком даосских канонических текстов и психотехник и принадлежал к типу «придворного монаха» (gentleman-monk) [Zürcher 1959: I, 242–243]. Такие священнослужители, вопреки принятому обету, предпочитали монашескому уединению жизнь при дворе, тесно общались с представителями интеллектуально-творческих кругов, владели светскими искусствами, включая каллиграфию и литературное творчество. То есть справедливо говорить о начале сближения буддийской интеллектуальной деятельности и поэтического творчества. Это подтверждает и некоторое влияния буддизма на светскую поэзию: появление в отдельных произведениях буддийских образов и реминисценций на Учение (напр.: [Сюй Гун-чи 1999: 472]). Увлечение монашествующим поэтическим творчеством, с одной стороны, и обращение поэтовмирян к буддийским темам и образам, с другой, отвечает общей тенденции к утверждению буддизма в среде китайской аристократии и образованных людей. Как раз к IV в. относят первичную стадию формирования института высокопоставленных мирских последователей Учения (упасака, кит. ипуцзи 伊蒲塞), к которым принад45 лежали монархи, члены аристократических семейств и представители образованной элиты. Упасака все активнее принимали участие в буддийской теоретической и пропагастической деятельности, что дополнительно стимулировало развитие разбираемого тематического направления. Первым буддийским поэтом-упасака считают Се Лин-юня, обладавшего немалыми познаниями в буддийском вероучении [Frodsham 1967: I, 71–74]. Высшего расцвета поэтическое творчество упасака достигло при династиях Южная Ци и Лян, что тоже полностью отвечает степени общественного авторитета Учения в конце V — первой половине VI в. Лирические, одические (фу) и прозопоэтические (в различных литературных жанрах) произведения на буддийские темы обильно присутствуют в творческом наследии августейших особ, принцев крови и сановников обеих династий [Гуан хун мин цзи 1963: цз.29, 335–342; цз. 30, 352–356]; см. также: [Кравцова 2001: 126]. Привлекает внимание лирика апологического характера, которая может быть выполнена в «малых» формах (четверостишия) и в жанре юэфу29. Такие произведения показывают, что светская лирика полностью овладела средствами для образной передачи доктринальной сущности и всевластия Учения. Удельный вес собственно буддийской терминологии снизился по сравнению с монашескими произведениями IV в. Основной пласт изобразительных средств теперь составили типичные для национального поэтического языка лексические фигуры: намеки, метафоры, словесные клише, восходящие к буддийскому и даосскому терминологическим аппаратам [Кравцова 2001: 129–130]. В стихотворениях часто присутствуют и развернутые пейзажные вставки, мало отличные от шаньшуйши. Их правомерно истолковывать в качестве передачи акта созерцания природы, становящегося, в свою очередь, главным посылом изменения сознания индивида и наступления у него психического состояния, необходимого для погружения в медитацию. Указанное схождение лирики на буддийские темы и «поэзии гор и вод» можно объяснить заимствованиями первой из арсенала изобразительных средств шаньшуйши. Но, не исключено, что здесь сказалось, напротив, влияние на пейзажную лирику буддизма. 29 Например, цикл (12 восьмистиший) «Фа юэ цы» (法樂辭 «Песни о Законе/ Дхарме») Ван Жуна (王融 468–494, второе имя Юань-чан 元長, представитель Поэзии в стиле Юнмин) [Дин Фу-бао 1959: I, 781–783]; частичный перевод в: [Кравцова 2004: 287–289]. 46 Вопрос о воздействии буддизма на пейзажную лирику находится в русле общей проблемы генезиса шаньшуйши. Распространена точка зрения, что ее возникновение исходно связывалось в китайской литературно-теоретической мысли с творческой активностью Се Лин-юня. Однако выясняется, что сочетание шань шуй, причем без каких-либо его пояснений (скажем, в качестве «стиля» — ти 體, «направление» — пай派, или «школы» — цзя 家), впервые употреблено в шестой главе («Мин ши» 明詩, «Прояснение стихов») прославленного литературно-теоретического сочинения «Вэнь синь дяо лун» (文心雕龍 «Сердце словесности и искусство ваяния дракона») Лю Се (劉勰 465?–522). Там сказано, что в начале правления династии Лю Сун литературное творчество претерпело последовательные изменения (инь гэ 因革): «Чжуан-Лао (т. е. поэзия, воспроизводящая идеи «Чжуан-цзы» и «Дао дэ цзина») отошла на второй план (гао тун 告退), горы и воды (шань шуй) повсеместно (фан 方) пошли в рост (цзы 滋)» [Лю Се 2005: 29]. То есть Лю Се указывал на рост интереса поэтов к природе, но никак не связывал этот процесс с творчеством непосредственно Се Лин-юня. Отсутствие в «Вэнь сюань» соответствующей рубрики подтверждает, что лючаоские теоретики литературы не осознавали появления пейзажной лирики как самостоятельного поэтического феномена и поэтому не задавались вопросом о ее происхождении30. Культурно-литературные истоки и история возникновения шаньшуйши оставались в центре внимания исследователей на протяжении второй половины XX в. Сегодня уже не вызывает сомнений, что это был длительный и сложный процесс, шедший под влиянием комплекса историко-культурных факторов31. К определяющим из них относят: дальнейшее развитие древней даосской философии 30 Подавляющее большинство пейзажно-лирических (каковыми они признаны впоследствии) стихотворений, включая стихи Се Лин-юня, распределены в «Вэнь сюань» по тематическим разделам «Путешествия» («Ю лань», цз. 22) и «Странствования» («Син лю», цз. 26–27), что полностью соответствует содержательным особенностям произведений: лирический герой либо совершает путешествие к горной местности, либо странствует по горным местам. Эта особенность шаньшуйши однозначно, на мой взгляд, указывает на ее генетическое родство с поэзией на даосскорелигиозные темы и происхождение, в конечном счете, от такого же самого культурно-религиозного субстрата. 31 Такова, кратко, гипотеза происхождения пейзажной лирики, предложенная в зарубежной синологии еще в 1960-е годы, см.: [Frodsham 1960; 1967: I, 86–105]. О различных аспектах генезиса шаньшуйши см. также: [Holzman 1996]. 47 (традиции «Дао дэ цзина» и «Чжуан-цзы), формирование даосизма, распространение в китайской культуре буддизма, возрастание эстетического и индивидуального начал в литературном творчестве, общее углубление индивидуалистических и антиконформистских тенденций в результате социально-политических потрясений, перенесение китайской метрополии на Юг, в районы, славившиеся красотою пейзажных видов. Перечисленные факторы, действительно, как бы сфокусировались в образе Се Лин-юня: аристократ-южанин, воспитанный в атмосфере рафинированного интеллектуализма и поддерживавший тесные отношения с даосскими деятелями и с буддийским духовенством. Чем, судя по всему, и объясняется его почитание в качестве родоначальника шаньшуйши. Еще более существенно, на мой взгляд, что в «поэзии гор и вод» органически объединились все имевшиеся прежде в китайской культуре модели восприятия дикой природы, начиная с ее архаикорелигиозного почитания и включая натурфилософскую (природа как воплощение принципов и законов мироздания), даосско-философскую (манифестация Дао) и даосско-религиозную (отождествление с миром богов и бессмертных) парадигмы [Кравцова 2001: 157]. В результате вся ее образная система обладает смысловой полифонией. Созерцание горного пейзажа одновременно корреспондируется и с поисками средств обретения бессмертия; и с духовным совершенствованием личности, причем в обоих — даосском (через постижение Дао) и конфуцианском (сохранение собственных нравственных качеств) — вариантах; и с буддийской медитацией; и с художественно-эстетическим восприятием мира, вне явных религиозно-философских корреляций. Горы олицетворяют обители божеств и бессмертных, вечность природы и Мужское начало мира (символика гор в натурфилософских представлениях). Поток (река) создает не только реликтовый образ мифических рек, ограждающих архаический Сакральный центр от человеческого мира, но и воплощает космический поток Дао, способность природы к вечному движению и трансформациям и Женское начало мира. Осень и вечер выступают и временными координатами, подчеркивающими ориентацию пространственной композиции «поэзии гор и вод» на запад (исходно — сакральная часть света, связанная с обретением бессмертия), и символами близящейся старости (смерти) человека. Поэтому ни одно пейзажно-лирическое произведение не поддается однозначной 48 интерпретации. Его можно перечитывать снова и снова, открывая для себя новые интонации и грани. В этом-то и заключается аура «таинственности» «поэзии гор и вод», которая делала ее столь притягательной для поэтов и читательской аудитории. При всей культурно-художественной значимости разобранных тематических направлений самое масштабное место в литературной практике Лю-чао занимала поэзия на любовные темы, образованная несколькими самостоятельными по содержанию и поэтике группами32. Главное место среди них принадлежит «лирике разлуки», обладающей и самыми специфическими художественными особенностями. Воспроизводящие любовные переживания женщины и написанные от лица лирической героини, эти произведения в подавляющем своем большинстве принадлежат поэтам-мужчинам. «Лирика разлуки» со всей очевидностью восходит к песенному фольклору и оперирует стандартными лирическими ситуациями: безответная любовь, измена возлюбленного (супруга), вынужденный отъезд возлюбленного (супруга) из дома (воин, отправившийся в поход; чиновник, посланный к новому месту службы; торговец, уехавший по делам). Причины популярности мотивов женских одиночества и страданий в фольклорной поэзии обычно усматривают в социальном неравенстве женщины [Gulik 1961: 66; Лисевич 1969: 30]. Но чем тогда объяснить столь настойчивое обращение к ним литераторов-мужчин? Этот вопрос давно уже интригует научный мир, и предложены несколько вариантов ответа на него. Одни авторы полагают, что в лючаоской поэзии нашли продолжение фольклорные мотивы, отражающие положение женщины [Цао Чжи 2000: 17–18]. Фактор сопереживания судьбе женщин, даже если он был присущ тому или иному поэту, полагаю, не стоит преувеличивать. Маловероятно, чтобы сановных поэтов неотвязно преследовали мысли о нелегкой 32 Изучение лючаоской лирики на любовные темы максимально облегчает антология «Юй тай синь юн» (玉臺新詠 «Новые напевы Нефритовой башни»). Созданная тоже по инициативе принца крови Сяо Гана (蕭綱 503–551, второе имя Ши-цзуань 世纘), она состоит исключительно из любовно-лирических произведений (с эпохи Хань по середину VI в.), позволяя выделить и в нюансах проследить эволюцию тематических групп [Духовная культура Китая 2008: 616–618]. Кроме того, антология — основной теоретический памятник Поэзии дворцового стиля, реализуя установку ее представителей, что истинной поэзией следует считать произведения о любовных переживаниях. 49 доли их современниц, тем паче «простых тружениц». К тому же, если поэты действительно негодовали по поводу несправедливостей домостроя, то они говорили об этом откровенно, не прибегая к стилизациям под песенную лирику33. Интересно наблюдение китайских исследователей о специфическом отношении, свойственном национальной ментальности, к любви: «Похоже, что любовь начинается с расставания, а не кончается им. Первые годы мы ждем, пока худшее пройдет. А потом нас свяжут воспоминания» [Luh 1986: 17]. На мой взгляд, причины популярности «лирики разлуки» кроются в конфуцианских матримониальных устоях и взглядах на любовь. Если брак входил в категорию долга, то любовная эмоция, испытываемая мужчиной к женщине, категорически порицалась. Конфуцианские теоретики, опираясь на обычаи полигамной семьи, были убеждены в том, что, находясь во власти любовных чувств, человек (имеется в виду в первую очередь государь) пренебрегал своими государственными обязанностями, потакал фаворитке в ущерб интересов других обитательниц гарема, нарушал порядок наследования, провозглашая наследником не старшего сына, а отпрыска фаворитки. В результате, любовная эмоция объявлялась в конфуцианстве низменным, почти животным чувством, а поэтические ее описания — «развратными мотивами» [Алексеев 1978: 108]. На поэзию, повествующую о женских переживаниях, отрицательное отношение к любви не распространялось по той простой причине, что в ней усматривали отражение базовых семейных ценностей (любовь жены к мужу). Следовательно, стилизация под песенную лирику позволяла поэтам передавать любовные переживания, не нарушая конфуцианских нормативов. К важнейшим художественным достоинствам «лирики разлуки» относятся убедительность женских образов 33 Хрестоматийные примеры — стихотворения Фу Сюаня «Ку сян пянь» (苦相 篇 «Песня о горькой доле») и Цзо Сы «Цзяо нюй ши» (嬌女詩 «Чаровницы») [Лу Цинь-ли 1983: I, 555–556, 735–736; Юй тай синь юн 2001: цз. 2, 59–60, 72–75]; переводы и анализ [Ю Го-энь 1981: I, 227–228, 234; Birrell 1982: 73–78, 85–86; Сюй Гун-чи 1999: 279–280, 401; Духовная культура Китая 2008: 461–462, 516]. В первом с неожиданной для стилистики поэзии Фу Сюаня серьезностью и болью говорится о бесконечных унижениях и оскорблениях, выпадающих на долю женщины с момента ее рождения. Во втором рассказывается о двух маленьких девочках, дочерях поэта. С нескрываемой гордостью и трепетной отцовской любовью Цзо Сы рисует портреты очаровательных девчушек, наблюдает за их незатейливыми играми и маленькими причудами. Искренне возмущается строгостью их воспитания и суровым обращением с ними взрослых. 50 и психологизм в передаче переживаний лирических героинь34. И, наконец, есть весомые основания говорить о глубинном философском наполнении такого рода произведений: одиночество женщины рисуется одним из проявлений «несправедливостей человеческого бытия» [Кравцова 2001: 203–205]. Одновременно за повествованиями о женском одиночестве скрывается, вновь сошлюсь на мнение Б. Б. Вахтина, воспевание любви как единственного смысла существования людей [Вахтин 1974а: 30–31]. С «лирикой разлуки» частично соприкасается лирика с анакреонтическими мотивами. Относящиеся к ней произведения тоже написаны преимущественно от лица лирической героини, но повествуют о радости взаимного чувства35. Достигнув наибольшей популярности в литературной практике конца V — первой половины VI в., лирика с анакреонтическими мотивами пронизана оптимизмом и верой во взаимное счастье, убежденностью в могучей силе любви, противиться которой не может ни одно живое существо. Она послужила важнейшим литературным истоком Поэзии дворцового стиля, квинтэссенцию которой составляет эстетическое наслаждение женской красотой. Лирической героиней стала исключительно обитательница гарема или придворная дама (гун нюй宮女, «дворцовая дева»), образ которой оказался в эстетико-художественном единстве с общей картиной придворной жизни: великолепием дворцовых покоев, роскошью и изысканностью их убранства (подробно см., напр.: [Wu 1998: 41–76]). Мужские любовные переживания излагаются в произведениях, образующих еще четыре тематические группы: «на тему божественной любви», «имитирующие переписку между супругами», «плачи по усопшей жене» и «развратная поэзия». Все они восходят к поэзии южного региона Древнего Китая, конкретно — к литературному Таковы произведения еще одного из Семерых мужей — Сюй Ганя (徐幹 170– 217, второе имя Вэй-чан 偉長), в первую очередь, цикл «Ши сы» (室思 «Думы в женских покоях») [Лу Цинь-ли 1983: I, 376–377; Юй тай синь юн 2001: цз. 1, 28–30]; переводы и анализ [Birrell 1982: 49–51; Сюй Гун-чи 1999: 127; Кравцова 2001: 193, 358; 2004а: 160–161; Духовная культура Китая 2008: 424]. 35 Эту тематическую группу зачинает стихотворение Чжан Хэна (張衡 78–139, второе имя Пин-цзы 平子) «Тун шэн гэ» (同聲歌 «Песнь о созвучии») [Лу Цинь-ли 1983: I, 178–179; Юй тай синь юн 2001: цз. 1, 21–23]; переводы и анализ [Gulik 1961: 74–76; Frodsham 1967а: 16–17; Вахтин 1974: 30; Birrell 1982: 44–46; Кравцова 2001: 357; 2004а: 130–131]. В нем в щедрых эротических красках передается картина первой брачной ночи лирической героини, воспевается супружеское счастье. 34 51 сюжету о любви мужчины к божественной красавице36, предполагавшим предельную идеализация женского образа (наделение лирической героини несравненной красотою) и воспроизведение любовных мук лирического героя. Кроме того, этому сюжету исходно сопутствовала мысль о невозможности телесной близости между богиней и смертным, которая трансформировалась в универсальную для китайской художественной словесности идею любви-сна, любви-воспоминания — словом, любви как недосягаемого в обыденной жизни идеала. Такое восприятие любви как раз и нашло отражение в перечисленных тематических группах37. «Имитации переписки между супругами» представляют собой циклы, состоящие из стихотворений, написанных поочередно от лица мужчины и женщины38. «Женские» стихотворения мало чем отличаются от лирики разлуки, сводясь к исповеди лирической героини в тоске по мужу и клятвам в вечной ему верности и любви. «Мужские» стихотворения в деталях воспроизводят любовные переживания лирического героя, окрашенные при этом в отчетливые эротические тона (его грезы о физической близости с любимой женщиной). Женский образ рисуется в подчеркнуто восхищенных тонах: муж воспевает добродетели и внешность супруги. Еще более эмоциональную окраску мужские любовные страдания приобретают в произведениях-плачах по усопшим женам39, в которых с дотош36 Воспроизведен в одах Сун Юя (宋玉, конец III — пер. пол. II в. до н. э.) «Гаотан фу» (高唐賦 «Ода [о горах] Гаотан», «Горы высокие Тан») и «Ода о горах Гаотан» и «Шэнь нюй фу» (神女賦 «Ода [о] божественной деве», «Святая фея») [Янь Кэцзюнь 1987: I, 73–743]; перевод [Алексеев 2006: I, 43–53]; о Сун Юе и его творчестве см.: [Духовная культура Китая 2008: 410–413]. 37 Сюжет о божественной любви получил большее распространение в одической, чем в лирической, поэзии. Один из немногих примеров — стихотворение Шэнь Юэ «Мэн цзянь мэй жэнь» (夢見美人 «Во сне увидел красавицу») [Юй тай синь юн 2001: цз. 5, 159]; переводы и анализ [Birrell 1982: 142; Кравцова 2001: 354; 2004: 249–250]. 38 Эта тематическая группа восходит к трем поэтическим эпистолам Цинь Цзя (秦嘉 II в. до н. э) и его супруги [Birrell 1982: 45–46; Юй тай синь юн 2001: цз.1, 23–24]. Наиболее иллюстративными ее образцами выступают циклы Чжан Хуа «Цин ши» 情詩 («Стихи о чувствах») и Лу Юня «Вэй Гуянь сянь цзэн фу ван фань ши» (為顧顏 先贈婦往反詩 «Послания господина Гуяня своей супруге и ее письма к нему») [Лу Цинь-ли 1983: I, 618–619, 717–718; Юй тай синь юн 2001: цз. 2, 65–67, цз. 3, 86–88]; переводы и анализ [Frodsham 1967а: 72; Birrell 1982: 78–81, 94–96; Кравцова 2001: 214–216; 2004: 168–170; 2004а: 175–176; Духовная культура Китая 2008: 342]. 39 Группа открывается циклом (три стихотворения) Пань Юэ (潘岳 247–300, второе имя Ань-жэнь 安仁, представитель Поэзии в стиле Тай-кан) «Дао ван ши» (悼 亡詩 «Скорблю об умершей жене», «На смерть жены») [Вэнь сюань 1959: I, цз. 23, 52 ностью профессионального психолога воспроизведено состояние безутешного вдовца. Циклы-переписки и стихотворения-плачи в принципе не противоречили конфуцианским установкам, так как мужские любовные эмоции обращены в них к супруге. Кардинально по-другому воспринимались повествования о мужских любовных переживаниях, вызванных сторонней, не связанной с ним узами брака, женщиной. Такие произведения как раз и объявлялись «развратной» поэзией. Самым ярким ее примером служит стихотворение Шэнь Юэ «Шао нянь синь хунь вэй чжи юн ши» (少年新婚為之詠詩 «Воспеваю юную невесту» [Лу Цинь-ли 1983: II, 1639–1640; Юй тай синь юн 2001: цз.5, 150–152]; переводы и анализ [Вахтин 1974: 185; Birrell 1982: 138; Кравцова 1994: 128–130; 2004а: 209–210; Духовная культура Китая 2008: 605]. Это произведение, в котором поэт признается в страсти, вспыхнувшей в нем, уже пожилом мужчине, к юной красавице, снискало себе столь «дурную репутацию», что оно было изъято из издания антологии «Юй тай синь юн», напечатанного в 1934 г. и предназначавшегося для студентов высших гуманитарных учебных заведений Китая. Тема дружеских отношений занимает важнейшее место в конфуцианских этических выкладках: они служили одним из способов проявления качеств и поведенческих стереотипов благородной личности. Не удивительно, что поэзия на тему дружбы пользовалась огромным авторитетом в культуре Китая [Алексеев 1978: 97]. Первыми ее произведениями считают поэтические эпистолы, приписываемые Ли Лину (李陵 ?–74 г. до н. э., второе имя Шао-цин 少卿) и Су У (蘇武 I в. до н. э., второе имя Цзы-цин 子卿, ?) [Дин Фу-бао 1959: I, 27–29; Лю Вэнь-чжун 1990: 5–9]; перевод [Алексеев 2006: I, 189–195; 414–415]. В лирике Лю-чао прослеживаются две основные группы произведений на тему дружбы. Одна продолжает традицию поэтических эпистол. Такие тексты легко узнаваемы, благодаря введению в их название иероглифов цзэн 贈, «подносить», «посылать в дар», и да 答, «стихи, написанные в ответ», «отвечаю…». Стихотворные эпистолы как раз и представлены в рубрике «Цзэн да» из антологии «Вэнь сюань» (цз. 23–35), где собраны 59 произведений, больше, чем в любой 500–502; Юй тай синь юн 2001: цз. 2, 69–70]; переводы и анализ [Frodsham 1967а: 86–88; Birrell 1982: 83; Кравцова 2004: 173–179; Духовная культура Китая 2008: 380]. 53 из прочих рубрик. Они отличаются пространностью повествования и сводятся к похвалам в адрес друга и сетованиям на собственное одиночестве, на отсутствие близкого по духу человека (см., напр.: [Рудис 1986; Духовная культура Китая 2008: 241, 342, 499]). Вторая группа содержит стихотворения, повествующие о разлуке друзей, большая часть была создана во время проводов к новому месту службы [Кравцова 2001: 217–218]. Они примечательны прежде всего близостью — как по настроениям, так и по репертуару изобразительных средств — к лирике разлуки. Есть тексты, настолько насыщенные исходно любовно-лирическими образами, что до конца не ясно, повествуется ли в нем о любовных или дружеских отношениях. Не стоит, наверное, искать в таком сходстве следы возможных интимных контактов между друзьями-поэтами. Созвучность любовной лирики и поэзии дружбы на тему разлуки была порождена ситуативностью китайской лирики: разлука с другом рисовалась как разлука с любимым, потому что в обоих случаях лирические герои испытывали одни и те же чувства, расставаясь с дорогим для них человеком и обрекая себя на одиночество. Принципиальная разница между любовной лирикой и поэзией дружбы заключается в том, что одиночество в любви, нарушая гармонию природы, ломало естественную жизнь человека, а одиночество в дружбе нарушало полноту его духовной жизни. «Воспевания-юн» — стихотворения, представляющие собой развернутые метафоры, состоящие из двух смысловых пластов, связанных ассоциативными цепочками. Внешне они дают детальное описание каких-либо предметов, явлений окружающей действительности или бытовых реалий, но их истинный подтекст есть рассказ о человеке, его характере, поступках, переживаниях. Выделение стихотворений-аллегорий в качестве самостоятельного литературного феномена состоялось приблизительно в середине V в., а этап их расцвета соотносится с Поэзией в стиле Юн-мин и Поэзией дворцового стиля (подробно см. [Вахтин 1974; Кравцова 2001: 209–213; Духовная культура Китая 2008: 621–623]). Привлекательность юн для литераторов была обусловлена равно их иносказательностью и поистине неограниченными тематическими и идейными потенциалами. Тем не менее большая их часть варьирует любовные мотивы, свойственные «лирике разлуки»: тоска по любимому, боязнь лишиться его взаимности, страх перед увяданием своей красоты. Но прием аллегории — 54 создание через описание предметов и явлений портрета лирической героини — привносит в такие стихотворения новые оттенки. Поэт оказывается в роли и рассказчика, и стороннего наблюдателя, восхищающегося им увиденным, что приводит к максимальной апологии женской красоты. Ожидаемо, что в юн окончательно сложилась система образов, передающих внешний вид (красота, грациозность) и качества (утонченности, скромности, потребности в мужской защите) женщины и счастье взаимной любви. В такую образную систему вошли в том числе цветущие плодовые деревья (слива, груша), цветы, вьющиеся и обладающие природной хрупкостью растения (вьюнок, повилика, мох); элементы женского одеяния; предметы, связанные со спальней (зеркало, полог), совместным застольем (музыкальные инструменты) и ночью (кровать, светильник). Итак, очевидно, что лючаоская лирическая поэзия действительно располагала гораздо более широким диапазоном тем и мотивов, чем это еще недавно было принято считать. Ее тематический анализ полностью подтверждает и богатство ее литературных и культурных истоков. Одновременно тематическое разнообразие лючаоской лирики отвечает многообразию общественных функций поэтического творчества. «Официальная лирика», продолжившая собой традицию культовой поэзии, и поэзия на конфуцианские темы явно предназначались для удовлетворения духовных нужд государства и поддержания авторитета правящего режима. Тематические направления, порожденные даосскими философией и религиозными представлениями, были предназначены для выражения индивидуальных переживаний человека. Параллельно шло формирование тех идейно-художественных нормативов, которые допускали создание одним и тем же автором принципиально различных по смыслу и настроениям произведений по модели смены социальных ролей. Когда поэт выступал в роли придворного пиита или последователя конфуцианства, он либо воспевал царствующего монарха и династию, либо, напротив, указывал на изъяны правления. В ситуациях же опалы, ссылок или просто досуга, когда образованный человек полагал себя свободным от исполнения служебных обязанностей и подчинения требованиям конфуцианской этики, он позволял себе творить на любые другие темы. Формирование таких идейно-художественных нормативов как раз и позволило предельно расширить сферы поэтической деятельности. Отныне оно превратилось в са55 мое распространенное и авторитетное интеллектуально творческое занятие, которое реализовывалось в любых областях бытия человека — от придворной жизни до реального или мнимого уединения даосского отшельника или буддийского монаха. Правомерно утверждать, что в эпоху Шести династий окончательно определилось место поэзии в духовной культуре Китая, в чем и заключается основная значимость этой эпохи в истории развития китайской художественной словесности. ЛИТЕРАТУРА Источники на китайском языке Вэнь сюань 1959 — Вэнь сюань 文選 (Избранная изящная словесность). Т. 1–2 / сост. Сяо Тун 蕭統 (Чжаомин-тайцзы 昭明太子). Пекин, 1959. Го Мао-цянь 1955 — Юэфу ши цзи 樂府詩集 (Собрание юэфу). Т. 1–4 / сост. Го Маоцянь 郭茂倩. Пекин, 1955. Гуан хун мин цзи 1963 — Гуан хун мин цзи 廣弘明集 («Расширенное “Собрание [сочинений], светоч [истины] распространяющих”») // Тайсё синсю Дайцздзокё 大正新脩大藏經 (Великое собрание сутр, заново отредактированное [в годы] Тайсл). Токио, 1963. Т. 52. Дин Фу-бао 1959 — Цюань Хань Сань-го Цзинь Нань-бэй-чао ши 全漢三國晉南北朝 詩 (Полное собрание лирической поэзии [эпох] Хань, Троецарствия, Цзинь, Южных и Северных династий). Т. 1–2 / сост. Дин Фу-бао. 丁福保., Пекин, 1959. Лу Цинь-ли 1983 — Сянь Цинь Хань Вэй Цзинь Нань-бэй-чао ши 先秦漢魏晉 南北朝 詩 (Лирическая поэзия до [эпохи Цинь и эпох] Цинь, Хань, Вэй, Цзинь, Северных и Южных династий). Т. 1–3 / сост. Лу Цинь-ли 逯欽立.. Пекин, 1983. Лю Се 2005 — Лю Се 劉勰. «Вэнь синь дяо лун» хуэй пин «文心雕龍» 彚評 («Вэнь синь дяо лун» со сводными толкованиями) / под ред. Хуан Линя 黃霖.. Шанхай, 2005. Сун шу 1983 — Сун шу 宋書 (Книга [об эпохе/династии Лю] Сун). Т. 1–8 / сост. Шэнь Юэ 深約. Пекин, 1983. Чжун Жун 1994 — Чжун Жун 鍾嶸. Ши пинь и чжу 詩品譯注 («Категории стихов» с переводом [на современный язык] и комментариями) / коммент. Сюй Да 徐 達. Тайбэй, 1994. Юй тай синь юн 2001 — Юй тай синь юн (Новые напевы Нефритовой башни) / сост. Сюй Лин 徐陵; коммент. У Чжао-и 吳兆宜. Тайбэй, 2001. Янь Кэ-цзюнь 1987 — Цюань шан гу сань дай Цинь Хань Сань-го Лю-чао вэнь 全 上古三代秦漢三國六朝文 (Полное [собрание] литературы с глубокой древности, трех [первых] эпох, [династий] Цинь и Хань, Троецарствия и Шести династий). Т. 1–4 / сост. Янь Кэ-цзюнь 嚴可均. Пекин, 1987. Публикации на русском языке Алексеев 1978 — Алексеев В. М. Китайская литература: Избранные труды. М., 1978. Алексеев 2002 — Алексеев В. М. Труды по истории китайской литературы. Кн. 1–2. М., 2002. 56 Алексеев 2006 — Шедевры китайской классической прозы / в переводах академика В. М. Алексеева. Т. 1–2. М., 2006. Антология 1957 — Антология китайской поэзии. Т. 1–4. М., 1957. Бежин 1982 — Бежин Л. Е. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае III–IV веков. М., 1982. Вахтин 1974 — Вахтин Б. Б. Заметки о лирике Шэнь Юэ // Историко-филологические исследования. М., 1974. С. 178–181 Вахтин 1974а — Вахтин Б. Б. Человек и природа в китайской средневековой лирике (на материале антологии «Юй тай синь юн» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1974. С. 26–37. Вахтин 1982 — Вахтин Б. Б. Буддизм и китайская поэзия // Буддизм, государство и общество в странах Восточной и Центральной Азии в средние века. М., 1982. С. 98–121. Вахтин 1984 — Вахтин Б. Б. Поэт в китайской традиции // Из истории китайской традиционной идеологии. М., 1984. С. 128–179 Духовная культура Китая 2008 — Духовная культура Китая: энциклопедия / гл. ред. М. Л. Титаренко: в 5 т. [Т. 3:] Литература. Язык и письменность. М., 2008. Классическая поэзия 1977 — Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. Конрад 1959 — Китайская литература: Хрестоматия. Древность, Средневековье, Новое время. Т. 1 / под ред. Н. И. Конрада, Р. М. Мамаевой. М., 1959. Кравцова 1994 — Кравцова М. Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб., 1994. Кравцова 2001 — Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления: Китайская лирика второй половины V — начала VI в. СПб., 2001. Кравцова 2004 — Резной дракон: Поэзия эпохи Шести династий (III–VI вв.) / в переводах М. Кравцовой. СПб., 2004. Кравцова 2004а — Хрестоматия по литературе Китая / сост., прим. М. Кравцовой. СПб., 2004. Кравцова 2004б — Кравцова М. Е. Ancient Animistic Beliefs of the Southern China (according to the Chu ci) // Религиозно-философское наследие Востока в герменевтической перспективе: По материалам Междунар. науч. конф. 2001 г. СПб., 2004. С. 123–132. Лисевич 1969 — Лисевич И. С. Древняя китайская поэзия и народная песня: Юэфу конца III в. до н. э. — начала III в. н. э. М., 1969. Лисевич 1979 — Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М., 1979. Малявин 1978 — Малявин В. В. Жуань Цзи. М., 1978. Манучарова 2009 — Манучарова А. Святилище Мин тан в религиозной жизни имперского Китая I–VI вв. К постановке проблемы // Восток: Традиции и современность: сб. студенческих работ. Вып. 1: Китай. СПб., 2009. С. 65–75. Рудис 1984 — Рудис Е. В. Тема бренности жизни в поэзии Бао Чжао // ХI науч. конф. «Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока»: Тезисы и доклады. Ч. 2. М., 1984. Рудис 1986 — Рудис Е. В. Тема дружбы в поэзии Бао Чжао // ХII науч. конф. «Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока». Тезисы и доклады. Ч. 2. М., 1986. С. 333–338. 57 Тао Юань-мин 1999 — Осенняя хризантема. Тао Юань-мин (IV–V вв.) / пер., предисл. и прим. Л. З. Эйдлина. СПб., 1999. Томихай 1988 — Томихай Т. Х. Юй Синь. М., 1988. Филонов 2011 — Филонов С. В. Золотые книги и нефритовые письмена. Даосские письменные памятники III–VI вв. СПб., 2011. Цао Чжи 2000 — Цао Чжи. Фея реки Ло. СПб., 2000. Черкасский 1963 — Черкасский Л. Е. Поэзия Цао Чжи. М., 1963. Эйдлин 1967 — Эйдлин Л. З. Тао Юань-мин и его стихотворения. М., 1967. Публикации на европейских языках Balazs 1964 — Balazs E. Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a Theme. New York; London, 1964. Birrell 1982 — New Songs from a Jade Terrace. An Anthology of Early Chinese Love Poetry / trans. with annot. by A. Birrell. London; Boston; Sydney, 1982. Davis 1983 — Davis A. R. T’ao Yuan-ming (AD 365–427): His Works and their Meaning. Vol. 1–2. Hong Kong, 1983. Dieny 2000 — Dieny J.-P. Les poemes de Cao Cao (155–220). Paris, 2000. Frankel 1976 — Frankel H. H. The Flowering Plum and the Palace Lady. Interpretations of Chinese Poetry. New Haven; London, 1976. Frodsham 1960 — Frodsham J. D. Origins of the Chinese Nature Poetry // Asia Major. Vol. VIII, 1 (1960–1961). P. 68–104. Frodsham 1967 — Frodsham J. D. The Murming Stream. The Life and Works of Hsieh Lingyun. Vol. 1–2. Kuala Lumpur, 1967. Frodsham 1967а — An Anthology of Chinese Verse / trans., annot. by J. D. Frodsham. Oxford, 1967. Gulik 1961 — Gulik R., van. Sexual Life in Ancient China. Leiden, 1961. Hightower 1979 — Hightower J. R. The Poetry of T’ao Ch’ien. Oxford, 1979. Holzman 1994 — Holzman D. Immortality-Seeking in Early Chinese Poetry // The Power of Culture: Studies in Chinese Cultural History / ed. by W. J. Peterson. Hong Kong, 1994. P. 103–118. Holzman 1996 — Holzman D. Landscape Appreciation in Ancient and Early Medieval China. The Birth of Landscape Poetry. Taiwan, 1996. Kirkova 2009 — Kirkova Z. From Pursuit of Immortality to Court Entertainment. Transformation of the Yuoxian («Roaming into Immortality») Theme During the Six Dynasties Period // Философия, религии и культура стран Востока. Материалы научной конференции 6–9 февраля 2008 г. СПб., 2009. С. 393–400. Kirkova 2011 — Kirkova Z. Court Poetry and Daoist Revelations in the Late Six Dynasties // The Yields of Transition: Literature, Art and Philosophy in Early Medieval China / ed. by S. J. Roљker, N. Vampelj Suhadolnik. Cambridge Scholars Publishing, 2011. Р. 137–154. Luh 1986 — Luh S. W. Five Lectures on Chinese Poetry. Beijing, 1986. Miao 1982 — Miao R. C. Early Medieval Chinese Poetry: the Life and Verse of Wang T’san (A. D. 177–217). Steiner, 1982. Owen 1996 — An Anthology of Chinese Literature: Beginnings to 1911 / ed. and trans. by Stephen Owen. New York; London, 1996. 58 Owen 2006 — Owen S. The Making of Early Chinese Classical Poetry (Harvard East Asian monographs; 261). Massachusetts; London, 2006. Straughair 1973 — Straughair A. Chang Hua: A Statesman-Poet of the Western Chin Dynasty. Canberra, 1973. Wang 2012 — Wang Ping. The Age of Courtly Writing. Wen xuan Compiler Xiao Tong (501–531) and His Circle. Leiden, 2012. Wu 1998 — Wu Fusheng. The Poetics of Decadence. Albany, 1998. Zьrcher 1959 — Zьrcher E. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early-Medieval China. Vol. 1–2. Leiden, 1959. Публикации на китайском языке Ван Чжун-лин 1988 — Ван Чжун-лин 王鐘陵 Чжунго чжунгу шигэ ши 中國中古詩歌 史 (История китайской древней и средневековой лирической поэзии). Цзянсу, 1988. Лу Кань-жу 1956 — Лу Кань-жу 陸侃如, Фэн Юань-цзюнь 馮沅君. Чжунго ши ши 中國 詩史 (История китайской поэзии). Т. 1–3. Пекин, 1956. Лю Вэнь-чжун 1990 — Юи ши 友誼詩 (Стихи о дружбе) / сост. и коммент. Лю Вэньчжуна 劉文忠.. Пекин, 1990. Лю Го-хуэй 1990 — Цун цзюнь ши 從軍詩 (Стихи на военные темы) / сост. и коммент. Лю Го-хуэя 劉囯輝.. Пекин, 1990. Сюй Гун-чи 1999 — Вэй Цзинь вэньсюэ ши 魏晉文學史 (История литературы [эпох] Вэй и Цзинь / под ред. Сюй Гун-чи 徐公持. Пекин, 1999. Сяо Ди-фэй 1984 — Сяо Ди-фэй 蕭滌非. Хань Вэй Лючао юэфу вэньсюэ ши 漢魏六 朝樂府文學史 (История юэфу [эпох] Хань, Вэй и Шести династий). Пекин, 1984. Цао Дао-хэн 1998 — Цао Дао-хэн 曹道衡, Шэнь Юй-чэн 沈玉成. Наньбэйчао вэньсюэ ши 南北朝文學史 (История литературы [эпохи] Южных и Северных династий). Пекин, 1998. Цянь Чжи-си 2000 — Цянь Чжи-си 錢志熙. Хань Вэй юэфу дэ иньюэ юй ши 漢魏樂 府的音樂與詩 (Стихотворные произведения и песни [в жанре] юэфу [эпох] Хань и Вэй). Чжэнчжоу, 2000. Чэнь Цзянь-гэнь 1990 — Юн ши ши 詠史詩 (Стихи, воспевающие историю) / сост. и коммент. Чэнь Цзянь-гэня 陳建根. Пекин, 1990. Ю Го-энь 1981 — Чжунго вэньсюэ ши 中國文學史(История китайской литературы). Т. 1–4 / под ред. Ю Го-эня 游囯恩.. Пекин, 1981. 59 К. Ю. Солонин О «систематичности» тангутских буддийских текстов и тангутском государственном культе Тексты из Хара-Хото зачастую носят практический, а не «теоретический» характер1. Они представляют собой «жизненную», «ритуальную», а не «доктринальную» или «идеальную реальность» тангутского буддизма2. Исследование этих текстов оказывается полезным при выяснении характера государственного буддийского культа в тангутской империи. Хронологически самый ранний пример буддийского текста, известного из тангутского государства, — текст Лянчжоуской стелы — частично представляет собой описание различных знамений и чудес, связанных с этой пагодой (в частности, чудесные происшествия при отражении совместного тибетско-китайского нападения), а также описание буддийского ритуала, сопровождавшего завершение ремонта пагоды Ганьтун. В осуществлении этого ритуала приняла участие императорская семья и высшее чиновничество тангутского государства. Текст стелы засвидетельствовал существование раз1 В пользу этого наблюдения говорит то, что большинство произведений «буддийских школ», известных из собрания Козлова и иных собраний, представляют собой трактаты по практикам созерцания, ритуалам и обрядам. Те же сочинения, которые принято относить к разряду «доктринальных» (исюэ 義學) среди тангутских текстов представлены нешироко. 2 Это соображение основано на выводах и наблюдениях Г. Шопена (G. Shopen). Хотя Шопен основывается на индийском эпиграфическом материале и обсуждает проблему несоответствия правил поведения, предписанных кодексом монашеской дисциплины, с жизненной практикой, зафиксированной в памятниках эпиграфики, его предположение о двойственности буддийской реальности применимо и к иным культурам, в которых распространялся буддизм. © К. Ю. Солонин, 2013 60 витой системы буддийской обрядовости: в надписи упоминается о «проповеди Дхармы» (шофа 說法), строительстве алтаря для покаяния (чаньхуй даочан 懺悔道場) и рецитации «Дацзан цзина», т. е. некоторого собрания буддийских текстов. Таким образом, уже с раннего времени можно говорить о государственном и обрядовом характере тангутского буддизма. Так что и вопросы, связанные с функционированием текстуального корпуса тангутского буддизма, видимо, необходимо рассматривать с учетом этого обстоятельства. Другая важная особенность, которую стоит иметь в виду, — анахроничность буддизма на Севере Китая, включая сюда и территорию Си Ся, по отношению к современному ему буддизму эпохи Сун, и его связь с танским буддизмом. Это обстоятельство было отмечено еще Ван Цзинжу в его публикации о тангутском буддийском каноне [Ван Цзинжу 1931: 3]. При анализе текстуального корпуса тангутского буддизма необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Ни собрание из ХараХото, ни все иные собрания текстов из Си Ся не представляют собой систематизированного целого, олицетворяющего всю полноту буддийского учения. Вместе с тем Н. А. Невский и Ши Цзиньбо3 не были неправы, говоря о «систематичности» тангутских буддийских текстов, хотя с нашей точки зрения, эта систематичность заключается не только в стремлении тангутов воспроизвести китайский канон. По всей видимости, переводы текстов сутр, а также публикация китайских текстов в Си Ся отражала не столько абстрактное стремление к полноте корпуса писания,4 сколько представления о государственной роли буддизма (буддизм как «защита государства», хуго 護國) и его функ3 Ши Цзиньбо основывает свое утверждение преимущественно на номенклатуре тангутских переводов, которые, по его мнению, так или иначе охватывают все части канона (Ши Цзиньбо 1988: 87–91). Взгляды основоположника тангутоведения Н. А. Невского на тунгутский буддизм изложены им в ряде статей, собранных в посмертное издание его работ (Невский 1960). 4 При этом следует иметь в виду, что идея о «закрытости» или «сформированности» буддийского канона — в большей степени плод воображения ученых, не знакомых с сутью проблемы, а не описанием фактического положения дел. Фактически же, канон буддийского писания остается открытым и по настоящее время, вопрос лишь в санкции, необходимой для включения того или иного произведения в «Описи сутр» (цзин лу 經錄) — в период Сун и далее для этого была необходимо императорское разрешение. Получение такого разрешения порой занимало длительное время: так, трактаты школы Хуаянь были включены в канон только в годы Шаосин (紹興 1131–1162) Южной Сун. 61 ции в обществе. Если принять высказанную ранее гипотезу о том, что буддизм в Си Ся в начальный период распространялся «сверху вниз», как и в Туфаньской империи, то и колофоны и посвятительные надписи в текстах как на тангутском, так и на китайском языке можно будет адекватно интерпретировать. Чтобы проиллюстрировать это предположение, можно кратко рассмотреть посвятительные надписи к китайским изданиям сутр, известных из Хара-Хото. Однако надо отметить, что в собрании из Хара-Хото довольно мало «чистых» изданий сутр: мы имеем дело не с собственно изданием текста определенной сутры, но с «обрядником» (фабэнь 法本), опубликованным попечением императорской семьи или частных лиц. Так что издание той или иной сутры или ее фрагмента включает в себя также и дополнительные тексты (как правило, мантры и дхарани, иногда дополняются «историческим» очерком, содержащим указания на чудесное действие рецитации текста). Эти издания предназначались для раздачи во время крупных молитвенных собраний, о чем говорит и сам термин «шиинь цзи» (施印記), — «записи о раздаче напечатанного». Основной текст, распространяемый таким образом, и есть Сутра об обетах бодхисаттвы Самантабхадры (Да фангуан Фо Хуаянь цзин жу бусыи цзето цзинцзе Пусянь синъюань пинь 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界 普賢行願品) — извлечение из так называемой Аватамсака-сутры в 40 главах, переведенной в период Чжэньюань (貞元, 795–796) династии Тан5. Наиболее распространенные в Хара-Хото версии этого Подобных изданий в собрании и Хара-Хото немало. Определенное представление о них может дать и каталог Л. Н. Меньшикова (1984), который упоминает часть из них. Кроме Сутры об обетах Самантабхадры можно упомянуть еще несколько: так, ТК-39 включает в себя Алмазную сутру, «Мантру неиссякаемого вместилища Праджни» (баньжо уцзиньцзан чжэньянь, 般若無盡藏真言), «Мантру восполнения убытка» (буцюэ чжэньянь 補缺真言) и «шиинь цзи»; ТК-128 включает в себя сутру Праджня-парамиты-Святой Матери Будд (Фошо шэнфому баньжо цзин 佛說聖佛母般若經, т. е. Фошо шэнфому баньжо-боломидо синь цзин, Buddhavacana Arya Buddhamatri-Prajñāpāramitā Hṛdaya–sūtra), — эзотерической версии знаменитой Сутры Сердца, переведенной Шиху (施護, Danapāla, ?–1017, текст известен также и из Байсыгоу), «Основных правил рецитации и поклонения» (чисун яомэнь 持誦要門) и «Императорского послесловия» (юйчжи хоусюй 禦制 後序); TK‑323 включает в себя сутру О непостоянстве (Учан цзин 無常經, перевод Ицзина), «Краткое изложение важнейшего о пробуждении бодхичитты» (фа пути синь яолюэ 發菩提心要略) и «Гатхи о рождении в Чистой Земле» (Ваншэн цзинту цзе, 生淨土偈) ; TK-25 наряду с Сутрой Сердца включает в себя Гундэ шань толони ( 功德山陀羅尼). Все эти тексты собраны в одно издание по случаю государственных молебнов — ТК 323 очевидно распространялся для обеспечения выздоровления и/ или благоприятного рождения и т. д. Из китайской части собрания из Хара-Хото 5 62 текста из названного издания могут включать в себя «Предисловие» Цинлян Чэньгуаня (清涼澄觀 737–838, 4-й патриарх направления Хуаянь), фрагмент первой главы Трактата о Пробуждении Веры в Махаяну (Дачэн цисинь лунь 大乘起信論), и текст «Чудесных Призывов и Откликов Аватамсака-сутры» (Хуаянь цзин ганьтун линин чжуань цзи 華嚴感通靈應傳記). Некоторые версии издания включают также «краткое изложение правил поведения в виде гатх согласно «Винае четырех разделов» (Сы фэнь люй люэ шо цзе цзе 四分律七佛略說戒 偈, «сокращенное изложение Дхармагуптака винаи в стихах) [ТК, 61, Эцзан Хэйшуй чэн вэньсянь 1996: III, 216–233]. Это издание, появившееся на свет благодаря императорскому попечению6, очевидно имело намерение распространить веру в чудесные свойства Аватамсака-сутры и установить определенные стандарты буддийской веры — именно эту цель имело в виду включение в издание фрагмента из вводной части («Лии фэнь» 立義分 — «установление смысла») Трактата о Пробуждении Веры в Махаяну, повествующего именно о том, что такое Махаяна, и каковы ее основные положения. Это соображение в сочетании с доминированием разного рода хуаяньских материалов в собрании из Хара-Хото7, скорее всего, указывает на сознательное внедрение в Си Ся поздне-Танского варианта Хуаяньского учения, основанного на трудах Чэнгуаня и Цзунми. Специфическое отношение тангутского правящего дома и связанных с ними буддийских деятелей можно видеть и в следующем фрагменте «Хуаянь цзин ганьтун линин чжуань цзи», включенном в некоторые версии Обетов Самантабхадры: 法界圓宗,真如牓樣。華嚴是一乘圓教,乃成佛之宗,得道之本 — ‘Совершенное учение дхармадхату, образец истины. Хуаянь — это совер- известны гораздо более многосоставные издания. Все эти тексты так или иначе имеют не доктринальную, но ритуальную функцию. Китайское издание Алмазной сутры из Хара-Хото включает в себя помимо собственно текста сутры еще и целый набор мантр и дхарани. 6 На некоторых экземплярах издания Обетов Самантабхадры сохранился колофон: 大夏乾佑二十年歲次己酉三月十五日正宮皇后羅氏謹施. («Почтительно распространён Императрицей главного дворца госпожой Ло в 15-й день 3-го месяца 20-й год Цянью под знаками ичоу Великого Ся (т. е. 4. 02. 1189 года)». Определение даты принадлежит Л. Н. Меньшикову. 7 Подробно хуаяньские тексты из Хара-Хото рассматриваются в: [Solonin 2009: 64–127]. 63 шенное учение Единой Колесницы, учение о становлении Буддой и основа обретения Пути’. Наличие подобного высказывания в тексте, широко растиражированном для раздачи участникам крупнейшего молитвенного собрания (колофон к сутре о Восхождении Майтрейи на Небо Тушита указывает, что число копий Обетов Самантабхадры, подготовленных для мероприятия, составило десять тысяч), непосредственно предшествовавшего экстраординарной буддийской акции 1189 г. по поводу годовщины восшествия на престол императора Жэньсяо. Принципиально важен для уяснения сущности буддийского культа в Си Ся следующий отрывок в одной из посвятительных записей, сопровождающих еще одну публикацию Обетов Самантабхадры: 欲期臣子之誠,無出佛乘之右(佑?)。是故暢圓融宏略者,華嚴為 冠;[趣秘]樂玄猷者,淨土惟先;仗法界一真妙宗,仰彌陀六八之弘 願。” — «Для того, кто хочет следовать искренности чиновника и сына, нет ничего более полезного, чем Колесница Будды. Поэтому среди изложений ‘всеобъмелющего’ как в краткой, так и в сокращенной форме, Хуаянь является наивысшим; среди величайших и сокровенных источников радости, наипервейшим является Чистая земля. [Следует] опираться на чудесное учение единой истины Дхармадхату и почитать великие обеты Амитабхи числом в ‘шесть восьмерок’»8. Таким образом, учение Хуаянь определяется как доктрина всеобъемлющей природы и единой истины Дхармадхату. То, что подобная сентенция обнаружена в текстах, предназначенных для публичной рецитации в ходе государственных буддийских церемоний, имеющих отношение к обеспечению благоденствия государства и счастливого перерождения императорских предков (согласно посвятительной записи именно это последнее было одной из целей молитвенного собрания, проведенного Жэньсяо в 1189 г.), представляет собой указание на особый статус хуаяньского учения в тангутском государстве. Возможно, что наряду с Сутрой созерцания восхождения Майтрейи на Небо Тушита, учение Хуаянь в сопровождении большого количества тантрических заклинаний было основой императорского буддийского культа в тангутском государстве. Именно это обстоятельство способно, на мой взгляд, объяснить как широкое распространение хуаяньских текстов в Си Ся, так и то, что представители направления 8 Транскрипцию надписи в целом, см.: [Эцзан Хэйшуй чэн вэньсянь 1998: VI, 18]. 64 Хуаянь имели статус «государственных наставников» и «наставников императора», зафиксированный Исином Хуйцзюэ. То что такой статус имели также и представители «тибетского буддизма», возможно, указывает на внутренние закономерности развития тангутского буддизма, на перенос центра тяжести с китайских культов на тибетские. Впрочем, этот «перенос» в настоящее время никак не документирован тангутскими, китайскими или тибетскими источниками, так что его сущность остается неизвестной. При этом придание Хуаяньскому учению подобного высокого статуса вполне коррелирует с указаниями Юаньтун Даошэня на то, что распространение «совершенного открытого» (юань сянь 圓顯) учения (т. е. Хуаянь) наряду с «совершенным тайным» (юаньми 圓密) учением (эзотерическим буддизмом) — это существенная заслуга Императора-бодхисаттвы Небесная Помощь (Тянью пуса гован 天佑菩薩國王) — т. е. Даоцзуна (Сяньми юаньтун чэнфо синьяо цзи. ТТ 46. 1955: 1004b, 16–17). Имеющееся у Даошэня также указание на то, что Даоцзун уделял специфическое внимание распространению учения дхарани, имея в виду обеспечить благоденствие государства и защиту народа (там же, 999с, 12–15), при сопоставлении с соответствующими фрагментами текстов из ХараХото также заставляет предположить воздействие киданьской модели на тангутов. Хотя киданьское государство ко времени Жэньцзуна уже пало, но магическое воздействие Ляосского буддизма на тангутский правящий дом, очевидно, не исчерпалось. Исходя из вышеизложенного, можно предполагать, что «систематичность» тангутского буддийского собрания была связана не с желанием воспроизвести весь китайский буддийский канон, но с установлением государственного или императорского буддийского культа, которым стало учение Хуаянь в его поздней версии. Появление этого культа можно, по крайней мере частично, связать с воздействием государственного буддизма Ляо. Появление большого количества Хуаяньских трактатов в тангутском переводе может быть объяснено из примерно таких же предположений: всякое буддийское учение в идеале состоит из «доктринальной части» (цзяо 教) и «учения о созерцании» (гуань 觀)9. Практически все произведения школы Хуаянь, 9 Список хуаяньских текстов, отождествленных на настоящий момент, включают в себя следующие: Чжу Хуаянь фацзе гуаньмэнь 注華嚴法界觀門 (имеется как на китайском, так и на тангутском языке, сочинение Цзунми); Сю Хуаянь аочжи ванцзинь хуаньюань гуань 修華嚴奧旨妄盡還源觀 (тангутский перевод, сочинение Фац- 65 как на китайском, так и переведенные на тангутский язык, попадают именно в категорию текстов о «созерцании». Все они так или иначе затрагивают проблематику «созерцания Дхармадхату» — основной практики школы Хуаянь, либо связаны с практиками Чань, подвергшимися хуаяньскому воздействию и воспринявшими идеи «Чань Татхагаты», основанного на сочетании хуаяньского доктринального учения и так называемых практик «Южной школы Чань»10. Все эти тексты вместе с имеющимися в тангутском переводе киданьскими буддийскими текстами могут быть объединены под рубрикой текстов «учения об истинном уме» (чжэнь синь 真心)11. В этот разряд могут быть отнесены практически все находящиеся в распоряжении ученых чань-буддийские тексты из Хара-Хото. Все они не носят «школьного характера», но построены на концепции «истинного ума» на основе хуаяньской доктринальной парадигмы. Так что и в этом случае можно вести речь о воспроизведении тангутами некоей идеальной системы «совершенного буддийского учения», сочетающего универсальную («всеобъемлющую», юаньжун 圓融 по терминологии того времени) доктрину со всей совокупностью практик, как китайского, так и тибетского происхождения. При этом резкого противопоставления между «эзотерическим» и «тайным» буддизмом не существовало: одно и то же лицо могло быть наставником как «явных», так и «тайных» учений12; учения скорее могли рассматриваться иерархически, как соответствующие разным уровням постижения «истинного ума», примерно таким образом, как это представлено в упомянутом трактате Даошэня [Solonin 2012a: 145–148]. Истоки этой системы, по крайней мере, частично можно усмотреть в буддийском учении, зана, имеется современная транскрипция текста, выполненная Сунь Боцзюнь [Сунь Боцзюнь 2009: 57–69]); Чжу Хуаянь фацзе гуань мэнь тунсюань цзи 注華嚴法界觀門 通玄記 (сочинение Гуанчжи Бэньсуна 廣智本嵩 (сер. XI века), тангутский перевод, имеется современная транскрипция части текста, выполненная Не Хунъинем [Не Хунъинь 2010: 1–8]). Предисловие к собранию разъяснений истоков чаньских истин (Чжу ши чаньюань цзи дусюй 諸說禪源諸詮集都序 (тангутский перевод, имеется транскрипция части текста, выполненная Не Хунъинем [Не Хунъинь 2011]). 10 В эту категорию текстов попадают «хунчжоуские тексты», связанные с переосмыслением учения Мацзу Даои в духе традиции Хуаянь (cм.: [Solonin 2003: 57–103; Солонин 2012: 32–54; Solonin 2012a]. В эту же категорию попадает и тангутское издание «юйлу» Наньян Хуйчжуна (см.: [Solonin 2012b]). 11 Подробнее об этом см.: [Солонин 2011: 391–402]. 12 Один из наиболее наглядных примеров — переводчик Чжоу Хуйхай (周慧海), имевший титул наставника явных и тайных учений. 66 распространенном в киданьском государстве Ляо. Было ли такое заимствование результатом сознательной политики или же общего доминирования Ляо на культурном пространстве Северной Азии, еще предстоит выяснить. Тем не менее возведение тангутского буддизма к буддизму киданей хорошо объясняет его анахроничность по отношению к буддизму сунского периода: кидани основывались на танской версии учения Хуаянь, и игнорировали современные им тенденции китайского буддизма13. При этом сама модель «государственного буддийского культа» может быть примерно с той же степенью достоверности усмотрена в культе Вайрочаны в Тибете имперского периода. Наличие и исполнение государственного буддийского проекта в тангутском государстве в итоге позволило реализовать стремление к вхождению в круг буддийской вселенной, но произошло это уже после гибели тангутского государства, когда девизы правления тангутских императоров стали включаться в хронологии всеобщих историй буддизма, составлявшихся в Китае в монгольский период14. Наряду с китайскими элементами, в поздний период существования тангутского государства государственная буддийская идеология стала включать в себя элементы тибетского эзотерического буддизма. Эти последние, в частности, культ Махакалы, видимо вошли в состав идеологии «защиты государства» при Си Ся, откуда впоследствии проникли в буддизм династии Юань15. Тем не менее эта проблема нуждается в дальнейшем ее изучении. Литература Ван Цзинжу 1931 — Ван Цзинжу 王靜如. Си-Ся яньцзю 1西夏研究. Бэйпин: Чжунъян яньцзююань, 1931. Масааки Тикуса 2000 — Масааки Тикуса 竺沙雅章. Со Гэн Буккё бунгаку си кэнкю 宋 元文化史研究: Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньша, 2000, 110–139. Подробнее об этом см.: [Масааки Тикуса 2000: 110–139]. Хронология (годы правления) тангутского государства указываются в таких универсальных историях буддизма, как Фо цзу лидай тунцзай (佛祖歷代通載) и Шиши сигу люэ (釋氏稽古略卷): оба сочинения юаньского периода. Данные о Си Ся в этих историях тем не менее дублируют соответствующие разделы династийных историй и в плане фактографии неинформативны. Си Ся и его буддийские институции кратко упоминаются Пагба-ламой в его сочинении «Изложение знаемого» (彰所知 論, тиб. Shes byarab gsal). Это произведение известно как в тибетской версии, так и в китайском переводе Салобы — тангутского монаха периода Юань. 15 В эту же категорию следует, видимо, отнести также и культ «Матери Будды с сияющим зонтом» (Фодин да байсань гай фому Śitātapatra Buddha matri, 佛頂大白 傘蓋佛母) , одним из проводников этого культа в Юань был Салоба. 13 14 67 Меньшиков 1984 — Меньшиков Л. Н. Каталог китайской части фонда П. К. Козлова из Хара-Хото. М.: Наука. Не Хунъинь 2010 — Не Хунъинь 聶鴻音. Хуаянь саньцзе као《華嚴“三偈”考》// Си Ся сюэ 西夏 2010. №8. Не Хунъинь 2011 — Не Хунъинь 聶鴻音. Си Ся вэнь Чаньюань чжуцюань цзи дусюй ичжэн 西夏文<諸說禪源諸詮集都序>譯證) Ч. 1–2 // Си Ся сюэ. 2011. №1–2. Невский 1960 — Невский Н. А. Тангутская филология. Т. 1–2. М.: ГФВЛ, 1960. Solonin 2003 — Solonin K. Hongzhou Buddhism in Xixia and the Heritage of Zongmi: A Tangut Source // Asia Major. 2003. Vol. 14, No 2. Solonin 2009 — Solonin K. The Glimpses of Tangut Buddhism // Central Asiatic Journal. 2009. Vol. 52, No 1. Солонин 2011 — Солонин 索羅寧. Си Ся фоцзяо чжэньсинь сысян 西夏佛教真心思 想 // Си Ся сюэ луньцзи 西夏學論集 / под ред. Ду Цзяньлу 杜建錄.. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньше, 2011. Solonin 2012a — Solonin K. The Teaching of Daoshen in Tangut Translation: The Mirror of Mind // Avata╚saka Buddhism in East Asia: Huayan, Kegon, Flower Ornament Buddhism: Origins and Adaptation of a Visual Culture / ed. by R. Gimello, Fr.Girard and Imre Hamar. Weisbaden: Harrassowitz Verlag, 2012a. Solonin 2012b — Solonin K. Chan Teaching of Nanyang Huizhong (?–775) in the Tangut Translation // Tibeto-Burman Linguitics. IV / ed. by N. Hill. Leiden: Brill, 2012b. Солонин 2012 — Солонин 索羅寧 Хунчжоу вэньсянь цзайкао 洪州文獻再考 // Шоуцзи Чжунго шаошу миньцзу гуцзи вэньсянь гоцзи сюэшу яньтао хуй лунвэнь цзи 首屆中國少數民族古籍文獻國際學術研討會論文集. Бэйцзин: Миньцзу дасюэ чубаньше, 2012. Сунь Боцзюнь 2009 — Сунь Боцзюнь 孫伯君. Си Ся вэнь Сю Хуаянь аочжи ванцзинь хуаньюань гуань каоши 西夏文《修華嚴奧旨妄盡還源觀》考釋 // Си Ся сюэ. 2009. №6. Сяньми юаньтун чэнфо синьяо цзи ТТ46, 1955 — Ши Цзинбо 1988 — Ши Цзиньбо Си-Ся фоцзяо ши люэ 史金波. 西夏佛教史略. Иньчуань: Нинся Жэньминь чубаньше 1988. Эцзан Хэйшуй чэн вэньсянь 1996 — 俄藏黑水城文獻. Т. I–XI. T. III. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньше, 1996; т. VI, 1999. Сокращения ТК — шифр китайских текстов из коллекции П.К.Козлова из Хара-Хото, хранящихся в собрании Ин-та Восточных рукописей РАН. ТТ — издание Тай. 68 Е. А. Десницкая Оппозиция означаемого и означающего в индийской грамматической традиции В европейской лингвистике представление о слове как о знаке, обладающем двумя аспектами, — планом выражения и планом содержания, или означающим и означаемым, — восходит к Фердинанду де Соссюру, который понимал знак как «двустороннюю психическую сущность» [Соссюр 1977: 99]. За прошедшее с тех пор столетие на основе этой концепции развернулись обширные семиотические штудии, в ходе которых базовая оппозиция означаемого / означающего была расширена до более сложных семиотических структур, таких, например, как «треугольник Огдена и Ричардса»; дополнена с помощью введения таких понятий, как «референт» и «денотат» и т. д. Во второй половине ХХ в. европейские индологи, обратившиеся к изучению индийских лингвофилософских теорий, с удивлением обнаружили, что схожие оппозиции (например, противопоставление слова (шабда) и его значения (артха)) активно использовались индийскими мыслителями. Существование соссюровской оппозиции в культурном поле европейских гуманитарных наук естественным образом облегчило восприятие индийских концепций, порождая своеобразный «феномен узнавания», вследствие которого индийские семантические концепции рассматривались через призму европейских знаковых теорий. В результате, во многих работах можно столкнуться с отождествлением понятий, сформировавшихся в европейской и индийской культурах. Так, Кунджунни Раджа не только отождествлял пару шаб© Е. А. Десницкая, 2013 69 да / артха с выделенными Соссюром двумя сторонами знака (означаемым и означающим), но вдобавок выстроил в индийской терминологии аналог «семантического треугольника» Огдена и Ричардса [Raja 1963: 12–14]. П. А. Гринцер утверждал, что дихотомия «слова» и «смысла» (шабды и артхи) «по сути, строго корреспондентна [курсив мой. — Е. Д.] делению на significant (“означающее”) и на signifié (“означаемое”) у Ф. де Соссюра, “план выражения” и “план содержания” у глоссемантиков и вообще современному представлению о словесном знаке… » [Гринцер 1987: 13]. Действительно, структурное сходство более чем очевидно, но при детальном сопоставлении указанных концепций становится очевидно, что они не идентичны. Более того, понятие знака в Индии разрабатывалось в контексте проблем, отличавшихся от проблем современной лингвистики, и это не могло не сказаться на специфике индийских семиотических теорий. Утверждения вроде процитированных выше страдают неполнотой еще и потому, что апеллируют ко всей индийской философии как к целостной традиции, не учитывая расхождений между отдельными авторами и течениями. Так, известный индийский грамматист и философ Бхартрихари (V в. н. э.) в трактате «Вакьяпадия» (ВП), подробно рассуждавший о структуре слова, понимал шабду и артху иначе, чем Соссюр и «вообще современные исследователи», и вводил более сложные семантические конструкции. В ВП шабда в разных контекстах имеет круг значений: «звук», «фонема», «членораздельное слово» или «высказывание»; а также «означающее», «осмысленное слово» или «предложение» [Houben 1995: 35]. Онтологический статус шабды недвусмысленно определен уже в первых кариках ВП (Vàkyapadãya 1966: I. 1–2), где утверждается, что единое целостное и неделимое слово — слово-сущность, шабда-Брахман — это основание и источник универсума. Вместе с тем при рассмотрении слова с точки зрения его функционирования в речевой деятельности (а такой подход — неотъемлемая черта паниниевской традиции, продолжателем которой объявляет себя Бхартрихари) становится очевидной множественность отдельных звуковых проявлений слова. При этом в распоряжении Бхартрихари были гораздо более определенные санскритские термины. В различных контекстах уточняющими синонимами для шабды служат варна (фонема), пада (словоформа), вакья (предложение, высказывание), 70 дхвани (звук), вачака (означающее), абхидхана (выражающее), санджня (наименование). Весь этот круг значений несводим к соссюровскому означающему, определявшемуся как «акустический образ», являющийся «психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств…» [Соссюр 1977: 98–100]. Схожим образом и «артха» — термин, в обыденном санскрите более чем многозначный, — в грамматико-философском контексте может переводиться как «значение», «смысл слова», «соотносимый со словом предмет внеязыковой действительности (денотат)», «намерение говорящего». Так же как и в случае с шабдой, эти оттенки значения в текстах могут конкретизироваться рядом уточняющих синонимов, таких как вишая ‘предмет органов чувств’, вьякти ‘единичный предмет’, бахьяртха ‘референт слова’ (букв.: ‘внешний предмет’), абхипрая ‘намерение говорящего’, вачья ‘означаемое’, абхидхея ‘выражаемое’, санджнин ‘именуемое’ и т. д. [Houben 1995: 35]. Соссюр считал означающий аспект знака понятием [Соссюр 1977: 99]. Из приведенных выше возможных значений слова «артха» к соссюровскому означаемому близки слова «вачья» и «абхидхея», понимаемые как саманья или джати, т. е. нечто общее или универсальное в предметах, что позволяет обозначать их одним словом. Артхой может обладать не только отдельное слово, но и предложение (вакья), для которого наличие единой артхи — критерий единства. В целом, артху следует понимать не как предмет сам по себе, но как предмет интенциональный, поэтому постулирование артхи и у отдельного слова, и у предложения — не противоречие. Артха есть то, на что направлено в конкретный момент внимание познающего. Пожалуй, в наибольшей степени с соссюровским определением означающего соотносится не шабда как таковая, но шабда-сварупа — особый аспект слова, о котором Бхартрихари упоминает в разных частях ВП. Исходной точкой для воззрения о сварупе послужили труды предшественников Бхартрихари: грамматистов Панини (IV в. до н. э.) и Патанджали (II в. до н. э.). Сутра Панини I. 1. 68 гласит: «Слово, если это не технический термин (шабда-санджня), обозначает свою собственную форму (сварупа)»1. Бенаресский комментарий к «Аш1 svaü råpaü ÷abdasyà÷abdasaüj¤à. 71 тадхьяи» подчеркивает, что область действия этой сутры ограничивается грамматикой и не распространяется на обыденную речь. Там же разъясняется, что в этом случае слово означает только свою собственную форму, а не «внешний референт» (бахья-артха), т. е. соотносимый со словом предмет внеязыковой действительности. Речь в сутре идет о том, что именно само слово, а не его референт становится объектом грамматических операций. В «Махабхашье» это положение разъясняется с помощью следующего примера [Mahàbhàùya 1880: 175]: сутра IV. 2. 33 гласит: «К огню [прибавить] суффикс -eya-2»3. Но поскольку невозможно прибавить суффикс к пылающим дровам, правило относится не к огню как физическому явлению, а к самому слову agni, т. е. к его собственной форме (но также не к синонимам слова «огонь»). Патанджали, истолковывая сутру I. 1. 68, поначалу утверждает, что сфера ее действия ограничивается грамматикой, однако затем приводит варттику Катьяяны, согласно которой и в обыденной речи восприятию референта всегда предшествует восприятие слова4. В качестве примера Патанджали приводит следующую ситуацию: «Когда кого-нибудь окликают по имени, а этого имени не расслышали, то переспрашивают: “Что ты сказал?” Стало быть, восприятие слова всегда предшествует восприятию референта»5 [Mahàbhàùya 1880: 176]. Бхартрихари исследует проблему автореференции слова гораздо шире и основательнее. Этому вопросу отведен довольно большой пассаж в первой канде (Vàkyapadãya 1966: I. 44–70), но он затрагивается также и в других разделах, прежде всего в «Самбандха-самуддеше» третьей канды. По мнению автора ВП, собственная форма слова внешне неотличима от означающего, однако ее выделяют, поскольку в обыденной речи она оказывается особым означаемым слова, актуальным наряду с референтом: «Как в знании проявляется и облик познаваемого и собственный облик [знания], так же и в слове проявляется и облик референта, и собственный облик» (Vàkyapadãya 1966: I. 51)6. Аналог русского суффикса -енн- в слове «огненный». agneróhak. 4 Na và ÷abdapårvako hyarthe saüpratyayastasmàd arthanivçttiþ. Варттика 2 (498) к сутре 1.1.68 [Mahàbhàùya 1880: 176]. «Или же восприятие слова всегда предшествует восприятию референта, поэтому [здесь] референта нет». 5 ÷abdapårvako hyarthasya saüpratyayaþ. àta÷ca ÷abdapårvako yo ‘pi hyasàvàhåyate nàmnà nàma yadànena nopalabdhaü bhavati tadà pçcchati kiü bhavànàheti. 6 àtmaråpaü yathà j¤àne j¤eyaråpaü ca dç÷yate / artharåpaü tathà ÷abde svaråpaü ca prakà÷ate // I. 51 // 2 3 72 И говорящий, и слушающий прежде всего обращают внимание на слово как таковое, а не на его значение, и лишь затем «перескакивают» в область смыслов (Vàkyapadãya 1966: I. 54). Бхартрихари признает, что чаще всего это происходит неосознанно, потому что сами участники коммуникации поглощены передачей или восприятием передаваемого смысла: «В обыденной речи люди не обращают внимания на [слова], которые вторичны по отношению к референтам, поскольку выражают [не себя], а какие-то другие означаемые» (Vàkyapadãya 1966: I. 55)7. Тем не менее слово выражает и референт и собственную форму, и происходит это потому, что природа слова схожа с природой света, обладающего двумя отдельными свойствами: восприниматься и способствовать восприятию других предметов (Vàkyapadãya 1966: I. 56). В противном случае — если бы слова не схватывались как отдельные объекты познания, т. е. в виде сварупы — они не передавали бы своего значения: «Слово, которое не стало объектом познания, не передает значения. Невоспринятые слова не могут выразить значения просто благодаря своему существованию. Поэтому, не расслышав форму слова, переспрашивают: “Что ты сказал?” [Слово функционирует] иначе, чем органы чувств, собственную форму которых при проявлении объекта воспринять невозможно» (Vàkyapadãya 1966: I. 57–58)8. Последний пример, встречавшийся уже у Патанджали, демонстрирует, как в обыденной речи восприятие референта опосредовано восприятием собственной формы слова. Человек услышал произнесенные звуки, но не сумел отождествить их с формой конкретных слов. Поэтому, переспрашивая, он задает вопрос не о значении конкретного высказывания, т. е. о его внеязыковом содержании, но о его форме, восприняв которую, можно понять значение. Иначе ответ состоял бы не в повторении сказанного, а в его переформулировании и объяснении. В этом же вопросе: «Что ты сказал?», слово «что» соотносится именно с формой произнесенных слов, и слова, произнесенные в ответ, например: «Девадатта ушел в лес», имеют в качестве означаемого не поступок Девадатты, а собственную форму этих слов, тождественную собственной форме слов, произнесенных прежде. В ситуации именования, когда семантическая связь между словом и его референтом еще не установлена, слово также обозначает собственную форму (Vàkyapadãya 1966: I. 67). В противном случае высказывания подобного рода были бы безреферентными, что противоречит краеугольной для всей семантики варттике Катьяяны, в которой говорится о постоянстве связи arthopasarjanãbhåtàn abhidheyeùu keùu cit / caritàrthàn paràrthatvàn na lokaþ pratipadyate // I. 55 // 8 viùayatvam anàpannaiþ ÷abdair nàrthaþ prakà÷yate / na sattayaiva te ‘rthànàm agçhãtàþ prakà÷akàþ // I. 57 // ato ‘nirj¤àtaråpatvàt kim àhety abhidhãyate / nendriyàõàü prakà÷ye ‘rthe svaråpaü gçhyate tathà // I. 58 // 7 73 между словом и референтом. Например, в высказывании «gaur vàhãkaþ» («вахика — это корова»), определяется значение слова «вахика». При этом стоящие в именительном падеже слова «вахика» и «корова» употреблены не по отношению к своему внешнему референту, т. е. к животному, но отсылают к самим себе, к своей форме. В формализованном виде это высказывание должно было бы звучать так: «Слово “вахика” означает то же, что слово “корова”». Однако в обыденной речи, представляющей для грамматиста критерий словоупотребления, то же самое содержание естественно понимается из фразы: «вахика — это корова». Сварупа упоминается и в «Самбандха-самуддеше» — третьем разделе третьей канды ВП о семантической связи. В первых же кариках этого раздела Бхартрихари утверждает, что собственная форма слова — одна из означаемых, наряду с «внешним референтом» и намерением говорящего. При этом из этих трех означаемых собственная форма теснее всего связана со словом, поскольку в условиях речевой коммуникации ее восприятие представляет собой необходимое условие для понимания высказывания: «Произнесенные слова выражают намерение говорящего, внешний референт и собственную форму. Их связь фиксирована. Слушающий может иногда испытывать сомнение относительно референта или намерения [говорящего]. Если же воспринята собственная форма, то отклонений [в познании] не будет»9 (Vàkyapadãya 1963: III. 3. 1–2). Собственная форма слова и его значение — не постоянные и независимо существующие элементы слова, но только актуализируются в контексте определенной деятельности (Vàkyapadãya 1966: I. 59). Разумеется, элемент, актуальный в контексте одной деятельности, оказывается недействительным в контексте другой. Например, собственная форма является единственным референтом слова при переспрашивании или определении (Vàkyapadãya 1966: I. 58, I. 57), но в другой речевой ситуации хотя и происходит восприятие собственной формы слова, оно затеняется восприятием референта. Из сказанного выше, более чем очевидно, что представления о внутренней структуре слова, разработанные Соссюром и Бхартрихари, нетождественны. Индийский грамматист исследовал знаковую природу слова в контексте широкого круга эпистемологических и онтологических j¤ànaü prayoktur bàhyo ‘rthaþ svaråpaü ca pratãyate / ÷abdair uccaritais teùàü saübandhaþ samavasthitaþ // III. 3. 1 // pratipattur bhavaty arthe j¤àne và saü÷ayaþ kva cit / svaråpeùåpalabhyeùu vyabhicàro na vidyate // III. 3. 2 // 9 74 проблем, а также прагматически — в связи с неязыковой деятельностью и внеязыковой действительностью, тогда как Соссюр рассматривал знак с позиций лингвистики: как конституирующий элемент языковой системы. Различия в исходной постановке вопроса неминуемо приводят к расхождению в деталях. Поэтому, невзирая на общее сходство индийских знаковых теорий с европейскими, их абсолютное отождествление кажется чересчур поспешным. Более того, эффект «узнавания» в чужой культуре явлений или концепций, хорошо известных в своей собственной культуре, как правило, приводит к неадекватным интерпретациям и неоправданным обобщениям. Литература Aùñàdhyayã 2001 — Pànini’s Grammatik / Herausgegeben, übersetzt, erläutert und mit verschiedenen Indices versehen von O. Böhtlingk. Delhi, 2001. Houben 1995 — Houben J. E. M. The Saьbandha-samudde÷a (chapter on relation) and Bhartçhari’s Philosophy of Language. Groningen, 1995. Mahàbhàùya 1880 — Pata¤jali’s Vyàkaraõa-Mahàbhàùya / ed. by F. Kielhorn. Vol. I. Bombay, 1880. Raja 1963 — Kunjunni Raja K. Indian Theories of Meaning. Madras, 1963. Vàkyapadãya 1963 — Vàkyapadãya of Bhartçhari with the commentary of Helàràja. Kaõóa III. Part I / ed. by K. A. Subramania Iyer. Poona, 1963. Vàkyapadãya 1966 — Vàkyapadãya of Bhartçhari with the Commentaries Vçtti and Paddhati. Kaõóa I / critically ed. by K. A. Subramaniya Iyer. Poona, 1966. Vàkyapadãya 1991 — âcàryabhartçharipraõãtaü Vàkyapadãyam. Tçtãyo bhàgaþ (padakàõóaü). Varanasi, 1991. Гринцер 1987 — Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987. Соссюр 1977 — Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию. М., 1977. 75 Ю. Ю. Завгородний ЛЬВОВСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ СТАНИСЛАВА ШАЙЕРА Известный польский индолог и буддолог Станислав Шайер (1899–1941) недолго всего два учебных года (1924–1926), проработал в Университете Яна Казимира во Львове (ныне — Львовский национальный университет им. И. Франко)1. Но для его индологической карьеры львовский период оказался по-своему содержательным и важным. Пребывая во Львове, ученый публикует несколько работ на польском языке по теме упанишад и адвайта-веданте: статью «О генезисе монизма упанишад из магического мировоззрения “Атхарваведы” и брахман» (1924) [Schayer 1988а] и две рецензии: рецензию «На полях упанишад» (1924) на перевод восьми упанишад Станислава Ф. Михальски-Ивеньского2 [Schayer 1924] и рецензию (1925) на перевод текста Шанкары «âtmabodha или познание души» того же С. Ф. Михальски-Ивеньского [Schayer 1988б]. Научная деятельность С. Шайера в целом, как и отдельные, более поздние его публикации, время от времени привлекают внимание российских и украинских исследователей [Сыркин 1971: 51; Шохин 2006; Романов 2009: 15; Козицький 2010]. Между тем три упомянутые публикации, насколько нам известно, остаются невостребован1 Так, 27 июня 1924 г. он проходит процедуру хабилитации по древнеиндийской философии у профессора А. Гавронского, а в 1925/1926 учебном году преподает вступительный курс санскрита в рамках общего вступительного курса по религиоведению и древнеиндийской религии. С 1926/1927 учебного года С. Шайер уже преподает в Варшавском университете (см.: [Schayer 1988: xiii–xiv]). 2 Станислав Михальский (1881–1961), он же С. Ф. Михальский-Ивеньский — польский индолог, переводчик, издатель. © Ю. Ю. Завгородний, 2013 76 ными, хотя они и не утратили своей научной значимости, особенно в части истории рецепции индийской религиозно-философской мысли (на примере упанишад и адвайта-веданты). Этой статьей мы попытаемся восполнить возникший пробел в изучении интеллектуального наследия известного польского индолога. Статья С. Шайера «О генезисе монизма упанишад из магического мировоззрения “Атхарва-веды” и брахман» Свою статью С. Шайер начинает с краткого изложения двух задач исследования: 1) анализа магического мировоззрения брахман и 2) выявления генетической связи между литургическими спекуляциями этих текстов и главной мыслью упанишад: наукой о единстве метафизического праначала атмана-Брахмана [Schayer 1988а: 3]3. Магическое, примитивное мировоззрение, как считает С. Шайер, характеризует «закон символической эквиваленции (идентичности, тождества, равнозначности. — Ю. З.)» [Schayer 1988: 3]. В качестве подтверждения в статье приводятся многочисленные примеры субстанций («магические субстанции, это что-то вроде примитивных платоновских идей»), которые составляют между собой разного рода эквиваленции, в частности, между солнцем и человеческим глазом, растениями и человеческими волосами и т. д. Кроме физиологически-космического параллелизма, важную роль играет и физиологически-ритуальный параллелизм между жертвой и человеком. Жертва становится той силой, которая регулирует и поддерживает магическую гармонию между жизнью мира и жизнью психофизического индивида, между порядком космическим и физиологическим, отображая, в конце концов, первоначальное единство микро и макрокосма [Schayer 1988: 4–5]. Когда львовский индолог касается магического мировоззрения, то из всех ведийских текстов он один раз ссылается на «Атхарваведу»4 и по одному — на три разные брахманы, а также на работу «Мыслительные функции в низших обществах» («Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures»5, 1910) известного французского антрополога Как видно, в поставленных задачах название «Атхарваведы» отсутствует. То есть самхиты «Атхарваведы». 5 В последнее слово названия вышеупомянутой работы Л. Леви-Брюля нами внесено исправление, так как название «Les fonctions mentales dans les sociétés primitives» найти не удалось. 3 4 77 Люсьена Леви-Брюля (1857–1939). То есть анализ магического мировоззрения, в первую очередь опирающийся на изучение текстов брахман (хотя в названии статьи ранее упоминается «Атхарваведа», а не брахманы), как раз и дает возможность исследователю сделать вывод о тройном параллелизме, как о главной характеристике брахман и «Атхарваведы» [Schayer 1988: 4]. Выполняя вторую задачу, С. Шайер привлекает уже и упанишады. Если из названия статьи «О генезисе монизма упанишад из магического мировоззрения “Атхарва-веды” и брахман» можно понять, что ее автор без особенных трудностей выделяет упанишады от остальных текстов ведийского канона (шрути) и характеризует их, используя философское понятие «монизм», то не таким очевидным оказывается установление генетической связи между текстами упанишад и брахман. Пытаясь дать ответ на вопрос «Каким образом из науки о тройном параллелизме ритуала, мира и физиологического организма возникает наука о единстве метафизического праначала, наука о идентичности Брахмана и атмана?» (Brаhmana и вtmana)6 [Schayer 1988: 5], С. Шайер замечает: «Генетическая связь между литургией брахман и философией упанишад все еще остается проблемой спорной и нерешенной» [Ibid.]. Если первым присуща магия, то последним — монизм [Schayer 1988: 6]. Получается, что брахманы — тексты литургические и магические, тогда как упанишады — философские и монистические. Помочь найти генетическую связь между ними, как считает исследователь, должны значения слов «bràhmaõa» и «upaniùad». Рассмотрев кратко позицию двух известных индологов, Морица Винтерница (1863–1937) из Австрии и Альбрехта Вебера (1825–1901) из Германии относительно значения слова «bràhmaõa»7, С. Шайер предлагает его итоговый вариант: «магическая связь ритуала с явлениями мира» [Ibid.]. В отличие от слова «bràhmaõa», поиск адекватного значения для слова «upaniùad» оказывается не таким простым. Исходя из текста статьи, варианты «таинственное собрание» и «таинственная эзотерическая наука» (авторы этих вариантов не упоминаются) С. Шайера не устраивают [Schayer 1988: 6–7], как и варианты «собрание 6 Ранее, когда С. Шайер рассматривал магическое мировоззрение, он приводил несколько иную характеристику, говоря о «тройном параллелизме литургийного, космического и физиологического порядка» [Schayer 1988: 4]. 7 В некоторых санскритских словах в статье отсутствуют диакритические знаки. 78 возле жертвенного огня», «философская дискуссия» на тему Брахмана и атмана, предложенные индийским исследователем Махадевой Бодасом (1869–1940) [Schayer 1988: 7]. Зато вариант немецкого санскритолога и буддолога Германа Ольденберга (1854–1920), согласно которому значение слова «upaniùad» приравнивается к значению слова «upàsana», Шайер принимает во внимание и развивает, считая «упасану» «психическим актом магического созерцания (размышлений. — Ю. З.), содержанием и темой которого выступает символическая эквиваленция двух субстанций» [Schayer 1988: 7]. Такая характеристика дает возможность уточнить значение слова «упанишад». С. Шайер пишет о том, что хотя глагол «upa-ni-√sad» в ведийских текстах выступает синонимом «upa-√às», они не идентичны. Если последний означает «психический акт», то первый — «объективное отношение, то, что выступает содержанием и темой upâsana, иначе говоря, магической равнозначностью обоих субстанций» [Ibid.]. Становится очевидным, что «upa-ni-√sad» польский индолог понимает полнее, чем «upa-√às», а следовательно, и упанишады, более поздние ведийские тексты, могут претендовать на большую полноту, чем брахманы, потому что они рассматривают не только плюрализм, бесконечное количество субстанций, но и первоначало (первооснову) мира, которым выступает эквиваленция двух фундаментальных субстанций: атмана и Брахмана. Сопоставив «upa-√às» с «upa-ni-√sad», С. Шайер возвращается к сопоставлению «bràhmaõa» и «upaniùad», как двух жанров ведийской литературы. Оказывается, что упанишада как текст означает более или менее то же самое, что и брахмана как текст, т. е. они «обсуждают связи эквиваленции» и обращаются к магии. Разница же заключается в использовании в текстах разных методов магической технологии и в антилитургических тенденциях упанишад. Отдельно Шайер обращает внимание на стереотипную формулу ya evaü veda8, встречающейся и в брахманах, и в упанишадах. Такая формула — яркий пример отображения теории магической зависимости между субстанциями в обоих жанрах ведийской литературы, который также указывает и на существующую генетическую связь между брахманами и упанишадами [Schayer 1988: 8]. 8 Обращение внимания С. Шайера на ya evaü veda — самое раннее из известных нам тематизаций этой ведийской формулы в индологии. 79 По мнению исследователя, первые, наиболее примитивные магические монистические тенденции появляются в плюралистическом мире брахман. Главной темой размышлений этих ведийских текстов был не мир (вселенная, макрокосм), а человек (организм психофизического индивида, микрокосм) [Schayer 1988: 8–10]. Между тем центральная идея упанишад нацелена на ключевые понятия Брахмана и атмана, которые выступают магическими эквивалентами. Истоки этой эквиваленции С. Шайер видит в «Шатапатха-брахмане» (Х. 6. 3) и «Чхандогья-упанишаде» (ІІІ. 14)9. Из содержания двух этих древнеиндийских литературных памятников следует, что «основой для действий служит upаsana, а сама эта эквиваленция (т. е. атман — Брахман. — Ю. З.) — наивысшая, самая универсальная упанишада» [Schayer 1988: 11]. В статье характеризируется каждое из двух идентичных понятий. Если «Брахман — абсолютно центральная субстанция ритуально-космического порядка», то «аналогичная центральная субстанция человека — Атман» [Ibid.]. Отдельно С. Шайер подытоживает высказанные им размышления, обращая внимание на то, что «тезис Âtman — Brahman» возникает не случайно из двух независимых метафизических начал, как считал Г. Ольденберг, а выступает неизбежным вкладом магического мировоззрения [Ibid.]. Несмотря на то, что статья С. Шайера «О генезисе монизма упанишад из магического мировоззрения “Атхарва-веды” и брахман» — небольшое по объему исследование, изданное около девяноста лет назад, она сохраняет свой научный интерес как с точки зрения истории рецепции индийской философии в Восточной Европе (дескриптивный уровень), так и с позиции современных исследований брахман и упанишад. К последнему утверждению, например, относится обращение (тематизация) С. Шайера к ya evaü veda, одной из основных утверждений-формул брахман и ранних упанишад, а также попытки сопоставить особенности употребления «upa-ni-√sad» и «upa-√às» в текстах брахман и упанишад. Если первый случай указывает на возможный приоритет Шайера касательно его введения (тематизации) в научный дискурс [Edgerton 1929; Deussen 1966; 9 То, что С. Шайер в этом месте статьи приводит по одному примеру эквиваленции атмана с Брахманом в брахмане и упанишаде, уравнивает значение этой идентичности в двух разных частях ведийского канона. Больше нигде в статье ссылки на пример эквиваленции между Брахманом и атманом не встречаются. 80 Семенцов 1981], то они оба сохраняют свою актуальность в современной индологии [Edgerton 1965; Семенцов 1981; Романов 2009]10. К важным достижениям этой статьи можно отнести и акцент на существование генетической связи между текстами брахман и упанишад. Среди ее дискуссионных, если не ошибочных моментов — отнесение упанишад к философским текстам. Рецензия С. Шайера «На полях упанишад» на перевод восьми упанишад С. Ф. Михальски-Ивеньского Во львовский период своей научной деятельности С. Шайер к тематике упанишад также обращается в небольшой рецензии по случаю выхода в Варшаве11 второго издания перевода (с санскрита на польский язык) восьми упанишад [Sсhayer 1924]. В целом, приветствуя проделанную работу переводчиком С. Ф. Михальски-Ивеньским, Шайер пишет о том, что «пан Михальский и далее продолжает находиться под влиянием романтических взглядов на сущность упанишад». Эти взгляды, по его мнению, присущи также и известному немецкому исследователю упанишад Паулю Дойссену (1845–1919), который ошибочно пытался сопоставить науку мудрецов упанишад Яджнавалкьи и Аруны (при этом упанишады польский индолог характеризует «самой старшей индийской философией») с метафизикой Платона, Канта и Шопенгауэра. Указанная критика Дойссена, особенно его компаративистских склонностей, хронологически первая, с которой нам приходилось встречаться в работах индологов Восточной Европы. Не соглашается С. Шайер и с тезисом С. Ф. Михальски-Ивеньского о том, что содержание упанишад направлено на утверждение представлений о «нереальности внешнего мира». Он считает, что ключевая мысль учения Аруны, сформулированная в известном выражении «tat tvam asi», говорит о «науке об эманации многообразия 10 Судя по библиографии упомянутых работ В. Семенцова и В. Романова, рассмат­риваемые нами публикации С. Шайера не были им известны. 11 Внимания заслуживает название издательства: «Ulthima Thule», указанное в рецензии. В переводе с латинского «Ulthima Thule» — это «далекая, или же крайняя Туле». «Ulthima Thule» символизирует мистическую страну (царство, землю, остров), находящуюся на севере Европы и описанную в IV в. до н. э. греческим путешественником Пифеем в произведении «Об океане». 17 августа 1918 г. в Германии было основано оккультное общество «Туле». 81 явлений эмпирического мира с единым прабытием Атмана — Брахмана» [Ibid.]. Как становится понятно далее из рецензии, Михальски-Ивеньский отдельно обращается к «tat tvam asi», или же махавакье, одному из великих речений (формул). Поэтому у рецензента позникает несколько вопросов. Один из них связан с тем, что «Шопенгауэр неоднократно цитирует в своих произведениях это “великое слово” (“tat tvam asi”) и считает его основой для целой моральности» [Ibid.]12. Вполне возможно, что в предисловии13 к своему переводу Михальски-Ивеньский дает основания Шайеру сделать отступление в сторону рецепции индийской философии в творчестве А. Шопенгауэра, главные положения которой он мог разделять. Связывать содержание «tat tvam asi» с моральностью (моральной проблематикой) Шайер считает неуместным. Не воспринимает С. Шайер и неоднократные упоминания в предисловии о присущей упанишадам и гимнам «Ригведы» «арийскости», как и попытку охарактеризовать Л. Толстого «идеальным типом современного арийца», считая такие взгляды С. МихальскиИвеньского проявлениями «арийской идеологии», заимствованной у австрийского индолога Леопольда Шредера (1851–1920) [Ibid.]. Из содержания рецензии следует, что польский переводчик находился под ощутимым влиянием концепта «арийскости», ища ее не только в текстах шрути, но и намного позже. В частности, к «настоящим арийцам» он относит не только уже упомянутого Л. Толстого, но и У. Уитмена. Главным основанием для такого решения, очевидно, была созвучность жизненного credo обоих писателей проинтерпретированному С. Ф. Михальски-Ивеньским «tat tvam asi» как «возлюби ближнего своего как самого себя». В отличие от предложенной интерпретации переводчиком упанишад, С. Шайер предлагает Названия произведений А. Шопенгауэра в рецензии не упоминаются. Возможно, С. Шайер имел в виду произведение немецкого мыслителя «Об основе морали» («Über die Grundlage der Moral», 1840), в котором «tat tvam asi» рассматривается в близком контексте: «“Моя истинная, внутренняя сущность существует в каждом живущем столь же непосредственно, как она в моем самосознании обнаруживается мне самому”. Именно это убеждение, для которого в санскрите имеется постоянное выражение в формуле tat tvam asi, т. е. “это ты”, — именно оно выступает в виде сострадания, так что на нем основана всякая подлинная, т. е. бескорыстная, добродетель, и его реальным выражением служит всякое доброе дело» [Шопенгауэр 1992: 254]. 13 Из текста статьи понятно, что кроме переведенных текстов упанишад, в издании было также и предисловие переводчика. 12 82 придерживаться академически признанного понимания выражения «арийская культура», которое «имеет только один научно допустимый смысл: культура еще неразрывного ирано-индийского племени, а значит — культура предков, певцов “Ригведы” и “Авесты”», не забывая при этом упомянуть и о неарийском, дравидийском элементе, который, возможно, повлиял на «консолидацию древнеиндийской философии» [Ibid.]. Несмотря на лаконичность рецензии, ее содержание значительно расширило наше представление о взглядах С. Шайера на упанишады в более широком контексте ее рецепции, чем только поле, состоящее из академических индологических текстов. Появление этой рецензии также продемонстрировало, насколько оперативно отреагировал (год в год) на выход перевода восьми упанишад в Варшаве профессор Львовского университета. Остается только сожалеть, что в самой рецензии С. Шайер все внимание уделил только предисловию перевода, совсем не вспомнив об особенностях перевода упанишад С. Михальски-Ивеньским. Рецензия С. Шайера на перевод «Атмабодхи» С. Ф. Михальски-Ивеньского В 1925 г. С. Шайер публикует содержательную рецензию на перевод работы Шанкары «Атмабодха» (àtmabodha, «Познание атмана»), осуществленный С. Ф. Михальски-Ивеньским. Перевод был издан в Варшаве и Кракове в 1923 г.14 Рецензия начинается с двух важных моментов. Во-первых, С. Шайер характеризует «Атмабодху» как текст, авторство которого только приписывается Шанкаре. Вовторых, он упоминает англоязычный перевод «Познания атмана», осуществленный Тэйлором (W. Taylor) в 1812 г. [Schayer 1988б: 33]. Если говорить об атрибуции «Атмабодхи» с позиции сегодняшнего дня, то много исследователей индийской философии относят его к тем текстам, которые только приписываются индийской традицией Шанкаре [Advaita Vedànta up to øaïkara and His Pupils 1990: 14 Выходные данные перевода, приведенные в рецензии С. Шайера, следующие: «Ātmabodha czyli Poznanieduszy, traktat wedantyczny przez Śankaraczarję, przekładz Sanskrytu oraz wstęp Dr. St. Franciszka Michalskiego-Iwieńskiego. Warszawa; Kraków, 1923. XI — 36 (8° min) [Schayer 1988: 33]. Рецензия была напечатана во львовском «Востоковедном ежегоднике» (Rocznik Orientalistyczny) в 1925 г. 83 116; Dasgupta 1991: 81; Исаева 1991: 54; Радхакришнан 1993: 400]. Представители адвайта-веданты, хотя и обращают внимание на сомнение индологов касательно авторства Шанкары в случае «Атмабодхи», тем не менее считают его автором рассматриваемого текста, который ими считается полезным для начинающих [SankarAcArya; øaïkaràchàrya 1947]. Упоминание С. Шайером перевода Тэйлора дает возможность читателю лучше представить временной интервал между первым англоязычным переводом и первым переводом на польский язык, которые разделяют более ста десяти лет. Совершенно очевидно, что интерес к философскому наследию Шанкары в Восточной Европе начал формироваться намного позже, чем в Западной Европе (и Соединенных Штатах Америки?), но ранее, чем в Российской империи, Украине и Советском Союзе. Так, первый полный перевод на русский язык работы Шанкары появился только в 1965 г. Примечательно, что этим переводом было именно «Познание атмана» [Сыркин 1965]. Если в предыдущей, более общей рецензии, по переводам упанишад С. Ф. Михальски-Ивеньским, С. Шайер сосредоточивался на предисловии к переводу, то на этот раз — на тщательном анализе самого перевода. Он указывает более десяти шлок из «Атмабодхи»15, в которых, по его мнению, переводчик допустил ошибки. Например, можно согласиться со следующим замечанием Шайера: «В строфе 35 ēkam16 выступает не подлежащим, но вместе с nitya, ÷uddha, vimukta и др. — определением brahma17» [Schayer 1988: 34]. В пользу его замечания свидетельствует не только оригинальный санскритский текст, но и разные варианты переводов: nitya÷uddhavimuktaikamakhaõóànandamadvayam satyaü j¤ànamanantaü yat paraü brahmàham еva tat. ‘«Я воистину тот высший Брахман, который вечен, чист, свободен, един, целостен и недвойственен; чья сущность — Блаженство, 15 В большинстве случаев указанная в рецензии нумерация строф «Атмабодхи» на одну меньше, чем в других изданиях этого же текста. То есть 35 строфа соответствует 36 строфе. 16 В рецензии С. Шайера санскритская гласная «e» везде транслитерируется с диакритикой. 17 Как видно, Шайер употребляет «brahma» вместо «brahman». 84 Истина, Знание и Беспредельность»’ [Шанкарачарья 1999: 173]. ‘«I am verily that Supreme Brahman, which is eternal, stainless, and free; which is One, indivisible, and non-dual; and which is of the nature of Bliss, Truth, Knowledge, and Infinity»’ [øaïkaràchàrya 1947: 195]. Еще один фокус внимания в рецензии — поиск соответствующих польских слов для перевода санскритской философской терминологии. Обращаясь к терминам философии И. Канта: Verstand, Vernunft, Sinnlichkeit, Urteilskraft, Anschauung, С. Шайер отмечает, что при переводе за каждым из них должно быть закреплено только одно значение, а не разные. Этой же логики, по его мнению, необходимо придерживаться и при переводе санскритских текстов, прежде всего индийских схоластических произведений, к которым и относится «Атмабодха» [Schayer 1988: 35]. Как раз в переводе МихальскиИвеньского необходимая последовательность нарушена. И снова, для подтверждения своего наблюдения, польский индолог приводит примеры из разных шлок текста. Например, он пишет о том, что у Михальски-Ивеньского àkàчa имеет три разных значения: «основа» (строфа 9), «пространство» (строфа 34 и 38) и «горизонт» [Ibid.: 35]. Наше обращение к позднейшим переводам «Атмабодхи» показало, что А. Сыркин переводит àkàsa только как «пространство» [Сыркин 1965: 177, 179], Е. Адамкова — как «эфир» и «небо» [Шанкарачарья 1993: 154, 172, 175], а Свами Никхилананда один раз оставляет санскритский термин без перевода и по одному разу употребляет «эфир» и «небо» [øaïkaràchàrya 1947: 166, 194, 197]. Когда Никхилананда переводит девятую шлоку, оставляя àkà÷a без изменений, он тут же объясняет: «Первый из пяти элементов материи, как правило, переводится на английский язык как “небо”, “пространство” или “эфир”» [Ibid.: 166]. Как видим, замечание С. Шайера относительно трех вариантов перевода àkà÷a касается и других переводчиков, а не только Михальски-Ивеньского. Очевидно, в этом случае мы сталкиваемся с ситуацией полисемии, присущей санскриту и санскритской философской терминологии. Другое дело, что из трех вариантов, предложенных Михальски-Ивеньским в его переводе «Атмабодхи», корректным оказывается только «пространство». К переведенным различным образом Михальски-Ивеньским санскритским терминам попадает и buddhi: «Термин buddhi один раз означает разум (строфа 24, 25, 27), один раз снова познание 85 (строфа 12, 17)» [Schayer 1988: 35]. Как и в случае с àkàчa, С. Шайер не предлагает своего варианта перевода buddhi. Другие переводчики приводят следующие варианты перевода buddhi: Е. Адамкова — только как «интеллект» [Шанкарачарья 1993: 156–157, 159–160, 165– 167], А. Сыркин — только как «[способность] постижения) [Сыркин 1965: 177–178], а Свами Никхилананда оставляет «buddhi» (строфа 12, 17, 25) без перевода в основном тексте, или переводит как «mind» (т. е. разум, ум) (строфы 22, 24, 27) [øaïkaràchàrya 1947: 171, 177, 182–184, 187]. Как и в случае с àkàчa, когда Никхилананда впервые употребляет buddhi, он приводит объяснение: «Buddhi: это слово переводится как “решающая способность”, или “интеллект”, обозначая функцию внутреннего органа, который определяет настоящую природу объекта» [øaïkaràchàrya 1947: 172]. Впоследствии он указывает на определенные общие черты buddhi с manas и одновременно на существующую между ними разницу — благодаря двум другим функциям внутреннего органа (antahkarana): chitta и ahaükara. Значение manas Никхилананда объясняет в отдельном комментарии: «Это слово зачастую переводят как “разум” (mind), обозначая функцию внутреннего органа (antahkarana)» [Ibid.]. На наш взгляд, наиболее адекватным вариантом перевода санскритского термина buddhi выступает «интеллект». Поэтому замечание С. Шайера касательно перевода С. Ф. Михальски-Ивеньским санскритского термина buddhi выглядит вполне корректным. Терминологическую часть рецензии С. Шайер завершает важным выводом, который не утратил своей актуальности и сегодня: «Вопрос интерпретации индийских философских терминов очень непростой и требует глубокого понимания философии, не только индийской, но и европейской» [Schayer 1988: 35–36]. Свою мысль львовский исследователь подкрепляет ссылкой на известную работу петербургского буддолога Оттона Розенберга (1888–1919) «Проблемы буддийской философии» (Петроград, 1918. — С. 54 и 119). Обращение к «Проблемам буддийской философии» показало, что размышления российского буддолога действительно близки содержанию приведенной цитаты С. Шайера: «Необходимо признать, что некоторые термины имеют двоякий смысл в зависимости от того, употребляется ли этот термин в систематическом изложении схоластического трактата или в популярном толковании того или другого 86 учения Будды» [Розенберг 1991: 118]. Несмотря на то, что исследования О. Розенберга по буддийской тематике, высказанные размышления касаются и брахманической религиозно-философской мысли. В таком случае, кроме присущей санскритской терминологии полисемии, необходимо учитывать и функциональное назначение конкретного текста. Еще на один момент в рецензии хотелось бы обратить внимание. Уже в самом конце изложения С. Шайер подвергает критике позицию Михальски-Ивеньского в вопросе авторства «Атмабодхи». Если Михальски-Ивеньский разделял традиционную индийскую точку зрения, согласно которой автором текста был именно Шанкара, комментатор сутр Бадараяны, как и то, что выдающийся индийский философ был шиваитом, то Шайер склонялся к тому, чтобы автором «Атмабодхи» считать анонимного вишнуита, а не Шанкару [Schayer 1988: 36–37]. В подтверждение собственной позиции львовский индолог приводит примеры употребления в «Атмабодхе» эпитетов (имен) Вишну: собственно viùõu (строфа 8 и 52), hçùãkē÷a (строфа 9) и acyuta (строфа 34) [Schayer 1988: 36]. Если первые два слова действительно употребляются в тексте как имена Вишну, то acyuta — как характеристика Брахмана. Поэтому обращение к Вишну на самом деле ощутимо уступает общей адвайтистской окраске «Атмабодхи». Неубедительно выглядит и тезис С. Шайера о том, что атман и Брахман употребляются как прилагательные, неразлучные эпитеты Вишну: или в связи с четырьмя вышеупомянутыми строфами, или значительно шире [Ibid.]. Обращение С. Шайера к вопросу о конфессиональной принадлежности Шанкары, как нам кажется, может помочь понять и его мотивацию, которая послужила появлению этой, довольно подробной и критической рецензии. Оказывается, во вступительной части своего перевода «Дхаммапады» (Варшава, 1925) С. Ф. МихальскиИвеньский критически отнесся к высказанному С. Шайером в «Литературных ведомостях»18 сомнению относительно авторства Шанкары касательно «Атмабодхи». Как видим, оба индолога не только внимательно следили за публикациями друг друга, но и оперативно на них реагировали. Не исключено, что критические обзоры начал именно С. Шайер. Его краткая рецензия на переводы упанишад Ми18 См.: «Wiadomości Literackie». 1924. Nr. 2. 87 хальски-Ивеньского, хотя и не касалась самого перевода, а только предисловия к переводу и была издана не в востоковедном издании, содержала критические замечания. Скорее всего, Михальски-Ивеньский по-своему ответил Шайеру в предисловии к переведенной им «Дхаммападе». В результате появилась еще одна рецензия С. Шайера, но на этот раз очень подробная и изданная в профессиональном востоковедном журнале. Хотя львовский индолог и называет переводчика «Атмабодхи» «великим энтузиастом màyàvàda», содержание рецензии говорит о существенно повышенном внимании ее автора к рецензируемому переводу. Если высказанные им ранее критические замечания в адрес Михальски-Ивеньского носили преимущественно общемировоззренческий и общеиндологический характер, то теперь они стали предельно конкретны и приобрели подчеркнуто индологический и текстологический характер. Сомнению подверглось главное — профессиональный уровень переводчика и качество подготовленного им издания. Однако, как мы могли увидеть, далеко не все из критических замечаний С. Шайера были обоснованы. Чем можно объяснить слишком критическую (предвзятую?) реакцию С. Шайера на замечание С. Ф. Михальски-Ивеньского: состоянием индологического дискурса, личностными качествами, или какими-то другими факторами? Однозначно ответить сложно. Возможно, стоит обратить внимание не на одно, а на несколько объяснений. В любом случае, наличие рецензий, а тем более наличие дискуссии между учеными — важная составляющая научной жизни, которая указывает на ее активное состояние и зрелость. И рассмотренная нами вторая индологическая рецензия С. Шайера — яркий тому пример. ЛИТЕРАТУРА Исаева 1991 — Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. М.: Наука, 1991. Козицький 2010 — Козицький А. Львівські сходознавці першої третини ХХ століття // Вісник Львівськ. ун-ту. Львів, 2010. Сер. іст. Вип. 45. С. 389–410. Радхакришнан 1993 — Радхакришнан С. Индийская философия: в 2 т. Т. II. М.: Миф, 1993. Розенберг 1991 — Розенберг О. О. Труды по буддизму. М.: Наука, 1991. Романов 2009 — Романов В. Н. К жанровой эволюции брахманической прозы // Шатапатха брахмана: кн. І; Х (фрагмент) / перевод, вступ. статья и примеч. В. Н. Романова. М.: Восточная литература, 2009. С. 5–110. 88 Семенцов 1981 — Семенцов В. С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. М.: Наука, 1981. Сыркин 1965 — Сыркин А. Я. Атмабодха // Идеологические течения современной Индии. М.: Наука, 1965. С. 174–184. Сыркин 1971 — Сыркин А. Я. Некоторые проблемы изучения упанишад. М.: Наука, 1971. Шанкарачарья 1999 — Шри Шанкарачарья. Семь трактатов / пер. и предисл. А. Адамковой. СПб.: Общество «Адити», Общество Рамакришны, 1999. Шопенгауэр 1992 — Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / общ. ред., сост., вступ. ст. А. А. Гусейнова и А. П. Скрипника. М.: Республика, 1992. Шохин 2006 — Шохин В. К. Станислав Шайер о философии ньяи и вайшешики / отв. ред. В. Л. Васюков // Исследования аналитического наследия Львовско-Варшавской школы. СПб.: Міръ, 2006. Вып. І. С. 122–158. Dasgupta 1991 — Dasgupta S. A History of Indian Philosophy: In 5 vols. Vol. II. Delhi: Motilal Banarsidass, 1991 (1st ed. 1922). Deussen 1966 — Deussen P. The Philosophy of the Upanishads. New York: Dover Publications Inc., 1966 (1st ed. 1906). Edgerton 1929 — Edgerton F. What do They Seek, and Why? // Journal of the American Oriental Society. 1929. Vol. 49. P. 97–121. Edgerton 1965 — Edgerton F. The Beginnings of Indian Philosophy. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965. Advaita Vedànta up to øaïkara and His Pupils 1990 — Advaita Vedànta up to øaïkara and His Pupils // Encyclopedia of Indian Philosophies / ed. by K. H. Potter. Delhi: Motilal Banarsidass, 1990. Vol. V. SankarAcArya — SankarAcArya // [URL]: http://www.advaita-vedanta.org/avhp/sankara. html. øaïkaràchàrya 1947 — øaïkaràchàrya. âtmabodha (Self-Knowledge) / an English Trans. of øaïkaràchàrya’s âtmabodha with Notes, Comments, and Introduction by Swāmi Nikhilānanda. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1947. Schayer 1924 — Schayer S. [rec.] Na marginesie Upaniszad. Upaniszady. Czhandogja, Kena, Katha, Brihadaranjaka, Isa, Paramahansa, Kaiwalja, Nrisimha. Przełožył z sanskrytu Stanisław Fr. Michalski-Iwieński. Wydanie drugie, dopełnione i poprawione. Warszawa: Ulthima Thule, 1924. str. XV i 1 nl. i 119 i 1 nl // Wiadomości Literackie. 1924. Nr. 16. Schayer 1988 — Schayer S. O filozofowaniu Hindusόw. Artykuły wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył Marek Mejor. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukove, 1988. Schayer 1988а — Schayer S. O genezie monizmu Upaniszad z magicznego światopoglądu Atharwa-Wedy I Brahmanуw 1924 // Schayer S. O filozofowaniu Hindusόw. Artykuły wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył Marek Mejor. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukove, 1988. S. 3–12. Schayer 1988б — Schayer S. [rec.] S. F. Michalski-Iwieński: Ātmabodha, 1923 // Schayer S. O filozofowaniu Hindusόw. Artykuły wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył Marek Mejor. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukove, 1988б. S. 33–37. 89 A. Singh, C. D. Sebastian THE INITIATION OF THE CHINESE TO MĀDHYAMIKA BUDDHISM: A REVISITATION AND SOME OBJECTIONS One wonders as to what extent and in what manner did the fifth century Chinese Buddhists understand the Mādhyamika1 teaching that Kumārajīva introduced. Did Buddhism really Indianize China? There is a number of scholars who opine that there was an Indianization of China with the advent of Buddhism in that land. But one would contest this perspective. In this paper we propose/argue that there was no radical Indianiazation of China in the early centuries of our era when Buddhism reached there, but the Chinese took the Buddhist philosophy with its concepts and worldview, and made it more Chinese than Indian. It is a fact that there had been influences of foreign culture on Chinese culture. According to Tang Yijie there were three major phases of the influence of foreign culture on Chinese culture. He writes: «In the course the development of Chinese history, there were three major occasions when a foreign culture was introduced into China. 1) The introduction of Indian culture after the first century, A. D. The Indian culture that was introduced consisted principally of Indian Buddhism and influenced Chinese culture profoundly. 2) The introduction of Western civilization that began in the seventeenth century (the middle of the Ming dynasty 1 Mahāyāna Buddhism comprises mainly of two schools, namely, the Mādhyamika and the Yogаcаra-Vij$аnavаda. The name of the school of Nāgārjuna (p.150 AD) is Mādhyamika, meaning «follower of the madhyamâ pratipad, the Middle way or Path». There is little doubt that the term is taken from the first sermon of Buddha, where the Middle Path was preached. But the old meaning was transformed, and for Nāgārjuna it was the middle path between asserting the real existence of dharmas and denying them in the sense of negating a possible real. © A. Singh, C. D. Sebastian, 2013 90 period). This consisted principally of the efforts of Western missionaries such as Matteo Ricci to introduce Western civilization. 3) The introduction of Marxism after the May Fourth Movement» [Yijie 1991: 261]. One might disagree with these three phases, but the foreign influence cannot be ruled out altogether. Now let us have a look at the arrival of Buddhism in China 1. Buddhism, China and Kumаrajãva Buddhism entered China in the first century AD2, and the first translation of the Buddhist texts began in the second century. It was only in the beginning of the fourth century that Chinese literati began to convert to Buddhism [Zürcher 1959: 1–23]. Many Buddhist masters from Kashmir3 took a leading part in transmitting Buddhist literature, thought and traditions to China and Far East [Yun Hua 1961: 93]. We are in agreement with the scholarly estimation of David Chappell that there are three phases of Chinese Buddhism. The first phase constitutes of the Chinese translation4, study, and organization of major Buddhist texts. The second phase is of Kumārajīva’s Chinese translation of Indian (Mahāyāna) texts and the popularity of Buddhism among the aristocracy leading to a major research and study of Buddhism. The third phase is of the systematization of Chinese understanding of the Buddhism resulting in a variety of textual schools and systems [Chappell 1993: 177–184]. There were many great Buddhist scholars and monks from Kashmir who had done a great deal in the sowing of the Buddhist thought in China. According to Jan Yun Hua a monk called Chih-shan in Chinese and whose name could be restored in Sanskrit as Praj$а-kеña was the first Kashmiri Buddhist scholar monk who came to China sometime in 2 This is the most accepted view that Buddhism entered China in 25 AD in the late Han dynasty. 3 The geographical term «Kashmir» mentioned in the Chinese texts is varied. Scholars agree that the name of Ki-pin or Chi-pin mentioned in the pre-T’ang (before 618 AD) documents is broadly identified with the present day Kashmir [Bagchi 1946–1947: 42–53]. From the time of Hsuan-tsang, the Chinese scholars referred to Kashmir as Kia-shih-mi-lo. 4 When we speak of translations, it is noteworthy to pay attention the opinion of Tang Yijie where he speaks of two streams of Buddhism: «Towards the end of the Han Dynasty period and around the beginning of the Wei Dynasty period (220–265) numerous new translations of Buddhist scriptures of An Shigao, which taught Hinayana Buddhism and emphasized the method of meditation; another was the school of Zhi Loujiachen (Lokakṣemā), which taught Mahayana Buddhism and lectured on the Perfection of Wisdom philosophy» [Yijie 1991: 263]. 91 the first decade of the fourth century AD and returned to his country during the first year of Chien-wu era (317 AD)5. After Chih-shan there were other great Kashmiri Buddhists like Saьghabhеti, Gautama Saьghadeva, Dharmapriya, Saьgharakùa, Dharmayaчas, Puõyatаrа, Vimalаkщa, Buddhayaчas, Buddhajãva, Dharmamitra, Guõavarman (367–431AD), and so forth, who came to China [Yun Hua 1961: 93–94]. Among them Puõyatаrа, Dharmayaчas, Vimalаkщa, and Buddhayaчas were the closest associates of Kumаrajãva [Yun Hua 1961: 94]. Kumаrajãva (343/344–413 AD) introduced Nаgаrjuna and Mаdhyamika philosophy to China between 401–409 AD. Kumаrajãva was a Central Asian Buddhist monk, who traveled to China and introduced Nаgаrjuna to the Chinese. He was born at Kucha, a small early medieval state situated on the northern route of the Silk Road, where Buddhism was established at an early date under the influence of Kuщаõa dynasty [Keown 2003: 149]. Kucha was an important centre of Sarvаstivаda. Kumаrajãva’s father was an emigrant Indian aristocrat and his mother was a Kuchean princess. Kucha had Indian and Chinese spheres of influence [Robinson 1978: 71]. Kumаrajãva was one of the greatest translators of Chinese Buddhist texts. Kumаrajãva distinguished himself first in Sarvаstivаda and later in Mahаyаna studies. By 379 AD his fame had reached even to China, and the Emperor Fu Chien of Eastern Ch’in dynasty sent delegation to invite him to the court, which he accepted. At this time there was already a large quantity of Buddhist sacred literature in Chinese translation. A high point of this period was the translation of the Mаdhyamika treatises by Kumаrajãva (between 401–409)6. This was the 5 Jan Yun Hua translates from the 6th century AD text «Pi-ch’iu-ni chuan» («Biography of Bhikщuõis») by Pao-ch’ang: «Chih-shan was originally a resident of Chi-pin. He was kind and wise. He was a great Master in meditation ans recitation. During the later part of Yung-chia era (307–312 AD) of the Chin dynasty, he came to China. He maintained his life by begging (Piõóapаta in Skt.) and he always talked about the expansion of religion. At that time, the standard of attainment of people was still shallow, thus no one could appreciate him or learn from this Master. Therefore, he returned to his country during the first year of Chien-wu era (i. e. 317 AD). Later, when Fo-t’u-t’eng returned from West to China, he talked about the virtue and attainment of that Master, which made others regret…» [Yun Hua 1961: 95]. 6 Kumаrajãva translated a number of Praj$аpаramitа sūtras, like «Pa$cavimчatisаhasrikа», «Aщña-sаhasrikа», «Vajracchedikа». He also translated the important Mahayana sūtras like «Vimalakãrtinirdeчa» and «øеranga-samаdhi» which present Mаdhyamika philosophy. He also translated «Saddharma-puõóarãkа». He translated four of the main works of Nаgаrjuna, namely, «Mаdhyamika Kаrikа» with the commen- 92 first time the Chinese Buddhist thinkers got to know Mahаyаna Buddhist philosophy. Kumаrajãva’s main works were translations of Buddhist texts and he did not write independent treatises much. It is said that he wrote a text at the request of the Emperor Yao-shing titled «Shih-hsiang-lun» («The Treatise on the Real Nature of Things»), but it is not extant [Ramanan 2002: 15]. However, under his influence, Mаdhyamika philosophy came to be much studied, discussed and debated. He had some brilliant students and followers like Seng-chao (Sengzhao)7 and Chi-tsang8, to perpetuate his legacy. The Buddhist intellectuals of the fifth century were highly influenced by Mаdhyamika thought, especially in South China. It is to be mentioned here that «a great part of Indo-China knew no other form of Buddhism than the Mahаyаna» [Finot 1926: 673]. Having said that, let us go into the focal contention of this paper in the next part. 2. Indianization of China: an Appraisal There are a number of writers on Chinese Buddhism who take the stand that there was a great Indianization in China. According to this view, when Buddhism entered China, it came as something foreign that provided relief from the Chinese cultural crisis that prevailed during the decline and collapse of the Han dynasty. To some degree this new Buddhist world was made accessible by «being interpreted as a form of Taoism practiced in India» [Chappell 1993: 178] and in this sense Buddhism was seen as augmenting the Taoist pantheon. The fact that «Buddhism was foreign», was also «one of its attractions» [Ibid.] as its ideas and practices were different enough from those of Chinese society. E. Zürcher is a supporter of this position, and he wrote in this regard: «The view that Buddhism was accepted because it, in certain ways, accorded tary of Pingala, «Dvаdaчamukha-чаstra», «Daчabhеmi-vibhаща-чаstra» and «Mahаpraj$аpаramitа-чаstra» [Ramanan 2002: 14–16]. 7 Seng-chao or Sengzhao (384–414) was the first disciple of Kumаrajãva. He wrote treatises and his works are the only sources of early Chinese Mаdhyamika Buddhism. He was an ardent critic of early Chinese Buddhist schools advocating чеnyatа of even dharmas [Chan 1963: 343–344]. 8 Chi-tsang (549–623) is the most important Chinese Mаdhyamika teacher. He systematized the teachings of the San-lun («three treatises») school of Mahayana Buddhism, which is the Mаdhyamika school. He is even regarded as the founder of the school. See: [Chi-tsang 2009]. 93 with indigenous traditions must be rejected; Buddhism was attractive not because it sounded familiar, but because it was something basically new» [Zürcher 1991: 291]. Buddhism was «a distinctive alternative» to Taoism and Confucianism [Zürcher 1991: 291–293]. The Buddhist texts that dominated thoughts in the fourth century were Praj$аpаramitа literature («perfection of wisdom») which celebrated the idea of ÷ånyatà or emptiness. E. Zürcher proposes three reasons for the dominance of this particular thought. The first reason is the «obvious resemblance» between Buddhist theories of emptiness and the themes of hsüan-hsüeh. The second one is the «chaotic, diffuse and frequently cryptic way» of presenting the idea of emptiness in the Mahаyаna scriptures left room for Chinese thinkers to read their own meanings into the texts; and the third is that the early translations were often paraphrases that freely used traditional Chinese philosophical terms, prompting fourth century thinkers to correlate Indian and Chinese ideas [Zürcher 1959: 100–102]. The question here is whether Buddhism really did Indianize China. Hu Shih writes: «For two thousand years it (Buddhism. — A. S., C. S.) continued to be the greatest religion of China, continuing to Indianize Chinese life thought, and institutions <…> It continued to Indianize China long after it had ceased to be a vital and powerful religion in China» [Shih 1937: 222–223]. This claim stands contested. We, further, would challenge the claims of some of the recent Indian writers’ rhetoric that there had been a tremendous influence of Indian thought (that of both Buddhism and Hinduism) and institutions in China. One such author writes in this connection that India and China «have thousands of years of mutual contacts and cultural exchanges with the Vedic dharma and its off shoot Buddhism as common bonds» [Bhatt 2002: X–XI]. Further, the same author writes: «One may wonder if the origin of the idea of Tao were not the result of the influence of the Vedic idea of èta <…> So it may not be far from truth to say that the same “Hindu” culture in general and Buddha cult in particular which prevailed in India, also came to stay permanently in China» [Bhatt 2002: XII]. In such claims, one would contest whether Buddhism is an off-shoot of Vedic tradition. Buddhism and Jainism too often have been treated as dissent or reform movements in the history of that indefinable system of socio-religious organization which, in due course of time, became loosely known as «Hinduism», and of which, in an enigmatic manner, the Vedas still constitute a source of authority. However, there are a number of scholars 94 who are not prepared to accept Buddhism and Jainism as heterodox. They consider Buddhism and Jainism as the parts of an independent tradition of indigenous origin, which antedated the Vedic Brаhmaõic tradition, and was known as the øramaõa tradition. A noted scholar A. K. Narain writes in this connection that «it is an irony of Indian history that Buddhism and Jainism are regarded as heterodox against the heterogeneous Vedism — an “Indo-European” gift to South Asia — which is taken as orthodox. The øramaõa tradition ran counter, and sometimes even parallel, to the Brаhmaõa. It lay dormant and subdued for a period of almost one thousand years after its political and economic bases were destroyed by these incoming Indo-European speaking peoples, but survived in peripheral refuges of India, until it started reacting on the Vedic people and their culture» [Narain 2000: XXI]. Another scholar writes about Jainism: «It (Jainism. — A. S., C. S.) is an independent and most ancient religion of India» and «it is even older than the Vedic religion» [Mehta 1969: 5–6] and it is pre-Aryan or non-Aryan9. The Indus Valley civilization at Mohenjodaro and Harappa with its icons of nude figures depicting ascetics is «quite different from the Aryan culture»; and «iconism and nudity have been two chief characteristics of Jaina culture» [Mehta 1969: 6]. If one takes this position, then one has to call the indigenous traditions of India, namely, Buddhism and Jainism, as the original traditions of India. Thus, if there is a Buddhist influence at all in China, it is not the Vedic-Hindu influence, but that of a non-Vedic Buddhist interaction. Besides this, let us take into account the scholarly opinion of Suniti Kumar Chatterjee10 that the Mongol race (yellow coloured people from China and Tibet) came to India much before the invasion of the Aryans [Chatterjee 2006: 20–33] and the Aryans called them as Kirаta [Dinkar 2002: 7]. We would again propose that the Chinese did not subscribe to Buddhism in toto, but took whatever would fit into their way of thought. 9 «Jaina culture is identical with the pre-Vedic Dravidian culture <…> The Mohenjodaro people were Dravidian, their language was purely Dravidian language and their culture was also Dravidian» [Mehta 1969: 8]. 10 Dr. Suniti Kumar Chatterjee studied phonology, Indo-European Linguistics, Prakrit, Persian, old Irish, Gothic and other languages at the University London. He then went to Paris and did research at the Sorbonne in Indo-Aryan, Slav and Indo-European Linguistics, Greek and Latin. After returning to India in 1922, he joined the University of Calcutta as a professor. After retirement he was made Professor Emeritus and later in 1963, the National Professor of India. He caused a great uproar and controversy after declaring that Ramayana has its origin in Buddhist «Dasaratha Jаtaka» No. 461 in Asiatic Society in 1968. 95 Tang Yijie analyses three stages of in the introduction and development of Buddhism in Chinese culture. He writes: «Generally speaking, the introduction of Indian Buddhism involved the following stages: first, Buddhism attached itself to the native culture so that it could spread; secondly, certain contradictions and conflicts arose between Buddhism an traditional Chinese culture; finally, Buddhism was assimilated by Chinese culture and contributed on a large scale to the further development Chinese culture» [Yijie 1991: 262]. 2.1. Opposition to Indian Buddhism and Culture There is no doubt that in the second phase11 of Chinese Buddhism, Kumàrajãva’s translations played a major role, in contrast to the first phase in which it was interpreted from a Taoist frame of reference. There had been strong opposition to the move attempting to think purely within the Indian Buddhist language and concepts initiated by Kumаrajãva. There was also a controversy over it. Shih Seng-yu (445–518 AD) in his «Hung-ming chi» sheds light on this controversy: «… [Buddhist] teaching belongs to barbarian lands, and does not accord with our Chinese customs» [Bodde 1953: 285]. The Chinese people were not ready to accept the foreign Indian culture either. «As it spread broadly after the Eastern Dynasty, Indian Buddhism gave rise to contradictions and conflicts between the traditional Chinese culture and the imported Indian culture» [Yijie 1991: 265]. In the north there was persecution of Buddhism due to its foreign cultural moorings. «During this [the] period of Emperor Wu in the North Chou Dynasty ordered the persecution of Buddhism, not only for political and economic reasons, but also for cultural reasons. In this period the contradictions and conflicts between Buddhism and Taoism, which was the traditional religion of the Chinese people, also became acute» [Yijie 1991: 266]. Indian culture could not get rooted in Chinese ethos. «In the final analysis, Indian culture and native Chinese culture represent two distinct and different types of cultural traditions. Indian culture could not remain permanently attached to Chinese culture» [Yijie 1991: 265]. 11 The second phase we take here is that of the estimation of David Chappell we mentioned at the outset of section 1 in this paper. 96 2.2. Buddhism Sinised Buddhism got integrated to Chinese culture and ethos. When Buddhism was introduced to China from India, it attached itself to the native Chinese culture. Tang Yijie writes in this connection: «When Buddhism was introduced to China in the Han Dynasty period (206 BC– 220), it was attached to the native Chinese “techniques of the Way” or “Taoist techniques” (daoshu or fangshu). During the Wei and Jin Dynasties (220–419), when the metaphysical speculation of the “profound learning” (xuanxue) was popular, “Buddha” and Emperor “Huang and Lao Zi” were treated as similar entities. The Prince of Chu “read the sayings of Emperor Huang and Lao Zi ad honoured the Buddha’s temple (rensi)” (“Houhan shu”, chapter 42). Emperor Huan (reign years 147–167) also built shrines for Emperor Huang and Lao Zi as well as for the Buddha in his place (“Houhan”, chapter 30B, “Xiang Kai zhuan”)» [Yijie 1991: 262]. Buddhists made it adaptable to Chinese culture and called it after the model of Tao the ‘techniques of the Way’. In order to substantiate this position, Tang Yijie gives the following quote: «At that time even the Buddhists themselves called their teaching “techniques of the Way (daoshu)”. In the Essay, “On the Resolution of Puzzles” (“Lihuo lun”), Mou Zi treats Buddhism as one of the ninety-six types of techniques of the Way: “There are ninety-six different kinds of spiritual Ways (dao). If you look for the august and great, none surpasses the Way of the Buddha (fodao)”. In the “Scripture in Forty-Two Chapters” (“Sishi’ erzhangjing”), Buddhism is also called the Way of Buddha (fodao) by its Buddhists author» [Ibid.]. Buddhism got sinised (got into Chinese way of understanding) in due course, which was a necessity. Indianization did not take place in China. We quote the learned scholar Yijie again: «Indian Buddhism was gradually assimilated by Chinese culture after the Sui and Tang Dynasties. First Sinified Buddhist schools were established. By the Song Dynasty (960–1279) Buddhism had become a part of traditional Chinese culture and was completely blended into it — Buddhism evolved into Neo-Confucian Philosophy of Principle (lixue) of the Song and Ming Dynasties <…> Among the several schools of Buddhism that appeared during the Sui and Tang Dynasties, the Tiantai School, Huayan School, and Chan School were in fact Sinified schools of Buddhism. The central issues that these three schools concentrated on were the problem of the relationship between mind (xin) and human nature (or essence) (xing), 97 and the problem of the relationship between principle (li) and fact (shi). The problem of relationship between mind and human nature had always been an important issue in traditional Chinese philosophy, in which the discussion of this issue can be traced back to Confucius and especially to Mencius. When Mencius talked about “giving full realization to mind” (jinxin), “understanding his own nature” (zhixing), and “knowing heaven” (zhitian) side by side in one sentence, he was clearly touching upon the issue of the nature and mind» [Yijie 1991: 267]. 2.3. Chinese Domestication and Appropriation of Buddhism Tang Yijie, as we have seen above, making a thorough study of Chinese Buddhism, painstakingly proves that there was sinisation of Buddhism. Another scholar Arthur Wright offers a historical outline within which he traces the developing relationship between Buddhism and its Chinese host culture. There was an interaction between these two, where an initial period of «preparation» was followed by the Chinese «domestication» of Buddhism. Then there was a period of «acceptance and independent growth» which in turn gave way to a long era of «appropriation» in which Buddhist ideas became so securely got into Chinese thought and practice [Wright 1990: 1–33]. He writes: «At many other levels, domestication went forward under the southern dynasties. New genres of Sino-Buddhist literature emerged, new architectural and art forms fused the native and the foreign, new music and musical instruments developed under foreign inspiration, new theories and practices of medicine merged with Chinese medical traditions, Buddhist principles were reflected in modifications of the penal code <…> This brief survey suggests that domestication occurred at many levels in the south: at level of thought and philosophy, of religious belief and practices, of social values and behaviour, of state policy, and in other cultural spheres» [Wright 1990: 15]. The same domestication took place in north also [Wright 1990: 15– 20]. On the whole, the Chinese appropriated Buddhist elements and philosophy to Chinese culture [Wright 1990: 29–33]. It was a fact that «Buddhist ideas to be appropriated by the revived Confucian orthodoxy of the official class and for Buddhist elements at other cultural levels to be appropriated by indigenous traditions» [Wright 1990: 30]. Further, even «Buddhist words and phrases have long been appropriated as part of accepted Chinese vocabulary» and «Buddhist ideas linger on as part of the prevailing outlook on life» [Wright 1990: 31]. 98 2.4. Interpretation of Mahāyāna Tenets in Chinese Perspective We find there was a successful attempt to interpret the tenets of Mahаyаna in the light of Taoism. Lao Zi’s thought had permeated into Chinese ethos. When the interpretation of the praj$аpаramitа philosophical positions was made in China, the proponents chose to do it in the conception and language of the Tao way. Yijie writes: «The school of Zhi Loujiachen taught the Mahayana learning of the Perfection of Wisdom <…> Here we can see the influence of the Taoist thought of the “Lao Zi” and the “Zhuang Zi”. The second generation disciple of Zhi Loujiachen, Zhi Qian, translated the “Praj$аpаramitа sеtra” (“Perfection of Wisdom scripture”) into Chinese, giving its title as the “Scripture of Salvation into the Infinite Through Great Brightness” (“Daming du wuji jing”). The word praj$а in the title was here translated as “great brightness” (daming). The word “brightness” (ming) must have been taken in the sense of the statement “Knowledge of the constant is known as discernment” (or brightness, ming) in the “Lao Zi” (chapter 16). The word pаramitа was translated as “salvation into the infinite” (du wuji). This expression must similarly refer to the state of union with the “Way” (“Return to the Infinite”, “Lao Zi”, chapter 28)» [Yijie 1991: 263–264]. We find also the «Being and non-being» of Tao philosophy was used to bring home the meaning of чеnyatа notion of the Mаdhyamika. Rather, it is apt to say that the Chinese understood the conception of чеnyatа in the Tao way. Great Dao’an had recognized the popularity of Buddhism «depended on its being understood in the light of the thought of the “Lao Zi” and the “Zhuang Zi”» [Yijie 1991: 264] and not because of any other reason. To quote Yijie again: «During the Wei and the Jin Dynasties, the ontology of the “profound learning” metaphysics based on the Taoist thought in the “Lao Zi” and the “Zhuang Zi” was very popular. The central issue of “profound learning” metaphysics was the question of the relationship between the Root (ben) and the Branches (mo) and between Being (you) and Nonbeing (wu). The Central issue of the Buddhist teaching of the Perfection Wisdom (praj$а) was the question of the Emptiness (kong) and Existence (you, “Being”). Thus, Buddhist discussion was somewhat similar to that of the ‘profound learning’ metaphysics. It was for this reason that many Buddhists of that time used “profound learning” metaphysics to interpret Buddhist philosophy, even going so far as to use the so-called method of “matching concepts” (ge yi) and “linking similar 99 things” (lian lei) <…> In the beginning of Eastern Dynasty (317–419), the study of praj$а became extremely popular <…> The issue that they were interested in was essentially the question of relationship between the Root (ben) and the Branches (mo) and between Being (you) and Nonbeing (wu). What is called the “teaching of the Original Nonbeing” (benwu yi) inherited and developed further the teaching that “valued Nonbeing” (guiwu) taught by Wang Bi and He Yan; the “teaching of Annihilating Mind” (xinwu yi) was similar to Ji Kang and Ruan Ji’s idea of “No Mind” (wuxin); the “teaching of Matter As Such” (jise yi) is related to Guo Xiang’s thought of “Exalting Being”» (chongyou) [Yijie 1991: 264]. 3. Conclusion We have corroborated our view with the support of some of the renowned scholars’ estimation. A renowned scholar Paul Demieville opined that the Chinese «did not assimilate all in Buddhism that did not respond to the Chinese harmonics» [Demieville 1956: 36]. Undoubtedly, there must have been some influence of Indian Buddhism. But the Chinese formulated their own Buddhism. In this connection another celebrated scholar on Chinese Buddhism Walter Liebenthal wrote: «Under the impact of Indian Buddhism they (Chinese. — A. S., C. S.) were able to create a new religion, the theoretical aspect of which was fundamentally Chinese» [Liebenthal 1950: 244]. Whatever was Chinese in its ethos remained in China, and the others disappeared gradually. «In China, the Huayan School and Chan school have had the most influence on Chinese philosophy. This was because of they represented Sinified Buddhism. By contrast, the Faxiang school only lasted about thirty years, in spite of the fact that it was promoted by the famous Xuanzang. This was because of the Faxiang school was purely Indian Buddhism» [Yijie 1991: 268]. In order «to comprehend Chinese Buddhism we must understand it not just as Indian Buddhism in China but rather as a cultural amalgam, a synthesis of Indian thought and Sinic concepts and ideals» [Link 1957: 1]. It was not the transplantation of the Indian Buddhism in China, but Buddhism got incarnated in Chinese culture and ethos. It is to be noted here that «Chinese Buddhist schools and sects did not develop in the direction of forcefully adapting the spirit of social life in China to the demands of Indian culture; on the contrary, Buddhism developed in the direction of Sinification» [Yijie 1991: 272]. 100 We propose that Buddhism, Mаdhyamika in particular, did not get transplanted in China, but Buddhism got incarnated into Chinese culture and ethos, with distinct Chinese traits. It is assumed that the Buddhist initiators of Mаdhyamika thought in China were great assimilators and inventors, rather than trans-planters of the so-called pristine Indian originality. As Richard H. Robinson writes: «According to the evidence, the intellectual pathfinders of China in the fourth and fifth centuries <…> assimilated and invented» [Robinson 1978: 9] and there was no complete Indianization of China, philosophically and culturally. LITERATURE Bagchi 1946–1947 — Bagchi P. C. Kin-pin and Kashmir // Sino-Indian Studies. 1946–1947. Vol. II. P. 42–53. Bhatt 2002 — Bhatt S. R. Introduction // Buddha and the Spread of Buddhism in India and Abroad / compiled by M. P. Mittal. Delhi: Originals, 2002. P. v–xxvii. Bodde 1953 — Bodde D. A History of Chinese Philosophy: in 2 Vols. Princeton: Princeton University Press, 1953. Chappell 1993 — Chappell D. W. Hermeneutical Phases in Chinese Buddhism // Buddhist Hermeneutics / ed. by D. S. Lopez. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 1993. P. 175–206. Chan 1963 — Chan W. A Sources in Chinese Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1963. Chatterjee 2006 — Chatterjee S. K. Culture: A Fusion of Four Races // Culture India: Philosophy, Religion, Arts, Literature, Society / ed. by M. Kulasrestha. New Delhi: Lotus Press, 2006. P. 20–33. Chi-tsang 2009 — Chi-tsang // Encyclopædia Britannica Online. 16 Jul. 2009 // [URL]: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/110073/Chi-tsang. Demieville 1956 — Demieville P. La Pénétration du bouddhisme dans la tradition philosophique chinoise // Cahiers d’Histoire Mondiale. 1956. Vol. 3, No. 1. P. 1–38. Dinkar 2002 — Dinkar R. S. Sanskriti ke Char Adhyay (in Hindi). Allahabad: Lokbharti Prakashan, 2002. Finot 1926 — Finot L. Outlines of History of Buddhism in Indo-China // Indian Historical Quarterly. 1926. Vol. 2. P. 673–689. Keown 2003 — Keown D. Dictionary of Buddhism. Oxford: Oxford University Press, 2003. Liebenthal 1950 — Liebenthal W. Shih Hui-yüan’s Buddhism // Journal of the American Oriental Society, 1950. Vol. 70. P. 243–259. Link 1957 — Link A. E. Shyh-Daw-an’s Preface to Sangharakùa’s Yogàcàrabhåmi÷àstra // Journal of the American Oriental Society. 1957. Vol. 77. P. 1–14. Liu 1993 — Liu M. Chinese Madhyamaka Theory of Truth: the Case of Chi-Tsang // Philosophy East and West. 1993. Vol. 43, No. 4. P. 649–673. Mehta 1969 — Mehta M. L. Jaina Culture. Varanasi: P. V. Research Institute, 1969. Narain 2000 — Narain A. K. Studies in the History of Buddhism. Delhi: B. R. Publishing Corporation, 2000. 101 Ramanan 2002 — Ramanan V. K. Nàgàrjuna’s Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2002. Robinson 1978 — Robinson R. H. Early Màdhyamika in India and China. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1978. Shih 1937 — Shih H. The Indianization of China: a Case Study in Cultural Borrowing // Independence, Convergence and Borrowing: In Institutions, Thought and Art. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1937. P. 219–247. Wright 1990 — Wright A. F. Studies in Chinese Buddhism. New Haven; London: Yale University Press, 1990. Yijie 1991 — Yijie T. The Development of Chinese Culture: Some Comments in Light of the Study of the Introduction of Indian Buddhism into China // From Benaras to Beijing: Essays on Buddhism and Chinese Religion / ed. by K. Shinohara and G. Schopen. Oakville: Mosaic Press, 1991. P. 261–275. Yun Hua 1961 — Yun Hua J. Kashmir’s Contribution to the Expansion of Buddhism in the Far East // Indian Historical Quarterly. 1961. Vol. 37. P. 93–104. Zürcher 1959 — Zürcher E. The Buddhist Conquest of China: the Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China: in 2 Vols. Leiden: E. J. Brill, 1959 (Sinica Leidensia. No. 11). Zürcher 1991 — Zürcher E. A New Look at the Earliest Chinese Buddhist Texts // From Benaras to Beijing: Essays on Buddhism and Chinese Religion / ed. by K. Shinohara and G. Schopen. Oakville: Mosaic Press, 1991. P. 277–304. 102 Т. Г. Скороходова РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВА «БРАХМО САМАДЖ» И ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ БЕНГАЛЬСКОГО РЕНЕССАНСА Влияние личного религиозного опыта деятелей Бенгальского Ренессанса на их сознание и мышление, создаваемую ими философию и на практические социотворческие и культуротворческие начинания — тема, которую чаще всего (и незаслуженно!) обходят вниманием ученые, занимающиеся интеллектуальной историей Индии XIX–XX вв. Между тем в конкретных социокультурных ареалах религиозный опыт человека — переживания и состояния, связанные с исповеданием религии [Торчинов 2007: 29], — оказывает серьезнейшее влияние на формирование личности и мышления, и понять философские построения интеллектуала вряд ли возможно без исследования этого опыта. Бенгальский Ренессанс — эпоха национально-культурного возрождения в самой развитой провинции Британской Индии XIX — первой трети XX в., первый региональный вариант так называемого Индийского Ренессанса, в ходе которого новые интеллектуальные элиты осмысливали пути развития общества, создавали новую культуру и смысловой фундамент модернизации субконтинента [Kopf 1969; 1979; Poddar 1970; 1977; Sarkar 1970; Скороходова 2008]. Бенгальские мыслители от Раммохана Рая до Рабиндраната Тагора были творцами религиозно-гуманистической философии и инициаторами важнейших социальных преобразований, ориентированных на продвижение в обществе институтов современности (modernity). © Т. Г. Скороходова, 2013 103 Связь их религиозного опыта с философскими построениями не столь очевидна, как влияние присутствия Запада в Индии, но исследование его позволяет прояснить происхождение многих «сквозных идей» эпохи и углубить объяснение адогматического неортодоксального характера мысли Бенгальского Ренессанса указанием на его внутренние истоки. Наиболее известен и соответственно описан религиозный опыт философа-неоведантиста Свами Вивекананды — прежде всего благодаря тому, что он был самым одаренным учеником бенгальского проповедника Рамакришны Парамахамсы и, подобно своему учителю, испытал практику самадхи — экстатического состояния лицезрения Бога. Вивекананда был одним из духовных лидеров движения неоиндуизма, и наиболее полно обосновал знаменитое «единство в многообразии» как родной религии, так и всего субконтинента. Однако это более позднее направление мысли; исторически первым религиозно-реформаторским движением было движение «Брахмо самаджа» — общества, основанного в 1828 г. Раммоханом Раем (1772–1833), которого по праву считают родоначальником Бенгальского Ренессанса и «отцом современной Индии». Неоиндуизм нередко противопоставляют брахмоизму, подчеркивая рациональность и «западогенный» характер последнего. Так, в 1996 г. на мой вопрос о Раммохане Рае и «Брахмо самадже»1 глава Миссии Рамакришны Свами Джиотирупананда назвал его «скорее интеллектуальным, чем духовным», а Рамакришна и Вивекананда, по словам Свами, «возродили духовную религию, возродили те традиции, которые изменились или исчезли за последнее столетие», «основываясь на глубочайшем духовном опыте», т. е. на въдении Бога [Джиотирупананда 1997: 111]. Сейчас, после многолетнего изучения биографий и идей Раммохана Рая, Дебендронатха Тагора и Кешобчондро Сена, я могу говорить о серьезности и глубине религиозного опыта брахмоистов — на основе как косвенных свидетельств, так и их собственных описаний этого опыта. Наиболее интересен религиозный опыт трех лидеров «Брахмо самаджа» — Раммохана Рая, Дебендронатха Тагора и Кешобчондро Сена: воспитанные в традициях индуистской религиозности, они стали нелицеприятными критиками «родной религии» 1 В цитируемом издании этот вопрос передан некорректно. 104 и проповедниками принципиально иной ее версии, создателями специфического образа индуизма для себя, для других и для всего мира. Несмотря на адогматические установки, относительную религиозную свободу и чуткость индуизма к запросам аудитории [Канаева 2009: 396–397], именно брахмоистское вероучение и его лидеры подвергались ожесточенным нападкам со стороны ортодоксальных брахманских кругов и традиционалистов. Это объясняется выведением на первый план в брахмоизме религиозного опыта, о котором писал У. Джеймс: «По крайней мере, в одном отношении личная религия оказывается несомненно первичнее, чем богословие и церковь: всякая церковь, однажды учрежденная, живет после этого, опираясь на традицию; но “основатели” каждой церкви всегда черпали свою силу из непосредственно личного общения с Богом» [Джеймс 1993: 34]. Первичность личной религии по сравнению с теологическими построениями и институтами укоренена в религиозном опыте лидеров и отличает брахмоистов от ортодоксальных течений индуизма аналогично отличиям между бхактами и ортодоксами в Индии XIV–XVI вв. Так, Раммохан Рай в раннем трактате «Дар верующим в единого Бога» (1804) заявляет, что благодаря «врожденной способности» беспристрастно исследовать религиозные доктрины разных народов у личности есть надежда «отделить истину от неистинного и истинные положения от ошибочных, и что она, сделавшись свободной от бесполезных ограничений религий, которые нередко превращаются в источник предубеждений людей друг против друга и причину физических и духовных горестей, обратится к Единому Сущему, который есть источник гармонического устройства вселенной» [Рай 2010: 161]. Это не просто рациональное различение духа и буквы религии и указание на примат личной веры перед институциональными формами, но и свидетельство особого религиозного опыта автора трактата. Религиозный опыт, понимаемый как чувства, переживания и состояния, испытываемые в ходе религиозной практики (молитва, богослужение, медитация и др.) и вне ее, я предлагаю рассмотреть как процесс диалога с высшей Реальностью, в ходе которого она открывается душе верующего в природе, в культуре и в обществе — прежде всего в отношении к Другим (как единоверцам, так и иноверцам). Результатом этого опыта становится мышление/философствование о Боге, человеке, мире, обществе. 105 Первоначально религиозный опыт лидеров «Брахмо самаджа» в период их детства и взросления не отличался от опыта формирования отношения к высшей Реальности их бенгальских соотечественников. И Раммохан Рай, и Дебендронатх Тагор, и Кешобчондро Сен родились в семьях, принадлежавших к вишнуитской традиции, в которой были отчетливо выражены тенденция к монотеизму (Вишну — личное божество (в разных ипостасях), творец мира) и эмоционально-возвышенное поклонение Богу (бхакти). Детские годы Раммохана Рая в этом смысле очень показательны. Он был чрезвычайно набожен, так как сама атмосфера дома была полна религиозной экзальтации (ее очень поощряла мать, Тарини Деви), постоянно поддерживаемой скрупулезным исполнением всех ритуалов, регулярными богослужениями и пением нам-киртон (гимны, воспевающие имена божества). По данным С. Д. Коллет, мальчик Раммохан практиковал созерцание, тантрические упражнения, давал обеты молчания, не делал глотка воды без прочтения наизусть главы из «Бхагавата-пураны» [Collet 1962: 5], а также сосредоточивался на имени или атрибуте божества Кришны и повторял его до ощущения божественного присутствия. Вишнуитской изначально была семья Тагоров. Сын соратника Раммохана Рая Дароканатха Тагора Дебендронатх был воспитан бабушкой и матерью в атмосфере глубокой вишнуитской религиозности, о чем и говорил в «Автобиографии»: «…Постоянно слыша мантры, повторяемые при поклонении солнцу, я чувствовал, что они становятся мне очень близки» [Tagore 1909: 1]. Неколебимость религиозной веры бабушки, в которой «было некое свободомыслие, неотделимое от слепой веры в образы религии», всю жизнь оставалась образцом для Дебендронатха. В ортодоксальной вишнуитской семье деда Рамкомола Сена (стойкого оппонента реформаторской деятельности Раммохана Рая) вырос Кешобчондро Сен, который был воспитан как бхакта [Müller 1884: 51]. Из этого первичного детского опыта соприкосновения с сакральным миром вырастает стойкий интерес всех троих к вопросам духовной жизни, к соотношению веры и познания (credo и cogito). В этом плане важно замечание Е. Б. Рашковского: «опыт философствования и опыт веры — взаимодополнительны, взаимовоспроизводимы, хотя и небесконфликтны. Cogito и credo — почти что не могут не пересекаться друг с другом, но заменить друг друга — тоже не 106 могут. И тем более они заинтересованы друг в друге» [Рашковский 2008: 29–30]. В детстве преобладает вера, однако все семьи индусов высоких каст поощряют интеллектуальные занятия своих детей и стремятся дать им достойное образование, которое формирует их мировоззрение и склонность к познавательной деятельности. Традиционное санскритское образование рассчитано, помимо прочего, на освоение социорелигиозных ценностей и успешную интеграцию человека в общине согласно варново-джатному статусу. Но мыслители, о которых идет речь, жили в переломную эпоху колониального правления, и социально-экономическая, политическая и социокультурная ситуация требовала знания английского языка и знакомства с западной культурой. Освоение европейских ценностей и рациональных моделей мышления и познания сыграли немалую роль в теоретических построениях и практике брахмоистов. Однако это лишь одно из внешних условий их философствования, внутренним условием остается религиозный опыт, прошедший через испытание и осмысление. С наибольшей полнотой это испытание раннего опыта может быть описано на примере жизненного пути Раммохана Рая. В подростковом возрасте он получил традиционное исламское образование в Патне, где обрел первый непосредственный опыт созерцания и попытки понимания Другой религии; исламская духовность была более строгой, серьезной и возвышенной, нежели доходящее до фамильярности эмоциональное и ритуализованное почитание Кришны в родительском доме. Видимо, уже в это время в его душе было посеяно сомнение в истинности одного-единственного религиозного пути. Затем его мать настояла на отправке сына в священный город Бенарес (Варанаси), чтобы предотвратить его возможное обращение в ислам и укрепить в вере. До 18 лет Раммохан получал там санскритское образование и знакомился с философскими школами, пытаясь найти в них нечто похожее на исламское единобожие. У него появляются все возможности для сравнения вероучений индуизма и ислама. Дхирендронатх Чоудхури, специально изучавший религиозный опыт Раммохана, говорит о богатстве его интуиции, глубине эмоций и мощных мистических прозрениях, в том числе — и о предпочтении им практик суфизма вишнуитскому бхакти, которое тот оценивал как сентиментальное [Chowdhuri 1928; Роллан 1991: 64]. О влиянии суфизма на Раммо107 хана пишет и историк «Брахмо самаджа» Шибонатх Шастри: «На протяжении всей дальнейшей жизни Раммохан никогда полностью не отрешался от этих ранних магометанских влияний» [Sastri 1919: I, 17]. Биографы часто упоминают некий трактат Раммохана против идолопоклонства, написанный им в юности и ставший причиной его изгнания из дома; поскольку текст не сохранился, могу предположить, что его отождествляют с более поздним «Даром». Впоследствии к этому добавилось постижение учения Христа и попытка понимания христианства. Произошедшее в сознании Раммохана можно назвать термином Г. С. Померанца — «монотеистическая революция» [Померанц 2012: 271], но не в народе, не в обществе, а в конкретной личности, благодаря соединению первичного религиозного опыта с созерцанием другой веры и попыткой понимания. Впечатление от монотеизма было настолько глубоким, что в «Даре» Раммохан доказывает, что «Вера в одного всемогущего Бога является фундаментальным принципом любой религии» [Рай 2010: 167], — и это его первый философский трактат о рациональном предпочтении познающей веры вере нерассуждающей и слепой. Утверждение в начале трактата о том, что «общее обращение к Единому Вечному сущему является естественной склонностью человеческих существ», — это позиция человека, пережившего состояние присутствия Бога. Следствием личной «монотеистической революции» стали две другие особенности религиозного опыта — опыт свободы и опыт религиозного диалога. В традиционных индийских религиях высшей целью заявлено освобождение (мукти) от уз сансары (перерождений), а духовная революция Раммохана обернулась глубокой интуицией свободы как соотнесенности с Богом, с другими людьми и миром (что близко к «западогенным») представлениям о ней), и сообразно этому была продолжена в интуиции «свободы от…» жестких оков ритуала и институтов и «свободы для…» личного духовного, нравственного, культурного и социального роста человека и — шире — для развития общества. Отсюда проистекает неортодоксальное мышление и адогматическое философствование Раммохана (и впоследствии его духовных наследников), и свобода обращения со священным текстом и его истолкования, и свобода выбора веры, и свобода выбора жизненной позиции и социальной реформаторской активности. 108 Опыт диалога (и чаще — триалога) религий — индуизма, ислама, христианства, выстроенный в сознании, позволил Раммохану Раю найти в них общие и/или перекликающиеся смыслы и обогатить собственную традицию недостающими или неразработанными в ней темами, поставить новые вопросы перед единоверцами, ответы на которые откроют новые перспективы человеческого и культурного развития в модернизирующемся мире. Опыт диалога позволяет Раммохану сказать, что поклонение Богу проявляется не столько в том, чтобы «отвести зло от нас самих или от других, но и в том, чтобы сохранить для нас и для других добро; фактически — чего себе не желаем, того и другим не делать» [Roy 1982: I, 137] и проповедовать уважительное отношение единоверцев и разноверующих людей друг к другу. Религиозный опыт двух других мыслителей вырастает как личный духовный путь, но он отмечен существованием в культурном пространстве Бенгалии «Брахмо самаджа». Вдохновленный примером и личностью Раммохана Рая, прошедший собственный путь духовных исканий, Дебендронатх Тагор возродил в 1842 г. общество, почти не игравшее в 1830-е годы значимой роли в духовной жизни Калькутты. Кешобчондро Сен, испытавший серьезное влияние христианства (в англиканской и унитаристской версиях), прошел период духовных исканий и присоединился к «Брахмо самаджу» в поисках церкви, которая «точно соответствует внутреннему убеждению моего сердца, голосу Бога в душе» [Leaders of Brahmo Samaj 1926: 109–110]. Он стал лидером молодых брахмоистов, выстроил диалог с христианством и усилил социально-реформаторское влияние общества. Правда, Сен стал причиной двух расколов в Самадже [Рыбаков 1981; Kopf 1979: 259–281], но сейчас это лежит за пределами нашей темы. Специфический религиозный опыт Раммохана Рая и его духовных наследников-брахмоистов отличается произошедшей в их внутреннем мире «монотеистической революцией», открытием свободы и выстроенным в сознании диалогом религий. Отсюда происходит их духовная позиция, которую я условно обозначаю как «веруя, не могу не мыслить». Строгий монотеизм и высокое представление о Боге стимулируют проблемное рациональное мышление, основанное на различении должного (Истины) и сущего: так, Раммохан Рай говорит о Боге как о Творце и Истинном бытии [Roy 1977: 274], Дебендронатх — как о «Свидетеле всего, Истине, Му109 дрости и Бесконечности», «Владыке души и Господе сердца» [Tagore 1909: 159–162, 192], однако для них весь сотворенный сущий мир не является идентичным должному (Сат, Истина), как это было в традиционных философских школах2. Эта интуиция о несовпадении должного и сущего содержится у брахмоистов в указании на изменения мира и социума во времени. «Все сотворенные вещи преходящи, подвержены разрушению, изменениям и зависимы, — говорит Д. Тагор. — Одна только совершенная Мудрость, которая создала и ведет их, — вечна, неразрушима, неизменна и самодовлеюща» [Tagore 1909: 11]. Традиционные регрессивные циклические представления о мире и социуме благодаря новому пониманию Бога / Истины у брахмоистов замещаются идеей постепенного совершенствования сущего (прежде всего в мире социальном) благодаря ориентированности человека и социума на Истину. Вера брахмоистских лидеров неотделима от размышлений о Боге, отношении его к человеку и отношении человека к Богу. Отсюда развивается религиозная философия брахмоистов. В ее основе — выведенное на первый план (по сравнению с традиционными доктринами) представление о Боге-Творце, причине и создателе мира — реального, а не иллюзорного — которого чаще описывают апофатически, но познать которого можно по созданной им прекрасной вселенной [Roy 1977: 265–267]. Соответственно и человек — творение Бога, наделившего его душой, великим даром разума и верой, — так размышляет Р. Рай [Roy 1982: VI, 948], видящий предназначение человека в стремлении к истине, возвышении над биологическими сторонами своей природы, преодолении страдания и обретении счастья в земной жизни, совершенствовании собственной жизни и окружающего социального мира [Roy 1982: I, 185]. Продолжая эту идею Раммохана Рая, Д. Тагор говорит об установленном Творцом законе, которому подчиняется вселенная; все существующее в ней совершается по его воле [Tagore 1909: 11, 80–82]. У Дебендронатха Тагора и Кешобчондро Сена на первый план выходит трактовка взаимоотношения «отец — сын»: отец Небесный дает и жизнь, и душу, он защитник и податель блага, «судья нашей судьбы» — говорит Дебендронатх Тагор [Tagore 1909: 22–23]. Кешобчондро Сен Высшим выражением этого тождества должного и сущего я считаю адвайтистское представление Шанкары об иллюзорности всего сущего (майя) и истинности Брахмана. 2 110 трактует веру как «личное отношение», подобное отношению отца и сына, который отдает служению Богу всего себя [Keshub Chunder Sen 1938: 3, 6, 21]. Суть этого личного отношения такова же, как и суть Бога — любовь. В этом едины все три мыслителя, и у всех на первом плане — этический характер взаимоотношений Бога и человека. Так, у Раммохана Рая вера в Бога-Творца и любовь к нему должны вести к дружественному отношению к ближним, «милосердию, состраданию, деятельной любви к человеку, воздержанию от дурных поступков» [Roy 1982: I, 46, 53]. Лидеры «Брахмо самаджа», размышляя об отношении человека и Бога, расширяют традиционную тему отношения души (атмана) к Абсолюту (Брахману). У них рациональному анализу подвергается человек в его несводимости и целостности, учитываются его действия и природа, его взаимоотношения с миром, другим человеком, общиной, обществом. В итоге формируется религиозно-персоналистская философия, в которой человек больше не считается частью социально-статусного целого (религиозной общины), но имеет непреходящую значимость в обществе и мире в силу своей сотворенности и глубинной связи с Богом3. Персоналистское отношение «человек — Бог» принимается за должное, с которым соотносится сущая действительность и всегда присутствует в основных векторах проблемного философствования мыслителей «Брахмо самаджа». Более того, можно соотнести основные векторы этого философствования с особенностями религиозного опыта лидеров. «Монотеистическая революция» порождает религиозно-реформаторский вектор мышления брахмоистов. Основную проблему индуистской религиозной жизни для них составляет примат слепой веры, поддерживаемой ритуалом, над осознанной и осмысленной верой и размышлением о Боге, которые вытеснены и ограничены (в элитах) и забыты (в массе народа). Отсюда проистекает поиск оснований веры для соотечественников и попытки установления богослужения Брахмо. Так, Раммохан Рай упорно и последовательно отстаивает несовместимость веры в Бога-Творца и высокой этики с идолопоклонством и его ритуалами, вторичность формы религиозного служения по отношению к духовному опыту, а также смещает акцент с исполнения религиозного долга (кармы) на 3 Впоследствии на этой персонологической основе развивалась философия личности в творчестве Рабиндраната Тагора, воспитанного в брахмоистской среде. 111 усовершенствование личности. Основатель Самаджа заявляет, что обращение к Богу происходит через слух, мысль и «приближение»: «Слышать Бога означает слышать его веления, которые устанавливают (establish) его единство, мыслить о нем означает думать о содержании его закона, и пытаться приблизиться к нему означает попытаться обратить наши умы (apply our minds) к этому истинному Сущему», а также через следование нравственным принципам, прежде всего — совершение благих деяний [Roy 1977: 271]. Кешобчондро Сен говорит о том, что любовь человека к Богу должна быть интеллектуальной («любить Бога совершенно осмысленно, …из любви к истине») [Keshub Chunder Sen 1938: 141], практической (содействие благосостоянию других людей и социальное служение), преданной и эмоциональной (гимны и молитвы, идущие от сердца, а не «холодный ритуализм») [Keshub Chunder Sen 1938: 142–146]. Открытие свободы очевидно в развертывании гуманистического вектора философствования вокруг проблемы отношения к Другому. Из религиозного отношения «Я — Ты» (Человек — Бог) происходит открытие собственной личности как Другого и открытие «другости» ближнего и дальнего. Отсюда выводится должное отношение к другому человеку как божественному творению, равному и достойному, требующему сочувствия и понимания. Для иерархически организованного и закрытого традиционного общества, в котором признан (но не понят) только свой-Другой [Halbfass 1988: 178–179, 187], это был настоящий прорыв. Соответственно поднимаются острые, связанные друг с другом проблемы свободы, страдания и счастья человека. Раммохан Рай первым поставил вопрос о свободе, размышляя о разнообразных формах, ограничивающих социальные и религиозные, экономические и политические, культурные и образовательные возможности соотечественников и не позволяющих преодолеть состояние упадка по сравнению с динамически развивающимся Западом. Кешобчондро Сен трактует свободу как соотнесенность с Абсолютом, принятие добра и праведности, и на этом фоне первостепенной оказывается негативная свобода — от зла, власти мира, привязанности к результатам труда, от ошибок, греха, социальной и религиозной тирании, от застывших догм [Keshub Chunder Sen 1938: 289]. Размышление о свободе в духе соотнесенности с Богом и другим человеком немедленно приводит к рассмотрению реально112 го состояния, в котором человек страдает от всевозможных внешних ограничений, а общество считает это страдание нормой. Поэтому в брахмоистской мысли столь рельефно выражена тема социального и личного сострадания человеку. У Раммохана Рая — к вдове, идущей на погребальный костер мужа, и к крестьянину, живущему впроголодь под гнетом помещика и чиновника, у Кешобчондро Сена — к жертвам кастовой системы и женщинам, не имеющим доступа к образованию. Если для обоих мыслителей решающим в преодолении страдания и расширении пространства внешней свободы выступают социальные реформы, то Дебендронатх Тагор предлагает преодолеть страдание через индивидуальное следование духовному пути добродетели и отречение от мирских соблазнов, а обретение счастья видеть в преданности Богу [Tagore 1909: 6–7]. Преодоление социального равнодушия, ксенофобии, предрассудков и нетерпимости брахмоисты не только проповедуют, но и демонстрируют личным примером. Диалог религий в сознании, включающий не только сопоставление вероисповедных ценностей, но и их проекций в социальную жизнь, актуализировал диалогическое проблемное мышление, которое было характерно для традиционной индийской философии, а сама идея диалога из религиозной сферы была перенесена в сферу мышления о личности и обществе. Отсюда — социальный вектор философствования, который внешне был задан мощным влиянием европейской философии, но внутренним его основанием была персоналистская идея достоинства и равенства предстоящих пред Богом людей. Последняя не вписывалась в традиционное брахманическое представление о социальном порядке варн и джати и жестком аскриптивном статусе человека и массе ограничений и правил. Ограничения, запреты, обычаи, ритуальные практики и суеверия были впервые оценены как социальное зло, которое требует преодоления, так как самым пагубным образом сказывается на состоянии общества. Постановка проблемы социального зла как проявления деградации общества и утраты нравственных ценностей и религиозных ориентиров была осуществлена Раммоханом Раем в контексте сопоставления развития Индии с развитием Европы и поиска путей синтеза лучших сторон индийской культуры с достижениями западного общества. Связав социальные пороки с упадком подлинного духа религии и господством внешних форм, убивающих этическое 113 содержание жизни, Раммохан развернул социально-реформаторские кампании за запрет сати и развитие современного западного образования, борьбу за права женщин и свободу выражения мнений. В этом русле действовали большинство реформаторов-брахмоистов — Ишшорчондро Биддешагор (борьба за вторичное замужество вдов, против детских браков и полигамии), Кешобчондро Сен (за межкастовые браки, всеобщее образование и против кастовой системы), Шибонатх Шастри (социальное раскрепощение неприкасаемых, борьба против затворничества женщин), которые вместе с реформаторской практикой предлагали социально-философское обоснование изменений. В сердцевине социально-философского мышления и следовавшей из него реформаторской практики заложен диалог с оппонентом, независимо от того, кем этот оппонент был — ортодоксом-индуистом, британским чиновником или сторонником традиционализма. Отстаивание собственной точки зрения в проблемном диалоге ведется с замечательной корректностью и выдержкой (Р. Рай), с искренним стремлением убедить оппонента изменить свое отношение к проблеме, т. е. ориентацией на его внутреннюю духовную трансформацию, а не принудительное навязывание своей позиции как единственно верной (Д. Тагор, К. Сен). Из этого диалогического размышления об общественных вопросах выросла реалистическая трактовка социального развития как постепенных позитивных изменений в сознании людей и их общественных взаимоотношениях. Решающим условием развития брахмоисты считают просвещение, содействующее изменению сознания народа. Так, Кешобчондро Сен говорит об образовании как лучшем средстве обеспечить интересы нации. Оно не только формирует и совершенствует интеллект, но и «очищает ее характер, позволяет устранить множество социальных пороков и не только интеллектуально развиваться, но и одновременно продвигаться по пути социальной, политической и материальной реформации» [Keshub Chunder Sen 1938: 201]. Впоследствии развернутое представление о социальном развитии предложил брахмоист Рабиндранат Тагор [Скороходова 2012]. Диалогическое мышление спроецировалось и в сферу политической мысли, решающей вопросы роли британского правления в судьбе Индии и возможности самостоятельного управления страной в условиях современности. Позиция достойного диалога и вза114 имодействия с властью для отстаивания интересов местного населения, занятая Раммоханом Раем, вместе с устойчивой традицией критики мероприятий правительства и попытками инициировать реализацию его декларативных идей легла в основание политической философии в Бенгалии XIX в. и сформировала конституционно-правовую практику действия партии Индийский национальный конгресс. Показательно, что у ее истоков стояли многие брахмоисты, в их числе — выдающийся политик Сурендронатх Банерджи. Эти три условных вектора — не единственные направления мысли; к ним можно добавить культурный, историософский, правовой, экономический и другие векторы; но эти три наиболее рельефно демонстрируют творческое воздействие нетривиального религиозного опыта на становление и развитие индийской философии Нового времени. Начиная с Раммохана Рая, брахмоисты формируют влиятельное направление мышления, основанное на приоритете этического монотеизма в религиозной философии, религиозном персонализме в гуманистическом философствовании и либерализме, исходящем из императива понимания Другого в общественной мысли. Открытие духовной силы монотеизма побудило лидеров «Брахмо самаджа» взять на себя почти невыполнимую в традиционном обществе Индийского субконтинента миссию свидетельствования об Истине и духовном содержании веры, почти исчезающих под спудом ритуалов, обычаев и предрассудков народной религии. Вовлечение в орбиту влияния все большего круга интеллектуалов Бенгалии и других индийских регионов создавало традицию адогматического мышления о духовной жизни общества. Открытие свободы — особенно свободы понимания инорелигиозных традиций христианства и ислама — сняло внутренние и внешние социальные барьеры, удерживавшие мышление о мире, человеке и обществе в рамках традиции и не позволявшие претендовать на собственное истолкование реальности тем, кому это не предписано джати-дхармой. Диалог с Истиной и духовными смыслами собственной веры, с одной стороны, вывел для брахмоистов на первый план высшие достижения индийской духовной традиции и культуры, с другой же — открыл сознание восприятию огромных пластов знания, приходящего из внешнего мира, прежде всего, с Запада. Глубинный религиозный опыт Раммохана Рая, Дебендронатха Тагора и Кешобчондро Сена, став импульсом философского мыш115 ления, пробудил в них нравственную ответственность за состояние общества. Этой ответственностью вместе с невозможностью мириться с наличной ситуацией пронизаны их труды, размышления и выступления. Общий смысл всех их философских построений можно свести к попыткам пробудить стремление соотечественников к Истине, вернуть человечность во взаимоотношения людей и вывести их на путь достойного развития. Этот смысл стал основой развития социальных, религиозных, политических и культуротворческих процессов Бенгальского Ренессанса. ЛИТЕРАТУРА Джеймс 1993 — Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. Джиотирупананда 1997 — Джиотирупананда Свами. Жизнь по Веданте. Лекции, прочитанные в г. Пензе 19–27 мая 1996 г. Миасс, 1997. Канаева 2009 — Канаeва Н. А. Индуизм // Индийская философия: энциклопедия / под ред. М. Т. Степанянц. М., 2009. С. 393–408. Померанц 2012 — Померанц Г. С. Записки гадкого утенка. М.; СПб., 2012. Рай 2010 — Рай Раммохан. Дар верующим в единого Бога / пер. с англ., примеч. Т. Г. Скороходовой // Вопросы философии. 2010. № 11. С. 159–168. Рашковский 2008 — Рашковский Е. Б. Смыслы в истории: исследования по истории веры, познания, культуры. М., 2008. Роллан 1991 — Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. М., 1991. Рыбаков 1981 — Рыбаков Р. Б. Буржуазная реформация индуизма. М., 1981. Скороходова 2008 — Скороходова Т. Г. Бенгальское Возрождение: очерки истории социокультурного синтеза в индийской философской мысли Нового времени. СПб., 2008. Скороходова 2012 — Скороходова Т. Г. Реализм versus утопизм: социально-философские размышления Рабиндраната Тагора и Семена Франка // Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 2 (8). С. 92–102. Торчинов 2007 — Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. 4-е изд. СПб., 2007. Chowdhuri 1928 — Chowdhuri D. Ram Mohun Roy. The Devotee // Modern Review. October, 1928. Collet 1962 — Collet S. D. The Life and Letters of Raja Rammohun Roy: 3rd ed. / ed. by D. K. Biswas and R. Ch. Ganguli. Calcutta, 1962. Halbfass 1988 — Halbfass W. India and Europe: an Essay of Philosophical Understanding. Albany, 1988. Keshub Chunder Sen 1938 — Keshub Chunder Sen in England. Calcutta: Navavidhan Publications Committee, 1938. Kopf 1969 — Kopf D. British Orientalism and Bengal Renaissance. Berkeley, 1969. Kopf 1979 — Kopf D. Brahmo Samaj and Making of Modern Indian Mind. Princeton, 1979. Leaders of Brahmo Samaj 1926 — Leaders of Brahmo Samaj. Record of Lives and Achievements of 7 Pioneers of the Brahmo Movement. Madras, 1926. 116 Müller 1884 — Müller F. M. Biographical Essays. London, 1884. Poddar 1970 — Poddar A. Renaissance in Bengal. Quests and Confrontations. 1800–1860. Simla, 1970. Poddar 1977 — Poddar A. Renaissance in Bengal. Search for Identity. 1860–1919. Simla, 1977. Roy 1977 — Roy R. R. Selected Works. New Delhi, 1977. Roy 1982 — Roy R. R. The English Works: in 4 vols / ed. by J. C. Ghose. New Delhi, 1982. Sarkar 1970 — Sarkar S. Bengal Renaissance and Other Essays. New Delhi, 1970. Sastri 1912–1919 — Sastri S. The History Brahmo Samaj: in 2 vols. Calcutta, 1912–1919. Tagore 1909 — Tagore D. The Autobiography / transl. from Bengali by S. Tagore and I. Devi. Calcutta, 1909. 117 Н. В. Казурова КИНЕМАТОГРАФ КАК ИНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПАНСИИ ИРАНА В СТРАНАХ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА Сегодня киноиндустрия Исламской республики Иран (ИРИ) выступает как активный и деятельный участник формирования общего пространства культурной коммуникации между народами Ближнего Востока и Центральной Азии. Если обратиться к начальному периоду сложения кинематографа как к части истории страны, то известно, что в шахский период внешняя политика государства была ориентирована прежде всего на Запад. Резкое изменение взаимоотношений между иранцами и мусульманами на Ближнем Востоке и за его пределами произошло после Исламской революции 1978–1979 гг. Большинством мусульман победа революции была воспринята как потенциальная возможность выстраивания диалога между суннитами и шиитами. «Две крупнейшие противоборствующие группы мусульман видели в восхождении Хомейни мусульманское политическое и просветительское возрождение, однако дружественные отношения носили временный характер. Короткий период мирных взаимоотношений между двумя толками ислама был прерван ирано-иракской войной 1980–1988 гг. и новым этапом переосмысления арабо-иранских отношений с позиций этнической принадлежности. Таким образом, возможность солидарности между суннитами и шиитами была упущена» [Nyang 2003: 53–54]. За событиями ирано-иракской войны и попытками воплотить идею экспорта Исламской революции в Ирак, а затем и в остальной мусульманский мир последовало охлаждение в отношениях Ирана со многими странами, в которых исповедуют ислам [Кепель 2004]. © Н. В. Казурова, 2013 118 Тем не менее сегодня иранская внешняя политика по-прежнему обращена к мусульманскому Востоку и нацелена на усиление политического, экономического, религиозного и культурного влияния в государствах ислама. Как часть этого процесса иранская религиозная элита стремится распространить влияние на шиитское население, проживающее за пределами страны. «Представляя Иран в качестве главного шиитского центра обучения и традиции, а также вкладывая значительные суммы в финансирование религиозных общин за границей и на поддержание шиитских святынь в Куме и Мешхеде, руководство Исламской республики пытается представить Иран в качестве “Ватикана шиизма” в шиитском мире» [Shaery-Eisenlohr 2007: 20]. Помимо идеологических аспектов, экспансивные настроения Ирана имеют и иную мотивацию. Так, стране нужны экономические рынки Центральной Азии, особенно территории бывшего советского пространства, за которые он давно исподволь ведет борьбу. И нужно сказать, что Тегеран сумел добиться значительных успехов в этом направлении. Иран заключает соглашения и договоренности о сотрудничестве в самых различных сферах [Лукоянов 2010: 279–281]. ИРИ оживленно поддерживает культурный обмен, апеллирует в своей пропаганде к общим для Ирана и стран Средней Азии памятникам древности и пр. Важнейшим инструментом этой политики стало предоставление новым государствам региона помощи в развитии их национального телевидения, что автоматически расширяет зрительскую аудиторию иранских СМИ. Как отмечают наблюдатели, специфика предлагаемых трансляций состоит в том, что «Иран снабжает соседние страны в основном телесериалами, и в меньшей степени — программами религиозной тематики, которыми изобилует собственно иранское телевидение» [Широкорад 2010: 344]. Таким образом, в борьбе за политическое, экономическое, культурное и религиозное влияние на мусульманском Востоке Иран широко использует возможности кинематографа и СМИ. Значимое событие в этой сфере — главный для Исламской республики Международный кинофестиваль «Фаджр» в Тегеране. Кинофестиваль включает секции для иностранных гостей фестиваля — «Интернациональное кино», «Азиатское кино», «Фильмы-гости» и др. Исследователи начала 2000-х годов указывали на проблемы иранской киноиндустрии, связанные с «относительным малокартиньем» 119 [Ghazian 2002: 77–86]. За последние годы кинематограф страны стремительно расширился и, естественно, ищет новые рынки сбыта своей продукции. При этом интересы прокатчиков к выгодной для них культурной гегемонии смыкаются с политическими амбициями правительства, стремящегося воздействовать — на политическом и экономическом уровнях — на мусульманские страны. Однако на Востоке у иранской киноиндустрии есть серьезные соперники — индийское1 и арабское кино. Национальные кинематографии арабских стран, особенно Египта, прицельно ориентированы не просто на мусульманского, но и на арабского зрителя. Для иранского телевидения и кинематографа приоритетным направлением остается Центральная Азия с ее традиционно наиболее близкой культурой. «На протяжении 1980–1990-х годов иранские лидеры вели интенсивные поиски путей модернизации своего общества и места страны в окружающем его регионе. Они опирались не только на ценности ислама, но, в большой степени, на истоки национальной культуры, ее позитивные гуманистические традиции, укорененные в культурной памяти соседних народов» [Кляшторина 2001: 315]. На экспорт в страны мусульманского Востока, таким образом, Иран продвигает, в основном, популярные фильмы и сериалы. Сняты они с учетом строгой цензуры Министерства культуры и исламской ориентации, поэтому соответствуют прежде всего иранскому пониманию исламских ценностей и норм поведения; содержание фильмов имеет сугубо этнокультурную подоплеку. Так, чтобы растрогать аудиторию или внести в фильм тон печали, грусти или настоящей трагедии семейного или национального масштаба, иранским режиссерам достаточно упоминания об ирано-иракской войне. Авторы вводят в фильмы атрибуты, в повседневной жизни неразрывно связанные с памятью о войне и прославлением шахидов. Иранский зритель рефлекторно узнает даже тончайшие намеки на события этой национальной трагедии: для него такие аудиовизуальные образы выступают неотъемлемой составляющей коллективной памяти, поэтому реакция на узнавание мгновенная. Не удивительно, что 1 Индийский Болливуд производит до восьмисот кинофильмов в год (столько же, сколько Голливуд). Эти фильмы конкурируют с голливудской продукцией не только на киноэкранах азиатских и африканских стран (здесь они победили): более 50% выручки от проданных билетов болливудские производители собирают в странах Запада [Малахов 2007: 215]. 120 тема ирано-иракской войны и культа мученичества пронизывает многие фильмы популярного и авторского иранского кинематографа [Partovi 2008: 513–532; Казурова 2012: 28–44]. Отдельные иранские сериалы и фильмы мейнстрима получают широкое признание среди зрителей-мусульман. Например, на Национальном дагестанском телеканале с успехом прошел популярный иранский сериал «Пророк Юсуф» (2010). Однако интерес восточного зрителя поддерживается, только пока он узнает себя в образе иранца, чувствуя общность принадлежности к исламской традиции, но как только аудитория перестает считывать культурные коды страны — интерес пропадает. Национальная сериальная продукция всегда побеждает иностранную, так как имеет дело с глубоко укорененными в сознании массового зрителя этническими и национальными стереотипами. Исключение составляют, пожалуй, только американские сериалы, которые добиваются транснационального успеха за счет создания образов «среднестатистического западного человека», действующего зачастую вне контекста реальной национальной американской истории. Итак, мейнстриму Ирана пока не удается перейти в статус транснационального кинематографа международного уровня. Иранские популярные фильмы рассчитаны в первую очередь на отечественного зрителя. Сегодня они интересны, в основном, иранцам, проживающим внутри страны и за ее пределами, и зрителям некоторых восточных стран. Тем не менее роль кинематографа как важного инструмента в идеологической и политической борьбе между странами Востока и Запада можно продемонстрировать на примере афганского компонента работ иранских режиссеров авторского кино. Видеоматериалы иранского происхождения об Афганистане наглядно показывают процесс синкретизации элементов национальных культур различных стран в визуальном ряде и тематике кинокартин, включая мужской и женский костюм, атрибуты быта и многие другие элементы. Сегодня афганская проблематика прочно вошла в авторский иранский кинематограф и оказывает существенное влияние на его эстетическую и тематическую составляющие. Иранские фильмы об Афганистане можно разделить на две группы. Первая представлена кинолентами об афганцах, снятыми в Исламской республике Афганистан (ИРА) и на приграничных территориях Ирана. Режиссеры 121 этих кинокартин призывают мировую общественность обратить внимание на бедственное положение афганского народа. Зачастую именно благодаря иранским фильмам иностранцы узнают о нравах и обычаях афганцев в условиях политического диктата режима Талибан, равно как и после его падения. Однако оценка жизни афганского общества в этих фильмах представлена на основе политических, культурных и социально-экономических реалий ИРИ. Вторая группа фильмов рассказывает об афганских беженцах, проживающих на территории Исламской республики Иран. Такие ленты обращают особое внимание на проблемы этноконфессионального и социально-экономического характера, возникающие между гражданами государства и афганскими эмигрантами. «Босиком до Герата» (2004) М. Маджиди — яркий пример иранской кинокартины об Афганистане гуманистической направленности. Фильм был снят в течение двух поездок на северо-запад и югозапад Афганистана. В свой первый приезд режиссер посетил два лагеря беженцев. Первый находился на контролируемой режимом Талибан территории, а второй, небольшой лагерь, расположился на территории Северного Альянса. Эта поездка состоялась сразу после начала операции США и их союзников против режима Талибан, поэтому М. Маджиди мог наблюдать, как люди спасались бегством из атакованных с воздуха городов и деревень. Вторая поездка была совершена режиссером и его съемочной группой уже в свободный от талибов город Герат и в Маслах —самый большой в мире лагерь для беженцев. В нем проживает более 150 тыс. лишившихся дома афганцев. Собственно, фильм и начинается с призыва М. Маджиди обратить внимание на бедственное положение афганцев. Из афганских городов влияние и присутствие Ирана заметнее всего в Герате, вблизи которого стоят войска Иранской революционной гвардии [Milani 2006: 252–253]. Сегодня относительно свободный от аль-Каиды и режима Талибан Герат, вероятно, представляет наиболее стабильную и развивающуюся столицу одной из провинций страны. На рынках города доминируют товары из ИРИ. По примерным подсчетам около 100–400 грузовиков и, по меньшей мере, 500 легковых автомобилей ежедневно пересекают иранскую границу, перевозя из Ирана различные товары в Афганистан и Пакистан. Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке не только нашел большой отклик в западных СМИ, но и повлек за со122 бой череду фильмов этнополитического содержания документального и художественного кинематографа [Markert 2011]. Например, альманах «11 сентября» (2002), состоящий из короткометражных работ режиссеров нескольких стран мира на тему теракта, включает короткометражку Самиры Махмальбаф «Бог, создание и разрушение». После трагедии 11 сентября в мире произошел всплеск интереса к Афганистану, в том числе и к ранее снятым фильмам. Это в особенности коснулось кинокартины М. Махмальбафа «Кандагар» (2001), снятого накануне 11 сентября на территории Ирана в лагере беженцев, находящегося в двух километрах от ирано-афганской границы. Сентябрьские события позволили широкой общественности и специалистам в разных областях, включая антропологов, переосмыслить тематику, по-новому оценить визуальный ряд фильма и сформулировать новые трактовки его содержания. Киноведы стали рассматривать «Кандагар» не просто как фильм-репортаж, но отнесли его к жанру «фольклорного художественного путешествия» [Mosley 2004: 180]. Вышеприведенное название — «фольклорное путешествие» — определено, в частности, многообразием этнического и конфессионального состава Афганистана. «Главные племенные союзы страны представлены конфедерацией пуштунов. Вторая по численности этническая группа, таджики, включает персоязычных шиитов фарсиванов, третья — хазарейцы, ираноязычные шииты монгольского происхождения, четвертая — тюркоязычные узбеки, исповедующие ислам суннитского толка» [Tarock 1999: 818]. Несмотря на яркую полиэтничность страны, М. Махмальбаф выбрал героями своего рассказа афганцев-хазарейцев. Это ограничение было вызвано строгим трайбализмом в среде проживающих в лагере афганских беженцев, что делало невозможным свободное общение между представителями различных этносов выбранной режиссером для показа приграничной территории. Огромную трудность для режиссера вызвало практически полное непонимание массовкой и второстепенных действующих лиц самой сущности кинематографа. С одной стороны, отсутствие визуальной аккультурации среди афганцев можно объяснить условиями изоляторской природы их аграрного и кочевого образа жизни. С другой — как следствие политики режима Талибан, исключившего 123 все виды культурной деятельности как противоречащие принятой талибами строгой интерпретации норм ислама. Поэтому, если городское население Афганистана некогда и было знакомо с кинематографом, главным образом индийскими фильмами и афганскими имитациями индийского кино, то при талибах афганцы были лишены и этого [Mosley 2004: 181–182]. Режим запретил кинематограф, телевидение, фото, изобразительное искусство, пение, танцы и игру на музыкальных инструментах; были разрешены только двухчасовые радиопрограммы пропагандистского содержания. Среди историков иранского кинематографа реакция на «Кандагар» была противоречива. Некоторые исследователи обвиняют режиссера в том, что фильм показывает Афганистан как территорию, на которой Иран может «предаться имперской ностальгии»; а статус женщины, правила соблюдения хиджаба, отношение к радикальному исламу показаны в рамках иранского мировосприятия действительности. Ряд критиков саркастически замечают, что «большинство афганцев в кинокартине представлены одной этнической группой — хазарейцами, которых роднит с иранцами языковая и религиозная принадлежность (ираноязычные шииты). По сути, они образуют самую близкую к иранцам этническую группу Афганистана, а в самом Иране выступают их тенями-двойниками» [Graham 2010: 64]. Рассмотрение фильма как проявления имперского господства Ирана над Афганистаном, с нашей точки зрения, чрезмерно. Например, присутствие в киноленте хазарейцев можно объяснить производственной необходимостью: выбор хазарейцев как главных действующих лиц был наиболее целесообразным, поскольку создавал меньше сложностей для съемочной группы. В иранских фильмах об Афганистане — «Кандагар» и «Афганский алфавит» (2002) М. Махмальбафа, «В пять часов пополудни» (2003) С. Махмальбаф, «Бродячие собаки» (2003) М. Мешкини и «Будда рухнул со стыда» (2007)2 Х. Махмальбаф — прослеживаются общие для сюжетов тенденции стилистического и тематического воплощения замыслов режиссеров. А именно: темы войны, сиротства, особенности гендерной асимметрии афганского общества в названных лентах оцениваются с позиций современной социаль26 февраля 2001 г. мулла Омар издал декрет о разрушении всех неисламских памятников в стране. Претворяя декрет в жизнь, в марте того же года талибы взорвали две статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана в III и в VI вв. 2 124 ной и культурной ситуации в Иране. Следует отметить, что авторы фильмов находятся в оппозиции к правительству ИРИ, представляя крыло умеренных модернистов. В своих фильмах иранские режиссеры акцентируют бесправность положения афганских женщин, которым талибы резко ограничили доступ к образованию: девочки и молодые девушки были исключены из школ и колледжей, образование было объявлено мужской прерогативой («Афганский алфавит»). На улице женщина обязательно должна была находиться в сопровождении родственника мужского пола; она обязана носить бурку/паранджу, нарушение ношения которой жестоко каралось публичным избиением в тех случаях, когда ткань накидки оказывалась недостаточно плотной, или при ходьбе случайно женщина обнажала даже самую незначительную часть ноги («Кандагар», «В пять часов пополудни»). Женщинам также было «запрещено работать вне дома. За исключением госпиталей и клиник, в которых они могут обслуживать только женщин и девочек. Запрещено лечиться у врачей мужского пола» [Moghadam 1999: 183–184]. Запрет на прохождение лечения женщинами у врачей-мужчин обыгран М. Махмальбафом в «Кандагаре». В одной из сцен главная героиня Нафас заболевает и приходит к местному деревенскому доктору на прием со своим мальчиком-проводником, который представляет ее как свою сестру. Кабинет врача разделен на две части занавесом из плотной черной ткани. В тряпичной ширме есть единственное отверстие, через которое врач может осмотреть горло пациентки, хотя на самом деле страдает она от болей в области живота. Специалист по культурной антропологии Н. Пак-Шираз отмечает, что «образ афганца (одежды и прочих предметов быта, связанных с афганским образом жизни) присутствует в иранских фильмах как символ страдания, угнетения и бедности. Афганская одежда символизирует притеснение женщин и насилие над ними, а также выступает маркером подчинения воли человека диктату правительства» [Pak-Shiraz 2011: 39]. Подтверждением этому служит эпизод из документального фильма М. Махмальбафа «Афганский алфавит». Иранская учительница в приграничном районе расселения беженцев (провинция Систан и Белуджистан, Иран) обучает афганок-подростков элементарным правилам личной гигиены и персидскому алфавиту. Девочки не хотят называть свои имена съемочной группе, так как боятся, что 125 их покажут по телевидению, и этим они совершат грех. Среди обучающихся девочек одна категорически отказывается приоткрыть свое лицо, несмотря на то, что ей неудобно заниматься. В качестве аргумента своего неповиновения учительнице она говорит, что за ослушание ее покарает Бог. В конце фильма девочка все-таки соглашается открыть свое лицо, что в иранской интерпретации символизирует веру в преодоление афганским народом несправедливого ущемления женских прав. Иранский кинематограф об Афганистане охватывает главным образом период с начала правления режима Талибан по сегодняшний день, в то время как эпоха секуляризации, включающая политику эмансипации женщин, во время существования Демократической республики Афганистан (ДРА) [Moghadam 1999: 175–183] представлена слабо. Отметим, что радикальные реформы правительства ДРА в свое время вызывали большое недовольство в традиционном афганском обществе, в основе законов которого лежит обычное право. А именно: «паштунвали следует понимать как совокупность всех тех традиций, которыми пуштуны, по своим собственным представлениям, отличаются от представителей других этносов. Сюда относятся кодекс чести и морально-этические представления, правила воинской доблести, родовая структура, нормы обычного права и, не в последнюю очередь, приверженность мусульманской религии» [Жехак, Грюнберг 1992: 184], что в частности распространяется на положение женщин в обществе и отношение к ним через понятие «намус», т. е. защита чести и доброго имени [Жехак, Грюнберг 1992: 190–191]. Итак, рассмотренные иранские фильмы об Афганистане наглядно демонстрируют, как в век глобализированной медиакультуры кинематограф становится средством транснациональной передачи информации этнополитического и этнокультурного содержания, выступает как посредник во взаимоотношении с другими государствами и даже способен влиять на имидж обеих стран на международном уровне. Вторая рассматриваемая группа фильмов рассказывает об афганских беженцах на территории Ирана. Сюжеты данных фильмов сосредоточены на локальных проблемах иранского государства и разворачиваются внутри ИРИ. Первая волна беженцев пришла в Иран из Афганистана в начале 1980-х годов; причиной эмиграции послужило вторжение советских войск. Второй волной стал отток беженцев за границу во время граж126 данской войны 1992–1996 гг.; третьей — в период правления режима Талибан (1996–2001) [Rostami-Povey 2007: 242]. Отметим, что граждане ИРА посещали Иран в качестве рабочих-мигрантов, паломников и торговцев и ранее, причем те из них, кто интегрировался в иранское общество в XIX и начале XX в. получили иранское подданство. По сообщениям официальной статистики, на 2005 г. шииты-хазарейцы составляют 47% и представляют собой самую большую этническую группу среди афганцев в Иране, далее следуют таджики (30%) и пуштуны (13%), остальные 10% распределены между небольшим числом туркмен, узбеков и других этносов. Показательно, что население хазарейцев за 2004–2005 гг. увеличилось на 6%. Большая часть афганцев проживает в крупных городах или окрестных сельских местностях в провинциях Тегеран (27%), Хорасан (16%, включая Мешхед), Исфахан (12%), Систан и Белуджистан (11%), Керман (7%), Кум и Фарс (по 6% каждый). Статистика гласит, что 40% прибывших в Иран афганцев поселились здесь между 1978– 1985 гг. (в начале советской операции в Афганистане), и 36% прибыли между 1996 и сентябрем 2001 г. (временем правления Талибан). Гендерное соотношение: 44% женщин к 56% мужчин. Почти половина приехавших в Иран — молодежь в возрасте около 17 лет. В среднем семьи зарегистрированных беженцев (89%) состоят из 5 человек [Adelkhah, Olszewska 2007: 142–143]. Приведенные выше сведения объясняют многие особенности фильмов рассматриваемого направления. Интегрировавшаяся в «социальный ландшафт» Исламской республики фигура афганца — часто появляющийся персонаж иранского кино. Действительно, главными героями таких известных фильмов, как «Велосипедист» (1989) М. Махмальбафа, «Джума» (2000) Х. Ектапана, «Дельбаран» (2001) А. Джалили, «Хейдар, афганец в Тегеране» (2005) Б. Джалали и «Дождь» (2001) М. Маджиди, стали афганские беженцы. При этом в кинокартине Джафара Панахи «Белый шарик» (1995) появляется военный парень, афганец по происхождению, а во «Вкусе вишни» (1997) А. Киаростами попутчиками главного героя Бади становятся проходящий службу в армии курд, таксидермист по профессии старик-азербайджанец и обучающийся в шиитской семинарии афганец. Во «Вкусе вишни» религиозная позиция против самоубийства не случайно вложена именно в уста персонажа, афганца по происхождению. Так, «молодые мужчины, являющиеся афганцами, но испо127 ведующие шиизм, получают возможность пройти обучение в религиозных семинариях Мешхеда или Кума, где готовят специалистов в области теологии, исламского права, истории и философии шиизма. Не все из поступивших в семинарию в дальнейшем планируют строить свою жизнь в лоне шиитского духовенства. Однако для многих афганцев это единственная возможность получить образование в уважаемом месте, обеспечив себе вертикальную социальную мобильность» [Adelkhah, Olszewska 2007: 147], и в дальнейшем не беспокоиться о средствах к существованию. В Иране в 1980-е годы (первая волна эмиграции) большинство афганских беженцев получали жилье и разрешение на работу. Они имели право на многие социальные льготы: бесплатное образование, медицинское обслуживание и различные субсидии, как и другие иранские граждане. В 1993–1996 гг. положение афганцев ухудшилось, поскольку к середине 1990-х в Иране насчитывалось уже около 1,4 млн3 зарегистрированных иммигрантов. Иранская экономика не справлялась с наплывом беженцев из Афганистана, поэтому их стали селить на специально отведенных территориях, где создавались отдельные лагеря. Иранское правительство также ограничило им выплаты и льготы и в последнее время стало отказывать иммигрантам в предоставлении статуса беженцев. Тем не менее афганские переселенцы продолжают прибывать в Иран; многие из них — как временные рабочие, вынужденные возвращаться на родину [Rostami-Povey 2007: 242–243]. В этих условиях естественно, что основной темой иранских фильмов об афганцах становится неустроенный быт и тяжелый труд беженцев-маргиналов из ИРА. Именно этим проблемам отведены сюжеты фильмов «Велосипедист», «Джума», «Дельбаран», «Дождь» и прочих лент. Разумеется, некоторые афганцы живут в Иране в достаточно хороших условиях, но их подавляющее меньшинство. Рассказывая правду о положении афганских иммигрантов, иранский кинематограф неизбежно концентрируется на показе малоимущего большинства находящегося за чертой бедности афганского населения ИРИ. Подводя итог сказанному, подчеркнем, что в последние годы афганская тема вошла в сферу интересов не только иранских, но и западных режиссеров. Ярким примером является известный фильм По другой статистике: на 1992 год в Иране проживало 2,8 млн афганцев, из которых 76% были зарегистрированы, 14% не зарегистрированы и 10% проживают в лагерях [Adelkhah, Olszewska 2007: 142]. 3 128 М. Форстера «Бегущий за ветром» (2007). Тем не менее «в годы, незамедлительно последовавшие за свержением режима Талибан в 2001 г., мировой кинематографический дискурс и до некоторой степени мнение мировой общественности об Афганистане основывались на фильмах, созданных иранцами или при их участии» [Rastegar 2011: 146]. Иранское кино, снятое в Афганистане, выглядит более политически ангажированным, чем фильмы, снятые в собственной стране. Колоритный визуальный ряд таких лент привлекает большое внимание западной аудитории, несмотря на афганскую тематику порой ассоциирующей увиденное с Ираном. Нашумевший «Усама» (2003) Сиддика Бармака, призванный реанимировать афганский кинематограф после десятилетий забвения, и полностью снятый афганским режиссером в Кабуле, был также сделан при иранской поддержке. С. Бармаку оказал финансовую помощь, а также предоставил свое оборудование, пленку и съемочную группу М. Махмальбаф [Farzanefar 2005: 125–126; Seret 2011: 27]. «Усама» снят в стилистическом и жанровом концепте «Кандагара» М. Махмальбафа, который стал основоположником репортажной манеры повествования историй об Афганистане. Иранские режиссеры работают и в других странах мусульманского Востока. «Время любить» (1990) М. Махмальбафа снят в Турции, его «Тишина» (1998) и «Секс и философия» (2005) — в Таджикистане, а «Крик муравьев» (2006) — в Индии. Сделано это в стремлении реализовать авторский замысел в обход иранской цензуры. Иранские режиссеры также принимают участие в международных проектах. Например, фильм А. Киаростами «Африка в алфавитном порядке» (2001) снят в Уганде. Итак, сложное и многогранное явление, современный нацио­ нальный кинематограф — важный маркер состояния духовной жизни народа, фиксирующий уровень культуры и нравы общества, равно как политическую и социально-экономическую обстановку в мире. «Кинематограф обладает властью в создании национальных стереотипов и нарративов <…> фильмы — это запись, интерпретация или перепись национального опыта <…> это барометр социальной и культурной жизни последних десятилетий двадцатого века» [Hughes-Warrington 2007: 80–82]. В эпоху глобализации антропология иранского кино глубоко проникнута религиозным и культурным мировоззрением страны. 129 «Пример Ирана как исламского государства, начавшего свой путь с противостояния миру, а затем ставшего явно эволюционировать в сторону открытости мировому сообществу, дает надежду на то, что это противостояние будет проявляться главным образом в противодействии процессам культурно-цивилизационной унификации» [Мамедова 2002: 60]. При этом если массовое кино демонстрирует социальный срез общества в официальной идеологии государства и популярные фильмы и сериалы по преимуществу остаются явлением локального национального характера, то менее зависимый от органов цензуры авторский кинематограф обращается как к современным реалиям жизни своей страны, так и к проблемам межкультурной коммуникации, не ограничиваясь временными, территориальными и идеологическими пределами Исламской республики. ЛИТЕРАТУРА Жехак, Грюнберг 1992 — Жехак Л., Грюнберг А. Л. Некоторые черты традиционного мировоззрения пуштунов // Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии. М.: Наука, 1992. С. 182–196. Казурова 2012 — Казурова Н. В. Послереволюционный иранский кинематограф: эстетика смерти как ценностная норма // Asiatica: труды по философии и культурам Востока. СПб: СПбГУ, 2012. Вып. 6. С. 28–44. Кепель 2004 — Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, 2004. Кляшторина 2001— Кляшторина В. Б. Эволюция культурной доктрины Исламской республики Иран // Ислам и политика (Взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). М.: Крафт + ИВ РАН, 2001. С. 306–318. Лукоянов 2010 — Лукоянов А. К. Исламская революция. Иран — опыт первый 1979– 2009. М., 2010. Малахов 2007 — Малахов В. С. Государство в условиях глобализации: учеб. пособие. М.: КДУ, 2007. Мамедова 2002 — Мамедова Н. М. Иран: от монархии к республике. Современное положение и перспективы // Мусульманские страны у границ СНГ (Афганистан, Пакистан, Иран и Турция — современное состояние, история и перс­ пективы). М.: ИВРАН-Крафт+, 2002. С. 46–60. Широкорад 2010 — Широкорад А. Персия — Иран. Империя на Востоке. М.: Вече, 2010. Adelkhah, Olszewska 2007 — Adelkhah F., Olszewska Z. The Iranian Afghans // Iranian Studies. 2007. Vol. 40, Issue 2. Apr. Р. 137–165. Farzanefar 2005 — Farzanefar A. Kino des Orients: Stimmen aus einer Region. Marburg: Schüren Verlag, 2005. 130 Ghazian 2002 — Ghazian H. The Crisis in the Iranian Film Industry and the Role of Government // The New Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity. London: I. B. Tauris Publishers, 2002. P. 77–86. Graham 2010 — Graham M. Afghanistan in the Cinema. Carbondale: Southern University Press of Illinois, 2010. Hughes-Warrington 2007 — Hughes-Warrington M. History Goes to the Movies: Studying History on Film. London; New York: Routledge, 2007. Markert 2011 — Markert J. Post—9/11 Cinema: Through a Lens Darkly. Lanham: Scarecrow Press, 2011. Milani 2006 — Milani M. M. Iran’s Policy Towards Afghanistan // Middle East Journal. 2006. Vol. 60, Issue 2. Spring. Р. 235–256. Moghadam 1999 — Moghadam V. M. Revolution, Religion, and Gender Politics: Iran & Afghanistan Compared // Journal of Women’s History. 1999. Vol. 10, No 4. Winter. Р. 172–195. Mosley 2004 — Mosley P. Mohsen Makhmalbaf ’s Kandahar: Lifting a Veil on Afghanistan // Film and Television After 9/11. Carbondale: Southern University Press of Illinois, 2004. Р. 178–184. Nyang 2003 — Nyang S. S. Continuities and Discontinuities in Islamic Perspectives on Cultural Diversity // Cultural Diversity and Islam. Lanham; New York; Oxford: University Press of America, 2003. P. 39–56. Pak-Shiraz 2011 — Pak-Shiraz N. Shi’i Islam in Iranian Cinema: Religion and Spirituality in Film. London: I. B. Tauris Publishers, 2011. Partovi 2008 — Partovi P. Martyrdom and the «Good life» in the Iranian Cinema of Sacred Defense // Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2008. Vol. 28, Issue 3. Р. 513–532. Rastegar 2011 — Rastegar K. Global Frames on Afghanistan (The Iranian Mediation of Afghanistan in International Art House Cinema after September 11, 2011) // Globalizing Afghanistan: Terrorism, War, and the Rhetoric of National Building. London: Duke University Press, 2011. Р. 145–164. Rostami-Povey 2007 — Rostami-Povey E. Afghan Refugees in Iran, Pakistan, the U. K., and the U. S. and Life after Return: a Comparative Gender Analysis // Iranian Studies. 2007. Vol. 40, Issue 2. Apr. Р. 241–260. Seret 2011 — Seret R. Osama // World Affairs in Foreign Films: Getting the Global Picture. Oklahoma: Chicksaw Press, 2011. Р. 7–29. Shaery-Eisenlohr 2007 — Shaery-Eisenlohr R. Imagining Shi‘ite Iran: Transnationalism and Religious Authenticity in the Muslim World // Iranian Studies. 2007. Vol. 40, Issue 1. Feb. Р. 17–35. Tarock 1999 — Tarock A. The Politics of the Pipeline: The Iran and Afghanistan Conflict // Third World Quarterly. 1999. Vol. 20, Issue 4. Aug. Р. 801–819. 131 С. Р. Усеинова СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: ТВОРЧЕСТВО ‘АБД АР-РАХИМА АЛ-БУРА‘И Позднее арабское средневековье (XIII–XVIII вв.), по традиции считающееся периодом упадка в арабской литературе, до сих пор остается в немалой степени terra incognita. Общая его отрицательная характеристика ныне признана в целом неверной [CHAL 2008: 1], однако для изменения этого представления, очевидно, недостаточно лишь идеи о том, что прежний подход устарел. Для создания более детальной, лучше отвечающей действительности картины литературной жизни этой обширной эпохи необходимы многочисленные исследования по отдельным литературным деятелям и направлениям. Их на сегодняшний момент слишком мало, что и придает актуальность затронутой в статье теме. Среди множества малоизученных или вовсе не изученных арабских поэтов, чье творчество тем не менее достойно внимания исследователя, можно найти имя йеменского поэта-суфия ‘Абд ар-Рахима ал-Бура‘и. Я попытаюсь в статье дать по необходимости краткое описание его биографии и наследия. Имя ал-Бура‘и нечасто встречается в востоковедной литературе, причем всегда в несколько искаженной форме (al-Bur‘i), а приводимые о нем сведения обычно скудны и говорят о том, что авторы соответствующих работ непосредственно его творчеством не занимались. Так, в ранних историях арабской литературы ал-Бура‘и встречается лишь у К. Юара [Huart 1903: 112], где в чрезвычайно беглом очерке аббасидской поэзии он упомянут двумя строками: йеменский поэт 1058 г., «чьи стихи полны мистицизма и религиозного чувства». Р. Ни© С. Р. Усеинова, 2013 132 колсон в своей «Литературной истории арабов» совсем не интересуется им. К. Брокельман отмечает его имя в дополнительном томе своего фундаментального труда, приводя ту же дату [Brockelmann, GAL SB I: 459]. В Кембриджской истории арабской литературы [CHAL 2008], наиболее обширном современном труде подобного рода, ал-Бура‘и также не упоминается1, нет его и в объемной работе И. М. Фильштинского. Наконец, в монографии А. Шиммель [Schimmel 2001: 185; 282 n. 74] по суфийской поэзии имя ал-Бура‘и возникает в связи с хронологией развития хвалебной поэзии в честь пророка Мухаммада (ши‘р ан-на‘т, ал-мадих ан-набави). Иссследовательница утверждает, что основное развитие эта поэзия получила в XIII в., однако отмечает приведенные у Т. Андрэ как образцы этого жанра цитаты из ал-Бура‘и, дата смерти которого определяется как 450/1058. Такая скудость западных источников составляет некоторый контраст к довольно широкой известности и популярности, которой пользуется творчество ал-Бура‘и во всем арабском мире. Начиная со второй половины XIX в. его диван не раз издавался в Египте, в Сирии и даже в Индии. Помимо ранних литографических и печатных изданий существует и несколько современных редакций, причем в последние годы появляются все новые2; однако полного критического издания, судя по всему, до сих пор не имеется. Стихи поэта весьма популярны среди исполнителей суфийской поэзии в разных арабских странах, в том числе Мавритании, они публикуются на литературных форумах в Интернете, неизменно вызывая положительный отклик читателей, упоминаются в антологиях религиозной и суфийской поэзии и т. д. Не забывают о нем и салафиты, упорно доказывающие гибельность заблуждений поэта и пытающиеся оградить доверчивых читателей от крайностей (гулувв), в которые он впадает при восхвалении Пророка. Очевидно, таким образом, что хотя ал-Бура‘и и не принадлежит к наиболее прославленным именам арабской поэзии, все же, его творчество заслуживает большего внимания, чем ему до сих пор уделялось в западном востоковедении. 1 Можно было бы ожидать внимания к нему в разделе по религиозной поэзии, но и там ему не нашлось места, хотя его диван и исследование о нем на арабском языке приводятся в библиографии к общему обзору поэзии постклассического периода. 2 Так, за последние 20 лет диван ал-Бура‘и издавали: Мухаммад Ахмад Хатиб (1990-е годы), ‘Абд ал- ‘Азиз Султан Тахир Мансуб (2003), Анас Мухаммад Шарафави (2006), ‘Абд ар-Рахман ал-Мустави (2007). 133 Недостаток информации об ал-Бура‘и объясняется не в последнюю очередь тем, что источники, где она содержится, весьма малочисленны, причем многие из них плохо доступны и не очень хорошо известны не только западным исследователям, но и арабским. Наиболее полный и популярный биобиблиографический справочник Х. азЗиракли, где есть имя ал-Бура‘и, ссылается лишь на три арабских источника: «Хадийат ал-Арифин» Исма‘ила ал-Бабани ал-Багдади, «АлМулхак ат-таби‘ ли ал-бадр ат-тали‘» Мухаммада Зубары и «Тадж ал-‘арус» Муртазы аз-Забиди [аз-Зиракли 2002: 3, 343]. Дата рождения поэта нигде не указана. В труде ал-Багдади [ал-Багдади 1951: 1, 559] сказано лишь, что ‘Абд ар-Рахим б. Ахмад ал-Бура‘и «жил в пятом веке [хиджры] и диван его известен, а в нем содержатся восхваления Пророка». Источник «Мулхак» дает другой вариант имени (‘Абд ар-Рахим б. ‘Али ал-Хаджири) и дату смерти: 803 г.х. (соответствует 1400 г. н. э.). Зиракли предпочитает именно эту дату. «Мулхак» также сообщает, что поэт родился в Йемене, в деревне «ан-Нийабатайн», обучался грамматике и фикху у многих ученых своего времени, а затем занимался преподаванием, издавал фетвы и имел множество студентов; он был одним из лучших ученых и поэтов своего времени, автор известного дивана и множества стихов, восхваляющих Пророка Мухаммада [Зубара Мулхак Б. г.: 2, 120]. Сведения Зубары, судя по тексту его сообщения, полностью позаимствованы (с небольшими искажениями) из более раннего источника, а именно сочинения йеменского автора Х в.х. ‘Абд ал-Ваххаба ал-Барихи (ум. 904 г.х.) «Табакат сулаха’ ал-Йаман», известного также как «Тарих ал-Барихи». Там дается та же дата смерти и имя ‘Афиф ад-Дин ‘Абд ар-Рахим б. ‘Али ал-Мухаджири3 [ал-Барихи Табакат]. Еще одно, по-видимому, независимое сообщение о нашем поэте имеется у Муртады аз-Забиди. В своем знаменитом словаре «Тадж ал-‘арус», в статье «бр‘», он поясняет нисбу ал-Бура‘и: она происходит от названия горы Бура‘ в Тихаме, возле вади Сихам (округ современной Ходейды) [аз-Забиди Тадж [Б. г.]: 5097]. Он упоминает, что 3 В других вариантах биографии поэта имеется лакаб Ваджих ад-Дин; вероятно, он взят из самого дивана, где поэт говорит о себе в 3-м лице и называет именно этот лакаб. В предисловии к одной индийской литографии указано, что в рукописи, которая легла в ее основу, поэт назван Зайн ад-Дин. Этой частью имени тем не менее можно пренебречь, как обычно, менее устойчивой. Что касается нисбы алМухаджири, она также встречается в диване [ал-Бура‘и, Диван, 70]. 134 эту местность населяют батны племени Химйар. О самом ал-Бура‘и сказано, что он весьма почитаем у себя на родине, имеет благочестивое потомство, и его небольшой диван пользуется известностью. Даты смерти Забиди не приводит, но относит ал-Бура‘и к шу‘ара’ мута’аххарун (поздним поэтам); учитывая, что сам Забиди умер в 1205/1790, это, скорее, приближает нас к более поздней дате. Дополнительные сведения предоставляет сам диван поэта: там встречаются упоминания лиц, живших, в основном, в конце VIII — начале IX в.х., что окончательно позволяет утвердить более позднюю дату. Имеются и чисто литературные соображения, которые заставляют исключить V в.х. как время жизни ал-Бура‘и. Современные издатели и редакторы, не принимая полностью ни одну дату, обычно пишут, что ‘Абд ар-Рахим ал-Бура‘и ал-Йамани жил во второй половине VIII — начале IX в.х. Полагаю, что по совокупности аргументов это наиболее взвешенное утверждение. Таким образом, дату, имеющуюся в западных источниках (1058 г.х.), следует отбросить как ничем не подкрепленную. В связи с биографией ал-Бура‘и остается упомянуть немногое. Несмотря на сообщения о том, что он был ученым и преподавал мусульманские науки, нам не известно ни одно его прозаическое произведение; очевидно, он оставил после себя лишь диван стихов, который выступает дополнительным источником сведений биографического характера. Так, из самих касыд или предваряющих их кратких указаний составителя дивана выясняются имена некоторых современников поэта, его суфийского наставника, обстоятельства его частной жизни (постоянная нужда, наличие жены и детей, к которым он был очень привязан, и некоторые другие факты). Умер поэт во время совершения очередного хаджа, на пути в Медину, к могиле Пророка Мухаммада; вади, где он похоронен, называли по его имени вади ал-Бура‘и. Перейдем к литературному описанию дивана. Как уже было сказано, диван небольшой по объему и содержит лишь около сотни стихотворений. Практически все стихи в диване ал-Бура‘и вполне подпадают под определение религиозной поэзии; различаются лишь жанры внутри этого направления. Прежде всего назовем уже упомянутые биографами славословия в честь Пророка Мухаммада (мада’их, мамадих), которые составляют основную часть дивана. Однако помимо хвалебной поэзии в честь Пророка, в диване немало 135 касыд, где поэтическая речь обращена не к Пророку, а к Богу. Они, по-видимому, не имеют устойчивого жанрового обозначения: некоторые арабские авторы называют их ибтихалат или тадарру‘ат (мольбы, увещевания), другие используют более распространенный термин мунаджат (букв. тайная беседа). Есть стихотворения, скорее подпадающие под определение зухдийат, однако их немного. Есть и такие, которые могут показаться несведущему читателю любовной поэзией, где религиозный контекст не проявляется напрямую, и все стихотворение выдержано, казалось бы, в стиле светской лирики. Некоторые исследователи дивана специально помечают такие стихи как якобы сочиненные ал-Бура‘и в пору молодости, когда он не чужд был мирским страстям. Однако сравнение образности подобных насибов как с другими стихотворениями в диване, так и с заведомо светской любовной лирикой, с очевидностью показывает, что рассматривать подобные опыты как относящиеся к раннему этапу жизни поэта и не входящие в корпус религиозной поэзии было бы опрометчиво. C точки зрения размеров, лексического состава, риторических оборотов и образности диван ал-Бура‘и лишен особого своеобразия. Он использует самые распространенные размеры (камил, басит, вафир), причем соблюдает метрическую схему весьма тщательно (исследователи отмечают малое количество зихафов, т. е. изменений стандартной стопы). Можно отметить один интересный образец строфической поэзии: длинный (40 строф) заджал со схемой рифмовки aaa aB ccc aB ddd aB (где В — повторяющееся полустишие, харджа). Ал-Бура‘и, прекрасно знавший правила арабской грамматики, придавал большое значение их соблюдению. Об этом говорит часто цитируемый отрывок из дивана, начинающийся словами ��� �� ���م ��� �� آ�م Речь без грамматики — как пища без соли В ту эпоху, когда элементы разговорной речи и неклассического языка достаточно часто проникали в поэзию, такое стремление к чистоте литературного слога стоит отметить особо. Лексический состав дивана ал-Бура‘и в высшей степени традиционен, что неудивительно, если учесть узость тематики его касыд. То же можно сказать и об образах его поэзии. Он использует лексику классического насиба, отшлифованную поколениями поэтов начи136 ная с эпохи Омейядов. Мы встречаем ветерок, приносящий вести от возлюбленных, погонщика и изнуренных верховых животных, стремящихся поскорее достичь желанной цели путешествия, газелей, пасущихся в зарослях, лужайки, покрытые цветами, благоухающую полынь, тамариск, мирты, сладкие текучие источники, — словом, полный набор традиционных образов. Вместе с тем поэт вновь и вновь воспроизводит к тому времени также, по-видимому, ставший устойчивым набор формул и оборотов, используемых для обращения к Пророку, его описания и восхваления. Это ставит перед нами вопрос о непосредственных влияниях на поэзию ал-Бура‘и и о его месте в процессе развития мада’их. На мой взгляд, ошибочная датировка жизни поэта, повторяющаяся в работе А. Шиммель, весьма показательна. Дело в том, что, насколько можно судить по имеющимся данным, наибольшую роль в формировании литературного стиля ал-Бура‘и сыграла египетская поэзия VII/ XIII в., и прежде всего творчество таких ее представителей, как Ибн ал-Фарид (ум. 1234 г. н. э.) и ал-Бусири (ум. 1296 г.н. э.). Учитывая, что идейная и стилистическая связь между этими знаменитыми авторами и йеменским поэтом вполне очевидна, одно лишь предположение о том, что ал-Бура‘и был не их последователем, но, напротив, предшественником, выглядит достаточно сенсационным. Однако поскольку подобное утверждение сделано между делом, оно, на мой взгляд, свидетельствует лишь о том, что история развития жанра мада’их на Западе далеко еще не исследована должным образом. Утверждать наличие влияния на ал-Бура‘и со стороны египетских поэтов позволяет проведенное мною достаточно подробное сравнение, результаты которого излагаются здесь по необходимости кратко4. В египетской религиозной поэзии VII/XIII в. сформировался особый жанр, который египетский ученый А. С. Хусайн назвал «тоской по Неджду и Хиджазу» [Хусайн 1964]. Для стихов этого направления характерны идеализированные и абстрактные картины Хиджаза с употреблением немалого числа местных топонимов, сопровождаемые иногда (но не обязательно) любовной темой. 4 Разумеется, тем самым не утверждается, что на поэта не оказывали влияния другие авторы, например, известный ранний панегирист Пророка Джамал ад-Дин ас-Сарсари (ум. 656/1258); однако в этой статье нет возможности подробнее осветить другие возможные влияния. 137 з соли Тема Неджда и Хиджаза в творчестве ал-Бура‘и выражена очень ярко. В его касыдах встречается большое количество аравийских топонимов, далеко превосходящее ранние образцы арабской поэзии, но весьма характерное для египетской поэзии указанного жанра; большинство, если не все эти топонимы используются в устойчивых парах однокоренных слов, составляющих вместе какой-нибудь привычный образ: если Абрак, то там мелькает молния (барк); если ‘Узайб, то воды его сладки (‘азб), и т. д. В творчестве ал-Бура‘и эти элементы часто встречаются не только в насибе, но и (весьма заметным образом) в концовке стихотворения, где они вписаны в стандартную формулу прославления Пророка в крайне формализованном, конденсированном виде. Такое употребление свидетельствует об использовании уже привычного, о наличии некоего шаблона, которому автор следует, варьируя его в рамках устоявшегося канона. Вот характерные примеры: ر�� ا���� ����ت ا��� وا���ن * �����ا �� �و��� ��� ���� ا * А затем да приветствует тебя Господь, пока восточный ветерок переплетается с ветвями тамариска и ивы و�� ��تِ ا��آ��ن �� ا����� ا����ا ����…… �� ه�� ا.. * … пока веет восточный ветерок // И караваны движутся в лунной ночи Другие обороты того же плана: «пока сладкоголосая птица поет в Узайбе или молния в ал-Абракайн являет свой блеск», «пока поет соловей в зарослях благоуханных трав», «пока воркует горлинка в роще и клонятся ветви мекканского бальзамина, распространяя мускусный аромат»… Тоска по Неджду как жанру, — вероятно, один из этапов развития хвалебной поэзии в честь Пророка или же, шире, религиозной (суфийской) поэзии в целом. В русле этого развития происходили и другие трансформации касыдной образности. Характерна трансформация рахиля: тема трудного путешествия по пустыне претворилась в описание мистического пути, конечной целью пути стал не мамдух, а возлюбленный, упоминание о караване, идущем в Хиджаз, стало часто ассоциироваться с хаджем. При этом изнуренные верблюды могли символизировать души мистиков, а погонщиком был сам Пророк, приведший людей к исламу [Stetkevych 2010]. Обращение к Пророку поначалу (как в творчестве Ибн Дакик ал‘Ида, Ибн ал-Фарида и др.) было завуалированным, непрямым; упо138 да: а‘и: минание священной земли Хиджаза, Мекки и ее окрестностей, долины Мина, Медины и других мест следовало рассматривать как аллюзию к Пророку, поскольку они тесно связаны с его жизнью. Наличие такого смысла в касыде могло подтверждаться другими косвенными намеками. При этом любовный зачин касыды не обязательно воспринимать как обращенный к тому же адресату; поэты-суфии могли обращаться к Богу и восхвалять Пророка в одном произведении. Позже, в частности, в поэзии ал-Бусири, возникает эксплицитное обращение к Пророку; его имя в разных вариантах непосредственно включается в текст касыды, основной и главной темой становится его восхваление, перечисление совершенных им чудес и пр. Здесь мы уже вправе говорить о мада’их в чистом виде. У ал-Бура‘и большинство произведений относятся именно к мада’их, т. е. вполне эксплицитны, однако в них присутствуют упомянутые выше черты «хиджазского» направления и все характерные для суфийской поэзии особые ассоциации. Все эти элементы сплавлены в единое целое, где постоянно повторяются знакомые мотивы, обороты, рифмы, лексические пары, привычные джинасы и тибаки, употребительные формулы. Отметим, что в диване ал-Бура‘и можно найти и довольно заметные параллели с творчеством предшественников. Приведем лишь два примера. Вот зачин одной из касыд Ибн ал-Фарида: ����� ����و���ؤ� ���� ا ����� إ��� ��ادك إن ��رت * Охраняй свое сердце, если пройдешь мимо Хаджира, Ведь взгляды его газелей — острия копий. А вот начало касыды ал-Бура‘и: �� �����ا �� ���ةٍ ������ي ����� د�� ���ٌ ��� ا����ل * Кровь моя проливается безнаказанно среди останков жилищ в Хаджире, Так не удивляйтесь слезам в моих глазах. Другой пример объединяет трех поэтов. Мимийа Ибн ал-Фарида, прообраз знаменитой касыды ал-Бурда: ������ أم ��رق �ح ����وراء ٍ��� ه� ��ر ���� ��ت ��� ��ي * Свет Лейлы появился ночью в Зу Саламе Или это молния показалась в аз-Заура’ и ал-‘Аламе? 139 а‘и: Начало ал-Бурды ал-Бусири: ٍ��� أ�� ��آ� ���انٍ ��ي ���� د��� ��ى �� ���� ��م * От воспоминания ли о соседях в Зу Саламе Слезы, текущие из глаз, смешались с кровью?.. Начало одной из касыд ал-Бура‘и: أم �� ���ل ���ان ����ان أ �� ��آ� أه� ا���ن وا���ن * ���� �� ا��� ه���� ����ن ���� د��� و���ً �� �����ك * От воспоминания ли об ивах и тех, кто живет возле них, Или от того, что одни соседи сменились другими, Слезы стоят в твоих глазах И обильно текут по щекам?.. Любопытно, что хотя ал-Бура‘и, безусловно, перекликается с бейтами предшественников, его касыда ни в том, ни в другом случае не может квалифицироваться как формальное подражание (му‘арада). Он просто использует схожие мотивы, но не берет на себя задачи делать это последовательно на протяжении всего произведения. Подробный анализ творчества ал-Бура‘и, даже несмотря на небольшой объем дивана, провести в нашей статье нет возможности. Подробнее поэтому остановимся лишь на двух характерных чертах, которые составляют, на мой взгляд, особенность произведений этого поэта. Первая из них — это поразительная гибкость в использовании традиционных стилистических элементов при построении произведения. В одной касыде насиб, кажется, обращен к возлюбленной, но очень скоро раскрывается, что истинный адресат — Пророк Мухаммад; в другой адресатами неожиданно оказываются двое детей поэта, оставленные им дома во время хаджа. Стихотворение начинается со строки ими, إ�� ا����ز ��ا�� ����� ���ا ��� ا����ل �� ا�������� ��ى Призрак в ночи явился из ан-Нийабатайн в Хиджаз, и достиг моего ложа на рассвете Этот зачин может показаться банальным, но на самом деле он удивителен. Поэт называет место, где он на самом деле живет — 140 но облекает упоминание о нем в поэтический образ, традиционно и давно лишенный конкретики. Кроме того, воспоминание или весть, принесенная на рассвете (обычно утренним ветерком саба или насим), со времен едва ли не доисламской поэзии приносится из Хиджаза, а не в Хиджаз! Особенно это существенно, если учесть, что в контексте восхваления Пророка, выступающего как истинный адресат любовной речи, Хиджаз непосредственно ассоциируется с его родиной, местами, неразрывно связанными с его жизнью. А ведь в диване ал-Бура‘и именно такого рода стихотворений предостаточно, и читатель вполне может ожидать подобной трактовки и здесь. Но нет, абстрактный влюбленный, лирический герой, в традиционных терминах описывающий свое чувство, или мистик, стремящийся к святым местам, дабы приблизиться к Истине, превращается в обычного реального человека, находящегося вдали от дома и скучающего по близким (касыду предваряет указание, что она написана, когда поэт во время хаджа вдруг заскучал о детях). Такое неожиданное «переворачивание» и возврат символического значения к реальности нельзя назвать традиционным приемом. То же можно сказать и об отсутствии повторяющейся формальной структуры в касыдах ал-Бура‘и. Так, насибу с атлал, традиционно помещаемому в самом начале касыды, у него может предшествовать непосредственное обращение к Богу; сам насиб включает или не включает обращение к погонщику (может с него начинаться, может его не содержать, может содержать его в середине или в конце). Вторую особенность, тесно связанную с первой, можно сформулировать так: ал-Бура‘и, несомненно, присуща непосредственность в сочетании личного и традиционного, «пропускание через себя» традиционных образов, живость чувства. Сквозь условности стиля и многоуровневую «кодировку» означаемого порой угадывается, а порой даже буквально прорывается реальная личность поэта, и безусловная значимость и эмоциональная наполненность для него самого этих душевных переживаний, выражаемых в классических, давно сформированных образах, делает их привлекательными и для читателя, порой вызывая то волнение, что свойственно пробуждать настоящей поэзии. Ал-Бура‘и, по-видимому, не ставил себе сугубо литературных задач. Об этом, на мой взгляд, говорит и отсутствие специально оформленных подражаний (му‘арада), и небольшое разнообразие 141 форм, и отсутствие склонности к мотивотворчеству, и, наконец, тот факт, что он, по-видимому, не писал так называемого бади‘ийат (восхваления пророка, составленное в особом стиле и перенасыщенное риторическими приемами) и не отличался виртуозностью в использовании риторики. Для него поэзия была, вероятно, не столько оттачиваемым мастерством, сколько живой опорой, поддержкой, способом выражения душевных переживаний и преодоления жизненных невзгод. И несмотря на то, что его лексика и стилистические приемы целиком и полностью традиционны, для самого автора они ни в коем случае не абстрактны, — они выражают его и именно его чувства. В связи с этой чертой поэзии ал-Бура‘и хотелось бы привести замечание Сальмы ал-Джаййуси [CHAL 2008: 36], высказанное ею при оценке роли суфийской поэзии в целом в интересующую нас эпоху: «Очевидно, что на протяжении этого долгого периода суфийская поэзия наряду с другими видами религиозной поэзии сыграла главную роль в спасении арабского стихосложения от безнадежной слабости обветшалого искусства. Мистическая и иная религиозная поэзия была основным жанром, который сохранял хоть в какой-то мере живую эмоциональность и экзистенциальный аспект арабской поэзии». Можно спорить о том, насколько эти слова воздают справедливость светской поэзии, но что касается поэзии религиозной, то на примере ал-Бура‘и это наблюдение блестяще подтверждается. Остается надеяться, что его поэзия, вопреки предубеждению, долгое время мешавшему арабистам с должным вниманием и большей благосклонностью взглянуть на стихи авторов того периода, найдет своих почитателей и за пределами арабского мира. ЛИТЕРАТУРА ал-Бура‘и, Диван — ал-Бура‘и ‘Абд ар-Рахим. Диван. Каир, 1357 г.х. ал-Барихи Табакат — ал-Барихи ‘Абд ал-Ваххаб. Табакат сулаха’ ал-Йаман. Сана, [б.г.]. ал-Багдади 1951 — Ал-Бабани ал-Багдади Исма‘ил. Хадийат ал-арифин. Т. I–II. Стамбул, 1951. Хусайн 1964 — Хусайн ‘Али Сафи. Ал-адаб ас-суфи фи миср фи ал-карн ас-саби‘ алхиджри. Каир, 1964. Зубара Мулхак — Зубара Мухаммад. Ал-Мулхак ат-таби‘ ли ал-бадр ат-тали‘ фи ман ба‘да ал-карн ас-саби‘. Т. I–II. Бейрут, [б.г.]. 142 аз-Зиракли 2002 — Аз-Зиракли Хайр ад-Дин. Ал-А‘лам: 15-е изд. Т. I–VIII. Бейрут, 2002. аз-Забиди Тадж — аз-Забиди, Муртада. Тадж ал-‘арус — http://www.alwaraq.net/Core/ waraq/coverpage?bookid=282 CHAL 2008 — Cambridge History of Arabic Literature: Arabic Literature in the PostClassical Period / ed. by R. Allen. Cambridge, 2008. Brockelmann, GAL — Brockelmann С. Geschichte der arabischen Litteratur. Suрpl. Bd I– III. Leiden, 1937–1942. Huart 1903 — Huart C. A History of Arabic Literature. New York, 1903. Schimmel 2001 — Schimmel A. As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam. Oxford, 2001. Stetkevych 2010 — Stetkevych S. P. The Mantle Odes: Arabic praise poems to the Prophet Muhammad. Bloomington; Indianapolis, 2010. 143 Е. С. Федорова ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МУЗЫКИ В ТРАКТАТЕ АЛ-ГАЗАЛИ «ВОСКРЕШЕНИИ НАУК О ВЕРЕ» Религия, определившая вектор развития искусства на Ближнем и Среднем Востоке, оказала немалое влияние и на формирование концепции музыки в арабо-мусульманской культуре. Распространение ислама на обширной территории способствовало формированию оригинальной этико-эстетической теории, развитию которой способствовали представители различных национальностей. Проблемами этики и эстетики занимались практически все выдающиеся средневековые мусульманские ученые и мыслители, создавшие довольно целостную философскую систему, в которой вопросы этики и эстетики были тесно переплетены и связаны с социально-политическими и религиозными воззрениями. В формировании концепции музыки в арабо-мусульманской культуре участвовали не только сами музыканты, но и философы и теологи. Значительный вклад в ее формирование внес один из самых авторитетных мусульманских мыслителей Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газали ат-Туси (1058–1111). Поскольку интеллектуальная деятельность ал-Газали осуществлялась в различных областях знания, таких как мусульманское право (фикх), теология (калам), философия (фалсафа) и мистицизм (суфизм), то отнести его к какому-либо одному направлению исламской мысли невозможно. Ал-Газали, изучив разные направления и школы арабо-мусульманской философской мысли, создал свою оригинальную религиознофилософскую систему, которая, сочетая в себе элементы противоречащих друг другу учений, в то же время отличается внутренней © Е. С. Федорова, 2013 144 логикой и единством. Взгляды ал-Газали имеют ярко выраженную этическую окраску. Во всех его трудах этика фигурирует если не как центральная, то, по крайней мере, как одна из важнейших тем. Среди произведений ал-Газали особое место занимает его фундаментальное сочинение «Воскрешение наук о вере», который признается одним из наиболее значительных произведений мусульманских мыслителей. В этом монументальном труде ал-Газали наиболее полно излагает свои религиозно-философские взгляды. «Воскрешение наук о вере» — это разделительная веха на интеллектуальном пути ал-Газали в достижении истины. Написание трактата заняло несколько лет и принадлежит к суфийскому периоду жизни и творчества ал-Газали. «Воскрешение наук о вере» представляет собой первое систематическое изложение мусульманской теологии, которое пользовалось огромным авторитетом среди мусульманских богословов и оказало большое влияние на развитие средневековой теологии и философии ислама в целом. Огромное значение в «Воскрешении наук о вере» придается этическим проблемам. Ал-Газали рассматривает нормы поведения и общественной жизни как морально-этические нормы. Идея нравственного совершенствования человека играет важную роль в «Воскрешение наук о вере», как ценном источнике для изучения как собственно этико-эстетических представлений ал-Газали, так и суфийской этики и эстетики. Этические и эстетические взгляды ал-Газали, изложенные в «Воскрешении наук о вере», были сформированы под влиянием идей суфизма и развивались в русле мистицизма. Концепция музыки ал-Газали, сформулированная в «Воскрешении наук о вере», также находится под влиянием суфийских идей. Сведения о воззрениях ал-Газали относительно музыки мы можем почерпнуть, в основном, из восьмой «Книги об этике слушания и экстатического состояния» второго «Раздела об обычаях» «Воскрешения наук о вере», а также из трактата «Эликсир счастья», в котором содержится краткое изложение идей «Воскрешения наук о вере» на персидском языке. В «Воскрешении наук о вере» не употребляется собственно слово «музыка», в вышеупомянутой главе ал-Газали рассматривает спорность вопроса о дозволенности «слушания» с этической точки зрения, описывает правильное «слушание» и то, к чему оно приводит. Термин самā‘, часто переводимый как «музыка», буквально означает «слушание», «аудирование», «вслушивание» и употребляется в поле145 мической литературе, рассматривающей вопрос о его дозволенности с точки зрения мусульманской этики и права. Понятие «слушание» фигурирует в контексте морально-религиозного права, а не музыкальной теории и практики, и связано с суфийскими ритуальными практиками. В суфийской литературе оно обозначает ритуальную практику, во время которой суфии слушают стихи, напеваемые или декламируемые в сопровождении игры на музыкальных инструментах или без него, чтобы достичь такого экстатического состояния, в котором они ощущают непосредственную близость к Богу, Его любовь и свою причастность к Нему. В то же время значение этого термина не ограничивается только «мистическим» или «священным слушанием», так же как не относится к акту слухового восприятия вообще. Самā‘ может рассматриваться как музыка, которую слушают, т. е. акцент ставится на восприятии музыки слушателем, а не на исполнении или на самом феномене музыки. Таким образом, самā‘ как процесс «слушания» музыки не обозначает как собственно «музыку», так и исключительно «мистическое слушание». Говоря о «суфийской музыке», под ней чаще всего подразумевают самā‘ как специ­фическую суфийскую практику, однако термин этот может быть применен для обозначения «слушания» музыки любым человеком, если при этом он способен улавливать в ней нечто большее, чем набор звуков. Практика самā‘ тесно связана с другой суфийской ритуальной практикой — ┼икром. Среди суфиев различных направлений велись споры относительно того, допустим ли только тихий ┼икр, который произносится либо шепотом, либо про себя (╟āфӣ ‘скрытый’), или же также и громкий ┼икр (джалӣ ‘явный’) с пением и музыкой и с экстатической пляской (ра║╕). Вопрос о том, в какой степени слушание музыки (самā‘) — это грех, стал одним из важнейших и наиболее спорных в проблеме отношения ислама к музыке, что дало повод к появлению и распространению полемических сочинений относительно допустимости слушания и исполнения музыки с точки зрения мусульманского права и теологии. Несмотря на различие во взглядах относительно музыки, все они были тесно связаны с этическим аспектом музыкального искусства. Защитники самā‘ уделяли особое внимание его социальному и религиозному значению, стараясь продемонстрировать «добродетели» самā‘ как средства достижения возвышенных духовных состояний, детально разрабатывая 146 его символические и аллегорические аспекты. Наиболее известным и авторитетным сторонником самā‘ был ал-Газали, который исследовал религиозно-этическую сторону музыки в своем наиболее значительном, как по объему, так и по значению труде «Воскрешение наук о вере». «Воскрешение наук о вере» ал‑Газали не содержит целостной теории музыки, поскольку центральной темой его рассмотрения выступает не сама музыка как феномен и не исполнительское искусство, а этический аспект музыки — то, как ее воспринимает человек, каким образом она оказывает на него воздействие и каковы последствия такого воздействия на его тело и душу. Ал-Газали рассматривает музыку через призму ее цели, которая и служит оправданием существования музыки в мусульманском обществе. Таким образом, отношение ал-Газали к музыке изначально исходит из ее «этичности», т. е. соответствия мусульманской этике, оно принципиально этикоцентрично. Вопрос об «этичности» слушания и исполнения музыкальных произведений в исламском обществе традиционно вытекал из проблемы ее «законности», т. е. находился в области правовых отношений и регулировался исламским законом — шариатом. В исламской культуре области права и этики в значительной степени связаны, поэтому достаточно трудно провести четкую границу между вопросами, относящимися праву и к этике. Поэтому утверждения, что проблема «слушания» находится под юрисдикцией мусульманского права, или относится к сфере мусульманской этики, не будут противоречить друг другу. В этом случае вопрос о «законности» музыки, ее исполнения и слушания можно перефразировать как вопрос о ее соответствии мусульманской этике, т. е., говоря о «дозволенности» музыки, мы понимаем под этим отсутствие греха в акте ее исполнения и слушания, на чем и основывается утверждение о «законности» слушания музыки. «Книга об этике слушания и экстатического состояния» разделена на две главы: в первой рассматривается вопрос о дозволенности слушания с точки зрения мусульманской этики и права, а во второй — следствие слушания в виде экстатического состояния и комплекс моральных норм, которые необходимо соблюдать во время слушания. Первая глава носит в большей степени правовой характер и содержит тщательно разработанную систему логического доказательства «правомочности» и «негреховности» музыки, т. е. ее соответ147 ствия мусульманской этике. В самом начале первой главы ал-Газали приводит мнения представителей этико-правовых направлений, многие из которых противоречат друг другу. Не оспаривая правоты этих высказываний, ал-Газали все же подводит читателя к осознанию того, что некритичное восприятие сказанного пусть даже очень авторитетными учеными, не может быть верным способом достижения истины, «ведь истину надлежит искать на ее путях, при помощи разума через исследование запрета и позволения [слушания]» [Ал-Газали [б.г.]: 268]. Так как основными источниками осуждения или восхваления достоинств музыки в мусульманском праве и этике являются Коран и хадисы, ал-Газали начинает свое «Рассмотрение доказательств дозволенности слушания» с утверждения, что ни Коран, ни хадисы не содержат прямого запрета музыки, так же как его нельзя вывести из этих текстов путем логических умозаключений. Исходя уже из этого, можно сделать вывод, что исполнение и слушание музыки не противоречит нормам мусульманской морали, однако ал-Газали продолжает свои рассуждения с целью продемонстрировать ложность высказываний о греховности музыки. Логическое доказательство того, что музыка не греховна, алГазали начинает с определения понятия «пение» (─инā’): «Поскольку в нем (т. е. пении — ─инā’) [присутствует] слушание (самā‘) приятных, размеренных звуков, имеющих смысл, волнующих сердце, то наиболее общее [его] описание [сводится к тому], что оно есть приятные звуки» [там же]. «Пение» в этом случае обозначает не только вокальную музыку, так как далее ал-Газали рассматривает как голос человека, так и «голоса» животных и различных музыкальных инструментов. Таким образом, понятие «пение», как совокупность «приятных звуков», даже шире, чем понятие «музыка» или «музыкальные звуки», так как включает помимо собственно музыкальных звуков, звуки природы (пение птиц). Согласно дальнейшим рассуждениям ал-Газали приятные звуки воспринимаются человеком при помощи слуха, который представляет собой одно из пяти чувств, и, следовательно, подобен всем другим чувствам. Если же наслаждение от созерцания прекрасного, вдыхания приятных запахов, вкусной пищи и прикосновения к приятным на ощупь вещам не считается грехом, то удовольствие от слушания приятных звуков не должно быть заклеймено как недозволенное. К этим чувствам ал-Газали также приравнивает такую человеческую способность, как разум, считая, что 148 он получает удовольствие от наук и познания таким же образом, как они. Следовательно, все красивое и приятное рассматривается как благое, в противоположность всему неприятному и омерзительному. Таким образом, красоте придается нравственный смысл, и эстетическая категория рассматривается как этическая, и наоборот, что, в целом, характерно для средневековой арабо-мусульманской культуры. Согласно одному из хадисов, приятные звуки не только дозволены, но и желательны: «Бог слушает человека, читающего Коран прекрасным голосом внимательнее, чем хозяин певицы слушает ее пение» [Ал-Газали [б.г.]: 268–269]. Однако на основании этого хадиса, можно заключить, что «прекрасный голос» приемлем лишь при чтении Корана. Ал-Газали опровергает это предположение следующим образом. Поскольку с точки зрения приятности звуки соловья и других певчих птиц не отличаются от звуков человеческого голоса или музыкальных инструментов, то их слушание одинаково должно быть либо дозволено, либо запрещено: «Если допустимо говорить, что это (восхваление красивым голосом. — Е. Ф.) дозволено, с условием, что это будет [чтение] Корана, то логически вытекает, что слушание пения соловья запрещено, поскольку он не читает Коран. Если же допустимо слушание беспорядочных звуков, в которых нет смысла, то почему недопустимо слушание голоса, из которого можно извлечь мудрость и подлинный смысл» [Ал-Газали [б.г.]: 269]. Поскольку музыка — это не только приятные, но и ритмичные звуки, то следующим этапом доказательства ее дозволенности будет рассмотрение «приятного размеренного звука». «Приятные размеренные звуки», по ал-Газали, бывают трех видов: звуки музыкальных инструментов, животных и человеческого голоса. Так как с точки зрения приятности и размеренности все эти звуки схожи, то, по мнению ал-Газали, между ними правомерно проводить аналогии. Ал-Газали считает, что «невозможно запретить слушание этих звуков лишь из-за того, что они приятны и размеренны, ведь невозможно запретить пение соловья и других птиц» [там же]. А если пение соловья, которое приятное и размеренное, не запрещено, то же должно относиться ко всем приятным и размеренным звукам, т. е. звукам музыкальных инструментов и человеческого голоса. Исключение составляют лишь те музыкальные инструменты, которые запрещены шариатом. Запрет струнных и некоторых духовых инструментов, используемых для развлечения (мaлâхӣ), связан не с тем, что 149 слушание их звуков приятно, «[ибо] если бы было так, то все, чем наслаждается человек, [осуждалось бы] таким же образом» [там же], а с тем, что игра на этих музыкальных инструментах часто сопровождала различные увеселения, в том числе пиры, на которых пили вино, что является грехом. В связи с этим, они стали ассоциироваться с винопитием и другими греховными наслаждениями, а запрет распространился на все, что «[служит] символом людей пьющих» [там же], поскольку запретное окружено некоторым пространством, ограждающим его от людей, для предотвращения совершения греха. Таким образом, игра на струнных и некоторых духовых инструментах запрещена не потому, что этим инструментам имманентно присущ грех, а лишь вследствие запрета винопития. Ал-Газали указывает три причины установления подобной связи. Согласно первой причине слушание игры на струнных и духовых инструментах побуждает к винопитию, поскольку удовольствие, получаемое от слушания, может стать полным, только если при этом пьют вино. Вторая причина заключается в том, что слушание игры на этих инструментах напоминает о вине. Так как на этих инструментах часто играют на пирах, где пьют вино, то слушание напоминает о винопитии, напоминание становится причиной возникновения желания выпить, а это желание, в свою очередь, будучи сильным, побуждает к действию, т. е. винопитию. По этой же причине запрещены не только струнные и духовые инструменты, но и сосуды для хранения и изготовления вина. Третья причина связана с тем, что люди, которые собираются вместе, чтобы послушать игру на вышеупомянутых музыкальных инструментах, уподобляются тем людям, которые собираются, чтобы пить, «уподобляться же им — запрещено, потому как тот, кто уподобился неким людям, тот [уже] стал одним из них» [там же]. Эта причина также относится к запрету не только музыкальных инструментов, но и других вещей, связанных с подражанием порочным и безнравственным людям. Исходя из этих причин, можно сделать вывод, что те инструменты, которые не напоминают ни о чем греховном, не запрещены. Слушание же запрещенных инструментов, играют ли на них приятно и размеренно или нет, все равно подлежит осуждению. Таким образом, запрет струнных и некоторых духовых музыкальных инструментов вытекает не из того обстоятельства, что их звуки приятны и размеренны, а из безнравственности того, что при этом делают. Здесь ал-Газали выступает 150 против использования музыки в качестве инструмента всего аморального, а не против нее самой. Далее ал‑Газали рассматривает приятные и размеренные звуки, соединенные со словами, имеющими смысл, т. е. пение поэтических текстов. Поскольку поэзия — это речь, имеющая смысл, а слушать понятную речь не запрещено, то и поэзия, в целом, дозволена. А если составляющие пения — понятная речь, приятные и размеренные звуки не запрещены по отдельности, то из этого логически вытекает, что целое, т. е. само пение, не может быть запретно. Осуждение и запрет стихов и песен оправдан лишь в том случае, если их содержание указывает на что-либо греховное. Поэзия, как и простая речь, если содержит благие слова, то является благом, а если дурные, то злом. То есть, является ли поэзия благом или злом, определяется ее содержанием, а не формой — рифмой и размером. Поэтому ее этические характеристики не зависят от того, читается ли она, поется или декламируется в сопровождении музыки. Другим веским доводом в пользу дозволенности поэзии и песен являются хадисы, рассказывающие о том, что они звучали в присутствии Пророка. Мало того, он не просто слушал их, но и сам просил, чтобы декламировали стихи или пели песни, в частности, худа — песни погонщиков верблюдов, что уже считается прямым указанием на дозволенность подобных действий, поскольку то, что делал или просил сделать других Пророк, не может быть грехом. В заключение последовательного рассмотрения составляющих пения, ал-Газали резюмирует: «Нельзя запретить [пение лишь] из-за того, что оно [представляет собой] понятную речь, доставляющую удовольствие, организованную в виде приятных звуков и размеренных мелодий» [Ал-Газали [б.г.]: 272– 273]. В рассуждениях ал-Газали о музыке и ее способности воздействовать на человека ключевым моментом выступают восприимчивость самого слушателя, поскольку «слушание не вызывает в сердце ничего такого, чего бы в нем не было, но волнует то, что в нем [есть]» [Ал-Газали [б.г.]: 273]. Музыка способна усилить чувства, которые испытывает человек, но не может вызвать в его душе те переживания, которые у него отсутствуют. Музыка сама по себе, как и ее влияние, не является исключительно добром или злом, поэтому ее осуждение или одобрение зависит от того, кто и с какими помыслами ее слушает: «У каждого человека бывает в сердце что-нибудь такое, что 151 с точки зрения религиозного закона допустимо и требует укрепления сего, и когда это [нравственное начало] увеличивается под влиянием музыки, то это будет добрым делом. Когда же в душе человека и в его сердце возникает ложь, осуждаемая религиозным законом, то и в музыке он найдет за это возмездие» [Газали 1980: 325–326]. То есть в каждом конкретном случае эффект, производимый музыкой, различается. Окончательно установить, является ли слушание музыки грехом, исходя из ее способности воздействовать на человека, невозможно, поскольку это воздействие зависит от «обстоятельств, людей и различных способов извлечения тонов» [Ал-Газали [б.г.]: 273]. Эмоциональное восприятие музыки зависит не только от условий, в которых ее слушают, но и от той цели, которую преследуют слушатели. Следовательно, дозволенность или запрет музыки определяется целью, с которой музыка используется, а не самой сущностью музыки. В связи с этим ал-Газали выделяет семь случаев, а в «Эликсире счастья» — четыре, когда музыка и цель, с которой ее исполняют и слушают, соответствуют нормам мусульманской этики и дозволены — это пение паломников, которое предназначено для того, чтобы вызывать у мусульман желание совершить хаджж, и для побуждения их к этому действию; песни, вселяющие отвагу и вызывающие в человеке гнев и ярость, направленные на врагов; декламация поэзии в размере раджаз, которая также используется для побуждения к сражению; плачи, вызывающие чувство печали и заставляющие плакать; песни, в честь радостных событий; любовные песни, вызывающее страсть, а также радость, если влюбленные вместе, и желание встретиться, если они в разлуке; слушание тем человеком, который любит Бога, страстно желает встречи с Ним и во всем видит Его проявление, т. е. суфийская духовная практика слушания. Однако даже эти виды дозволенного слушания в некоторых случаях могут быть запрещены: если человек не должен совершать хаджж, то пение, побуждающее его к хаджжу запрещено; пение, побуждающее к войне, также допустимо только в случае необходимости войны; поскольку скорбь бывает порицаемая, к которой относится скорбь по усопшему, и похвальная — покаяние в грехах, то плачи допустимы только в случае похвальной скорби; радостные песни дозволены лишь в тех случаях, когда радость уместна; песни влюбленных греховны, если они обращены к человеку, любовь к которому греховна, поскольку побуждение к тому, что запрещено, непозволительно. 152 В целом музыка становится запретной в пяти случаях: если исполнитель — женщина, вид или голос которой может вызвать греховное влечение; если играют на музыкальных инструментах, которые используются во время пирушек и женоподобными музыкантами; если песня содержит непристойные слова, сатиру или клевету на Бога, Пророка и его сподвижников, однако воспевание женской красоты не грешно, если в воображении слушателя при этом предстает его жена или ребенок или же он не соотносит описание с какой-либо конкретной женщиной; если слушатель молод и «в нем преобладает плотская страсть, а божественной любви и того, что она собой представляет, он просто еще не познал» [Хисматулин 1996: 145]; если человек чересчур увлекается слушанием, поскольку неумеренность в развлечении — грех. Однако во всех этих случаях причина запрета — также не само пение или игра на музыкальных инструментах, поскольку запрещено не слушание приятных размеренных звуков, соединенных со словами, обладающими смыслом, а те условия, при которых происходит исполнение и слушание музыки и которые не относятся к ее сущности. По характеру восприятия музыки ал-Газали делит слушание на три типа: беззаботное, когда «слушают невнимательно, в виде развлечения» [Газали 1980: 326]; порицаемое, если «в сердце человека может возникнуть запретное чувство» [там же]; похвальное, если «в сердце человека возникает некое достойное похвалы чувство, которое музыка усиливает» [там же]. Первый тип слушания музыки во время праздников или досуга дозволен в силу того, что наслаждение прекрасными звуками — не грех, а ее развлекательный характер сам по себе не аморален: «А все то, что запрещается из прекрасного, не позволительно вовсе не из-за того, что оно хорошо, прекрасно, а оттого, что в нем могут таиться известный вред и нечистота» [там же]. Во всех случаях эмоции, которые возникают у человека благодаря слушанию музыки, подчинены цели этого слушания и призваны способствовать ее достижению как посредством слов, так и при помощи самой мелодии. Речь, обладающая рифмой, размером и положенная на музыку, оказывает на людей более сильное воздействие, чем речь, произносимая прозой. Благодаря этой способности пение лучше доносит до человека и закрепляет в его сознании те нравственные ценности, которые пропагандируются в песнях. В «Книге об этике слушания и экстатического состояния» во второй главе «О влиянии слушания и его благопристойности», рас153 сматривается слушание как часть суфийского пути (╙арӣка) — метода, «который направляет ищущего по пути размышлений, чувств и действий, проводя его последовательно через “стадии” (ма║āмат), в едином сочетании с психологическим опытом, называемым “состояниями” (а╝вāл), чтобы он ощутил божественную Истину (╝акӣка)» [Тримингэм 2002: 28–29]. В соответствии с этим методом ал-Газали выделил в слушании три макама: «понимание слышимого и сведение его к смыслу, доходящему до слушающего» [Ал-│азāлӣ 1980: 97], экстатическое состояние (ваджд) и «воздействие экстаза, т. е. происходящего по его причине в явном» [Ал-│азāлӣ 1980: 123]. Согласно ал-Газали, после понимания (фахм) и экстатического состояния (ваджд) следует третий макам слушания — влияние (ā╗āр), оказываемое состоянием ваджд на человека. В заключительной части «Книги об этике слушания и экстатического состояния» ал-Газали описывает влияние экстатического состояния в виде его внешних проявлений: «обморок, плач, движения, разрывание одежд и тому подобное» [там же], а также нравственный облик слушания, т. е. какое поведение во время слушания благопристойное и соответствует нравственным установкам (āдāб). Введение некоего «морально-этического кодекса» слушания позволяло не только оградить суфиев, практикующих самā‘, от нападок радикально настроенных мусульманских богословов и уберечь от обвинений в неблагопристойном поведении, но и способствовало отделению самā‘ суфиев от светской, мирской музыки. Однако целью соблюдения этого морально-этического кодекса стало достижение «видения» и «слышания» Истины, что превращало сам процесс слушания в мистическое действие. Поэтому морально-этический кодекс слушания затрагивает не только «внешние» правила поведения, но и «внутренние», т. е. состояние души и разума слушающего. Завершая рассмотрение вопроса о запрете и дозволенности слушания, ал-Газали подводит следующий итог: «слушание может быть совершенно запретным или же дозволенным, ненавистным или же желанным» [Ал-│азāлӣ 1980: 131] в зависимости от того, какие чувства и помыслы владеют слушающим, поскольку слушание музыки может их только усилить: если человеком владеет страсть к бренному миру, то музыка умножает преобладающие в его душе порицаемые качества; если музыка воспринимается только как развлечение, то она «ненавистна»; если человек получает удовольствие от слу154 шания приятных звуков, т. е. получает эстетическое удовольствие от музыки, то это дозволено; желательна же она для тех, у кого она умножает «похвальные качества», т. е. способствует нравственному совершенствованию человека. Этический аспект музыки всегда занимал особое место в учении суфиев, в котором музыка предстает как средство, ведущее к слиянию с божественной сущностью и растворению в ней, вселяет в душу высокие ценности, любовь и устремление к Богу. Ал‑Газали, основываясь на этих идеях, детально разработал систему доказательств дозволенности музыки, при этом первостепенное значение ал‑Газали уделял причинам, по которым человек стремится слушать музыку: внимает ли он музыке из-за чувственного желания или по причине томления по Богу, поскольку слушание музыки делает явным то, что у человека на душе. Отрицая музыку, которая способствует разжиганию в человеке низменных плотских страстей и возбуждает у слушателей грубые чувственные впечатления, ал‑Газали настаивал на дозволенности эстетичекого наслаждения от музыки, а также на том, что “не надо запрещать наслаждаться звуками музыки, которые воспитывают в человеке чувства прекрасного, возвышают, облагораживают его нравственные и духовные качества” [Газали 1980: 320–321]. ЛИТЕРАТУРА Ал-│азāлӣ 1980 — Ал-│азāлӣ Абӯ ╞āмид. Воскрешение наук о вере: избранные главы. М., 1980. Газали 1980 — Газали Мухаммед. О музыке // Памяти А. А. Семенова. Душанбе, 1980. С. 324–353. Тримингэм 2002 — Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М., 2002. Хисматулин 1996 — Хисматулин А. А. Прагматический суфизм в братстве Накшбандийа: аудирование (самā‘) // Петербургское востоковедение. Вып. 8 / гл. ред. И. А. Алимов. СПб., 1996. С. 120–156. Ал-Газали — Ал-Газали. Ихйa’ ‘улум ад-дин (Воскрешение наук о вере). Ч. 2. [Б. м.], [б.г.]. 155 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ Алимов Игорь Александрович — доктор исторических наук, заведующий отделом Восточной и Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. hp.alimov@gmail.com Десницкая Евгения Алексеевна — кандидат философских наук, ассистент кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ. khecari@yandex.ru Завгородний Юрий Юрьевич — кандидат философских наук, научный сотрудник института философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины (Киев). zavhorodniy@gmail.com Казурова Наталья Валерьевна — аспирантка Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. kazurova@inbox.ru Кравцова Марина Евгеньевна — доктор филологических наук, профессор кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ. kravtsova_sin@mail.ru Sebastian C. D. — Associate Professor of Indian Philosophy, Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology Bombay. sebastian@iitb.ac.in Singh Abhimanyu — Professor of Buddhist Philosophy and Logic, Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University. Скороходова Татьяна Григорьевна — доктор философских наук, профессор кафедры социологии и теории социальной работы Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. Skorokhod71@mail.ru Солонин Кирилл Юрьевич — доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ. solonin12@gmail.com Усеинова Софья Рустэмовна — ассистент кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ. sonia.useinova@gmail.com Федорова Екатерина Сергеевна — аспирантка кафедры философии и культурологии Востока философского факультета СПбГУ. Kate.fedorova@gmail.com 156 СОДЕРЖАНИЕ Солонин К. Ю. Марина Евгеньевна Кравцова: ученый и учитель.....................3 Алимов И. А. Заметки о Сяошо: кратко о «Записях о тьме и свете» Лю И-цина (403–444)....................................................................................................7 Кравцова М. Е. Опыт тематического анализа китайской лирической поэзии эпохи шести династий (III–VI вв.).....................................................................28 Солонин К. Ю. О «систематичности» тангутских буддийских текстов и тангутском государственном культе.......................................................................60 Десницкая Е. А. Оппозиция означаемого и означающего в индийской грамматической традиции............................................................................................69 Завгородний Ю. Ю. Львовский период в творчестве Станислава Шайера......76 Singh Abhimanyu, Sebastian C. D. The Initiation of the Chinese to Mādhyamika Buddhism: a Revisitation and some Objections...................................................90 Скороходова Т. Г. Религиозный опыт лидеров общества «Брахмо Самадж» и философская мысль бенгальского ренессанса............................................103 Казурова Н. В. Кинематограф как инструмент культурной экспансии Ирана в странах мусульманского Востока..............................................................118 Усеинова С. Р. Страница из истории арабской поэзии позднего средневе­ ковья: творчество ‘Абд ар-Рахима ал-Бура‘и...................................................132 Федорова Е. С. Этический аспект музыки в трактате ал-Газали «Воскрешение наук о вере»......................................................................................................144 Сведения об авторах....................................................................................................156 Научное издание ASIATICA Труды по философии и культурам Востока Выпуск 7 Редактор Л. А. Карпова Компьютерная верстка А. М. Вейшторт Подписано в печать 18.11.2013. Формат 60 × 84 1/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 9,3. Тираж 150 экз. Заказ № 236 Издательство СПбГУ. 199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21. Тел./факс (812)328-44-22 E-mail: info@unipress.ru www.unipress.ru Типография Издательства СПбГУ. 199061, С.-Петербург, Средний пр., 41