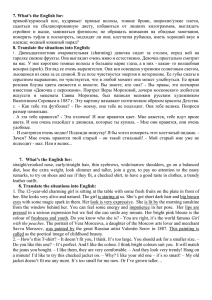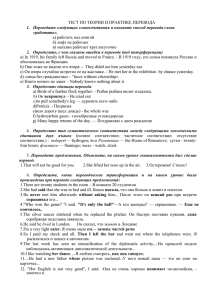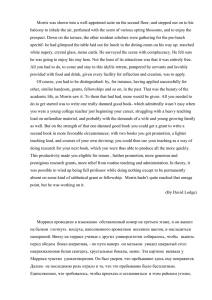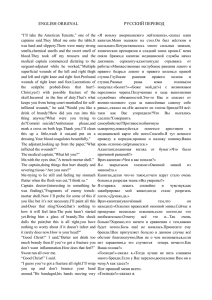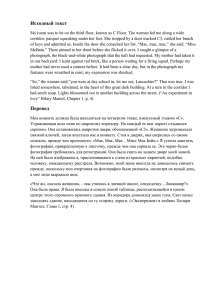Неискренний дискурс - Иркутский государственный
advertisement

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ С. Н. ПЛОТНИКОВА НЕИСКРЕННИЙ ДИСКУРС (В КОГНИТИВНОМ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ) ИРКУТСК 2000 2 Печатается по решению редакционно-издательского совета Иркутского государственного лингвистического университета ББК 81 С. Н. Плотникова. Неискренний дискурс (в когнитивном и структурно-функциональном аспектах). - Иркутск: Изд-во Иркутского государственного лингвистического ун-та, 2000. – 244 с. Отв. редактор - доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук высшей школы, профессор Ю. М. Малинович Рецензенты: доктор филологических наук, профессор Л. М. Ковалева доктор филологических наук, профессор А. М. Каплуненко Монография посвящена анализу лингвистических аспектов выражения неискренности в речевом общении. Рассматривается комплекс вопросов, связанных с общими проблемами разграничения текста и дискурса и представления знаний в языке. Выделены принципы порождения неискреннего дискурса и его различные сценарии. Предлагаются модели верификации неискренности, основанные на анализе особенностей референции, тема-рематической организации высказываний, контактных и дистантных межфразовых связей в структуре диалога и монолога. Для лингвистов и филологов широкого профиля. ISBN 5-88267-098-5 Плотникова С. Н., 2000 3 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ......................................................................... ГЛАВА 1. НЕИСКРЕННИЙ ДИСКУРС КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 1. Концепт неискренности ......................................................... 2. Статус дискурса в теории языка ............................................ 3. Пропозициональный анализ семантики неискреннего дискурса …………………………………………………... 4. Неискренность как дискурсивная стратегия языковой личности …………………………………………………... ГЛАВА 2. ПОРОЖДЕНИЕ НЕИСКРЕННЕГО ДИСКУРСА 1. Общие принципы порождения дискурса ............................. 2. Спонтанно порождаемый неискренний дискурс ................. 3. Предварительно подготовленный неискренний дискурс ... 4. Периодически возобновляемый неискренний дискурс ...... ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В НЕИСКРЕННЕМ ДИСКУРСЕ 1. Планирование и понимание ситуации общения .................. 2. Прагматическая ситуация неискренности ............................ 3. Сценарии неискреннего дискурса 3.1. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к настоящему ...................................... 3.2. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к прошлому ......................................... 3.3. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к будущему ......................................... 4. Неискренность и игра ......................................…................... 5. Неискренний дискурс в форме реминисценцийдайджестов ……………………………………………...... 6. Неискренний дискурс и фактор адресата ............................ 5 12 28 40 48 67 75 84 90 100 111 120 127 131 134 141 147 4 ГЛАВА 4. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕИСКРЕННЕГО ДИСКУРСА 1. Особенности референции при выражении неискренности 1.1. Фокусирование центрального референта ......................... 1.2. Конкретная референция ..............................…................... 1.3. Абстрактная референция ..................................................... 2. Тема-рематическая организация дискурса при выражении неискренности 2.1. Способы представления темы ............................................ 2.2. Рематическая доминанта в формировании смысла .......... 3. Структура диалога при выражении неискренности 3.1. Выражение неискренности в инициирующих репликах .. 3.2. Выражение неискренности в ответных репликах ............. 4. Неискренний дискурс в форме монолога ............................ ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЕРИФИКАЦИИ НЕИСКРЕННОСТИ 1. Герменевтические основы верификации неискренности ... 2. Верификация, осуществляемая адресатом ........................... 3. Верификация, осушествляемая неискренним участником общения ....................................................................................... 4. Взаимная верификация ........................................................... Заключение .................................................................................. Список использованной литературы ....................................... Список принятых сокращений и цитированных источников 155 156 159 164 173 181 187 192 198 201 205 210 216 218 243 5 ПРЕДИСЛОВИЕ Целью данной монографии является разработка общего теоретического представления о роли неискренности в речевом общении и анализ языковых механизмов, лежащих в основе выражения неискренности в английском языке. Неискренность понимается как дискурсивная стратегия языковой личности, направленная на интенциональное выражение ложных пропозиций и их соответствующее языковое оформление. В книге решается комплекс вопросов, связанных с раздельным рассмотрением ложности как свойства пропозиций, то есть такого знания о некоем возможном мире, которое противоречит объективной картине этого мира, и неискренности как характеристики говорящего субъекта, связанной с его коммуникативными намерениями и особенностями ситуации общения. Несмотря на наличие значительного числа работ по лингвистической прагматике, в целом, и в области исследования концептуальной организации знаний, в частности, многие направления остаются недостаточно разработанными, а некоторые проблемы намечены лишь в самых общих чертах. К таким проблемам относятся и лингвистические аспекты выражения неискренности. Вместе с тем языковые средства, передающие неискренность, присущи многим сферам системной организации языка и процессам порождения речи. Нельзя познать язык в полном объеме, не учитывая все многообразие его потенциальных возможностей, реализуемых в интерактивном взаимодействии говорящих. Выражение неискренности влияет как на глубинный, пропозициональный уровень высказываний, так и на характер их поверхностной структуры. Данная тема имеет непосредственное отношение к общей проблеме представления знаний в языке, что позволяет рассматривать ее в рамках когнитивной концепции языка. На активную роль говорящего в создании истинностных значений в процессе общения одним из первых указал П. Грайс. В наборе предложенных им максим Кооперативного Принципа присутствует супермаксима качества, предписывающая говорящему пытаться сделать свое участие в общении отвечающим истине (―Try to make your contribution one that is true‖). Важность фигуры говорящего в создании истины акцентируется двумя специфицирующими максимами: 1. ―Не 6 говори то, что по твоему мнению является неверным‖ (―Do not say what you believe to be false‖); 2. ―Не говори того, для чего у тебя нет адекватного подтверждения‖ (―Do not say that for which you lack adequate evidence‖) (Grice 1985, 27). Подхватывая идеи Грайса, Р. Лакофф возводит истину в абсолют, утверждая, что коммуникация без истины просто невозможна. По ее мнению, ситуацию разговора определяют следующие три основные правила: 1. ―То, что сообщается собеседниками друг другу, истинно‖; 2. ―Все, что говорящий хочет сказать, должно быть сказано – сообщаемое неизвестно для окружающих и не является самоочевидным‖; 3. ―Согласно правилу 1, говорящий, делая какое-либо утверждение, полагает, что слушающий будет верить его словам‖ (Цит. по Болинджер 1987, 42). Таким образом, в теории речевых актов рациональность (следование истине) и искренность (сознательная приверженность истине) провозглашаются в качестве законов, которым говорящий должен непременно следовать. Что касается понятия неискренности, то оно не получило детальной разработки в теории речевых актов. Это объясняется в первую очередь тем, что принципы искренности и истинности трактуются как первичные и основополагающие для ведения разумного, рационального общения. Согласно Грайсу, в процессе сотрудничества говорящих во время разговора максима качества является главенствующей в том смысле, что все другие максимы вступают в действие только при условии ее соблюдения. Тем самым подразумевается, что при несоблюдении максимы качества говорящий отклоняется от рационального поведения. Продолжая свой формальный анализ, Грайс приводит в качестве примеров нарушения максимы качества такие явления, как ирония, метафора, гипербола и т.п. Однако, как показало более детальное исследование, для подобных выводов нет веских оснований. В частности, при изучении метафоры было доказано, что нельзя связывать идею истины с объективистской точкой зрения и что необходимо учитывать роль категоризации в истине (Лакофф, Джонсон 1987; Хахалова 1998). Многочисленные работы по анализу разговора (конверсационному анализу) свидетельствуют о том, что максимы Грайса постоянно нарушаются говорящими, особенно в таких типах бесед, в которых 7 проявляются отношения власти, враждебность, корыстные интересы собеседников (Weiser 1975; Jameson 1987; Блакар 1987; Ochs 1979; Short 1989; Simpson 1989; Toolan 1989; Николаева 1990; Шаховский 1998). Тем не менее, в лингвистических трудах по этой проблематике упор делается на анализ проблем выражения истины и искренности, а средства выражения ложности и неискренности остаются вне поля зрения (Dummett 1978; Travis 1981; Davidson 1984; Halett 1988). Сложность исследования неискренности в рамках теории речевых актов состоит в том, что глаголы типа lie (лгать), deceive (обманывать), slander (клеветать), incite (подстрекать), insinuate (инсинуировать), berate (поносить), egg on (подбивать), goad (побуждать) и т.п. не могут употребляться в качестве перформативов как некоторые другие глаголы говорения ввиду того, что ―утверждение пропозиции р несовместимо с допущением о том, что р может быть сомнительным или ложным‖ (Вендлер 1985, 242-243). Данные глаголы обозначают предосудительные коммуникативные намерения и поэтому их иллокутивные цели замаскированы и не подлежат экспликации. По уточнению Вендлера, если говорящий использует глагол лгать, то подрыв речевого акта осуществляется самим глаголом (Вендлер 1985, 249). Осуществляя свои подрывные цели, говорящий вряд ли ограничится одним – двумя речевыми актами. Это связано с тем, что для незаметного осуществления своего намерения он должен выбрать надежный перформатив, например, такой как assert (утверждать) или declare (заявлять), либо же использовать сразу несколько перформативов, которые бы, с одной стороны, выразили ту же самую иллокутивную цель (внушение собеседнику ложной пропозиции), но, с другой стороны, не разрушали бы эту цель подрывным фактором в своей семантике. Как представляется, лингвистические аспекты выражения неискренности в общении можно наилучшим образом описать не в рамках отдельных речевых актов, а в рамках дискурса, определяемого как серия или последовательность взаимосвязанных речевых актов (Арутюнова 1990, 412; Дейк, Кинч 1988, 160). С точки зрения единиц языковых уровней дискурс определяется как произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения (Степанов 1995, 38). 8 По определению В. З. Демьянкова, ―отношение к другому человеку не является производным, а составляет суть дискурса. Этот ―другой‖ не бесформен: весь смысл циркулирует между определенными жизненными позициями‖ (Демьянков 1995, 284). Дискурс переводит процесс развертывания предложения или текста на высший мотивационный уровень – уровень структуры языковой личности (Винокур 1993, 30). Тем самым акцентируется лингвокреативная деятельность адресанта в создании речевого произведения. Не менее важна и роль адресата. Конституирующая черта дискурса состоит в том, что дискурс предполагает и создает своего рода идеального адресата (Степанов 1995, 42). Не вызывает сомнений, что смысл дискурса может циркулировать между истиной и ложью, искренностью и неискренностью, а адресат часто представляется адресанту таким человеком, чьи коммуникативные интересы могут быть ограничены или попраны. Важным признаком дискурса является то, что он продуцируется вокруг некоторого опорного концепта и характеризуется не столько непрерывной последовательностью предложений, сколько наличием синтагматических ограничений на возможные линейные последовательности предложений (Stubbs 1984). Неискренний дискурс порождается вокруг концепта неискренности и может носить прерывистый характер, перемежаясь с искренним дискурсом и получая дальнейшее развитие в соответствующей ситуации общения. Объектом исследования в монографии выступает неискренний дискурс, собранный на основе сплошной выборки из произведений англоязычной художественной прозы, а также языковой материал, рассматриваемый в лингвистических трудах по указанной проблематике. Легитимность использования художественных произведений для анализа социального взаимодействия людей обосновывается одной из общепринятых философских теорий последнего времени - теорией возможных миров (Карнап 1959; Целищев 1977; Lewis 1986; Столнейкер 1985 и др.). Данная теория позволяет осмыслить представление об истинности/ложности той или иной пропозиции с точки зрения положения вещей не в мире в целом, а в некоем возможном (или альтернативном) мире, с которым соотносится данная пропозиция. По мнению философов, теория возможных миров, с одной сто- 9 роны, способствует анализу знаний в процессе их постоянного изменения и, с другой стороны, делает возможным анализировать так называемые заданные миры, содержащие утверждения о гипотетических или воображаемых ситуациях. Д. Льюис, анализируя проблему истины в художественном тексте, приходит к выводу, что писатели создают особые возможные миры, основанные на их собственном знании об этих мирах. Однако эти вымышленные миры должны быть обязательным образом связаны с фактами реального мира, подобными изображаемым в тексте. Фоном для разграничения истинных и ложных пропозиций в вымышленном мире служит не только его внутреннее устройство, описанное писателем, но также факты реального мира и система верований, принятых в обществе, в котором было создано данное художественное произведение. Более того, художественное творчество помогает лучше познать объективную реальность ввиду того, что в нем имеет место осмысление множества фактов в обобщенных образах и ситуациях (Lewis 1983, 272 – 273). Важную роль играет герменевтическая активность интерпретатора художественного текста. Так, М. Гловинский разработал понятие стиля восприятия и выделил семь таких стилей: мифологический, аллегорический, символический, инструментальный, миметический (восприятие через соотнесение с фактами действительности), экспрессивный (восприятие через личность автора), эстетический (Цит. по Арутюнова 1981, 365). Несомненно, что для лингвистического анализа истинности/ложности наиболее важно миметическое восприятие, при котором исследователь соотносит получаемые из художественного текста данные со своей интуицией о реальном процессе речевого общения. Исследование неискренности может стать одним из звеньев общего герменевтического анализа интерпретативной деятельности, направленной на адекватное понимание языковых сообщений. Данная тема актуальна с точки зрения ее широкой функциональной ориентации и связи с прикладными областями, в частности, с исследованиями в области судебной лингвистики и судебной психологии (Larson 1969; Fingarette 1969; Леонтьев, Шахнарович, Батов 1977; Ekman 1985; Филонов 1985; Китайгородская, Розанова 1989; Bulow-Muller 1991; Coulthard 1993; Плотникова 1996; Доценко 1996; Лухьенбрурс 10 1996), в области политологии, теории игр, литературоведения, этнографии (Kirkpatrick 1963; Barnds 1969; Koppett 1973; Wise 1973; Rockwell 1974; Goody 1977; Maddox 1984; Basso 1987). Необходимость исследования неискренности как свойства личности обосновывается также философскими работами в области осмысления проблем неравенства (Бердяев 1990), взаимопонимания (Абалакина, Агеев 1990; Бубер 1993), разрешения конфликтов, ведения переговоров (Сергеев 1987; Фишер, Юри 1987; Сафаров 1991). Правомерность углубленного анализа неискренности в рамках одного языка можно обосновать спецификой коммуникативнопрагматического аспекта функционирования языковой системы, требующей учета того лингвистического инвентаря, который реально используется в речевом общении в каждом конкретном языке. В близких к нашей работе по кругу поднимаемых вопросов исследованиях семантических и коммуникативно-прагматических категорий указывается на необходимость их изучения вначале в отдельных языках, после чего уже можно будет вести речь о контрастивном подходе и о рассмотрении их как лингвистических универсалий (Туранский 1990; Сущинский 1991; Ямшанова 1992; Йокояма 1992; Ермакова, Земская 1993; Аошуан 1994; Янко 1994). О специфике структурносемантического представления личностных свойств в разных языках свидетельствуют также исследования образа человека на основе выборки данных различных языковых систем (Апресян 1995; Сорокин 1995; Воркачев 1998). Как явствует из этих работ, образ человека не является чем-то фиксированным и само собой разумеющимся; его изучение требует осторожности и отказа от кажущихся очевидными поверхностных суждений. В задачи монографии входит решение следующих проблем: * концептуальный анализ термина неискренность в ряду смежных концептов и терминов; * определение статуса неискреннего дискурса в теоретической модели языка; * исследование условий порождения неискреннего дискурса; * экспликация структур знания, стоящих за неискренним дискурсом; * объяснение выбора языковых средств, задаваемых разными типами сценариев неискреннего дискурса; 11 * выявление типичных моделей адресата неискреннего дискурса; * описание обобщенных структурно-семантических параметров (номинативных единиц, синтаксических конструкций, межфразовых связей), наблюдаемых при выражении неискренности; * анализ формальных механизмов, способствующих верификации неискренности. Автор надеется, что предлагаемая теоретическая модель неискреннего общения, рассматриваемая в общем плане и в английском языке в частности, вносит определенный вклад в выделение новых аспектов в проблематике «язык и человек». Впервые неискренность трактуется как дискурсивная стратегия языковой личности, направленная на воплощение особого личностного смысла. Впервые дается обоснование принципов порождения дискурса, на основе которых классифицируются типы неискреннего дискурса в зависимости от условий процесса его порождения. Новым является также анализ прагматической ситуации неискренности с позиций когнитивной лингвистики и выделение на этой основе различных типов сценариев неискреннего дискурса. Впервые проводится комплексное структурно-семантическое описание единиц разных уровней языковой системы, выражающих неискренность в английском языке, с указанием конкретных механизмов референции, актуального членения высказываний, экспрессивной окрашенности, особенностей структуры диалога и монолога, межфразовых связей. В монографии намечены пути дальнейшего, более углубленного изучения речевого общения в свете новых представлений о межуровневых отношениях в языке. 12 ГЛАВА 1. НЕИСКРЕННИЙ ДИСКУРС КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 1. Концепт неискренности По мере того, как интересы лингвистов все больше концентрируются на изучении роли человека в языке, возникает необходимость в создании новых терминов, позволяющих включить в рассмотрение новые объекты. Задаваясь вопросом о том, откуда берутся понятия нового метаязыка и новая методология, Р. М. Фрумкина указывает на то, что, как правило, они не сочиняются заново, а заимствуются, и чаще всего из смежных наук. В последнее время, однако, в эпистемологии лингвистики наблюдается новая тенденция – расширение списка разрешенных к постановке проблем за счет анализа самого естественного языка как основной формы фиксации наших знаний о мире, равно как и источника самих этих знаний (Фрумкина 1995, 86). В настоящий момент новая терминология интенсивно создается в области теории речевого общения и, в частности, в ее разделе, посвященном анализу взаимодействия говорящего (пишущего)/слушающего (читающего). В эту дихотомию необходимым образом включается фигура наблюдателя, или, в другой терминологии, интерпретатора (Демьянков 1981; Падучева 1993; Кравченко 1993), причем наблюдатель играет особую роль ввиду того, что он может также совмещать в себе функции порождения дискурса и его восприятия. Другими словами, говорящий и слушающий может одновременно выступать в роли наблюдателя. Анализ речевого общения включает в себя самые различные аспекты. В настоящей работе исследуется проблема истинностной оценки сообщения с позиций наблюдателя. Данная проблема находится на начальном этапе изучения, поэтому представляется важным определить те концепты, с помощью которых наблюдатель оценивает ситуацию общения. На наш взгляд, одним из таких концептов является концепт неискренности. Приведем ряд примеров явлений, которые рассматриваются нами как неискренность. Во многих случаях участник общения является одновременно наблюдателем, оценивающим свой дискурс как неискренний. Например: 13 Burlap that morning was affectionate. ―Old man,‖ he said, laying a hand on Walter‘s shoulder, ―shouldn‘t we go out and eat a chop together somewhere?‖... ―Alas,‖ said Walter, trying to simulate an answering affection, ―I‘m lunching with a man at the other end of London.‖ It was a lie; but he couldn‘t face the prospect of an hour with Burlap in a Fleet Street chophouse (Huxley, p. 357). Оценка дискурса как неискреннего может иметь место в более широком социальном контексте. Например, лесть может воспроизводиться многократно, и не одним, а несколькими говорящими, причем, они осознают свою неискренность: The men standing outside watched him mechanically take the geranium out of his coat and put it in an ink-pot filled with water. It was against the rules to wear flowers in business. During the day the department men who wanted to keep in with the governor admired the flower. ―I‘ve never seen better,‖ they said, ―you didn‘t grow it yourself?‖ ―Yes I did,‖ he smiled, and a gleam of pride filled his intelligent eyes (Maugham, p. 619). Участник общения может эксплицитно указать собеседнику на его неискренность: The Mouse urged him to bed. ―Nonsense. Like to hear you young things talk.‖ She said gently, ―Stop pretending. You‘re tired‖ (Fowles, p. 101). В связи с приведенными примерами встает вопрос о том, благодаря каким языковым механизмам те или иные высказывания оцениваются как неискренние. Эта проблема, в свою очередь, требует теоретического обоснования термина неискренность. Современный подход к проблеме истинности/ложности, при котором смысл трактуется не как абстрактное формальное представление, а как сущность, связанная с адресантом и адресатом, обусловил появление целого ряда терминов, указывающих на осознанное выражение ложности в процессе общения, таких как неискренность, обман, ложная информация, тенденциозное представление события, манипулирование истиной, дезинформация и т.п. Для выбора наиболее адекватного термина требуется дать концептуальное объяснение изучаемого явления. На наш взгляд, слово неискренность представляет 14 собой наиболее адекватное обозначение для единого концепта, лежащего в основе всех упомянутых языковых выражений. Согласно теории Д. С. Лихачева, концепт представляет из себя своего рода ―алгебраическое‖ выражение значения. Концепт позволяет отвлекаться от мелочей и преодолевать существующие между общающимися различия в понимании слов и их толковании. Концепт существует для каждого основного (словарного) значения слова отдельно, и, таким образом, слова, их значения и концепты могут рассматриваться по отдельности. Важно то, что концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от друга, составляют некие целостности, определяемые как концептосфера (Лихачев 1993, 6). Для нашего исследования важна мысль о том, что в единую концептосферу могут входить самые разные слова; единственным условием их объединения является семантическая близость значений. То, что перечисленные выше термины близки по значению, не вызывает сомнений, так как в специальной литературе они, в основном, определяются друг через друга. Следует указать на отличие термина концепт от более привычного термина понятие. Е. С. Кубрякова указывает, что они характеризуют разные аспекты человеческого сознания и мышления. В то время как понятие является одной из важнейших разновидностей отражения объективной действительности, реализуемой в определенной логической форме, концепт трактуется расширительно. Он включает разносубстратные единицы и привязан к различным языковым выражениям – именам, дескрипциям и т.п. (Кубрякова 1988, 143). Применительно к рассматриваемому нами списку терминов можно сказать, что они базируются именно на едином концепте, а не на понятии, так как в их состав входят разные по форме языковые выражения - слова и словосочетания. Лингвисты все чаще говорят о концептуальном анализе как о новом методе лингвистических исследований, который, с одной стороны, направлен на анализ лингвистических концептов, а, с другой стороны, представляет собой анализ с помощью концептов как единиц описания, употребляемых наряду с более привычными терминами типа семантических признаков, принятых в компонентном анализе. Обобщая различие между семантическим и концептуальным анализом, Е. С. Кубрякова отмечает, что хотя они обнаруживают точки 15 соприкосновения, их конечные цели нетождественны. Семантический анализ направлен на экспликацию семантической структуры слова, уточнение реализующих ее денотативных, сигнификативных и коннотативных значений. Концептуальный анализ направлен на ―поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры‖ (Кубрякова 1991, 85). Концептуальный анализ позволяет приступить к изучению концептуального устройства языка, ведущего к осмыслению мира в терминах концептов. Данный метод позволяет также проникнуть в тайны языкового сознания, поскольку ―концепты - идеальные единицы сознания, составляющие часть общей концептуальной модели мира‖ (Кубрякова 1991а, 89). Для определения концепта обычно выделяют группы контекстов, в которых функционируют языковые средства со сходным значением. В семантической структуре слов выявляются признаки, указывающие на принадлежность к тому или иному концептуальному полю, или концептосфере. Ставится задача создания иерархии слов на основе отделения первичных понятий от вторичных и производных. При этом исследователи обычно прибегают к членению единого поля на несколько предметных областей или ассоциативных сфер. Концепт определяется путем абстракций различного типа в каждой из этих областей, когда посредством все больших обобщений выбирается нужное слово. Подчеркивается, что концепт - это не хаотичное нагромождение значений или смыслов, а логическая структура, имеющая внутреннюю организацию. Структура концепта может быть цепочечной, радиальной и смешанной. В структуре концепта есть также центральная и периферийная зоны, причем последняя способна к дивергенции, то есть вызывает удаление новых производных значений от центрального. В основе концепта лежит его базисный элемент или исходная прототипическая модель, например, в основе концепта ―вопрос‖ лежит прототипическое значение ―поставить вопрос - решить вопрос‖ (Рябцева 1991, 73). Отмечается, что процессы концептуализации и категоризации несут заметный отпечаток человеческого опыта и человеческой культуры, поэтому концепты должны формулироваться не столько в рамках отдельного языка, сколько с позиций единой культуры, а многие 16 концепты, по-видимому, универсальны, например, такие как вежливость (Brown, Levinson 1987), интенсивность (Туранский 1990), акцентирование (Сущинский 1991) и т.п. Эмпирически, и концепт неискренности представляется универсальным концептом культуры и языка. Изучение мировоззренческих и культурологических концептов становится в последнее время приоритетной языковедческой задачей. Особое внимание уделяется концептам, связанным с ментальными и речевыми действиями, эксплицитное описание которых является темой все большего числа научных публикаций. В более общем плане, изучение семантики личностной пристрастности говорящего признается в качестве одной из актуальных проблем современной лингвистики. Ю. М. Малинович определяет личностную пристрастность говорящего как специфическое видение человеком мира и себя в этом мире, причем это понятие является значимым не только для лингвистики, но и для других наук о человеке. Что касается языковедческих исследований, то анализ семантики личностной пристрастности занимает важное место в анализе субъектного плана языка, ориентированного на смыслы и их релевантность в универсуме (Малинович 1996, 87). Как явствует из последних лингвистических исследований, концепт неискренности следует анализировать в пределах общей концептосферы, включающей такие концепты, как истинность/ложность, истина/ложь, искренность/неискренность и др. Интересно, что многие концепты в данной концептосфере носят бинарный характер, и, более того, во многих случаях они определяются друг через друга. Не случайно, видимо, рассматривая отражение действительности посредством корпуса высказываний, В. Г. Гак употребляет такие термины, как не-ложь и не-истина. Не-ложь включает истину и правду, а неистина включает заблуждение и вымысел (выдумку). Вымысел, в свою очередь, может быть представлен самыми различными вариантами (Гак 1995, 24). Применяя новый метод - метод концептуального анализа - к исследованию неискренности, требуется прежде всего найти тот обобщенный идентификатор, в соответствии с которым все вышеприведенные термины можно истолковать как связанные друг с другом в концептуальном плане. На наш взгляд, таким идентификатором явля- 17 ется концепт ложности. Именно этот концепт можно считать той семантической базой, из которой возникает новый концепт, обозначенный нами как неискренность. Можно утверждать, что неискренность возникает из ложности, однако не тождественна ей. Для доказательства этого положения необходимо принять во внимание специфику различных средств выражения истинностной оценки. В лингвистических исследованиях можно найти упоминания о том, что слова, выражающие истинностную оценку, выстраиваются в определенные ряды. Так, Н. Д. Арутюнова пишет, что со значением ―истинно‖ в русском языке могут употребляться следующие слова: истина, правда, правильно, верно, так и есть, само собой разумеется, несомненно, согласен, ты прав, верю, факт. Со значением ―ложно‖ употребляются слова: ложь, неправда, неправильно, не верно, не так, не согласен, ты не прав, ты ошибаешься (заблуждаешься), не верю, выдумка, вранье, клевета, сплетня, навет, поклеп, инсинуация, бред, вздор, чушь, чепуха, заблуждение, быть не может и большое число фразеологизмов (как бы не так, какое, ничуть не бывало и проч.) При этом оба списка остаются открытыми (Арутюнова 1990, 179). По нашему мнению, приведенный список слов, выражающих ложность, можно разделить на две четко разграничиваемые группы группу слов, выражающих оценку собственно пропозиционального содержания (ложь, неправда, не верно и т.д.), и группу слов, выражающих сомнение в искренности говорящего (не верю, вранье, клевета, инсинуация и т.д.). Можно сделать вывод, что слова, входящие во вторую группу, выражают иной концепт, чем ложность, а именно: концепт неискренности. Концепт неискренности необходимым образом включает в себя ложность, так как быть неискренним - значит говорить ложь. Неискренность представляет собой презентацию ложности говорящим. ―Говорить выступает в качестве предпосылки и условия для существования истины и лжи, ведь только говоря (утверждая) что-либо, можно выразить истину или ложь или же просто сказать: истина, ложь‖ (Лукин 1993, 41). Интересно отметить, что в приведенном выше списке Н. Д. Арутюновой вторым словом после слова истина является слово правда, однако оно пока не используется в качестве лингвистического термина, видимо из-за того, что несет в себе ярко выраженное культуроло- 18 гическое значение. Будет уместно вспомнить работу Ю. С. Степанова, в которой он назвал слово правда одним из ключевых слов культуры, под которыми понимаются слова, передающие связь между языковой семантикой и семантикой культуры (Степанов 1972, 175). По мнению А. Вежбицкой, надежным приемом концептуального анализа является прием лингвистической интроспекции, заключающийся в том, что ученый подвергает анализу все языки, которыми владеет в совершенстве, и конструирует концепты на основе интерпретации и соположения смыслов, выражаемых в разных языках. Результатом интроспекции является вербальная формулировка соответствующего концепта. Прием интроспекции особенно полезен при определении сложных концептов, например, из сферы эмоций. Вежбицкая утверждает, что эмоциональные концепты, скажем, такие как зависть (jealousy), лучше всего поддаются определению через изучение прототипических ситуаций в различных языках. Очевидно, в человеческом мышлении существуют некие базовые прототипические концепты, которые можно считать универсальными семантическими примитивами (Wierzbicka 1996, 161 - 167). Обоснованность подобной гипотезы находит все больше подтверждений (см. в частности, Сахарный 1991). Если использовать данный метод, то соположение русских и английских терминов (истинность/ложность; truth/falsehood) указывает на то, что в их основе лежат одни и те же концепты, формулируемые в специальной литературе как соответствие/несоответствие выражаемых смыслов состояниям, процессам, положениям вещей в реальном или некоем возможном мире. Наиболее полное определение указанных концептов дано Н. Д. Арутюновой: ―Существительные истина и ложь, будучи значениями, принимаемыми связкой, легко сдвигаются в своем употреблении в сторону целого суждения: То, что Земля вращается вокруг Солнца, истина. Эта истина известна всем. Вместе с тем, верифицированное суждение, то есть истина, часто отождествляется и с самим явлением действительности‖. И далее: ―В эпистемическом контексте понятие истины становится реляционным. Оно замыкается на связке. Истина превращается в истинность. Она противопоставлена ложности, то есть подчинена режиму алетической, а не деонтической модальности‖ (Арутюнова 1991, 25). Мысль о том, что истинность и ложность могут проявляться не 19 только как некие объективные данности о мире, но также особым образом создаваться в процессе коммуникации и осознаваться в рамках ситуации общения, высказывается не только в многочисленных лингвистических трудах, но получает также и философское обоснование. В качестве примера приведем концепцию Д. Льюиса, который выделяет истину (truth) как свойство пропозиций и правдивость (truthfulness) как характеристику человека. Задаваясь вопросом, можно ли представить себе альтернативу правдивости, Льюис рассуждает следующим образом: ―Мы можем представить себе население, состоящее из одних отъявленных лгунов или из людей, которые подозревают друг друга во лжи, или из людей, которые используют свой язык только для того, чтобы рассказывать на нем невообразимые истории‖ (Lewis 1986, 195). По мнению философа, правдивость/неправдивость отличаются от истинности/ложности тем, что они зависят от говорящего. Вместе с тем общающиеся не всегда знают, что значит быть правдивым в языке L. ―Логически возможно, таким образом, придерживаться принципа правдивости в L, не имея при этом общего понятия о правдивости в L‖ (Lewis 1986, 183). Продолжая эту мысль, Льюис пишет, что, подобно тому, как велосипедист не всегда понимает на уровне сознания, какие физические законы управляют его ездой на велосипеде, так и говорящий не всегда понимает, почему он выбирает правдивость или неправдивость в своем общении с тем или иным собеседником и каким образом он их выражает. Выражение ложных пропозиций может быть как осознанным, так и неосознанным. Продолжая свою аналогию с велосипедистом, Льюис отмечает, что для того, чтобы понимать происходящие в нем процессы на уровне сознания, велосипедист должен знать законы физики. Точно также для того, чтобы осознанно выражать ложные пропозиции, неправдивый говорящий должен знать, каким образом их можно выразить при помощи знаков. И для этого совсем необязательно быть ученым, так как некоторые виды человеческой деятельности строятся на открытых путем проб и ошибок сценариях неправдивости. Так, например, преступники действуют обычно по продуманному и отрепетированному заранее сценарию (Lewis 1986, 184). Можно полностью принять эти рассуждения в качестве теоретической основы, однако следует еще раз подчеркнуть, что наиболее адекватным термином для обозначения ―неправдивости‖ говорящего 20 представляется термин неискренность. Использование слова неискренность в качестве термина впервые встречается в трудах Дж. Остина, который понимает под неискренностью условия осуществления речевого акта, делающие его пустым (void). Формулируя свою главную гипотезу, Остин пишет: ―Может ли говорение быть одновременно осуществлением? Если да, то можем ли мы сказать нечто вроде этого: ―Вступить в брак означает сказать несколько слов‖, или ―Держать пари это просто сказать что-то‖? Такая доктрина кажется, на первый взгляд, странной или даже шаткой, но если ее обосновать достаточным образом, она становится совершенно не странной‖ (Austin, 1971, 7). Далее разъясняется, что все высказывания могут быть произнесены, но акты, тем не менее, могут остаться пустыми, не состояться. Примеры говорящих, срывающих акты, приводимые Остином, это двоеженцы и мошенники, которые произносят необходимые высказывания, однако свадьба и пари остаются неосуществленными, ввиду их неискренности (Austin 1971, 14). В своей другой работе Остин разграничивает неискренность как языковое явление и притворство (pretending) как явление, выражаемое невербальными средствами (мимикой, жестами и т.п.) (Austin 1966). В трактовке Остина термин неискренность употребляется в целом ряде исследований (Searle 1969; Лакофф 1985; Cohen, Levesque 1990 и др.). Вместе с тем и другие термины, которые, на наш взгляд, выражают тот же самый концепт, заслуживают рассмотрения. Приведем краткий анализ наиболее интересных концепций. В программной статье Х. Вайнриха содержится философское обоснование использования языка как средства выражения лжи. Вайнрих начинает свой обзор с псалмов, гласящих, что всякий человек есть ложь, и далее цитирует многих великих писателей, в разное время высказывавшихся по поводу лживости человеческой природы. На протяжении веков ложь является частью повседневной жизни и даже частью некоторых профессий, заставляющих лгать своих представителей, например, разведчиков, политиков, дипломатов, журналистов, адвокатов, биржевых маклеров и т.д. По наблюдениям Вайнриха, в новое время импульсом для изучения лжи явилась теория Л. Витгенштейна. Следуя его понятию языковых игр и тезису о том, что язык есть не облачение, а маскировка мышления, немецкий ученый Ф. Кайнц решил собрать энциклопедию образцов языковой лжи и 21 нашел их так много, что, по словам Вайнриха, ―читатель должен прийти в ужас‖. Однако дальше сбора примеров работа не продвинулась. Вайнрих делает вывод, что до сих пор ложь уклоняется от компетенции лингвистов. В своем намерении очертить понятие лжи как темы лингвистических исследований, Вайнрих задается вопросом, могут ли лгать слова. По его представлению, слова, которыми много лгут, сами становятся лживыми (как, например, в эпоху фашизма словосочетания жизненное пространство, окончательное решение и т.п.). Однако при этом лживость слова определяется его контекстной детерминацией. Что касается ложных высказываний, то согласно Вайнриху, они основаны на намерении обмануть, а также на самообмане, который может быть выявлен тогда, когда лжец признается под напором доказательств: ―Я солгал‖. По Вайнриху, за ложью стоит не одно предложение, а два, одно их которых истинно, а другое ложно. Истинное предложение отличается от ложного на так называемую ассертивную морфему да/нет. Именно в этой морфеме искажается истина, так как она извращает смысл в том решающем месте, где встречается язык и реальность – в речевой ситуации (Вайнрих 1978). Д. Болинджер также пользуется термином ложь, подчеркивая, что его следует дополнить терминами теории информации. Ложь понимается им как все то, что может быть использовано находящимися в коммуникации сторонами для засорения канала общения и не является результатом случайности. Таким образом, предполагается, что ложь производится сознательно и преднамеренно. С другой стороны, противореча этому определению, Болинджер считает, что ложь бывает не только явной и очевидной, но также скрытой и неосознанной. Бывает также ложь, вошедшая в обыкновение (Болинджер 1987). Анализ лингвистических аспектов лжи представляет большой интерес, так как он дает языковедам возможность исследовать семантический статус многих языковых явлений, которые до сих пор не подвергались лингвистическому описанию. Следует принять на вооружение тезис о том, что за ложью могут стоять два предложения – истинное и ложное, находящиеся друг с другом в отношениях негации. Однако этот термин не учитывает в должной мере дихотомию говорящий/слушающий и не позволяет учесть все многообразие их взаимодействия в процессе порождения и восприятия ложных пропозиций. В связи с этим при употреблении термина ложь приходится 22 постоянно разъяснять, в каком ракурсе проводится анализ - с точки зрения пропозиционального содержания или с позиций речевого общения. Ряд исследователей, не считая термин ложь адекватным, предпочитает термин обман. Приведем мнение Р. Столнейкера, который указывает, что на лингвистическом уровне может наблюдаться такой случай, когда за одним предложением стоят две пропозиции, истинная и ложная. Именно по этой причине он предпочитает термин обман, который определяется как использование говорящим такой пропозиции, которую слушающий считает истинной, в то время как самому говорящему известно, что это ложь. Цель говорящего – заставить слушающего верить в истинность ложных утверждений. Однако термин обман тоже не может считаться вполне адекватным, так как он предполагает нанесение вреда слушающему. Вместе с тем, как указывает и сам Столнейкер, существуют безобидные случаи, такие как делание вида, когда говорящие договариваются принимать неверные утверждения в качестве пресуппозиций. Возможен и другой вариант, когда, например, этнограф делает вид, что принимает наивные пресуппозиции своего информанта (Столнейкер 1985). В русском языке, также как и в английском, слово обман является многозначным, и поэтому на его основе трудно выразить обобщенное прототипическое представление о соответствующем концепте. ―В какой гипертаксон следует, к примеру, включать терминальный ―прототипический‖ таксон ―обман‖, представленный такими идиомами, как вешать лапшу на уши, обвести вокруг пальца, втирать очки, заговаривать зубы, морочить голову и т.д. В ―знания‖ (если интерпретировать ―обман‖ как ―каузацию нахождения пациенса в состоянии ложного знания‖)? Или в ―информацию‖ (если понимать ―обман‖ как ―сообщение ложной информации‖)? Или в ―намеренные действия‖ (если ―обман‖ – это ―нефизическое однонаправленное намеренное действие, совершаемое с целью введения пациенса в заблуждение‖)? … Это означает, что таксон ―обман‖ должен быть помещен во все перечисленные (и, возможно, еще в некоторые не учтенные здесь) таксоны одновременно‖ (Добровольский, Караулов 1993, 8 – 9). Эти рассуждения дают исчерпывающее представление о многозначности слова обман, затрудняющей его использование в качестве термина. 23 Обобщая, можно сказать, что при употреблении терминов ложь и обман смешиваются разные подходы к ложным пропозициям, а именно в ракурсе недостоверной передачи картины мира, с точки зрения коммуникативных намерений говорящего и с точки зрения интерпретатора. В этой связи можно еще раз говорить о необходимости тщательной трактовки слов, отражающих все допустимые интерпретации, и распределения их в пределах единой универсальной и многомерной концептосферы, включающей в себя все возможные значения. В группе имеющихся терминов выделяются, наконец, те, в которых особо акцентируется ущерб, наносимый адресантом интересам адресата. Так, В. И. Свинцов исследует дезинформацию, которая определяется как получение реципиентом лжи в маске истины (Свинцов 1982, 37). Н. В. Глаголев разграничивает ложную информацию и дезинформацию. По его мнению, ложная информация – это передача автором речи неистинных сведений об объектах действительности, постигаемых как таковые адресатом, в то время как дезинформация – это такая субъективно представленная информация, которая с позиций получателя выглядит правдивой, а с позиций автора или объективного знания – ложной (Глаголев 1987, 63). Данное разграничение вряд ли имеет значение для лингвиста, так как на языковом уровне мы будем иметь дело с одинаковым образом оформленными языковыми структурами. То же самое можно сказать и о терминах тенденциозное представление события (Рижинашвили 1994) и манипулирование истиной (Новосельцева 1997). Кроме того, манипуляция не обязательно предполагает неискренность. По имеющимся данным, кроме неискренности в сферу манипулятивных высказываний попадают некоторые случаи вежливости, иронии, а также неясности коммуникативного намерения говорящего, уклончивости (Ермакова, Земская 1993; Нефедова 1999). Еще одним видом манипуляции, не обязательно означающим неискренность, является лингвистическая демагогия (Николаева 1988). По-видимому, все термины, соответствующие единому концепту, который можно сформулировать как ―намеренно, осознанно выражать ложные пропозиции‖, имеют право на существование, хотя сфера изучаемых языковых средств будет соответствующим образом ограничена. В настоящей работе используется термин неискренность, 24 который, на наш взгляд, является наиболее нейтральным и однозначным выражением указанного концепта, что позволяет включить в рассмотрение весь комплекс языковых средств его выражения. В английском языке insincerity определяется как ―lacking in sincerity‖. В свою очередь, sincerity определяется как производное от sincere – ―free from deceit, genuine, real‖ (WNED, 520). Все остальные слова данной группы имеют большее количество словарных значений и более развернутые дефиниции, либо трактуются как производные и требующие объяснения через синонимические ряды. Особенно важно, что слово неискренность признается в качестве семантического примитива по отношению к слову ложь, являющемуся его наиболее признанным ―конкурентом‖ на первое место в данной концептосфере. Так, по мнению И. Б. Шатуновского, слова ложь и неправда всегда сохраняют в своем значении коммуникативно выделенный компонент неискренности (Шатуновский 1991, 35). Следует подчеркнуть, что концепт неискренности существует как бы на постоянном фоне концепта искренности, также как и ложность (ложь) существует на фоне истинности (истины, правды). Данные концепты даже определяются один через другой. Правда становится очевидной, когда налицо ложь, искренность проявляется как антипод неискренности, как это явствует из следующей дефиниции: ―Искренний же значит ―непритворный, подлинный‖. Это понятие применимо только там, где возможна оппозиция ―искренний - притворный‖ (Арутюнова 1992, 24). По-видимому, в языковом сознании говорящего эти концепты сосуществуют в едином континууме. Вместе с тем концепты истинности/ложности и искренности/неискренности являются независимыми друг от друга в том плане, что они могут проявляться в дискурсном виде по отдельности. По мнению Н. Д. Арутюновой, если на первый план выдвигаются концепты правды и лжи, то именно вокруг них, а не вокруг тактик человеческого поведения развертывается семантическое поле слов, указывающих на отношение содержания текста к действительности: версия, легенда, сказки, фантазия, миф, вымысел, бред, чепуха и т.д. (Арутюнова 1992, 34). Можно предположить, что основное отличие неискренности от ложности основано на том же принципе, что и отличие искренности от истинности, а именно: ―искренность - это правда момента, правда 25 роли. Она прямо связана с адресатом. Условия искренности прагматичны, тогда как условия истинности онтологичны. Искренность свойство общения, истинность - свойство суждения‖ (Арутюнова 1992, 25). Точно также неискренность связана с непосредственным процессом общения, с нахождением говорящего в конкретном месте и в конкретное время и с обязательным присутствием адресата. Определение концепта неискренности можно дать на основе обобщения дефиниций, приводимых в вышеупомянутых лингвистических исследованиях. Концепт неискренности включает в себя специфический способ выражения истинностной оценки, суть которого состоит в разрыве между знанием говорящего и представлением этого знания. Говорящий осуществляет контроль над истиной, проявляющийся в ее сокрытии, дозировании и в других манипуляциях. В качестве основы для формального определения неискренности примем следующее определение неправды и лжи, где под S имеется ввиду предложение, под Г - говорящий: ―S неправда/ложь значит: S не соответствует действительности, потому что Г был неискренним, ―исказил истину‖; презумпция, что Г знает истину‖ (Шатуновский 1991, 34). Под неискренностью будем понимать осознанную дискурсивную стратегию языковой личности, основанную на выражении особого личностного смысла, суть которого состоит в замене истинных (с точки зрения данной языковой личности) пропозиций на ложные. В данном определении неискренности подчеркивается активность автора речи в выражении ложности. Существуют и такие случаи, когда ложность не зависит от автора речи, то есть когда он имеет ложное знание, которое искренне считает истинным. В. З. Демьянков называет подобное явление заблуждением. ―Полный информационный запас может содержать знания, представимые (в дискурсном виде) как взаимоисключающие суждения; поэтому один и тот же человек может сделать искреннее высказывание, с нелогичностью которого согласится, проследив за убедительными доводами оппонента. Однако по ходу собственных высказываний говорящий стремится к ―состоятельности‖ – непротиворечию самому себе. Итак, информационный запас должен быть представлен таким образом, чтобы отражать не только ―истинное знание‖, но и заблуждения – апелляцию к несостоятельным ―возможным мирам‖ (Демьянков 1981, 375). Из этого 26 следует, что в сферу неискренности входит лишь часть понятия заблуждения, а именно введение собеседника в заблуждение. Ввиду того, что все концепты, в том числе и концепт неискренности, находятся в языковом сознании, они выражаются в активном запасе языковых средств. Ученые пишут о существовании ―языка‖, при помощи которого воплощается тот или иной концепт. В частности, можно говорить о языке искренности, так как искренность обладает конвенциональными средствами выражения. Она не только ―прочитывается‖ собеседником, но и сам говорящий может пользоваться ―языком искренности‖, то есть искренним тоном, голосом, взглядом, выражением лица. Искренность поддается имитации, ее можно симулировать, она может быть притворной, фальшивой, напускной, мнимой, наигранной, преувеличенной, показной (Арутюнова 1992, 24). Продолжая эту мысль, скажем, что симулирование искренности есть неискренность и что язык неискренности можно выявить и подвергнуть рассмотрению. Лингвистический анализ выражения неискренности, также как и смежных концептов, еще не становился объектом детального комплексного исследования. Следует, однако, упомянуть о классификации средств выражения лжи, предпринятой Д. Болинджером, который утверждает, что язык передает ложь посредством ―эксплуатации‖ синтаксиса, через особенности актов номинации и посредством использования определенных риторических приемов. Особое место в синтаксисе лжи занимают предложения с опущенными элементами, в частности, опущения агенса в пассивных конструкциях, опущения глаголов мнения и других лексем, уточняющих данные о мире. Для лжи характерно использование безличных конструкций, что позволяет не делать утверждений от своего имени, а подавать их как некие свидетельства. Иногда достаточно сделать некоторые трансформации, например, достаточно превратить утвердительное предложение в отрицательное, как истина обернется обманом. Достаточно изменить интонацию, и высказывание, несущее в себе сомнение, станет безапелляционным. По мнению Болинджера, люди также изобретают ложь в лексике, например, используя сложные существительные, можно представить субъективные оценки как реальные сущности. Акт номинации, сопровождаемый в силу выбора языковых средств некоторыми одобрительными или неодобрительными обертонами, 27 рассматривается как образец высшей утонченности в искусстве лжи. Ложь, сопряженная с номинацией, трактуется как специальная форма обмана, которую можно довести до такого совершенства, когда бомбардировки становятся защитной реакцией, концентрационные лагеря – центрами умиротворения или лагерями беженцев, а разбомбленные дома – военными объектами. Ложь, осуществляемая посредством риторических приемов, характеризуется как намеренное риторическое запутывание или сбивание с толку. В тексте подобного рода, возможно, и содержится какая-то информация, но ее трудно уловить во мраке риторической многозначительности (Болинджер 1987). Данная классификация средств передачи лжи носит программно-установочный характер и содержит больше вопросов, чем ответов на них. Многие положения представляются спорными. В частности, у исследователей языка идеологии возникают сомнения в том, что слова могут лгать. Скорее всего, за словами закрепляются идеологически значимые коннотации, фиксированно передающие точку зрения людей, поддерживающих данную идеологию (Phillipson 1992; Lee 1992; Simpson 1993). Важное замечание относительно средств выражения искренности/неискренности сделано И. Б. Шатуновским, отметившим, что следует учитывать не только то, что говорящий говорит, но и то, что он думает и, шире, то, что он имеет в своем сознании, ―уме‖. Эта особенность выражается словами искренне/неискренне, лицемерно, воплощаясь в таких конструкциях, как искренние слова, искреннее письмо, искренне сказал, Я был искренен, говоря и т. п. Если пропозиция не выражена в вербальной форме, то искренность означает, что человек ―узуально говорит искренне, то есть то, что он думает‖ (Шатуновский 1991, 31). Итак, можно сделать вывод, что именно концепт неискренности обусловливает появление новой группы охарактеризованных выше лингвистических терминов. По нашему мнению, термин неискренность является наиболее полным воплощением концепта, возникающего из наивно-языковых представлений и реконструируемого из употребления соответствующих языковых средств. Неискренность отражает лишь один из аспектов сложной проблемы изучения полного запаса знаний, имеющихся у языковой личности, и представления этих знаний в соответствующем дискурсном 28 виде. Неискренность в общении обусловлена выбором говорящего, и ее можно назвать, пользуясь термином М. Минского, приемом обращения со знаниями о своем знании (Минский 1988, 283). Мы будем пытаться доказать в последующем анализе, что неискренность языковой личности объясняется особым способом концептуализации картины мира, реализующимся в особом типе дискурса – неискреннем дискурсе. 2. Статус дискурса в теории языка Термин дискурс в его лингвистическом аспекте был впервые использован З. Харрисом более 40 лет назад. Харрис ввел понятие дискурса для анализа встречаемости морфем в рамках определенного связного фрагмента речи. Согласно теории Харриса, дистрибутивный анализ проводится за пределами предложения. Корреляции устанавливаются между языковыми элементами, удаленными друг от друга на значительное расстояние. С другой стороны, встречаемость элементов имеет место в рамках единой по содержанию ситуации, то есть в пределах одного и того же дискурса (Harris 1952). Приблизительно к этому же времени относится употребление термина дискурс Ч. Моррисом, который использовал его для обозначения различных областей функционирования языка в зависимости от целей коммуникации. ―С течением времени в едином языке появились различные специализации, которые позволяют адекватно осуществлять определенные цели. Эти специализации будут обозначаться как типы дискурсов (types of discourse)‖ (Morris 1971, 203). Идея Морриса была подхвачена в стилистике, однако функциональные разновидности языка стали называть по-другому, а именно функциональными стилями или регистрами. Первоначально понятие дискурса было взято на вооружение в филологических исследованиях широкого профиля, занимающихся анализом культурологических и социологических проблем употребления языка. Наиболее известной является концепция М. Фуко, который в своей своеобразной образной манере рассуждает о дискурсе как о ―контактирующей поверхности, сближающей язык и реальность, смешивающей лексику и опыт‖ (Фуко 1996, 49). Основные положения теории Фуко заключаются в том, что дискурс мыслится как явле- 29 ние, несводимое к языку и речи и проливающее свет на то, что люди хотели сказать. С точки зрения формы дискурс – явление знака, в то же время он нечто большее. Дискурс содержит в себе ―множественность смыслов – избыток означаемого по отношению к единственному означающему‖ (Фуко 1996, 119). Хотя термин дискурс предшествовал по времени своего возникновения термину текст, именно последний стал использоваться в лингвистике для изучения связной речи. В нашей стране проблемами лингвистики текста занимались такие ученые как И. Р. Гальперин, О. И. Москальская, З. Я. Тураева, В. А. Кухаренко и др. За рубежом наибольшую известность получила так называемая европейская школа лингвистики текста, наиболее выдающимся теоретиком которой является Т. ван Дейк. В момент возникновения лингвистики текста в начале семидесятых годов Дейк сформулировал ее задачи следующим образом. Лингвистика текста провозглашалась новым типом грамматики, отличающимся как от традиционных грамматик, так и от широко практикуемой в то время генеративно-трансформационной грамматики предложения. Грамматика текста должна была быть способной приписывать структурные описания текстам, и данные тексты должны были генерироваться на основе установленных структурных правил. Грамматика текста должна была также быть способной объяснить такие языковые явления, которые не могли быть обоснованно проанализированы в терминах уже имеющихся грамматик, например, связи между отдельными самостоятельными предложениями (Dijk 1997). За период своего существования лингвистика текста достигла больших результатов. В различных странах были проведены исследования, позволившие ввести в лингвистический обиход новые понятия и термины. Изучение связей между отдельными предложениями привело к объяснению механизмов прономинализации, кореферентности, пресуппозиции и т.п. Исследования в области структуры текста позволили описать общие принципы его организации в новых, ранее не употреблявшихся терминах, таких как тема-рематические зависимости, категории текста и т.п. Получили новый импульс разработки проблем в рамках отдельных уровней языковой системы. Традиционные объекты морфологии, синтаксиса, стилистики стали рассматриваться с точки зрения их взаимодействия со своим окружением в рам- 30 ках единого связного текста. При всей результативности конкретных исследований постепенно стала ощущаться неудовлетворенность термином текст. Выдвигаются различные причины, по которым следует заменить его термином дискурс. В своей книге о дискурсивном анализе М. Стаббс формулирует следующие основания для замены терминов. Во-первых, слово текст имеет ряд бытовых общеупотребительных значений (например, текст речи, текст письма), которые являются очень устойчивыми и поэтому затрудняют подлинно научное осмысление данного явления. Во-вторых, под словом текст обычно понимается письменный документ (ср. беседа – текст беседы). В третьих, термин лингвистика текста уже успел прочно ассоциироваться с европейской традицией в изучении этого явления и не оставляет места для новых направлений, например, для такого перспективного направления, как анализ естественной спонтанной беседы, интенсиво разрабатываемый сейчас в США. Указанные причины являются достаточным основанием для того, чтобы отдать предпочтение более нейтральному и носящему обобщенный характер термину дискурс (Stubbs 1984). Введение в обиход термина дискурс не означает полного отказа от термина текст. Существует точка зрения, восходящая к М. Хэллидею, согласно которой дискурс относится к тексту таким же образом, как предложение относится к высказыванию. Другими словами, дискурс понимается как абстрактное инвариантное описание структурносемантических признаков, реализуемых в конкретных текстах (Halliday 1976). Очень ярко подобное воззрение выражено Г. Уиддоусоном. Он определяет дискурс как процесс коммуникации посредством взаимодействия участников коммуникации. Лингвистическим продуктом дискурса, по его мнению, является текст. Во время процесса текстуализации дискурса говорящий может ―перестараться‖, в этом случае созданный им текст будет многословным. Или же, наоборот, говорящий может недотекстуализировать, тогда его текст получится неясным, туманным. Идеалом, к которому следует стремиться в процессе коммуникации, является максимально возможное соответствие между дискурсом как абстрактной системой правил и дискурсом (или текстом) как конкретным вербальным воплощением данных правил (Widdowson 1979; 1986). Необходимость введения термина дискурс была также вызвана 31 развитием теории речевых актов, интересы которой все более смещаются с анализа единичных речевых актов на изучение взаимодействия говорящих. Выясняется, что единичная иллокуция, выраженная в минимальном отрезке речи, является составной частью общей иллокутивной силы целого ряда взаимосвязанных речевых актов. Для того, чтобы осветить интерактивные аспекты речевого общения, потребовался новый термин, который, помимо прочего, отражал бы также прерывистый характер речевой деятельности и нелинеарность многих речевых сообщений. Таким термином стал термин дискурс, понимаемый как определенная последовательность или серия взаимосвязанных речевых актов (Арутюнова 1990, 412; Дейк, Кинч 1988, 160). В свете теории речевой деятельности различаются два аспекта – создание (порождение) дискурса (обдумывание, планирование, говорение, оформление в письменном виде) и понимание дискурса (слушание, восприятие письменного текста, анализ, интерпретация). С точки зрения единиц языковых уровней ―дискурс - это прежде всего тексты, но далеко не только тексты‖ (Степанов 1995, 39). Следует особо отметить, что термин дискурс не противопоставляется другим общеупотребительным терминам, таким как текст, высказывание, речевой акт, а употребляется параллельно с ними для обозначения интенционального характера речи и результата речевой деятельности, который может быть представлен в самых разных формах. Ю. С. Степанов разъясняет общелингвистический статус дискурса на примере дискурса советской идеологии, получившего во Франции наименование ―деревянный язык‖. ―Дискурс – это первоначально особое использование языка, в данном случае русского, для выражения особой ментальности, в данном случае также особой идеологии; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики‖ (Степанов 1995, 38). Понятие дискурса позволяет подвергнуть анализу роль языковой личности в процессе создания и интерпретации связной речи. По определению Ю. Н. Караулова, ―мировоззрение есть результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности, или ―картины мира‖, с ее жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах‖ (Караулов 1989, 32 6). В этом определении отражается тот факт, что текст не является самодовлеющей сущностью; он создается конкретным человеком, конкретной языковой личностью. Поэтому неправомерно изучать лишь ―правильные‖ тексты, которые соответствуют неким общепринятым моделям. Существуют такие языковые личности, которые продуцируют тексты, выходящие за рамки стандарта. Кроме этого следует учитывать отношение языковой личности к адресату сообщения, которое влияет на сущностные характеристики создаваемого ею дискурса. Тем самым акцентируется лингвокреативная деятельность адресанта в создании речевого произведения. Особенно важно то, что ―для такого анализа вовсе не обязательно располагать связными текстами, достаточен определенный набор речевых произведений отрывочного характера (реплик в диалогах и различных ситуациях, высказываний длиной в несколько предложений и т.п.), но собранных за достаточно длительный промежуток времени. Этот материал я называю дискурсом. Примером дискурса может служить сумма высказываний какого-нибудь персонажа художественного произведения, который выступает в этом случае как модель реальной языковой личности‖ (Караулов 1989, 6). Не менее важна и роль адресата. Ю.С. Степанов утверждает, что ―конституирующая черта дискурса состоит в том, что дискурс предполагает и создает своего рода идеального адресата‖ (Степанов 1995, 42). Важным семантическим признаком дискурса, согласно теории Ю. С. Степанова, является то, что он продуцируется как особый ―ментальный мир‖. Так, дискурс советской идеологии это прежде всего некий единый ментальный мир. Очевидно, что неискренний дискурс также представляет собой особый тип дискурса, семантической основой которого является ментальный мир, создаваемый неискренней языковой личностью. В исследованиях по дискурсивному анализу отмечается, что организация дискурса отличается от организации языка большей свободой и вариативностью. Как известно, языковая система очень устойчива, особенно на фонологическом и морфологическом уровнях. Уровень синтаксиса позволяет большую вариативность, но и на этом уровне свобода говорящего ограничена определенным конечным набором синтаксических структур. Что касается дискурса, то количе- 33 ство его структурных единиц, распознаваемых носителями языка, довольно велико. Исследователи отмечают, что люди распознают такие структурно законченные единства, как лекция, беседа, рассказ, интервью, спортивный комментарий, президентская речь, разговор учителя с учениками, разговор врача с пациентом и т.д. (Stubbs 1984). Видимо, единства, распознаваемые носителями данного языка и данной культуры в качестве законченных целых, должны найти объяснение в теории дискурсивного анализа. Вышеуказанные соображения привели к возникновению таких терминов, как речевой коллектив, дискурсивное сообщество и т.п. Наблюдается также переосмысление понятия жанр с позиций дискурсивного анализа. В качестве примера можно привести книгу Д. Суейлза, в которой обобщаются новые термины и направления исследования (Swales 1990). Основным из них является то, что жанр рассматривается с точки зрения дискурсивного сообщества. Дискурсивное сообщество представляет собой группу людей, объединяемых тем, что они сообща владеют определенным количеством типов или жанров дискурса, при помощи которых они осуществляют свои коммуникативные цели. Жанр определяется Суейлзом как класс дискурсов, причем дискурс понимается как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле дискурс отражает общие особенности данного дискурсивного сообщества, особые условия коммуникации его конкретных участников. В узком смысле дискурс, входящий в тот или иной жанр, должен соответствовать прототипу данного жанра, то есть он должен являться конкретным воплощением инварианта, признанного дискурсивным сообществом. На основе этой теории Суейлз проводит конкретный анализ дискурсов, разрешенных в дискурсивном сообществе высшего учебного заведения, и приходит к выводу, что они в своей совокупности составляют единое ментальное пространство, а по своей структуре они в достаточной степени формализованы и поддаются строгому лингвистическому описанию. В целом, понятие класса дискурсов важно для понимания процесса речевого общения, так как, очевидно, что все вербальное и невербальное поведение человека организовано через репертуар различных видов дискурса. Разработка представления об общих закономерностях неискреннего дискурса и его отдельных разновидностях поможет внести определенный вклад в решение сложных проблем 34 дискурсивного анализа. Если считать выражение особой ментальности конституирующей чертой дискурса, то нельзя не согласиться с теми исследователями, которые отмечают, что дискурсу присуща не столько непрерывная последовательность предложений, сколько наличие синтагматических ограничений на возможные линейные последовательности предложений (Stubbs 1984, 11). М. Хоуи доказал, что дискурс не обязательно составляется из отдельных предложений в их прямой последовательности, так сказать, кирпичик за кирпичиком. Когда человек создает или анализирует дискурс, то он занят не простым линейным соположением предложений на поверхности дискурса (on the surface of discourse), а чем-то большим. Люди каким-то образом владеют моделями построения дискурса на высшем глобальном уровне. Можно даже провести параллель между владением языком и владением дискурсом. Существуют многочисленные свидетельства о том, что носитель языка может оценить, грамматично или неграмматично то или иное предложение, хотя он и не будет в состоянии сказать, откуда ему это известно (если он, конечно, не является профессиональным лингвистом). Таким же образом носитель языка может оценить, является ли тот или иной дискурс правильно сконструированным. Например, люди в состоянии сказать: ―Это была очень плохая речь‖; ―У пьесы нет ни начала, ни конца‖; ―Это неудачная шутка‖ и т.п. Подобные оценки указывают на то, что люди знают не только систему своего родного языка, но также правила построения дискурса на данном языке (Hoey 1983). Основное, принципиально новое положение, провозглашаемое в исследованиях по дискурсивному анализу, можно сформулировать следующим образом. Существует особый уровень – уровень дискурса, который не относится непосредственно к языковой системе, а находится как бы на стыке вербальной и невербальной коммуникации. Дискурс создается прежде всего как особое ментальное пространство или особый ментальный мир, за которым следует особый отбор языковых средств. Дискурс концептуализируется как понятие универсальное; один и тот же дискурс может быть выражен средствами различных языков и различных культур. Практическая рекомендация участнику коммуникации состоит в том, что ему следует 35 прежде всего понять смысл, выражаемый всем данным фрагментом как дискурсом и лишь после этого приступать к выражению данного смысла путем подбора подходящих языковых характеристик (Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977; Stubbs 1984; Brown, Yule 1988; Cook 1989; McCarthy 1991 и др.). В некоторых концепциях применяются особые термины для различения уровня языка и уровня дискурса. Так, Дж. Синклер и М. Култхард в качестве единиц уровня грамматики называют предложение (sentence and clause), группу (group), слово (word), морфему (morpheme). Единицы уровня дискурса определяются как трансакция (transaction), обмен (exchange), реплика (move), акт (act) (Sinclair, Coulthard 1975, 24). Структурные единицы дискурса были выведены Синклером и Култхардом на основе анализа записей уроков в средней школе, собранных на основе сплошной выборки в течение определенного времени. Было установлено, что минимальной единицей дискурса является речевой акт, следовательно, по своему инвариантному статусу дискурс может включать речь одного участника коммуникации (дискурс учителя, дискурс ученика). В то же время общение происходит в рамках интерактивного взаимодействия, минимальной единицей которого является обмен. Семантически, обмен концептуализируется как аккумуляция значения, поделенного между общающимися. Переходя от одного обмена к другому, общающиеся участвуют в трансакции, основным признаком которой является проспективное развертывание создаваемого совместными усилиями смысла. Согласно Синклеру и Култхарду, на основе многовекового опыта была выработана такая форма школьного урока, которая включает в себя одну законченную трансакцию, в рамках которой выражается определенный завершенный смысл. Анализ общения на уроке выявил еще одну важную дискурсивную характеристику, а именно то, что дискурс одного участника (в данном случае – учителя) может быть доминирующим. Доминантность проявляется в том, что учитель производит инициирующие речевые акты (initiation), требуя от учеников акты – ответы (response) или акты – реакции (feedback, follow-up). Подобная особенность речевого общения отмечается и Н. Д. Арутюновой, которая указывает, что по мере развития теории текста 36 речевые акты стали описываться с учетом их места в том или другом типе дискурса. В дискурсе выделяются два типа речи – направляющая и подчиненная, и, соответственно, руководящие и контролируемые речевые акты (Арутюнова 1990а, 176). В лингвистических работах выделяется еще один аспект дискурса, отличающий его от текста. Если текст может анализироваться как некое структурное целое в отрыве от адресата, то дискурс понимается прежде всего как интерактивное явление. Как отмечает Г. Кук, даже в неинтерактивном по форме дискурсе (non-reciprocal discourse), когда адресат не имеет возможность непосредственно влиять на то, что он слышит (например, слушая речь королевы), следует включать в объект рассмотрения потенциальную возможность последующего взаимодействия. Дискурс может быть только интерактивным (reciprocal) (Cook 1989, 60 –61). Высказывается даже кардинальная мысль о том, что ―весь дискурс, очевидно, протекает как диалог, даже если другой голос присутствует лишь как невидимый призрак‖ (Cook 1989, 63). Провозглашается, что структурный принцип любого дискурса, в том числе монологического, это диалог. Монолог легко сводится к диалогу путем постановки вопросов к предложениям. Таким образом, прототипической формой дискурса следует считать беседу (Nystrand, Wiemelt 1991). Большой вклад в изучение особенностей дискурса внесли разработки в области конверсационного анализа, возникшего в США в семидесятые годы под влиянием идей Э. Гоффмана, обнаружившего, что разговор определенным образом структурирован. Гоффман выделяет две основные структурные разновидности разговора – вопросительный обмен, или пара вопрос/ответ, и утвердительный обмен. Обмены между собеседниками могут быть мирными или конфронтационными. ―Если мы предположим, что когда задается вопрос (особенно среди незнакомых), то спрашивающий открывает себя для самых плохих из возможных интерпретаций, для нанесения себе оскорбления …, тогда мы можем видеть, что любой более или менее прямой ответ, будь он даже ответом из чувства долга, или ответом механическим, или туманным, … может принести спрашивающему чувство облегчения‖ (Goffman 1971, 161). Подобным же образом сделать утверждение означает, главным образом, что говорящий – ―такой человек, который имеет право высказывать мнения и которого следует 37 слушать, когда он это делает‖ (Goffman 1971, 162). Идеи Гоффмана были подхвачены Х. Саксом и его учениками. Сакс сформулировал задачу своей исследовательской группы как необходимость установить класс говорящих, производящих разговор должным образом. С самого начала конверсационный анализ замышлялся как чисто эмпирическое направление, занимающееся интерпретацией магнитофонных записей живого непосредственного общения, сделанных с согласия участников эксперимента, которыми были, в основном, студенты Сакса. Наблюдение велось над так называемыми соположенными парами (adjacency pairs), то есть над смежными репликами в разговоре. В результате детальнейших, иногда даже затянутых, описаний нюансов живого разговора было доказано, что он основан на принципе очередности, когда каждый раз говорит только один участник. Организованная должным образом беседа понимается как такая беседа, которая демонстрирует координацию говорящих. Как пишет Сакс, ―требуется независимая деятельность спрашивающего (поставить в конце вопрос) и отвечающего (поставить ответ в начало) для того, чтобы получить согласованность вопроса и ответа, накладывающуюся на их соответствующие реплики, и требуется отдельная деятельность говорящего для конструирования вопроса таким образом, чтобы он демонстрировал предпочтение какому-то отдельному ответу, и отдельная деятельность отвечающего для создания ответа в соответствии с выраженным предпочтением‖ ((Sacks 1987, 58). Кроме согласованности вопросов и ответов организованная должным образом беседа должна, как правило, начинаться с фатического общения, то есть обмена приветствиями, разговора о погоде, вопросов о здоровье и т.п. В конце стандартного нормативного разговора обычно содержится указание на его завершение, например, прощание, пожелание успехов, приветы родным и т.п. Таким образом, в теории конверсационного анализа беседа определяется как законченное структурно-семантическое единство. Если на начальном этапе разработок в области анализа естественной беседы исследователи были заняты поисками моделей, лежащих в основе бесед, построенных ―должным образом‖, то по мере сбора данных выяснилось, что многие виды бесед не соответствуют ―правильным‖ моделям и так или иначе отклоняются от выделенных 38 стандартов. В настоящее время все более утверждается точка зрения, согласно которой необходимо изучать беседу такой, какой она есть, то есть в таких ее формах и разновидностях, которые не являются конструктами, созданными с оглядкой на ученых, проводящих эксперимент, а на самом деле характеризуют живое повседневное общение людей. Во многих случаях в беседе передаются неявно выраженные смыслы, требующие особой интерпретации, и выражение неискренности занимает здесь не последнее место. Большой вклад в изучение беседы был сделан исследователями, занимающимися анализом художественного текста. С одной стороны, диалоги между персонажами художественного произведения позволяют исследовать все виды бесед и описать их отличия друг от друга в строгих структурных терминах. С другой стороны, можно систематизировать редкие или в сильной степени отклоняющиеся от нормы данные, либо данные, которые трудно собрать путем письменных или магнитофонных записей. Занявшись изучением фатического общения, П. Симпсон доказал, что на примерах из художественных произведений можно систематизировать это явление и описать все имеющиеся варианты. Фатическое общение можно определить как своеобразный речевой ритуал, реализуемый говорящими при помощи особых средств. Первая группа средств включает обозначения референтов, не входящих в непосредственную ситуацию общения (например, упоминание о погоде). Вторая группа средств относится к использованию референтов о говорящем (например, Hot work, this; My legs weren‘t made for these hills). Третья группа средств нацелена на референты слушающего (How‘s life?; Do you come here often?). Проводя более детальный анализ, Симпсон установил, что выделенные три группы средств неравномерно распределяются между участниками коммуникации в зависимости от их социального статуса. Референты, входящие в первую группу, могут использоваться всеми людьми, в то время как референты, относящиеся к двум другим группам, не могут использоваться участником с более низким статусом, чем его собеседник. Таким образом, на основе анализа художественного текста стало возможным подвергнуть фатическое общение всестороннему изучению и классифицировать языковые средства его выражения (Simpson 1989). Некоторые положения конверсационного анализа, кажущиеся на 39 первый взгляд неоспоримыми, были опровергнуты при более детальном изучении данных. Так, М. Култхард, пытаясь проверить постулат Сакса об обязательной согласованности речевых действий спрашивающего и отвечающего, установил, что он может не соблюдаться, найдя подтверждение в пьесе Шекспира ―Отелло‖. Беседы в ней часто строятся на таких отношениях, когда спрашивающий задает вопрос, из которого, по его мнению, может вытекать только один определенный и нужный ему ответ, однако отвечающий все же находит выход и дает другой ответ, а не тот, который кажется единственно возможным. Култхард считает, что его анализ диалогов персонажей приводит на ум множество подобных бесед из реального общения, и их структурно-семантическое тождество не вызывает сомнения (Coulthard 1977). Некоторые типы разговора вообще вряд ли можно исследовать без обращения к художественному тексту, например, разговор, строящийся на абсурде. М. Шорт, найдя достаточное количество примеров, дает обобщенный анализ этого явления, свидетельствующий о том, что абсурд состоит в соположении несвязанных друг с другом высказываний и в особых манипуляциях говорящего со смыслами. Наблюдается также несоответствие в пресуппозициях, имеющихся у участников общения. Не вызывает сомнения, что в реальной жизни беседа, имеющая абсурдный характер, будет организована подобным же образом (Short 1989). Определенные виды бесед носят спонтанный или специфический характер, в связи с чем процедура их транскрипции или магнитофонной записи представляется трудно осуществимой или вообще нереальной. К таким беседам относится, например, ссора. По мнению М. Тулана, художественное произведение позволяет исследовать ссору во всех ее аспектах, главным из которых является принцип разговорной турбулентности (conversational turbulence), проявляющийся в том, что участники вначале ведут переговоры по поводу темы беседы, а затем происходит борьба за узурпацию права на ведение разговора в направлении выражения нужных пропозиций (Toolan 1989). Несомненно, что анализ примеров неискреннего общения, собранных из художественных произведений, может оказаться столь же полезным, как и исследование других, упомянутых выше типов бесед. Обобщая принципы отбора лингвистического материала для исследо- 40 вания дискурса, приведем точку зрения Т. Г. Винокур, которая считает, что непосредственная фиксация текста (дискурса) в отдельных фрагментах его первичного обнаружения на первый взгляд представляется наиболее прямым путем обследования материала. Однако прямым этот путь будет лишь в онтологическом смысле, а в операциональном – окольным. Ситуативный участок дискурса, синхронно фиксируемый наблюдателем – исследователем, поддается лишь частичной интерпретации в плане речевого поведения. Здесь необходимы фоновые, затекстовые знания даже в том случае, если сам исследователь принадлежит к среде информантов. Для тщательного анализа нужны дополнительные критерии отбора, длительное время, регулярность, тождественность ситуаций (Винокур 1993, 43). В свете этих положений использование данных о речевом общении, взятых из художественных произведений, представляется полностью целесообразным. Следует подчеркнуть, что исследование различных видов бесед находится лишь на начальном этапе. Выясняется, что некоторые типы бесед строятся на основе одного и того же типа дискурса, как, например, ссора, в которой один и тот же тип дискурса производится всеми участниками общения. Другие типы бесед включают в себя дискурсы разных видов. К ним относится, в частности, разговор искреннего собеседника с неискренним. Впрочем, как это будет показано ниже, может иметь место и беседа двух неискренних собеседников. Вне сомнения, неискренний дискурс является интересным специфическим явлением, требующим теоретического объяснения. Как будет доказано ниже, неискренний дискурс конструируется в рамках единой дискурсивной трансакции и может быть выражен в форме диалога или монолога. Неискренний дискурс чаще всего порождается одним из участников коммуникации, в связи с чем он может носить прерывистый характер, перемежаясь с дискурсом другого участника. 3. Пропозициональный дискурса анализ семантики неискреннего Пропозициональный анализ можно считать одним из наиболее важных теоретических методов, добавившихся в последнее время к описанию лингвистических данных. Этот метод приводит к лучшему 41 пониманию структур знания, лежащих в основе разных типов дискурса. Понятие пропозиции имеет длительную традицию изучения в философии. В настоящее время пропозиция понимается философами в самом общем виде как утверждение или заявление (claim) о мире. Так, Дж. Барвайз и Дж. Эчменди указывают: ―Как только мы добираемся до пропозиции, подлинного заявления о мире, остаются, кажется, только две возможности - или заявление правильное, или нет. С пропозициями, стало быть, дело обстоит следующим образом: ложная пропозиция это просто такая пропозиция, которая не является истинной‖ (Barwise, Etchemendy 1987, 13). Согласно данному определению, самой важной чертой пропозиций является, во-первых, то, что они утверждают мир, и, во-вторых, то, что утверждение о мире может быть истинным или ложным. Как подчеркивает Д. Льюис, ―не столь важно, что такое пропозиции, до тех пор пока (1) они являются сущностями, которые могут быть истинными или ложными в мирах, и (2) их достаточное количество‖ (Lewis 1986, 46). В лингвистическом плане пропозиции могут быть выражены различными способами, а именно, в предложениях, высказываниях, речевых актах (Арутюнова 1990). Истинность или ложность утверждений на естественном языке определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, исследователь формулирует пропозицию, то есть описывает при помощи символической записи, какая именно пропозиция утверждается, и, во-вторых, выясняет, каково положение вещей в мире и соответствует ли оно тому, что было сказано. Ввиду того, что истинностных значений всего два, пропозиция представляет собой способ разбиения возможных состояний мира на две части – те, для которых она истинна, и те, для которых она ложна (Столнейкер 1985, 420). Реакции на ложные или неприемлемые сообщения формируют категорию отрицания (Арутюнова 1990а, 178). При этом, некоторые пропозиции поддаются верификации легко. Широко известен пример Б. Рассела о проверке на истинность утверждения о том, что сейчас идет дождь. Если вы видите, что дождя нет, то подобное высказывание с полным основанием идентифицируется как ложь. Критерием идентификации является в данном случае чувственное восприятие 42 явления природы, существующего вне человека (Russell 1989). Встает вопрос, как верифицировать эгоцентрические пропозиции, характеризующие внутреннее состояние говорящего. Истинна или ложна подобная пропозиция, и кто это решает? В данном случае истина понимается в трактовке, восходящей к Ч. Пирсу, то есть как консенсус, как нечто, о чем договорились между собой все присутствующие. Как пишет Пирс, ―идеи истины и лжи, в их полном развитии, относятся, в эксклюзивном порядке, к научному методу установления мнения. Человек, который свободно выбирает пропозицию, которую он примет, может использовать слово истина только для того, чтобы подчеркнуть свое решение придерживаться сделанного им выбора‖ (Peirce 1989, 54 – 55). В другой, немного отличающейся терминологии, предложенной П. Грайсом, истина определяется через понятие фактуальной удовлетворительности (factually satisfactory). Грайс пишет, что ―сказать Истина, что Смит счастлив будет эквивалентно тому, чтобы сказать, что любое высказывание класса К, которое десигнирует Смита и обозначает класс счастливых людей, является фактуально удовлетворительным‖ (Grice 1987, 56). Одной из сложных проблем в области пропозиционального анализа является разработка конкретных методик, которые бы позволили лингвисту адекватно формулировать пропозиции, составляющие семантическую основу того или иного дискурса. Ценное в методологическом плане объяснение того, как делать запись пропозиций в целях лингвистического анализа, содержится в работах В. Кинча (Kintsch 1972) и Т. ван Дейка и В. Кинча (Dijk, Kintsch 1978). Кинч провозглашает необходимость создания пропозициональной основы для грамматики. Он пишет, что такая основа связана с понятием синтаксической глубинной структуры Хомского, однако не является полностью ему идентичной. Как и Хомский, Кинч трактует предложение как поверхностную структуру, которая выводится путем трансформационных правил из определенной глубинной структуры. Но, как указывает Кинч, ―у Хомского так называемая глубинная структура это дерево фразовых структур, у меня же это пропозиция, на которую будут делаться ссылки как на базовую структуру предложения‖ (Kintsch 1972, 265). По Кинчу, пропозиция состоит из отношения (relation) и одного 43 или нескольких аргументов (arguments). Отношениями обычно являются глаголы, прилагательные или союзы; аргументами являются существительные или другие пропозиции. Кинч предлагает следующие условные обозначения для написания пропозиций. Пропозиции всегда пишутся в заглавных буквах и заключаются в круглые скобки. Терм отношения всегда пишется первым, а что касается порядка следования аргументов, то он является строго фиксированным. Например, следующие предложения следует написать в терминах пропозиций таким образом: (1) The dog barks. (BARK, DOG) (2) Mother bakes a cake in the oven. (BAKE, MOTHER, CAKE, IN OVEN) (3) The old man. (OLD, MAN) (4) Agnew is critical of intellectuals. (CRITICAL, AGNEW, INTELLECTUALS) (5) The stars are bright because of the clear night. (BECAUSE, (BRIGHT, STARS), (CLEAR, NIGHT)) Кинч выдвигает две фундаментальные идеи, имеющие основополагающее значение для объяснения семантики дискурса. Первая идея состоит в том, что одна пропозиция может быть включена в состав другой пропозиции. Другими словами, пропозиции, также как и предложения, могут быть простыми и сложными. Вторая идея Кинча состоит в том, что пропозиции могут быть выражены словами, отличающимися от тех слов, которые употреблялись в соответствующей поверхностной структуре. Например, пропозиция, лежащая в основе метафоры ―The rain drums on the shelter‖, формулируется Кинчем как ―The rain falls on the shelter and this produces a hollow sound, like someone beating a drum‖ (Kintsch 1972, 280). Кинч предлагает два направления, в которых может производиться пропозициональный анализ. Он может быть направлен на составление правил, по которым будет возможно выводить английские предложения из пропозициональных выражений. И, с другой стороны, он может решать прямо противоположную задачу - переводить английский текст в его пропозициональную основу (Kintsch, 1972, 304 - 305). Условные обозначения для написания пропозиций, предложенные Кинчем, отражают то, что пропозиции являются абстрактными 44 репрезентациями значения и то, что следует каким-то образом акцентировать отличие пропозиций от предложений. В ряде исследований подчеркивается, что пропозиции функционируют как единицы внутреннего языка, в то время как предложения функционируют как единицы внешнего языка (Rumelhart, Lindsay, Norman 1972). Выявлено также, что на внешнем уровне существуют и другие, отличные от языковых, средства выражения одних и тех же пропозиций. Например, одно и то же внутреннее содержание может быть выражено внешне не только предложениями, но также жестами, серией картинок, пантомимой, танцем и т. д. (Bamberg, Marchman 1991; Trabasso, Nickels 1992). По этой причине какое-то специфическое написание пропозиций действительно представляется необходимым. В то же самое время обозначения типа тех, которые были предложены Кинчем, кажутся большинству исследователей излишне сложными для целей практического анализа, ввиду того, что они не содержат никакой дополнительной информации по сравнению со своими соответствующими предложениями. Поэтому запись пропозиций осуществляется, в основном, в форме предложений, но с добавлением какого-либо дополнительного маркера, указывающего на то, что мы имеем дело с пропозициями. В качестве важной задачи дискурсивного анализа провозглашается не только перевод поверхностной структуры дискурса в его пропозициональную базу, но и пропозициональная обработка дискурса, позволяющая обнаружить наиболее значимые пропозиции. Обработка дискурса включает в себя приписывание непрерывно следующим друг за другом пропозициям определенной иерархической структуры. Некоторые способы иерархизации пропозиций обобщены в большой программной статье Т. ван Дейка и В. Кинча (Dijk, Kintsch 1978). Способы иерархизации пропозиций называются макроправилами (macrorules). Выделяются следующие четыре макроправила: стирание, обобщение, отбор и построение (deletion, generalisation, selection and construction). Стирание используется для стирания тех пропозиций, которые обозначают случайную характеристику дискурсивного референта. Например: <Mary played with а ball. The ball was blue.> --- <Mary played with a ball>. Обобщение используется для замены нескольких микропропозиций одной макропропозицией, обо- 45 значающей суперреферент по отношению к референтам микропропозиций. Например: <Магу played with a doll. Mary played with blocks, ...> --- <Mary played with toys>. Отбор используется для стирания всех пропозиций, которые обозначают то, что уже было обозначено другими пропозициями. Например: <I went to Paris. So, I went to the station, bought a ticket, took the train, ...> --- <I went to Paris (by train)>. Построение используется для замены нескольких микропропозиций одной макропропозицией, обозначающей те же референты, которые были обозначены в микропропозициях. Например: <I went to the station, bought a ticket, …> --- <I travelled (to Paris) by train>. Процедуры, разработанные Дейком и Кинчем, показывают, каким образом можно сократить количество пропозиций в процессе обработки дискурса. В свою очередь, У. Лабов и Д. Феншел показывают, как можно увеличить количество пропозиций по сравнению с теми, которые выражены на поверхностном уровне. По их мнению, коммуникация включает в себя большое количество имплицитной информации в форме невыраженных пропозиций, как вербальных, так и паралингвистических. Невыраженные пропозиции могут быть сформулированы посредством метода расширения (expansion). Предлагается следующий пример расширения высказывания, сделанного пациенткой по имени Рода во время сеанса психоанализа: TEXT R.: And so – when – I called her today, I said, ―Well, when do you plan to come home?‖ EXPANSION R.: When I called my mother today (Thursday), I actually said, ―Well, in regard to the subject we both know is important and is worrying me, when are you leaving my sister‘s house where your obligations have already been fulfilled and returning as I am asking you to a home where your primary obligations are being neglected, since you should do this as head of our household?‖ Лабов и Феншел пишут, что в процессе расширения дискурса пациентки они прежде всего наполняют конкретным содержанием важные для понимания референты her и today. Далее дается расширение слова well посредством добавления предварительно полученной информации о местонахождении матери Роды. Добавляется также информация о ролевых обязанностях матери в каждом из двух домов, 46 извлеченная во время предыдущих бесед с пациенткой. Длина расширения указывает на то, насколько дискурс является непрямым. Чем длиннее расширение, требующееся для проникновения в основной смысл дискурса, тем более непрямым его следует считать. В непрямом дискурсе глубинные невыраженные пропозиции представляют собой главное намерение говорящего; соответственно, для понимания непрямого дискурса необходимо вывести данные пропозиции из глубины на уровень сознания и каким-то образом сформулировать их. Если этого не сделать, дискурс останется непонятым (Labov, Fanshel 1977, 58). Лабов и Феншел также пишут, что по их наблюдениям повседневное общение является, в основном, непрямым. Это связано, в первую очередь, с отношениями власти. Скажем, просьбы, обращенные к вышестоящим, обязательно смягчаются, а основной способ смягчения это, конечно, использование непрямого уклончивого дискурса. С другой стороны, когда глубинные пропозиции, лежащие в основе общения, хорошо известны собеседникам (как, например, в общении супругов), степень непрямоты дискурса также будет высокой. Лабов и Феншел отмечают, что иногда, благодаря их анализу, повседневное человеческое поведение интерпретируется как нечто, напоминающее изощренность Маккиавели. Однако когда мы имеем дело с видами общения, в которых преследуются корыстные цели, скрытую враждебность следует считать глубинным принципом коммуникации (Labov, Fanshel 1977, 68). В настоящей работе для выявления ложных пропозиций, выражаемых неискренним говорящим, будут использоваться оба метода пропозиционального анализа, охарактеризованные выше, то есть метод сокращения и метод расширения количества пропозиций, эксплицитно представленных в данном дискурсе. При формулировании пропозиций будет использоваться приводимый выше способ записи, предложенный Т. ван Дейком и В. Кинчем, то есть пропозиции будут формулироваться в виде предложений, заключенных в треугольные скобки. В семантическом отношении наблюдается ряд параллелей между неискренностью и другими явлениями семиотики общения, например, такими как вежливость. Как было установлено, вежливость создается вначале на уровне пропозиций, и лишь после этого идет 47 речь о каких-то специальных лингвистических средствах ее выражения, которые можно сосчитать или классифицировать (Brown, Levinson 1987, 22). Точно также мы утверждаем, что неискренность выражается на глубинном семантическом уровне и после этого оформляется при помощи особых языковых средств. Семантически неискренность представляет собой конструирование говорящим ложных пропозиций и присваивание им статуса истинных. Присваивание ложным пропозициям статуса истинных влечет за собой создание особой субъективной картины мира, или особой семантики реальности, значительно отличающейся от реальной объективной картины мира. Термин семантика реальности заимствуется из теории А. В. Бондарко, который считает, что ―реальность … соответствует тому, что называют актуальностью (рассматриваемой как коррелят потенциальности), а также фактичностью. Говорящим устанавливается представление о таком ―существовании в действительности‖, в котором нет элементов, так или иначе связанных с ирреальностью, то есть нет потенциальности, а также недостоверности‖ (Бондарко 1992, 16). Когда перед нами неискренний дискурс, то это значит, в первую очередь, что говорящий создает у слушающего представление о действительности, основанное не на фактичности и актуальности, а на ирреальности и потенциальности. Для объяснения семантики неискреннего дискурса можно также использовать выдвигаемое Ю. С. Степановым разграничение между истинной и ложной пропозицией как между фактом и нефактом. Если то же самое языковое выражение остается пропозицией в двух высказываниях: (а) Что он пел эту песню, - это истина (правда, факт); (б) Что он пел эту песню, - это ложь, то только первое из них является выражением факта. Ю. С. Степанов делает вывод, что факт есть пропозиция, истинная в рамках одного текста или дискурса (Степанов 1995а, 117 – 118). Если факт есть пропозиция, истинная в рамках данного дискурса, то основной признак содержания неискреннего дискурса – это выражение нефактов. Таким образом, при порождении неискреннего дискурса отрицание фактов сразу же закладывается в структуру знания и, соответственно, в структуру дискурса. Это делается говорящим осознанно и поэтому может с полным основанием считаться дискурсивной стратегией. 48 4. Неискренность личности как дискурсивная стратегия языковой Несмотря на то, что описание средств выражения смыслов всегда было главной задачей языкознания, тем не менее, направление от значения к знанию, передаваемому отдельным человеком, еще не стало лингвистическим объектом в полном смысле этого слова. В традиционных филологических дисциплинах этим аспектом лингвистического анализа в определенной степени занимались стилистика и риторика, однако приоритетной задачей оставалось все же исследование системы языка, стоящей за текстом, поэтому ученые, как правило, не шли дальше установления и классификации формальных средств, передающих отдельные прагматические характеристики высказывания или текста. Как уже указывалось, в последнее время в лингвистике наблюдается явно выраженная тенденция объединения разных подходов на пути создания новой теории языка, не ограничивающейся рассмотрением его как имманентной системы формальных средств, а включающей в себя связанные с этой системой прагматические аспекты функционирования, зависящие от носителя языка. Говоря словами Ю. Н. Караулова, изменение исследовательского пафоса формулируется так: ―За каждым текстом стоит языковая личность‖ (Караулов 1989, 5). Нельзя не согласиться с М. В. Ляпон в том, что категорию языковой личности следует рассматривать как естественный отклик коллективного исследовательского сознания на самые насущные потребности современной гуманитарной науки. Беря эту категорию на вооружение, лингвистика превращает ее в неотъемлемую часть своего концептуального аппарата, тем самым укрепляя позиции в рамках междисциплинарной проблемной области, которая занимается комплексным изучением человека (Ляпон 1995, 260). Понятие языковой личности следует трактовать как часть объемного и многогранного понимания личности в современной науке, как тип представления личности, в котором ее психический, социальный, этический и другие компоненты мыслятся как преломленные через язык. В описании языковой личности должны учитываться типовые социальные, груп- 49 повые и собственно индивидуальные черты. Изучение языковой личности все более конкретизируется, например, выясняется, что языковая личность может действовать индивидуально и в составе речевой группы (Крысин 1989), что языковые личности могут быть первичными и вторичными (Халеева 1995) и т.д. Необходимость обобщающего понятия давно назрела, и это привело к тому, что термин говорящий начал использоваться для обозначения человека, так или иначе использующего язык, будь то говорящий, слушающий, пишущий или читающий - фактически homo grammaticus (Хэллидей 1980, 127). Языковая личность является удобным понятием, объединяющим целую группу более узких понятий, и не только говорящий/пишущий, слушающий/читающий, но и таких, как отправитель/реципиент, адресант/адресат, говорящее лицо, автор речи, субъект речи и т.п. Наиболее полное определение языковой личности дано Ю. Н. Карауловым, который понимает ее как ―совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью‖ (Караулов 1989, 3). Как разъясняет Ю. Н. Караулов, в этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов. По мнению Т. Г. Винокур, компоненты словосочетания языковая личность указывают, во-первых, на коммуникативнодеятельностную, а, во-вторых, на индивидуальнодифференцирующую характеристики. Первый аспект отражается в попытке построить типологию функциональных вариантов высказываний, различающихся по сходству и различию коммуникативных установок при переходе ―мысль - интенция‖. Второй аспект представляет собой ступень, конкретизирующую интенциональное содержание (вопрос, ответ, просьба, приказ, согласие, возражение, утверждение, информация и пр.) (Винокур 1989, 11). Как коммуникативно-деятельностная, так и индивидуальнодифференцирующая стороны языковой личности в наиболее полном виде были подвергнуты изучению в теории речевых актов, ознаменовавшей переход от статистической фиксации языковых средств, вы- 50 ражающих интеллектуальные и эмоциональные состояния человека к их динамическому рассмотрению как комплекса языковых форм, характеризующих человеческие интенции. Теория речевых актов заимствует понятие интенции из феноменологии Э. Гуссерля, где под интенциональностью понимается направленность человеческого сознания на какой-либо объект. По Гуссерлю, каждому акту сознания присущ горизонт интенциональности. Интенциональность трактуется как категория, тесно связанная с содержанием и отражающая тот факт, что усилия человеческого сознания не могут предприниматься впустую, без какого-либо смысла. Если человек имеет интенцию, это значит, что он испытывает веру, желание, намерение и т.п., которые всегда основаны на некоем содержании, отражающем положение вещей в мире (Гуссерль 1996). Согласно общепринятой точке зрения, интенция как лингвистическое понятие базируется на психологическом понятии желания. Не случайно А. Вежбицкая предлагает считать желание элементарной неразложимой семантической единицей. Эта мысль вытекает из ее теории об общей аффективной (экспрессивной) ценности языка (Wierzbicka 1996). В самых общих чертах понятие интенции отражает абстрагирующий процесс каузации речи. Другими словами, при помощи этого понятия постулируется необходимость разграничивать смысл самого сообщения и понимание того, почему данное сообщение было произведено. В подлинно лингвистическом смысле понятие интенции было впервые применено Дж. Серлем для разграничения пропозиционального содержания и иллокутивной силы высказывания. По Серлю, пропозиции представляют собой содержание полагания, когниции или утверждения. Пропозиция - это то, что именно утверждается или констатируется и переходит от человека к человеку в актах коммуникации. Пропозиции отличаются от иллокутивных актов, совершаемых над ними или с ними. В отличие от пропозиции иллокуция не может быть истинной или ложной. Иллокутивные акты имеют агенса и принадлежат агенсу, в то время как пропозиции принадлежат миру. Особо разъясняется, что интенция - это возможный ответ в первом лице на вопрос ―Что мне делать?‖, и в этом смысле она близко связана с предикцией (Searle 1969). 51 В последующем, с развитием когнитивистики, стала подчеркиваться также важность фигуры наблюдателя, или, в другой терминологии, интерпретатора, в трактовке интенциональности (Падучева 1993; Кравченко 1993). Сейчас все более утверждается мнение о том, что следует учитывать роль интерпретатора не только в узко специальных исследованиях, но и в работах по общей теории грамматики, выделив в ней смысловую основу и интерпретационный компонент (Бондарко 1993, 16). Несмотря на некоторую существующую к настоящему моменту разницу в терминологии, в теории речевых актов выработано единое общее представление о том, что интенция выражается в иллокутивной силе речевого акта. Речевой акт трактуется как высказывание, соединяющее пропозицию и иллокуцию. Таким образом, в структуре речевого акта интенция накладывается на выражаемую пропозицию. Иллокутивное содержание менее устойчиво, чем пропозициональное, поэтому речевой акт может быть переинтерпретирован, например, высказывание, принятое за извинение или благодарность, может быть впоследствии воспринято как предупреждение или угроза. Итак, основная заслуга теории речевых актов состоит в представлении интенции в качестве начального этапа действия языковой модели. Интенция анализируется как первое звено в цепочке речевых действий языковой личности. Вместе с тем следует уточнить, что в теории речевых актов высказывание не всегда рассматривается через призму мыслительно-речевой деятельности конкретного говорящего, то есть как лингвокреативный процесс облечения мысли в дискурс. Видимо, по этой причине теорию речевых актов критикуют за то, что иногда конкретному участнику речевого акта придается лишь служебная роль поставщика языкового материала (Винокур 1989, 12). Существует мнение, что недостаточность теории речевых актов обнаруживается сразу же, как только мы выходим за пределы сиюминутных эмоций и намерений авторов речевых произведений. Эта теория не вооружает исследователя инструментом для выявления и описания стабильных, долгосрочных, доминантных установок (Караулов 1989, 4). Не случайно, поэтому, что для выявления интенциональности в рамках цельного сообщения (текста, дискурса) отдается предпочтение либо терминам стратегия и тактика речевого общения, либо термину дискурсивная стратегия. 52 Данные термины базируются на положении о том, что во время интеракции наблюдается более глубокая, чем это принято считать, дифференциация смыслов. Очень точную и обобщающую формулировку этого явления дает К. Менг, утверждающий, что любое высказывание сигнализирует о комплексном содержании. Ядро этого содержания образует пропозиция, передающая ―собственное‖ значение высказывания. Кроме этого каждое высказывание содержит пропозицию об иллокутивной цели совершаемого речевого акта, например в высказывании ―Ты сегодня очень невнимательна‖ собственное значение заключается в информации о невнимательности слушающего, а цель речевого акта представляет собой упрек. Данные пропозиции действуют на локальном уровне диалога. Кроме локальных отношений в семантике диалога существуют глобальные отношения, сигнализирующие о неких глобальных целях говорящего. Глобальные цели обычно выражаются не отдельными высказываниями, а группами высказываний. Такие цели не всегда поддаются однозначной интерпретации и требуют анализа ситуации и социального опыта. К. Менг делает вывод, что диалог является не простым действием, а сложной деятельностью. Глобальные цели говорящего регулируют расчленение деятельности на ряд подчиненных действий и обеспечивают между ними необходимые отношения типа предпосылка/следствие. Глобальный и локальный уровни семантической организации диалога связаны отношениями свертывания и развертывания информации. На глобальном уровне диалог развивается по мере постоянной взаимной интерпретации и по мере выводов, сделанных на этой основе. В связи с этим окончательная цель анализа семантики диалога формулируется как обнаружение смыслов, с помощью которых партнеры выражают глобальный стратегический замысел (Менг 1982, 17 - 18). Таким образом, постулируется существование некоего дополнительного по отношению к пропозиции и иллокуции смысла, выражаемого в диалоге на более глубинном, глобальном уровне. Этот смысл связан с личностью говорящего и отражает его стратегию в развертывании диалога. Прежде чем сформулировать личностный смысл, порождаемый неискренней языковой личностью в процессе осуществления своего стратегического замысла, необходимо более подробно охарактеризовать историю изучения этой сложной проблемы в ее общетеоретическом аспекте. 53 Научный анализ используемых говорящим стратегий был впервые осуществлен Э. Гоффманом, назвавшим любое взаимодействие людей в процессе общения стратегическим (strategic interaction). В качестве отправного пункта для стратегического взаимодействия провозглашается непосредственное присутствие людей рядом друг с другом. Единицей стратегического взаимодействия, по Гоффману, является встреча (encounter). Во время встречи люди осуществляют управление совместным пребыванием друг с другом (management of co-presence), для чего используются определенные стратегии общения (Goffman 1971, 19). Интересно отметить, что пытаясь привести примеры стратегического взаимодействия с собеседником, Гоффман обращается к обману как наиболее яркой иллюстрации стратегического замысла. Первый пример представляет собой рассказ о женщине, которую на некоторое время оставили без внимания во время допроса в гестапо. Воспользовавшись этим, она мгновенно реализовала следующий стратегический план поведения и дискурса: She calmly trotted down the stairs, passed several guards and offices, and reached the main hall at ground level. There she saw that to get out of the building one had to show a pass. So she calmly began a solitary tour of the Shelhus. In one Gestapo office she equipped herself with a few files which she took under her arm to lend strength to her role as a ―secretary‖. In one of the corridors she saw two high SS officers heading downstairs. She marched firmly one step behind them, and passed the guards at the front door who snapped to attention in deference to ―Lotte‘s‖ companions. For the benefit of the sentries, as the two SS officers dived into their car, she called out: ―Auf Wiedersehen, Herr Hauptsturm-Fuhrer, I shall see you in the afternoon!‖ and walked briskly down the road to freedom (Goffman 1971, 217 - 218). Во втором примере, приводимом Гоффманом, рассказывается об установке агентами ФБР подслушивающего устройства в одной из фирм Нью-Йорка. Будучи застигнуты врасплох гангстерами, они прибегают к обману: We had just installed the microphone and dropped the wire out of the window when the door swung open and all the lights were switched on. Three tough-looking hoods stood in the doorway. One, who seemed to be the spokesman, said, ―What the hell are you doing?‖ Bill dramatically 54 pointed to the electric clock on the wall. ―Do you see that Western Union clock?‖ One of the fellows said, ―So what?‖ ―That clock of yours was out of order,‖ Bill said, ―and because you people didn‘t have the consideration to call us, every clock on the West side is out of order.‖ The three tough-looking gentlemen actually looked surprised. Bill went on to describe very graphically how all over the city from 14 th Street to the Staten Island Ferry hundreds of clocks were stopped and had to be reset. ... As we went out Bill turned and said, ―Will you boys lock up?‖ The three hoods, just staring at the clock, nodded dumbly (Goffman 1971, 263 - 264). Гоффман приходит к выводу, что необходимо переосмыслить понятие обмана, трактуемого на бытовом уровне как плохой поступок человека. Если изучать обман не с деонтических позиций, а как стратегию общения, то выясняется, что существует масса случаев, когда человеку приходится обманывать, чтобы выжить. Анализируя примеры Гоффмана с точки зрения современной терминологии, можно сказать, что обманывающий, строя свой диалог с собеседником, в дополнение к выражению пропозиционального содержания и иллокуции выражает особый личностный смысл, присущий обману как стратегии общения. Дальнейший анализ Гоффмана является скорее социологическим, чем лингвистическим. Так, он отмечает, что в представленных примерах общество стоит на стороне обманывающего. Общество, или, можно сказать, определенная социальная группа, находится вместе с обманывающим и выступает против обманываемого, потому что оно не хочет гибели обманывающего. Есть также случаи, когда общество не заинтересовано в выживании того или иного человека, поэтому ему не разрешается обманывать. Например, общество не может позволить солдатам дезертировать или обманным путем отказаться от участия в военных действиях. Обман не всегда обусловлен свободным выбором индивида. Он может навязываться обществом через определенные социальные институты. Так, мы часто слышим о том, что того или иного политического деятеля попросили извиниться за сказанное им ранее, и вряд ли подобное извинение может быть названо искренним. 55 На личном уровне обман может использоваться индивидами, у которых есть возможность достичь своей цели из-за слабости собеседника, например, когда обманываемый занимает более низкое социальное положение, или когда он менее образован, чем обманывающий, или когда обманывающий здоровый взрослый человек, а обманываемый - больной человек или ребенок и т.п. Обман может быть вызван необходимостью выжить, понимаемой не только в прямом смысле, когда человек обманывает, чтобы спасти свою жизнь или здоровье, но и в переносном, когда обман используется, чтобы ―выжить‖ в борьбе с конкурентами, преуспеть в любви и т.п. Гоффман делает вывод, что обман как стратегическое взаимодействие является одним из видов повседневного общения. На необходимость введения нового термина, дополняющего термины теории речевых актов, указывает и то, что те исследователи, которые не используют понятие стратегии для описания явлений, подобных обману, и анализируют их в терминах теории речевых актов, тем не менее, отмечают их особый статус и необходимость новой терминологии. Так, С. М. Толстая определяет обман не только как речевой акт, прагматический коррелят лжи, но и как поведенческий акт, как действие, для которого нужна не столько истинностная оценка, сколько интерпретация (Толстая 1995, 109). На существование неразрывной связи между понятием стратегия и понятиями дискурс и текст указывает целый ряд исследователей. Ценное в теоретическом отношении объяснение их взаимодействия предложено Т. ван Дейком и В. Кинчем. Определяя дискурс как определенную последовательность взаимосвязанных речевых актов, они подчеркивают необходимость понимания дискурса как модели, основанной на стратегическом подходе. Разъясняется, что стратегические процессы во многом противоположны процессам алгоритмическим, или управляемым правилами, примером которых является, в частности, порождающая грамматика. ―Стратегии похожи на эффективные рабочие гипотезы относительно правильной структуры и значения фрагмента текста. Стратегический анализ зависит не только от текстуальных характеристик, но и от характеристик пользователя языка, его целей и знаний о мире. Стратегическому конструированию могут быть подвергнуты как пропозиции, выстраиваемые в определенные семантические конфигурации, так и знания о процессах по- 56 нимания‖ (Дейк, Кинч 1988, 163 - 164). Задача изучения дискурсивных стратегий в качестве нового раздела науки провозглашается в исследовании Дж. Гумперза. Понятие стратегия трактуется им как правило, регулирующее социальное и языковое действие. Ввиду того, что дискурсивные стратегии выбираются непосредственно во время взаимодействия участников, социальная действительность представляется как результат человеческих действий. Основное свойство стратегии, по Гумперзу, состоит в том, что она зависит от выбора говорящего, то есть стратегия предполагает, что есть и другая альтернатива. Выбирая стратегию общения, человек выбирает один из нескольких возможных в данный момент способов порождения дискурса. Важность теории Гумперза состоит в том, что он постулирует существование принципов самоорганизации человеческой группы, причем такой самоорганизации, которая не навязывается какими-либо сформулированными законами или установками, а определяется непосредственно ходом повседневного общения в группе. В конкретных терминах Гумперз выделяет два основных типа дискурсивных стратегий, а именно оппозицию мирных и агрессивных стратегий. Подчеркивается, что эти стратегии определяют значительную часть повседневного общения. Человеческая группа должна уметь контролировать свою внутреннюю агрессивность и в то же время сохранять потенциал агрессивности как внутри группы, так и во внешних, конкурентных взаимоотношениях группы с другими группами. Таким образом, по Гумперзу, дискурсивные стратегии можно считать фундаментальным принципом человеческой самоорганизации, направленной как на конкуренцию, так и на сотрудничество. Благодаря этому из хаоса неорганизованных человеческих взаимоотношений происходит создание порядка (Gumperz 1982). На поиск дискурсивных стратегий направлено исследование У. Лабова и Д. Феншела. Они принимают во внимание желание говорящего либо смягчать свою речь, избегая наносить собеседнику оскорбление, либо, наоборот, нагнетать напряжение в общении, ухудшать обстановку. Таким образом, выделяются две базовые интерактивные стратегии - умиротворение (mitigation) и раздражение (aggravation). Важным моментом является тот факт, что речевые акты располагаются в континууме от умиротворения до раздражения, например, от мягкой просьбы до команды, приказа. В связи с этим встает вопрос о 57 том, есть ли какие-нибудь другие стратегии и образуют ли они континуум. Лабов и Феншел считают, что можно говорить также о континууме между долженствованием (obligation) и желательностью (willingness) (Labov, Fanshel 1977, 84 - 85). В связи с этими идеями можно упомянуть еще один вид стратегий общего плана, упоминаемых исследователями, а именно: настойчивость участника общения (persistence) и его приверженность цели коммуникации (commitment) (Сohen, Levesque 1990). В отечественной лингвистике понятие стратегемы, а впоследствии - стратегии и тактики общения, - в ее отношении к тексту и дискурсу, было впервые предложено В. З. Демьянковым. Были выделены два вида стратегических планов, осуществляемых говорящим осознанный и подсознательный. Приводить в исполнение стратегический план участник может одновременно с помощью нескольких тактик, чаще всего одной основной и нескольких вспомогательных. Стратегема является ―директором‖ всей программы, регулирующей общение. Стратегема включает в себя модуль исполнения ходов, занимающийся выполнением детерминированного предписания (Демьянков 1979, 111). В. З. Демьянков поставил новую для лингвистики задачу моделирования процессов выдвижения гипотез относительно стратегий общения, о тактическом исполнении этих стратегий, о выборе тех средств претворения в жизнь тактических решений, к которым приходит человек в результате увязывания возможных ходов, в том числе и при выборе языковых выражений. В свете этих положений было уточнено понятие правильно построенного текста. Согласно гипотезе В. З. Демьянкова, определить правильно построенный текст как последовательность грамматически правильных предложений - это значит задать необходимое, но еще не достаточное условие. ―Текст - это результат человеческой деятельности, который можно определить как такое единство предложений, которое направлено на выполнение определенных стратегических и тактических задач общения в широком смысле ... Возможно, решение этой проблемы будет найдено при применении того, что иногда называют стратегемами общения‖ (Демьянков 1979, 113). Во время выдвижения этой концепции исследование речевого общения находилось на начальном этапе, поэтому можно было со- 58 слаться лишь на выкладки общего характера. Так, в качестве иллюстрации применения стратегий приводятся примеры из известной книги Д. Карнеги и максимы П. Грайса. В последующем В. З. Демьянков уточнил предложенные им термины, определив стратегии как прагматические правила ведения и интерпретации разговора, которые могут входить как в осознанный стратегический план, так и действовать на уровне подсознания. Регулярно используемые стратегии обобщаются в схемы стратегий, или стратегемы. Последние соотносят цель или направленность речевых действий и вовлеченные в эти действия элементы интерпретируемой ситуации. Результатом учета стратегем является нормативная оценка общения и результирующей смены высказываний, то есть оценка дискурса. Согласно обобщенному определению В. З. Демьянкова, прагматическая интерпретация дискурса содержит: 1) описание стратегем, мотивирующих действия общающихся сторон, причем реализации таких стратегем, конкретные стратегии ―сшивают‖ эпизоды дискурса в тематически организованное целое; 2) оценку эффективности дискурса и его частей, используемых в рамках тактик, реализующих стратегии в конкретных обстоятельствах общения (Демьянков 1981, 373). Принимая за основу постулаты В. З. Демьянкова о том, что общение всегда строится на основе определенной стратегии, ряд исследователей пишут просто о стратегии и тактике, или тактиках, не давая им конкретных названий. В частности, И. П. Тарасова выделяет два взаимосвязанных понятия - стратегию и тактику речевого общения. Они определяются как владение ходом течения беседы. При этом поясняется, что при различных обстоятельствах один и тот же человек может иметь несколько стратегий и тактик. Предполагается, что стратегия охватывает всю сферу построения процесса коммуникации, ставящего целью достижение некоторых долговременных результатов. Рассмотренная в самом общем плане, стратегия речевого общения направлена на реализацию некоторого плана, определенной ―линии‖ беседы. Конкретные виды стратегий не называются, подчеркивается лишь, что целью разработки стратегии может являться завоевание авторитета, воздействие на мировоззрение, убеждение совершить некоторый поступок, пойти на сотрудничество, воздержаться от каких-то действий. Что касается тактики речевого общения, то она описывается как со- 59 вокупность приемов ведения беседы на определенном ее этапе. Тактики носят тот же самый характер, что и стратегии, и направлены на привлечение внимания, установление и поддержание контакта, убеждение и переубеждение адресата, приведение его в определенное эмоциональное состояние и т.п. (Тарасова 1992а, 107 - 108). Г. А. Золотова выделяет понятие регистровых блоков в тексте и пишет, что их отбор и приемы соединения подчинены тактике и стратегии автора. Тактика текста реализуется средствами языка и лингвистическими же данными может быть эксплицирована. Тактикой определяется соотношение временных линий, соотношение динамики сюжетного движения и статики фоновых описаний; действий, событий и мыслей о них говорящего и т.д. ―Если выявление тактики текста показывает, как строится текст, то выявление стратегии текста отвечало бы на вопрос, зачем, для чего этот текст создается. Чаще всего стратегия, обнимающая понятия замысла, мировосприятия, позиции, прагматических интересов говорящего, остается категорией гипотетической, стоящей как бы за текстом, над текстом‖ (Золотова 1995, 126). В рамках обобщенного понимания стратегии как единого плана развертывания дискурса иногда говорят о макростратегиях глобального характера, связанных с темой и темпоральными изменениями, и о микростратегиях, носящих маргинальный характер (Бурдина 1995). Встречаются также упоминания о таких общестратегических разграничениях, как противопоставление кооперативного и конфликтного взаимодействия, при котором основное внимание уделяется приоритету одного из двух принципов - сотрудничества или конфронтации (Сергеев 1987, Плотникова 1998). Делаются попытки как-то обозначить конкретные стратегии и тактики, дать им название. Так, Т. В. Радзиевская выделяет транспозитивную и безадресатную стратегии (Радзиевская 1992, 102). В качестве конкретных тактик речевого общения выделяются тактика иллокутивного вынуждения (Баранов, Крейдлин 1992), тактика безразличия (Воркачев 1997), тактика призыва к откровенности (Верещагин, Ратмайр, Ройтер 1992). По-видимому, в рамках конкретных стратегий можно анализировать и такие явления, как молва (Прозоров 1998), умолчание (Пузанова 1998). Однако, в целом, пока еще нет ясного представления о том, какие стратегии и тактики имеют право называться таковыми. 60 Как явствует из вышеизложенного, проблема изучения стратегического взаимодействия общающихся настолько сложна, что до сих пор разработки в этой области носят предварительный характер. Это вполне понятно, так как задача определения правил прагматики, которые выглядели бы аналогично синтаксическим правилам, является фундаментальным направлением развития языковедческой науки на многие годы. Как указывается в теоретических исследованиях, полный набор прагматических правил моделирует употребление языка, так как стратегии управляют универсальными законами речевой коммуникации (Винокур 1993, 22). Отмечается также, что в человеческом общении, на две трети состоящем из диалога (говорения и слушания) формируется особая грамматика соединения речевых стимулов и речевых реакций - своего рода диалогический синтаксис (Арутюнова 1992, 79). Несомненно, что подобная теоретическая проблема требует детальной разработки на обширном языковом материале. На наш взгляд, на современном этапе развития лингвистики становится возможным начать основательную теоретическую разработку отдельных стратегий языковой личности, реализуемых ею в процессе создания дискурса. При этом, несомненно, что стратегии объединяются в определенные классы, внутри которых их можно сопоставлять и анализировать с применением общих методов. Импульсом к анализу неискренности в данной работе послужило исследование вежливости, проведенное в фундаментальном труде П. Браун и С. Левинсона (Brown, Levinson 1987). По нашему представлению, неискренность относится к тому же классу дискурсивных стратегий, что и вежливость, так как ее анализ можно обосновать теми же методологическими принципами, что и анализ вежливости. В связи с этим приведем основные постулаты Браун и Левинсона более подробно. Основываясь на теории Э. Гоффмана, Браун и Левинсон особо подчеркивают, что вежливость является стратегией ввиду того, что она основана на таких понятиях, как желание и цель, а не на нормах или моральных стандартах. Они дают три причины для подобного понимания. Во-первых, вежливость - это не какое-то универсальное, безоговорочно соблюдаемое право, которое все люди имеют по отношению ко всем другим людям. Вежливость просто в интересах говорящего. В этой связи Браун и Левинсон отмечают, что они придер- 61 живаются Веберианского подхода к определению природы человека, согласно которому главной сутью человека является его целенаправленность. Человек живет по сильно выраженной целенаправленной (zweckrational) модели индивидуального действия, и, конечно, в рамках такой модели вежливость будет входить в число явлений, которые человек хочет, ведь вежливость может способствовать достижению цели. Во-вторых, вежливостью можно пренебречь, что и делается повсеместно, например, в ситуациях общественного противостояния, при оскорблении собеседника, в кризисных ситуациях, например, во время военных действий, на пожаре, во время хирургических операций и в других экстренных случаях. Другими словами, вежливость не является чем-то универсальным и обязательным к исполнению, в отличие от норм и моральных ценностей. В третьих, понимание вежливости как стратегии, а не как нормы, позволяет анализировать ее в динамическом аспекте. Стратегическое общение динамично - оно строится, над ним работают, по его сути ведут переговоры, оно срывается и т.п. Если бы вежливость рассматривалась как норма, то подобное понимание не могло бы объяснить ее социальную изменчивость и в то же время ее инвариантность во всех культурах и во все времена. Вместе с тем подчеркивается, что, хотя вежливость инвариантна как явление культуры, базовой категорией для ее изучения служит язык, и в разных языках выражение вежливости имеет свои особенности, требующие отдельного рассмотрения. Анализ вежливости поднимает вопрос о том, существуют ли еще какие-либо стратегии общения подобного типа. Браун и Левинсон указывают еще на одно явление, которое можно отнести к семиотике общения наряду с вежливостью. Это юмор или шутливое вербальное поведение, под которым понимаются отношения собеседников, выражающие отсутствие агрессии и в то же время позволяющие сохранить потенциал агрессивности, который может быть немедленно востребован в случае необходимости (Brown, Levinson 1987, 2). Как представляется, еще одно явление, которое можно отнести к тому же типу, что вежливость и юмор, это неискренность. Однако пока понятие неискренности, в различных ее проявлениях, определяется лишь на уровне наивно-языковых представлений - все люди знают, что значит быть неискренними, обманывать, лгать, клеветать, хитрить и т.п., и могут дать бытовое определение данного понятия. Однако 62 научно обоснованные модели неискреннего общения до сих пор отсутствуют. Аргументы в пользу понимания неискренности как стратегии языковой личности могут пойти по тем же направлениям, что и указанные выше аргументы в пользу понимания вежливости как стратегии. Неискренность рассматривается неискренним говорящим как нечто в его интересах, то есть как нечто, способствующее достижению его цели. Как и вежливость, неискренность можно считать одним из свойств человеческой природы, таким способом существования, когда люди хотят выражать ложные пропозиции вместо истинных. Как и вежливость, неискренность свойственна не только отдельным людям, но также социальным группам и целым дискурсивным сообществам, например, различным общественным институтам. Тот факт, что неискренность является стратегией языковой личности, можно также обосновать постулатом об объективном характере лжи, доказанном Х. Саксом. Теоретические предпосылки его исследования, также как и в книге П. Браун и С. Левинсона, заимствуются из теории Э. Гоффмана. Х. Сакс утверждает, что каждому человеку приходится лгать. По его мнению, ложь - это явление, которое можно исследовать с точки зрения того, насколько оно осознается говорящим (именно в этом случае в настоящей работе идет речь о неискренности). Любой человек может оказаться в такой ситуации, когда необходимость лгать практически навязывается извне. Например, в ситуации, когда спрашивают ―Как Ваши дела?‖, отвечающий должен выбрать ложь в качестве адекватного ответа и ответить ―Хорошо‖ даже в том случае, если ему плохо. По Саксу, говорящему приходится лгать, отвечая на целый ряд вопросов, ввиду того, что в обществе действует принцип ―говоримости‖ (―tellability‖). Этот принцип действует имплицитно, тем не менее, он всегда принимается в расчет при порождении дискурса. Некоторые вещи можно говорить только в кругу семьи, некоторые - только врачу, священнику и т.п. Должен также соблюдаться порядок сообщения информации, при котором некоторые собеседники должны услышать новость раньше других. Время и место сообщения также играют важную роль при выборе истины или лжи - даже если та или иная новость может, в принципе, быть сообщена данному человеку, она не может быть сообщена ему здесь и сейчас, то есть в этом конкретном месте и в это конкретное 63 время. Сакс указывает на объективный характер лжи, и выражение ―каждому приходится лгать (everyone has to lie)‖ понимается им как некое правило, гласящее ―тебе следует лгать‖, при невыполнении которого следуют санкции (Sacks 1975). В своей другой работе Х. Сакс включает выражение ложности в понятие ―делать обычное‖ (doing ordinary). Он определяет данное понятие как проведение своего времени обычными способами. Сакс пишет, что в задачу теоретика входит исследование того, что означает быть обычным человеком в мире, как в сфере действий, так и в вербальном поведении. Если рассматривать человека с этих позиций, то ложь можно считать обычным человеческим занятием, по той причине, что часто человек лжет из-за общественной и личной необходимости, а не из-за того, что он руководствуется свободой выбора. Человек лжет, потому что все обычные люди будут лгать при данных обстоятельствах (Sacks 1986, 414 -415). Понятие ―делать обычное‖ соотносится с понятием способа существования, предлагаемым в современной философии. Высказывается мысль о том, что следование истине является первым способом существования, а следование лжи - вторым способом существования. Это объясняется тем, что истина первична в онтогенезе речи и более предпочтительна в психологическом плане. Если бы люди были ориентированы только на ложь, они бы могли созерцать мир, но не созидать его. Тем не менее, ложь является привычным занятием в потоке существования (flow of existence) (Castaneda 1975, 57). О лжи как объективной данности говорится и в современной психологии личности, в частности, в таком ее разделе, как психология манипуляции. Выясняется, что существует широкий контекст межличностного взаимодействия, в рамках которого возникает и разворачивается манипуляция, в которой сплетаются преобразование информации, наличие силовой борьбы, проблемы истина/ложь и тайное/явное, динамика перемещения ответственности, изменение баланса интересов (Доценко 1996, 8). Если применить данные рассуждения к объяснению неискренности, то становится очевидным, что, прибегая к этой стратегии, люди используют свойственную человеку общую психологическую установку на истину. Видимо, как это подмечено философами, человеку присуще вначале воспринимать информацию как правдивую, и 64 только после соответствующей обработки информации и ее интерпретации человек осознает, что его собеседник был с ним неискренен. Поэтому неискренний говорящий имеет психологическое преимущество перед собеседником. Завершая рассмотрение проблемы неискренности в ракурсе особенностей дискурса языковой личности, необходимо подчеркнуть, что в общеметодологическом плане в настоящей работе мы будем придерживаться наметившейся в последнее время тенденции обобщенного рассмотрения понятия стратегия, под которой понимают и когнитивный процесс (план оптимальной реализации коммуникативного намерения), и механизм достижения коммуникативной цели, задающий соответствующую организацию дискурса, и характеристики общения, определяющие подход к партнеру. Нельзя сказать, что стратегия интерпретируется через идентичные речевые акты. Скорее, стратегия понимается как выбор наиболее приемлемого способа фокусировки текста. Она реализуется не через единичные речевые акты, а в дискурсе как единице коммуникации. Отмечается, что асимметрия виртуального и материального проявляется в множественности форм воплощения одной и той же стратегии. Если адресат не реагирует адекватным образом, то автор по ходу общения изменяет стратегию и находит способ донести свой коммуникативный замысел до адресата (Сусов 1989; Чахоян, Паронян 1989; Астафурова 1996 и др.). Мы также принимаем положение о том, что при выражении любой дискурсивной стратегии происходит передача особого типа содержания - личностного смысла говорящего. Личностный смысл накладывается как на пропозициональное содержание, так и на иллокутивное значение речевых актов. В связи с этим становится очевидным, что классификация возможных стратегий будет зависеть от выделения соответствующих личностных смыслов, что, в свою очередь, представляется чрезвычайно сложной проблемой. Вместе с тем, имеющиеся определения личностных смыслов хорошо укладываются в представления о дискурсивных стратегиях. Например, выделение таких личностных смыслов, как эмпатия/апатия/антипатия и кооперация/наступление/оборона (Рябцева 1995, 146), находит отражение в приводимых выше теоретических положениях по поводу стратегического компонента в отношениях между общающимися. Примем в качестве определения, что личностный смысл пред- 65 ставляет собой индивидуальное отражение отношения личности к объектам действительности и что личностный смысл предъявляется адресату с помощью дискурса (Сидоров 1989, 19). Дискурсивная стратегия, в свою очередь, определяется как целенаправленное порождение личностного смысла, облекаемое в конкретные вербальные средства (Пушкин 1989, 50). Если использовать термин дискурсивная стратегия для характеристики неискренности языковой личности, то необходимо акцентировать два основных аспекта изучаемого явления - то, что неискренность является дополнительным, личностным смыслом говорящего и то, что этот смысл реализуется в особом способе организации дискурса, произведенного говорящим. Личностный смысл неискренности как стратегии говорящего можно вывести из следующих размышлений Н. Д. Арутюновой, утверждающей, что хотя иллокутивный аспект интерсубъектных действий еще не изучался систематически, однако ясно, что он развертывается в виде стратегических задач, которые можно каким-то образом классифицировать. ―Взаимодействуя, люди наступают или отступают, берут верх или подчиняются, обороняются и самоустраняются, угрожают, блефуют, предупреждают и дают отпор, демонстрируют свое превосходство или презрение, унижают другого или унижаются сами, хитрят, обманывают и юлят, примазываются или отмежевываются, льстят или третируют друг друга, укоряют и обвиняют, ставят на место, мстят, сводят счеты, самоутверждаются, делая ―ход собой‖, и т.п.‖ (Арутюнова 1992, 49). В данном списке стратегических задач явным образом вычленяется неискренность как один из видов интеракции. Обобщая, следует еще раз подчеркнуть, что концепт неискренности предполагает разрыв между знанием и представлением этого знания. Порождая свой дискурс, неискренний говорящий кладет в его основу особый личностный смысл, который можно сформулировать, пользуясь выражением Н. Д. Арутюновой из вышеупомянутой работы, как ―знаю, да не скажу‖. Как будет показано ниже, воплощаясь в виде дискурсивной стратегии, неискренность влечет за собой использование особых структур знания, особых когнитивных сценариев, на основе которых выделяются различные виды неискреннего дискурса. Неискренность как особенность языковой личности проявляется 66 также в особом отборе языковых средств, которые в своей совокупности передают личностный смысл, присущий данной дискурсивной стратегии. 67 ГЛАВА 2. ПОРОЖДЕНИЕ НЕИСКРЕННЕГО ДИСКУРСА 1. Общие принципы порождения дискурса Изучение проблем порождения речи восходит к работам психологического направления в языкознании, отмечавшего важность не только внешней формы языка, но и его внутренней формы. Понятие внутренней формы было введено В. Гумбольдтом, который описывал это явление как промежуточное звено между языком и мышлением, представляющее собой движение воли между чисто психическим представлением и чисто языковым (словом). Другие представители психологического направления (Г. Штейнталь, В. Вундт, А. А. Потебня и др.) признавали тот факт, что описание языка не может быть исчерпывающим без учета его внутренней формы, проявляющейся в скрытых категориях языка. Особенно велика в этом заслуга в этом А. А. Шахматова, в работах которого встречаются термины коммуникация и внутренняя речь, детально разработанные впоследствии в современной психологии и психолингвистике. А. А. Шахматов определяет коммуникацию как простейшую единицу мышления, как психологический акт, состоящий из сочетания двух представлений, приведенных движением воли в предикативную связь. Посредником между коммуникацией и предложением, в котором коммуникация находит себе выражение, является внутренняя речь, которая определяется как облеченная в слуховые, частью зрительные знаки мысль (Шахматов 1941, 19 - 20). Актуально и современно звучат следующие выводы ученого: ―Поэтому психологический акт коммуникации приходится признать результатом сложного процесса, состоящего в начале из движения воли, направленной к сообщению собеседнику сочетавшихся двух представлений, а затем в психическом анализе этих представлений; из сложных комплексов, возникших в начале коммуникации, выделяются посредством ассоциации со знаками внутренней речи те или иные существеннейшие или важнейшие в данном случае для говорящего признаки; это дает возможность упростить зародившийся у говорящего психологический процесс и довести его до обнаружения в слове. Следовательно, начало коммуникация получает за пределами внутренней речи, но завер- 68 шается она в процессе внутренней речи, откуда уже переходит во внешнюю речь‖ (Шахматов 1941, 20). В понимании Шахматова, коммуникация находит выражение в предложении, а посредником между ними служит внутренняя речь. Помимо звукового языка существует внутренний способ выражения, который состоит частично из слуховых знаков и частично из зрительных представлений. Это дает возможность упростить зародившийся у говорящего психологический процесс и довести его до обнаружения в слове. Таким образом, из сложных комплексов, возникающих в начале коммуникации, выделяются посредством ассоциации со знаками внутренней речи те или иные существеннейшие или важнейшие в данном случае для говорящего признаки. Проблемы роли языка в структурировании сознания занимают умы ученых, начиная с работ Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия и др. Их идеи послужили основой для становления психосемантического подхода к исследованию сознания личности и особенно так называемого обыденного сознания. В настоящее время в психосемантике под сознанием понимается высшая форма психического отражения, присущая человеку как общественно-историческому существу, выступающая как сложная система, способная к развитию и саморазвитию, несущая в своих структурах присвоенный субъектом общий опыт, моделирующая мир и преобразующая его в деятельности (Петренко 1988, 5). В современной психолингвистике порождение речи рассматривается как многоэтапный процесс, обусловленный особенностями сознания личности. В качестве первичного этапа рассматривается этап формирования смысла. Эта идея была детально разработана Л. С. Выготским, выделившим внутриречевой (смысловой) и внешнеречевой (поверхностный, фазический) этапы речемыслительного процесса. Широко известен тезис Выготского о слове как единстве обобщения и общения, мышления и коммуникации (Выготский 1956). В трактовке А. А. Леонтьева процесс порождения речи разбивается на внутреннюю речь, или внутреннее программирование, во время которого формируется смысловая структура высказываний, и на внешнюю речь, связанную непосредственно с языком (Леонтьев 1969, 158). Н. И. Жинкин, в свою очередь, различает внутренние и внешние коды речи и указывает на существование особых кодовых переходов при 69 переводе внутренней речи во внешнюю (Жинкин 1964; 1982). В целом, психолингвистический подход основан на определении смысловых структур и правил их преобразования в поверхностные структуры, а в более широких терминах - на установлении закономерностей перехода от внутриречевого этапа к внешнеречевому. Особенности ―внутреннего языка‖ и ―языка внешней выраженности‖ глубоко интересовали М. М. Бахтина. Он усматривал между ними вечное противоречие. ―Сказанное слово стыдится себя самого в едином свете того смысла, который нужно было высказать (если, кроме этого противостоящего смысла, ничего ценностно нет). Пока слово не было сказано, можно было верить и надеяться - ведь предстояла такая нудительная полнота смысла, - но вот оно сказано, вот оно все здесь во всей своей бытийно-упрямой конкретности - все, и больше ничего нет! Уже сказанное слово звучит безнадежно в своей уже-произнесенности; сказанное слово - смертная плоть смысла‖ (Бахтин 1979, 117). Однако, отмечает ученый, несмотря на несовершенство нашего способа выражения смысла, мышление и язык справляются с проблемой самообъективации. Говоря о становлении теории порождения речи, нельзя не отметить роль Г. Гийома, придававшего психосистематическому происхождению языковых фактов чрезвычайно важное значение. Согласно Гийому, психогенез языковых сущностей основан на принципе потенции, которой обладает мысль, чтобы прерывать свой собственный ход для получения его срезов. Также как и его предшественники, Гийом провозглашает приоритет внутренней речи, которая обозначается в его теории как мысленное высказывание. Мысленное высказывание понимается как первичное; лишь после его порождения создается возможность устного и письменного словесного выражения. Особо подчеркивается, что все три типа высказывания - мысленное, устное и письменное - являются словесными (Гийом 1992, 137 - 138). В генеративной грамматике термин порождение речи стал применяться для обозначения процесса создания предложения путем трансформации глубинной ядерной структуры в поверхностную языковую структуру. Как указывает Е. С. Кубрякова, хотя генеративная грамматика и ставила своей целью охарактеризовать языковые знания идеального носителя языка, она обходила стороной вопросы о том, как эти знания используются в речевой деятельности. Модель Н. Хо- 70 мского имеет дело с разрозненными, вырванными из контекста предложениями, а не с целостными сообщениями, в которых предложения подчинены структуре дискурса. В настоящее время понятие порождения речи выходит за пределы генеративной грамматики и начинает приобретать новый смысл. Оно начинает обозначать весь сложный процесс создания языковых сообщений – от их истоков в мыслительной деятельности человека до завершающих стадий оформления мысли в слове и передачи ее в целом тексте (Кубрякова 1991, 4). К настоящему моменту проведен ряд исследований языковых механизмов порождения речевых произведений с позиций постгенеративизма, показавших, что эта область содержит целый спектр трудно разрешимых проблем (Колшанский 1975; 1983; Sinclair 1979; Widdowson 1979; Шахнарович 1995; 1998; Ульрих 1992; Гаспаров 1996). Было установлено, что речевая деятельность является сложным структурным образованием, характеризующимся множеством разных процессов. Использование языка в действии соединяет в себе автоматическое употребление готовых строевых элементов системы языка и лингвокреативную деятельность участников коммуникации. По общепринятому мнению, начальным этапом порождения высказывания можно считать момент оформления общей интенции говорящего, определяемой как его намерение вступить в контакт с собеседником (Горелов, 1987, 147). К числу интенций общего плана относятся намерения говорящих, реализуемые посредством особых типов предложений – повествовательных, вопросительных, восклицательных и т.п., а также интенциональные характеристики речевого акта, выражающиеся при использовании перформативных глаголов или перформативных конструкций (Кубрякова 1991, 48). Наряду с общими установками при порождении речи действует так называемый принцип когнитивной самостоятельности говорящих, согласно которому порождение речи понимается не как простое исполнение определенного замысла, а как интеллектуальный поиск, как совпадение момента мышления с моментом создания дискурса (Butt 1989). Поэтому для полного представления речепорождающего процесса как последовательности операций по осуществлению интенциональных характеристик речи следует учитывать стратегический замысел говорящего, направленный на выражение его личностного смысла. 71 Выбор темы и стратегии является, по мнению Е. С. Кубряковой, основополагающим фактором в порождении высказываний. В упрощенном виде ―рождение внешнего речевого высказывания начинается в сознании человека тогда, когда ―предмысль‖, разбиваемая на личностные смыслы, создает кардинальное противопоставление этих смыслов‖ (Кубрякова 1991, 31). И далее указывается, что ―выработка плана и стратегии сообщения не всегда принимает осознанный характер, но что имплицитно в любой речи имеется план и стратегия изложения‖ (Кубрякова 1991, 57). Смысл складывающегося дискурса оценивается Е. С. Кубряковой как негомогенное образование, которое может быть условно расчленено на отдельные компоненты, в частности, компонент, выражающий основное информационное содержание, референциальный компонент, соотносящий текст с элементами действительности, модальный, дейктический, упаковочный, логический, эмоциональный, и, наконец, телеологический компонент, соотносящий высказывание с речевыми и неречевыми намерениями говорящего. ―Для поверхностного выражения указанных компонентов смысла происходит нередко их амальгамирование, но с лингвистической точки зрения каждый из них можно проследить по присущим ему автономным средствам его языкового выражения и даже системе таких средств‖ (Кубрякова 1991, 46). В свете этого положения становится очевидным, что выражение личностного смысла неискренности относится к телеологическому компоненту порождения дискурса и что необходимо исследовать особенности языковых средств, присущих поверхностной структуре неискреннего дискурса. Становится общепринятой концепция так называемой эмерджентной грамматики (термин Е. С. Кубряковой), свойственной дискурсу в момент его порождения. Согласно этой концепции, грамматика создается в момент говорения; она не столько употребляется, сколько творится участниками общения. В момент порождения дискурса для него часто нет готового рецепта, и языковую форму нужно не столько выбрать, сколько создать. По данным Дж. Синклера, традиционные грамматики по своей сути основаны на принципе подчинения (conforming grammar), следуя которому говорящий выбирает наиболее типичные и предсказуемые 72 языковые средства из известного ему набора. Подобные грамматики не учитывают активности говорящих, которые в реальном общении пользуются эмерджентной грамматикой (evolving grammar). Именно о подобного рода грамматических правилах следует вести речь, когда мы говорим о процессе порождения дискурса (Sinclair 1979). Подход с позиций эмерджентной грамматики позволяет анализировать дискурс на протяжении всего процесса смыслопорождения, начиная от элементарных единиц плана содержания через уровень значения до уровня сложных смыслов, в том числе и личностных. В этой связи представляется важным следующее утверждение А. М. Каплуненко: ―С развитием языковых процессов ... появляются функционально направленные разновидности коммуникации (дискурсы), для которых двусмысленность - и даже многовекторность смысла выделяется в качестве статутного признака, заданного на уровнях говорящего и наблюдателя‖ (Каплуненко 1998, 73). Именно таков неискренний дискурс, поскольку двусмысленность заложена в его семантику в качестве инвариантного признака. Анализ процесса порождения неискреннего дискурса необходимым образом входит в сферу исследований действия субъективного фактора в языке. Как указывает Г. В. Колшанский, ―любому речепроизводству должен быть приписан субъективный фактор, отражающий отношение субъекта к предмету своего высказывания‖ (Колшанский 1975, 9). Степень субъективности варьируется в зависимости от потребностей и мотивов говорящего, а также в зависимости от особенностей процесса порождения дискурса. В настоящее время появляются лишь первые работы в области теоретического изучения субъективности в дискурсе и тексте. Хотя многое еще остается неясным, уже можно сделать первые выводы о признаках дискурса, обусловленных субъективными факторами. Прежде всего становится очевидным, что субъективность очень широкая категория. Формы ее выражения варьируются в таких широких диапазонах, что это нарушает все традиционные представления о функциональных стилях (регистрах), жанрах и типах текста. Как отмечает Дж. Суейлз, с точки зрения выражения личной вовлеченности представители одного и того же жанра могут не иметь ни одной общей черты. И, наоборот, тексты, традиционно причисляемые к разным жанрам, с точки зрения грамматического и лексического кодиро- 73 вания субъективности явным образом выделяются как единый жанр. Например, такие тексты, как личные письма и живой диалог, скажем, разговор по телефону, следует признать одним типом текста ввиду того, что они равноценны по уровню субъективности и языковым способам ее выражения (Swales 1990). В более широком смысле изучение языковой личности является частью проблемы соотношения объективного и субъективного в языке. Теоретическое осмысление роли человеческого фактора позволяет связать субъективность с другими когнитивными процессами человека и выяснить все многообразие способов, при помощи которых человек познает действительность. Субъективность усложняет семантическую структуру высказывания. Как отмечает А. М. Каплуненко, многочисленные исследования по лингвистике текста обнажили проблемы и закономерности образования сложных смыслов. В целом выяснилось, что стандартный аппарат структурно-семантического описания неадекватно отражает соответствующие процессы. Компенсирующие средства обычно изыскивались не в семантике, а в прагматике, где человеческий фактор занимает центральное положение (Каплуненко 1995, 19). Субъективность является важным признаком создаваемой в процессе общения языковой картины мира. Человек описывает в дискурсе не только объективную картину мира; одновременно, он выступает как субъект восприятия и вступает в интерактивные отношения с другими участниками коммуникации. По определению А. В. Кравченко, субъективность как языковое явление следует рассматривать с точки зрения того, в какой мере психологический субъект влияет на логико-семантическую и структурную организацию той или иной языковой формы, и каким образом это влияние категоризуется в рамках самой этой формы (Кравченко 1992, 49). По нашему мнению, неискренний субъект порождает языковые формы специфическим образом, и анализ этого процесса входит в круг лингвистических интересов. Важность рассмотрения субъективности в ракурсе неискренней языковой личности можно обосновать следующими размышлениями М. М. Бахтина: ―Всякая, даже самая полная и совершенная (определение для другого и в другом), антиципация смысла изнутри меня самого всегда субъективна ... И вот если внутреннее бытие отрывается 74 от противостоящего и предстоящего смысла, которым только оно и создано все сплошь и только им во всех своих моментах осмыслено, и противопоставляет себя ему как самостоятельную ценность, становится самодовлеющим и самодовольным перед лицом смысла, то этим оно впадает в глубокое противоречие с самим собою, в самоотрицание, бытием своей наличности отрицает содержание своего бытия, становится ложью: бытием лжи или ложью бытия‖ (Бахтин 1979, 109). Мы будем исходить из положения о том, что порождая неискренний дискурс, говорящий отрицает содержание своего бытия, создает при помощи языка ―ложь бытия‖, и язык при этом превращается в ―бытие лжи‖. Обычно различают дискурс, спонтанно порождаемый субъектом в момент говорения, и дискурс, созданный субъектом заранее и предназначенный для последующего использования. Э. Окс называет эти два вида дискурса незапланированным и запланированным дискурсом (planned and unplanned discourse). Разница между ними объясняется на примере говорящего, которого просят рассказать о себе перед определенной аудиторией. В первом случае говорящий делает это спонтанно, и его дискурс будет незапланированным. Во втором случае говорящий готовится несколько дней, и его дискурс характеризуется как запланированный. Как считает Окс, в основе идеи планирования лежит понятие предварительного обдумывания (forethought). В незапланированном дискурсе отсутствует предварительное обдумывание и подготовка структурного оформления. Запланированный дискурс обдумывается и конструируируется в течение определенного времени и иногда несколько раз переделывается перед его предъявлением адресату. Окс указывает, что дискурс может быть спланирован с учетом каких-то факторов, в то время как другие факторы могут быть не продуманы. Например, говорящий может спланировать референцию и предикацию, но не спланировать необходимый для ситуации общения уровень вежливости (Ochs 1979, 55 – 56). На наш взгляд, термины, предложенные Э. Окс, не очень удачны из-за их совпадения с терминами планирование и план, используемыми в когнитивной науке. В когнитивном отношении весь дискурс является планируемым в том смысле, что речевая деятельность осуществляется на основе извлечения из памяти знаний, представленных 75 в виде планов (или в другой терминологии – фреймов, скриптов, сценариев, схем). Вместе с тем сама идея о разграничении видов дискурса в зависимости от времени, затрачиваемого на их подготовку, представляется весьма важной. Очевидно, что именно такие специфические типы дискурсов, как неискренний дискурс, могут в полной мере показать грань между употреблением языка путем простой перекодировки глубинных ядерных структур в поверхностные и лингвокреативным процессом порождения дискурса конкретным говорящим, реализующим свою индивидуальную стратегию. Следует изучить порождение неискреннего дискурса непосредственно в процессе речевого общения, когда смысл, создаваемый совместными усилиями собеседников, циркулирует между истиной и ложью, искренностью и неискренностью. Как показывает анализ, выделяются три вида неискреннего дискурса, разграничиваемые в соответствии с особенностями порождающего процесса: спонтанно порождаемый неискренний дискурс, предварительно подготовленный неискренний дискурс и периодически возобновляемый неискренний дискурс. 2. Спонтанно порождаемый неискренний дискурс Спонтанное порождение неискреннего дискурса соответствует общим закономерностям вербализации замысла в речи, выделяемым в специальной литературе. Рождающаяся мысль выражается, главным образом, посредством внутренней речи, то есть путем вербализации части потока сознания, формирующейся во время текущей мыслительной деятельности (Караулов 1987, 206). При этом смыслы могут приобретать квазивербализованную форму внутренних слов или собственно вербализованную (но пока еще интериоризованную) форму языковых знаков (Кубрякова 1991, 28). Б. А. Серебренников называет эти два типа внутренней речи редуцированной и развернутой внутренней речью. Редуцированная внутренняя речь отрывочна и фрагментарна. В ней минимум синтаксической расчлененности, высказывание мысли дано в сгущенном виде, когда формулируются не столько слова, сколько трудноуловимые намеки на них, выражаемые в каких-то моментах артикулирования. Редуцированная внутренняя речь соответствует типу мышления, 76 в котором смешиваются вербальный и авербальный типы. Развернутая внутренняя речь - это говорение про себя. Движения произносительных органов здесь возможны, но они носят рефлекторный характер, и степень их интенсивности неодинакова и варьируется от легкости или трудности содержания внутренней речи (Серебренников 1988, 82). ―Замечательное представление о роли внутреннего слова, - пишет Е.С. Кубрякова, - дает М. Булгаков, описывая формирование мысли и соответствующего ей речевого потока следующим образом: ―Аннушка... Аннушка?... - забормотал поэт, тревожно озираясь, позвольте, позвольте... К слову ―Аннушка‖ привязались слова ―подсолнечное масло‖, а затем почему-то ―Понтий Пилат‖. Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова ―Аннушка‖. И цепочка эта очень быстро связалась и тотчас привела к сумасшедшему профессору...‖ Итак, можно заключить, что внутреннее слово представляет собой условную номинацию всей описываемой ситуации‖ (Кубрякова 1991, 65). Видимо, подобный процесс порождения носит единый характер для всех типов спонтанной речи. Так, С. Ф. Гончаренко доказывает, что при создании поэтического произведения действует тот же самый механизм внутреннего слова, что и при порождении обычной речи. Функции внутренних слов выполняют особые квазиморфемы, которые действуют при ―зачатии‖ поэтического текста, то есть при переходе интериоризованной речи поэта во внешнюю - графическую и звучащую звукобуквенную поэтическую речь. Проявлением внутренней речи, как считает С. Ф. Гончаренко, является известный феномен ―бормотания‖ поэта при поисках нужной вербальной формулы (Гончаренко 1995, 170). Лингвистическим способом описания смысла в момент его создания является использование метапредложений, метатекстов, или метадискурса. Как указывает И. П. Тарасова, речемыслительное Я говорящего сокрыто во время порождения предложенийвысказываний, но оно может быть репрезентировано посредством метапредложений, например, в структуре смысла приветствия ―здравствуй!‖, которая в самом первом приближении может быть описана так: ―Я приветствую тебя: Я устанавливаю с тобой речевой контакт этикетного типа, который означает, что я хочу поддерживать с тобой 77 речевые отношения, соответствующие социальной норме‖ (Тарасова 1992, 107). Для того, чтобы составить научное представление о процессе спонтанного порождения неискреннего дискурса, необходимо привести данные о сопровождающем его метадискурсе. Используем в качестве доказательства следующий пример, содержащий диалог двух художников, один их которых, оценивая картины другого, говорит неискренне. Пример интересен тем, что он, во-первых, содержит сам неискренний дискурс говорящего, а во-вторых, метадискурс, в котором эксплицируется процесс порождения неискреннего дискурса: ―If you‘ll stand over there I‘ll put them on the chair so that you can see them better.‖ She showed him twenty small canvases, about eighteen by twelve. She placed them on the chair, one after the other, watching his face; he nodded as he looked at each one. ―You do like them, don‘t you?‖ she said anxiously, after a bit. ―I just want to look at them all first,‖ he answered. ―I‘ll talk afterwards.‖ He was collecting himself. He was panic-stricken. He did not know what to say. It was not only that they were ill-drawn, or that the colour was put on amateurishly by someone who had no eye for it; but there was no attempt at getting the values, and the perspective was grotesque. It looked like the work of a child of five, but a child would have had some naivete and might at least have made an attempt to put down what he saw; but here was the work of a vulgar mind chock full of recollections of vulgar pictures. Philip remembered that she had talked enthusiastically about Monet and the Impressionists, but here there were only the worst traditions of the Royal Academy. ―There,‖ she said at last, ―that‘s the lot.‖ Philip was no more truthful than anybody else, but he had a great difficulty in telling a thundering, deliberate lie, and he blushed furiously when he answered: ―I think they‘re most awfully good.‖ A faint colour came into her unhealthy cheeks, and she smiled a little. ―You needn‘t say so if you don‘t think so, you know. I want the truth.‖ ―But I do think so.‖ 78 ―Haven‘t you got any criticism to offer? There must be some you don‘t like as well as others.‖ Philip looked round helplessly. He saw a landscape, the typical picturesque ―bit‖ of the amateur, an old bridge, creeper-clad cottage and a leafy bank. ―Of course I don‘t pretend to know anything about it,‖ he said. ―But I wasn‘t quite sure about the values of that.‖ She flushed darkly and taking up the picture quickly turned its back to him. ―I don‘t know why you should have chosen that one to sneer at. It‘s the best thing I‘ve ever done. I‘m sure my values are all right. That‘s a thing you can‘t teach anyone, you either understand values or you don‘t.‖ ―I think they‘re all most awfully good,‖ repeated Philip. She looked at them with an air of self-satisfaction. ―I don‘t think they are anything to be ashamed of.‖ Philip looked at his watch. ―I say, it‘s getting late. Won‘t you let me give you a little lunch?‖ ―I‘ve got my lunch waiting for me here.‖ Philip saw no sign of it, but supposed perhaps the concierge would bring it up when he was gone. He was in a hurry to get away. The mistiness of the room made his head ache (Maugham, pp. 266 - 267). Данный пример доказывает положение когнитивной лингвистики о том, что речевое поведение говорящего детерминировано его знаниями. Интеллектуальная деятельность связана прежде всего с правильным использованием имеющихся знаний. В этом конкретном случае художник, приглашенный высказать мнение о картинах, на основе своих знаний мгновенно понимает, что картины плохие. Однако он не высказывает сразу эту мысль, а, так сказать, держит ее внутри себя, пытаясь сформировать свои интенции и общий стратегический замысел (He did not know what to say). Вся сложность наблюдаемой спонтанной ситуации общения состоит в том, что, во-первых, она протекает в реальном (для собеседников) времени, и, во-вторых, является лишь одним из звеньев их общей совместной деятельности, что не может не учитываться при порождении дискурса. Вполне очевидно, что формирование замысла порождаемой речи связано со слушающим. Говорящему не полностью ясны дискурсивные ожидания слушающего, однако он предполагает, что от него 79 требуется положительная оценка картин, и это вызывает у него сильную эмоциональную реакцию (He was collecting himself. He was panicstricken). Вербализация внутренней речи говорящего, происходящая посредством использования метадискурса, свидетельствует о том, что на уровне внутренней речи прежде всего происходит оформление истинных смыслов. При спонтанном порождении дискурса говорящий не в состоянии выразить сразу несколько смыслов, поэтому он конструирует одну внутреннюю пропозицию. Она может быть сформулирована в самом общем виде как <Картины плохие>. Данная пропозиция подкрепляется другими смыслами, которые уточняют или расширяют родившуюся мысль (It was not only that they were ill-drawn; the colour was put on amateurishly; there was no attempt at getting the values; it looked like the work of a child of five, etc.) Таким образом, спонтанный речепорождающий процесс начинается с формулирования истинной пропозиции. Однако дискурсивная компетенция и знание о мире не позволяют языковой личности эксплицитно выразить данную пропозицию. Адекватно обработав стандартную ситуацию общения, говорящий принимает решение заменить истинную пропозицию на ложную и выразить ее на поверхностном уровне при помощи языковых знаков. Решение производить неискренний дискурс связано с личностью адресата, больной туберкулезом художницей, которую говорящий не хочет обидеть. Зародившаяся ложная пропозиция <Картины хорошие> требует от говорящего начать поиск таких языковых средств, которые бы не позволили слушающему правильно интерпретировать внутреннюю истинную пропозицию. Используя термин Х. Вайнриха, можно сказать, что истинное предложение отличается от ложного на так называемую ассертивную морфему да/нет (Вайнрих 1987). Механизм негации, посредством которого искажается истина, на лингвистическом уровне передается посредством замены требуемого слова на его антоним (the pictures are ill-drawn – the pictures are good). Итак, за предложением, описывающим картины как хорошие (I think they‘re most awfully good), стоят две пропозиции - истинная <Картины плохие> и ложная <Картины хорошие>. Пользуясь другим термином, можно сказать, что говорящий обманывает, причем, возвращаясь к определению Р. Столнейкера 80 (1985), здесь имеет место безобидный случай обмана, который вызван тем, что говорящий не хочет причинить боль собеседнику. Поэтому неискренность не является результатом случайности. Неискренний дискурс порождается осознанно и намеренно, но этот факт скрывается от собеседника. Желание выразить одну-единственную ложную пропозицию отражается в синтаксисе спонтанно порождаемого неискреннего дискурса, а именно в использовании упрощенных конструкций. Обманывая художницу, говорящий пользуется, в основном, простыми короткими предложениями, пытаясь не сказать лишнего. Говорящий также употребляет глаголы мнения, при помощи которых он переводит внимание с объективного знания на свое субъективное внутреннее состояние. Утверждения делаются, в основном, от первого лица, что позволяет избежать ненужных в данной ситуации обобщений. В актах номинации говорящий прибегает к трансформациям, заменяя отрицательные дескрипции на положительные. Нельзя не согласиться с Д. Болинджером, что достаточно сделать простейшие трансформации, например, достаточно заменить слово его антонимом, или превратить утвердительное предложение в отрицательное, как истина обернется ложью (Болинджер 1987). Спонтанное порождение неискреннего дискурса, не оставляющее времени на его обдумывание, обычно основано на принципе подведения обозначаемой реалии действительности под какую-либо стереотипную пропозицию. Выбор пропозиции может быть относительно удачным для неискреннего говорящего, как это имеет место в вышеприведенном примере. Пропозиция может быть выбрана неудачно и немедленно отвергнута слушающим и/или наблюдателем. Приведем пример, в котором предложение исполнить в домашнем спектакле роль старухи отвергается молодой девушкой, не желающей предстать в таком образе перед нравящимся ей молодым человеком. Истинная пропозиция скрывается, и взамен нее выражается ложная пропозиция о неумении сыграть роль: ―Fanny,‖ cried Tom Bertram, from the other table, where the conference was eagerly carrying on, and the conversation incessant, ―we want your services.‖ Fanny was up in a moment, expecting some errand, for the habit of employing her in that way was not yet overcome, in spite of all that Ed- 81 mund could do. ―Oh! We do not want to disturb you from your seat. We do not want your present services. We shall only want you in our play. You must be Cottage‘s wife.‖ ―Me!‖ cried Fanny, sitting down again with a most frightened look. ―Indeed you must excuse me. I could not act any thing if you were to give me the world. No, indeed, I cannot act.‖ ―Indeed but you must, for we cannot excuse you. It need not frighten you; it is nothing of a part, a mere nothing, not above half a dozen speeches altogether, and it will not much signify if nobody hears a word you say, so you may be as creep-mouse as you like, but we must have you to look at.‖ ―If you are afraid of half a dozen speeches,‖ cried Mr. Rushworth, ―what would you do with such a part as mine? I have forty-two to learn.‖ ―It is not that I am afraid of learning by heart,‖ said Fanny, shocked to find herself at that moment the only speaker in the room, and to feel that almost every eye was upon her; ―but I really cannot act.‖ ―Yes, yes, you can act well enough for us. Learn your part, and we will teach you all the rest. You have only two scenes, and as I shall be Cottager, I‘ll put you in and push you about; and you will do it very well. I‘ll answer for it.‖ ―No, indeed, Mr. Bertram, you must excuse me. You cannot have an idea. It would be absolutely impossible for me. If I were to undertake it, I should only disappoint you.‖ ―Phoo! Phoo! Do not be so shamefaced. You‘ll do it very well. Every allowance will be made for you. We do not expect perfection. You must get a brown gown, and a white apron, and a mob cap, and we must make you a few wrinkles, and a little of the crowsfoot at the corner of your eyes, and you will be a very proper, little old woman.‖ ―You must excuse me, indeed you must excuse me,‖ cried Fanny ... and before she could breathe after it, Mrs. Norris completed the whole, by thus addressing her in a whisper at once angry and audible: ―What a piece of work here is about nothing, - I am quite ashamed of you, Fanny, to make such a difficulty of obliging your cousins in a trifle of this sort, - So kind as they are to you! - Take the part with a good grace, and let us hear no more of the matter, I entreat.‖ ―Do not urge her, madam,‖ said Edmund. ―It is not fair to urge her in 82 this manner.‖ (Austen - 1, pp. 119 - 120). В этом примере истинная пропозиция относится к тому типу, который был охарактеризован Х. Саксом как неотвечающий условиям говоримости (tellability) (Sacks 1975). Перед нами один из тех случаев, когда говорящему приходится быть неискренним, так как истина не может быть высказана по неписаным деонтическим законам общества. Молодая девушка не может выразить пропозицию <Я не буду играть старуху в присутствии любимого мною Эдмунда>, поэтому она спонтанно ―хватается‖ за первый пришедший ей на ум смысл, а именно <Я не буду играть, потому что не смогу>. Данный смысл воспринимается присутствующими как неразумный и активно опровергается ими путем отрицания, аргументации и убеждения (Yes, yes, you can act well enough; If you are afraid of half a dozen speeches, what would you do with such a part as mine; You‘ll do it very well; Every allowance will be made for you; etc.) Ей предлагается конкретная помощь (I‘ll put you in and push you about). Все возможные несовершенства заранее прощаются (it will not much signify if nobody hears a word you say). Однако девушка упорно придерживается ложной пропозиции, прибегая к ее переформулировке (I could not act any thing if you were to give me the world; No, indeed, I cannot act; It is not that I am afraid of learning by heart, but I really cannot act; If I were to undertake it, I should only disappoint you). Понимая неразумность доводов девушки, ее собеседники, тем не менее, не ставят под сомнение ее искренность и ищут объяснение ее поведению в сфере истинности. В качестве разумной причины отказа играть роль выдвигается застенчивость (you may be as creep-mouse as you like, but we must have you to look at; Do not be so shamefaced). Таким образом, собеседники ведут активный поиск скрываемого девушкой знания, выдвигая гипотезы о скрытых невыраженных языком пропозициях, лежащих в основе происходящего. Владея своим знанием, девушка в непрямой форме апеллирует к другим участникам с просьбой о прекращении поиска этого знания, намекая на невозможность разделить его со всеми (No, indeed, Mr. Bertram, you must excuse me. You cannot have an idea. It would be absolutely impossible for me). Однако разумное объяснение, по всей видимости должно быть получено, в противном случае участники общения почувствовали бы себя некомпетентными в плане решения проблем. Объяснение формулиру- 83 ется немного позже, и не на основе истины, а на основе субъективного мнения о стереотипной возможности (I shall think her a very obstinate, ungrateful girl, very ungrateful indeed, considering who and what she is). Следует подчеркнуть, что спонтанное порождение и вербализация пропозиций свойственны дискурсу вообще, а не только неискреннему дискурсу. Причем во время процесса порождения говорящий не всегда точно знает о своем собственном отношении к происходящему. Зачастую ему еще не известно, что правда, а что ложь. Так, в следующем примере, узнав о том, что от него родится ребенок, мужчина некоторое время не может решить, испытывает ли он недовольство, что повлечет неискренность по отношению к матери ребенка, или счастье, что выльется в искреннее общение: She broke it on Coventry Lane: ―I‘m having a baby.‖ They stopped by a gate, leaned on it so that he could take the shock. ... ―Roll on,‖ he muttered with a long-drawn-out whistle of breath. ―This is a stunner... It‘s a sod, i‘n‘t it‖ he said, half-smiling back. He didn‘t know whether to laugh or cry, was gripped by hot-aches of the heart and brain... ―You thought I‘d run away and never show my face?‖ he laughed. Her hard knuckles thumped into his ribs: ―No, you leary swine. But you can clear off now if you want to, because I can soon have the baby and keep it myself without your ‗elp‖... He rubbed the pain out of his bones: her outbursts were the more abrupt and fiery in proportion to her at-times angelic calmness. ―You want to keep your temper. I was only having a joke.‖ ... The first shock had shown the future as a confused black ocean, which had lost much of its alarm, however, in the last half hour because a feeling of having gained some enormous happiness had gradually come into him (Sillitoe, p. 69). Общей чертой порождения неискреннего дискурса, наблюдаемой в вышеприведенных примерах, является то, что говорящий, не желая демонстрировать свои знания в разговоре, прибегает к личностному смыслу неискренности. При спонтанном порождении неискреннего дискурса речевая деятельность говорящего обусловлена тем, что он выбирает ложные пропозиции, не имея возможности тщательно обдумать свой выбор. Примеры демонстрируют также известное положение психолингвистики о понимании речевой деятельности как подчиненной деятельности более высокого порядка. Речь вплете- 84 на в другие виды человеческой жизни и существует как ее неотъемлемое звено (Леонтьев 1969, 31). Спонтанный неискренний дискурс порождается под давлением определенных жизненных обстоятельств и зачастую не зависит от свободного выбора говорящего. В более общем плане можно утверждать, что говорящие владеют не только языковыми знаниями и не только знаниями о мире, но также и знаниями стратегий речевого общения, в частности, стратегией спонтанного создания неискреннего дискурса под давлением обстоятельств. 3. Предварительно подготовленный неискренний дискурс Лингвокреативная роль языковой личности в процессе создания дискурса особенно ярко проявляется в предварительно подготовленном дискурсе, чье предъявление адресату не совпадает по времени с моментом порождения. Это вид неискреннего дискурса наиболее тесным образом связан с реализацией категории субъективности. Неискренний участник берет на себя роль организующей силы в процессе общения, становится личностью, формирующей восприятие ситуации всеми другими участниками. Заранее подготовив свой дискурс, неискренний собеседник реализует ―возможности мысленного видения‖ (Гийом 1992, 22), пользуясь которыми он становится внешним фактором по отношению к ситуации. В конкретных терминах специфика предварительно подготовленного неискреннего дискурса состоит в том, что один из участников или группа участников общения сознательно планирует, иногда в течение длительного времени, скрыть от своих будущих собеседников истинный смысл происходящего и ввести их в заблуждение. Для неискренних говорящих ситуация общения имеет явно выраженную прагматическую направленность, которая неизвестна для остальных участников. Метадискурс, который при спонтанном порождении остается на уровне внутренней речи, выводится здесь во внешнюю речь. Эту особенность речевого взаимодействия можно проиллюстрировать примером из романа Т. Драйзера ―Американская трагедия‖, в котором два адвоката, Джефсон и Белнеп, тщательно планируют дискурс, который должен воспроизвести во время суда их подзащитный, Клайд Гриффит, обвиняемый в убийстве беременной от 85 него женщины. Метадискурс, при помощи которого готовится будущий неискренний дискурс Гриффита, строится по принципу конструирования семантических дайджестов. Дайджест (summary) понимается как дискурс, описывающий пропозициональную макроструктуру другого дискурса (Dijk, Kintsch 1978, 72). Рассмотрим первый семантический дайджест, сформулированный адвокатом Джефсоном. Он выражает в кратком виде набор основных ложных пропозиций, которые нужно представить как истинные: And so, out of these various conferences, it was finally deduced by Jephson, who saw a great opportunity for himself in this matter, that the safest possible defense that could be made, and one to which Clyde‘s own suspicions and most peculiar actions would most exactly fit, would be that he had never contemplated murder. On the contrary, being a moral if not a physical coward, as his own story seemed to suggest, and in terror of being exposed and driven out of Lycurgus and of the heart of Sondra, and never as yet having told Roberta of Sondra and thinking that knowledge of his great love for her (Sondra) might influence Roberta to wish to be rid of him, he had hastily and without any worse plan in mind, decided to persuade Roberta to accompany him to any near-by resort but not especially Grass Lake or Big Bittern, in order to tell her all this and so win his freedom - yet not without offering to pay her expenses as nearly as he could during her very trying period (Dreiser, p. 656). Данный отрывок передает отличительную черту неискреннего коммуниканта, состоящую в том, что для себя он вначале формулирует истинные пропозиции, одновременно принимая решение заменить истину на ложь в последующем судебном разбирательстве. Возвращаясь к положению Х. Вайнриха, согласно которому ложь может быть выявлена тогда, когда лжец признается под напором доказательств: ―Я солгал‖, отметим, что это удастся сделать, если будут сопоставлены два предложения - истинное и ложное (Вайнрих 1987). Как показывает пример, адвокат планирует будущий неискренний дискурс подзащитного таким образом, чтобы подобного сопоставления не произошло и чтобы ложные пропозиции были приняты за истинные. Исходные ложные пропозиции образуют семантическую рамку, внутри которой начинается процесс подготовки неискреннего дис- 86 курса. Перед нами разворачивается напряженный интеллектуальный поиск в типичном проблемном пространстве. Проблемное пространство (problem space) определяется Ньюуеллом как движение мысли между двумя состояниями знания – от инициального состояния до желаемого состояния (Newell 1977). Инициальным состоянием является знание о том, что Клайд Гриффит совершил убийство, а желаемым состоянием – прямо противоположное состояние знания, а именно: доказательство того, что он не совершал убийства. Несомненно, что данная когнитивная проблема относится к числу сложных проблем, которые обычно решаются не в отдельной беседе, а в серии бесед (Плотникова 1995). В нашем примере адвокаты подзащитного обсуждают стоящую перед ними проблему в течение длительного времени в постоянно возобновляемых многочисленных беседах. Как показано в ряде лингвистических работ, имеется прямая связь между когнитивным понятием проблемы и лингвистическим понятием вопроса. Например, Т. Виноград утверждает, что наблюдается непосредственная связь между постановкой вопросов и нахождением решений проблем. Это настолько очевидно, что не вызывает сомнений, поэтому можно использовать фразы ―решать проблемы‖ и ―отвечать на вопросы‖ как взаимозаменяемые и употреблять их для репрезентации мыслительной операции, которая начинается с набора фактов и процедур и заканчивается желаемым результатом (Winograd 1977, 64). Данный лингвистический механизм применяется и в нашем примере. Подготовка неискреннего дискурса осуществляется путем постановки вопросов, за которыми следуют предикции относительно реакции слушающих. Ср.: ―All well and good‖, commented Belknap. ―But that involves his refusing to marry her, doesn‘t it? And what jury is going to sympathize with him for that or believe that he didn‘t want to kill her?‖ ―Wait a minute, wait a minute,‖ replied Jephson, a little testily. ―So far it does. Sure. But you haven‘t heard me to the end yet. I said I had a plan.‖ ―All right, then what is it?‖ replied Belknap most interested. ―Well, I‘ll tell you – my plan‘s this – to leave all the facts just as they are, and just as he tells them, and just as Mason has discussed them so far, 87 except, of course, his striking her – and then explain them – the letters, the wounds, the bag, the two hats, everything – not deny them in any way.‖… ―All very good, but how?‖ queried Belknap (Dreiser, p. 656). Сомневающийся Белнеп задает Джефсону вопросы, в которых актуализируются смыслы, необходимые для того, чтобы присяжные поверили подзащитному. После этого одобренные ложные пропозиции формулируются Джефсоном в виде нового, второго семантического дайджеста, который уточняет и конкретизирует ложные пропозиции, представленные в первом дайджесте: ―He goes up there, you see, because he's frightened and because he has to do something or be exposed. And he signs those registers just as he did because he's afraid to have it known by anybody down there in Lycurgus that he is up there. And he has this plan about confessing to her about this other girl. BUT,‖ and now he paused and looked fixedly at Belknap, ―and this is the keystone of the whole thing – if this won't hold water, then down we go! Listen! He goes up there with her, frightened, and not to marry her or to kill her but to argue with her to go away. But once up there and he sees how sick she is, and tired, and sad – well, you know how much she still loves him, and he spends two nights with her, see?‖ ―Yes, I see,‖ interrupted Belknap, curiously, but not quite so dubiously now. ―And that might explain those nights.‖ ―MIGHT? Would!‖ replied Jephson, slyly and calmly (Dreiser, p. 657). Джефсон считает, что он выработал окончательный семантический дайджест будущего неискреннего дискурса, однако Белнеп продолжает задавать вопросы, свидетельствующие о том, что поиск в проблемном пространстве не закончен. Адвокаты начинают обсуждать каждую пропозицию в мельчайших деталях. Ср.: ―I see. But how about the boat now and that bag and his going up to this Finchley girl‘s place afterwards?‖ ―Just a minute! Just a minute! I‘ll tell you about that,‖ continued Jephson, his blue eyes boring into space like a powerful electric ray. ―Of course, he goes out in the boat with her, and of course he signs those registers falsely, and he walks away through those woods to that other girl, after Roberta was drowned. But why? Why? Do you want to know why? I‘ll tell you. He felt sorry for her, see...‖ ... ―I see, but he‘ll have to tell a mighty convincing story,‖ added 88 Belknap, a little heavily. ―And how about those two hats? They are going to have to be explained.‖ ―Well, I‘m coming to those now. The one he had was a little soiled. And so he decided to buy another. As for that story he told Mason about wearing a cap, well, he was frightened and lied because he thought he would have to get out of it‖ (Dreiser, p. 658). Подготовка неискреннего дискурса подзащитного продолжается подобным способом в течение целой серии бесед, во время которых семантические дайджесты ложных пропозиций все более уточняются, пока, наконец, адвокаты не приходят к окончательному варианту. Адвокаты трансформируют и искажают семантику реальности, пытаясь представить ирреальность и потенциальность как актуальность и фактичность. Замена фактичности на потенциальность осуществляется при помощи субъективного выбора референтов. Подзащитному следует упоминать лишь те объекты, которые соответствуют его прагматической установке. Поэтому, хотя референтная соотнесенность объектов и соответствует реальности (например, упоминается реальное озеро, реальная гостиница и т.п.), вряд ли эту реальность можно назвать объективной. И пространство, и действующие лица, и временная рамка событий организуются вокруг личной точки зрения подзащитного. Составив окончательный семантический дайджест, адвокаты начинают решать проблему конкретного языкового оформления будущих высказываний подзащитного. Отобранные ими ложные пропозиции оформляются при помощи тщательно отобранных языковых средств. Высказывания подзащитного строго контролируются. Практически это выражается в том, что его заставляют заучивать свои будущие показания наизусть. Cр.: ―And Mason will go after him like a wild bull. But we‘ll have to coach him as to all this - drill him. Make him understand that it‘s his only chance - that his very life depends on it. Drill him for months‖ (Dreiser, p. 661). Таким образом, неискренние говорящие задают тон в последующем судебном разбирательстве. В языковом отношении контроль над будущими собеседниками планируется, исходя из принципа проспекции. Для подзащитного подбираются такие высказывания, которые предусматривают с их стороны единственно возможный ответ. 89 Планируется также сотрудничество в развитии разговора и избегание конфликта. Подзащитному рекомендуется начинать свои высказывания с форм вежливости и прекращать развитие опасных тем путем умолчания. При воспроизведении подзащитным подготовленного дискурса наблюдается аспект речевой деятельности, который может быть назван чистым исполнением. На данную особенность указывает Е. С. Кубрякова, выделяющая в составе речевой деятельности не только непосредственное порождение и восприятие речи, но также чтение, заучивание наизусть, перевод и т.п. (Кубрякова 1991, 25). В анализируемом примере во время судебных заседаний имеет место почти дословная передача заученного дискурса. Ср.: ―And did you tell her about the room she took at the Gilpin‘s?‖ ―No, sir, I didn‘t. I never told her about any room. She found it herself.‖ (This was the exact answer he had memorized.); ―And why not?‖ ―Because the door to her room was right next to the door to the general front entrance where everybody went in and out and anybody that was around could see.‖ That was another answer he had memorized.; ―I believe it is admitted by all that she is,‖ he said to the court in general without reqiring or anticipating a reply from Clyde, yet the latter, so thoroughly drilled had he been, now replied: ―Yes, sir.‖; ―Do you mean to say that you didn‘t suffer in your own conscience on account of this?‖ ―Yes, sir, I suffered,‖ replied Clyde. ―I knew I wasn‘t doing right, and it made me worry a lot about her and myself, but just the same I didn‘t seem to be able to do any better.‖ (He was repeating words that Jephson had written out for him, although at the time he first read them he felt them to be fairly true. He had suffered some) (Dreiser, pp. 730 - 735). Становится очевидным, что при озвучивании предварительно подготовленного неискреннего дискурса весь сложный процесс его подготовки должен быть скрыт от слушающих, и основной задачей неискреннего говорящего становится имитация спонтанного общения, спонтанного облечения мысли в языковую форму. Итак, при этом типе порождения неискреннего дискурса наблюдается разрыв между деятельностью созидающего языкового сознания при подготовке дискурса и оперативным моментом его актуали- 90 зации. Семантический и языковой объем дискурса некоторое время находится в латентном, скрытом от слушающего виде. В этом состоянии дискурс еще не порожден окончательно, то есть он подвержен изменениям, которые иногда могут происходить в течение длительного периода времени. Когда порождение дискурса закончено, и он готов к реализации, движение созидающей мысли останавливается, и дискурс закрепляется в лингвистическом сознании неискреннего говорящего. Весь сложный процесс порождения предварительно подготовленного неискреннего дискурса развертывается как антиципация конкретного момента его исполнения (озвучивания, написания). 4. Периодически возобновляемый неискренний дискурс Специфика этого вида неискреннего дискурса, по нашим наблюдениям, заключается в том, что он порождается как спонтанный или заранее подготовленный, и, оказавшись с точки зрения неискреннего говорящего удачным, воспроизводится им многократно, с теми или иными трансформациями. Однако при этом основное семантическое содержание дискурса, как и его языковое оформление, в целом, остаются неизменными. При этом типе порождения неискреннего дискурса нарушается основной принцип диалога - его ―одноразовость‖, непосредственная данность. В лингвистическом отношении периодически возобновляемый неискренний дискурс строится на выделенном М. В. Ляпон принципе словесного самомоделирования. ―Словесное самомоделирование - это создание языкового автопортрета. Такой автопортрет может быть полиинформативным, включающим многоаспектную характеристику индивидуального способа языкового осмысления картины мира, стратегии использования слова, или воссоздавать доминантный признак образа своего ―Я‖ как языковой личности как бы в эскизном решении, затушевывающем подробности‖ (Ляпон 1989, 26). Как будет показано ниже, именно языковой автопортрет, включающий в себя типичные слова и словосочетания, а также набор заученных высказываний служит основой этого вида дискурса. Выражение потенциальной возможности на основе тщательно подготовленного словесного самомоделирования особенно ярко проявляется в случаях профессионального обмана. Профессиональный 91 обманщик обычно выжидает, когда ему представится возможность обратиться со своим дискурсом к деперсонифицированному адресату, то есть такому, который может возникнуть в любой прогнозируемый или непрогнозируемый момент. Даже если адресат известен, самим фактом повторения одного и того же дискурса, говорящий отдаляет себя от него и пытается абстрагироваться от конкретной ситуации общения. Порождение подобного неискреннего дискурса можно показать на следующем примере, в котором идет речь о предсказателе судьбы: ―Ah, here is Mr. Podgers! Now, Mr. Podgers, I want you to tell the Duchess of Paisley‘s hand. Duchess, you must take your glove off. No. Not the left hand, the other." ―Dear Gladys, I really don‘t think it is quite right,‖ said the Duchess, feebly unbuttoning a rather soiled kid glove. ―Nothing interesting ever is,‖ said Lady Windermere: ―on a fait le monde ainsi. But I must introduce you. Duchess, this is Mr. Podgers, my pet chiromantist. Mr. Podgers, this is the Duchess of Paisley, and if you say that she has a larger mountain of the moon than I have, I will never believe in you again.‖ ―I am sure, Gladys, there is nothing of the kind in my hand,‖ said the Duchess gravely. ―Your Grace is quite right,‖ said Mr. Podgers, glancing at the little fat hand with short square fingers, ―the mountain of the moon is not developed. The line of life, however, is excellent. Kindly bend the wrist. Thank you. Three distinct lines on the rascette! You will live to a great age, Duchess, and be extremely happy. Ambition - very moderate, line of intellect not exaggerated, line of heart -‖ ―Now do be indiscrete, Mr. Podgers,‖ cried Lady Windermere. ―Nothing would give me greater pleasure,‖ said Mr. Podgers, bowing, ―if the Duchess ever had been, but I am sorry to say that I see great permanence of affection, combined with a strong sense of duty.‖ ... ―Extraordinary!‖ exclaimed Sir Thomas: ―you must really tell my wife‘s hand, too‖ (Wilde - 1, p. 170). Дискурс предсказателя судьбы не соответствует реальному миру; он основан на определенном возможном мире, ―разрешенном‖ покровительницей предсказателя и теми, кто пользуется его услугами. Действительность в этом случае обусловлена деонтической возмож- 92 ностью, и в дискурсе создается мир, в котором истинность пропозиций не подлежит верификации. Порождаемый дискурс носит вневременной характер, то есть он может иметь место как в данный момент говорения, так и в любой другой момент. С точки зрения его реализации дискурс предсказателя не ―говорится‖ спонтанно, а представляется как заученный наизусть. Это связано с тем, что для порождения данного дискурса требуется не столько объективная ситуация общения, сколько деонтическая возможность его порождения ( разрешение на порождение). В анализируемом примере выбор языковых средств ограничен. Неискренний говорящий играет здесь двойную роль. С одной стороны, он является непосредственным участником ситуации общения, а с другой стороны, он как бы наблюдает за остальными со стороны, возвышаясь над ними как носитель некоего уникального и недоступного другим знания. Отсутствие единого базиса для понимания является главным фактором для достижения цели в подобном виде неискреннего дискурса. Предсказатель моделирует свой языковой образ прежде всего на основе механизма номинации. Заранее заготовленные и заученные слова предназначены не для создания какой-либо более-менее объективной картины мира, а лишь для постоянного и безнаказанного возобновления непонятного слушающим дискурса (on a fait le monde ainsi; rascette; the mountain of the moon, line of intellect, line of heart). Благодаря этому механизму предсказатель отдаляет себя от остальных участников общения, противопоставляя свою языковую личность языковым личностям другого склада. Становится очевидным, что ―производитель текста как будто утверждает свой - фаталистический принцип, оценивая второй путь как некоторую вульгаризацию‖ (Ляпон 1989, 27). Субъективное пристрастие к словам - не единственный признак самомоделирования языковой личности предсказателя. Заучиваются, по-видимому, не только отдельные слова, но и предложения, несущие информацию о некоторой существенной для слушающих самооценке (Ambition - very moderate; great permanence of affection, combined with a strong sense of duty; etc.). Не случайно, что подобное субъективное информирование вызывает у других участников ситуации общения желание получить подобный дискурс со стороны предсказателя (Ex- 93 traordinary, you must really tell my wife‘s hand, too). Не вызывает сомнения, что предсказатель просто возобновит свой дискурс, возможно, с небольшими изменениям. В целом, в данном примере ложность трактуется как истинность из-за деонтической возможности, реализуемой неискренним говорящим. Периодически возобновляемый неискренний дискурс может порождаться не только в каких-то особых условиях общения типа предсказаний судьбы, но и в самых обычных повседневных обстоятельствах. Например: Krebs found that to be listened to at all he had to lie... His lies were quite unimportant lies and consisted in attributing to himself things other men had seen, done or heard of, and stating as facts certain apocryphal incidents familiar to all soldiers. Even his lies were not sensational at the pool room. His acquaintances, who had heard detailed accounts of German women found chained to machine guns in the Argonne forest and who could not comprehend, or were barred by their patriotism from interest in, any German machine gunners who were not chained, were not thrilled by his stories (Hemingway - 1, p. 104). Неискренний дискурс может периодически возобновляться не только отдельной языковой личностью, но и целой группой общающихся, хотя, конечно, данный вид общения является трудно идентифицируемым. Рассмотрим пример, в котором описывается группа женщин, живущих бедно, но тщательно скрывающих это от остальной части общества. В общении между собой женщины прилагают все усилия, чтобы выглядеть богатыми: The Cranfordians had that kindly esprit de corps which made them overlook all deficiencies in success when some among them tried to conceal their poverty. When Mrs. Forrester, for instance, gave a party in her baby-house of a dwelling, and the little maiden disturbed the ladies on the sofa by a request that she might get the tea-tray out from beneath, every one took this novel proceeding as the most natural thing in the world, and talked on about household forms and ceremonies as if we all believed that our hostess had a regular servants‘ hall, second table, with housekeeper and steward, instead of the one little charity-school maiden, whose short ruddy arms could never have been strong enough to carry the tray upstairs, if she had not been assisted in private by her mistress, who now sat in state, pretending not to know what cakes were sent up, though she knew, 94 and we knew, and she knew that we knew, and we knew that she knew that we knew, she had been busy all the morning making tea-bread and sponge-cakes (Gaskell, p. 18). Не обладая материальными возможностями разбогатеть, группа говорящих все же ―реализует‖ эти возможности, благодаря специфическому использованию языковых средств. Тем самым говорящие как бы присваивают себе языковой контроль над объективной реальностью, переделывая ее в сторону потенциальности. В отличие от примера о предсказателе судьбы, в котором реальность и потенциальность фактически не имеют точек соприкосновения, здесь действительный мир находится не так далеко от того возможного мира, который создается посредством неискреннего дискурса. Существуют условия, при которых выражаемая говорящими ложная пропозиция <Мы богаты> может стать истинной, - для этого просто требуется чуть больше денег. Порождая свой неискренний дискурс, говорящие как бы материализуют имеющуюся потенциальную возможность стать богатыми. Данный пример подтверждает положение о том, что возможность может быть активной и пассивной. Активная возможность имеет место, если искомая пропозиция должна возникнуть в результате целенаправленных действий, пассивная - если искомая пропозиция неконтролируема (Булыгина, Шмелев 1992, 145). Активность общающихся ведет к тому, что благодаря своим регулярным встречам они могут выжить, сохранить себя. Эти женщины не могут существовать по отдельности, и только внутри своей группы, через взаимопомощь, они могут быть уверены в своей безопасности. Так, в дальнейшем, мы узнаем, что когда одна из женщин потеряла все свое состояние из-за внезапного банкротства банка, остальные собрали между собой немного денег и порекомендовали ей открыть магазин. Таким образом, группа приняла активное участие в реализации искомой пропозиции. В более общих терминах, можно сказать, что язык активно участвует в структуре практической деятельности говорящих, причем вербальные действия оказывают влияние на невербальные действия. Можно сказать, что подобные примеры самосохранения группы наблюдаются повсеместно. Без исследования речевого поведения группы трудно составить общее представление о многих сторонах речевого поведения человека как существа социального. Сам факт регу- 95 лярного проведения встреч - собраний, заседаний, праздников, приемов, вечеринок и т.п. - становится своеобразным признаком, указывающим на то, что проводящая встречу группа имеет право на существование в обществе. Конечно, проводить встречу не обязательно значит быть неискренним. Однако именно в групповом общении часто отмечается элемент игры (Гадамер 1988), а игра, как это будет показано ниже, служит одним из когнитивных принципов, лежащих в основе неискреннего дискурса. Любое групповое общение предполагает периодическое возобновление определенной части дискурса. Сам предикат ―собраться вместе‖ относится к числу эпизодических, то есть характеризуется неопределенной локализацией (Булыгина, Шмелев 1992, 140). На наш взгляд, неискренний дискурс в пределах группового общения отмечен тем, что он определенным образом готовится каждым участником к следующей встрече группы на основе некоего общего запаса знаний. Потенциальная возможность носит вневременной характер, то есть подготовленный дискурс может быть произведен в любой момент, и все участники к этому готовы. В этой связи интересно отметить, что в нашем примере имеется свидетельство того, что участники группы осознают, что говорят неискренне (she knew, and we knew, and she knew that we knew, and we knew that she knew that we knew, she had been busy all the morning making tea-bread and sponge-cakes). Высшей ступенью языкового самосознания личности является способность анализировать своеобразие своего речевого поведения и понимание мотивов, реально обусловивших те или иные принципы употребления языка. В данном случае целая группа общающихся моделирует свой дискурс в соответствии с групповой необходимостью. При этом отношение адресант - адресат приобретает особый ракурс ввиду того, что все участники включены в процесс вербальной обработки картины мира. В фокусе внимания при порождении дискурса находится информация о субъективных ощущениях членов группы. Информация о мире осознанно редуцируется, умалчивается. Большую роль играет воображение адресата, которому как бы предписывается дорисовывать картину мира, домысливать изображаемую ситуацию. Важный лингвистический принцип, действующий при порождении периодически возобновляемого группового дискурса - его рече- 96 вая гомогенность. Речевая деятельность в рамках малых групп исследуется с точки зрения речевого репертуара как совокупности всех языковых форм, используемых данным языковым коллективом в процессе социального взаимодействия (Швейцер 1976, 39). Чем привлекательнее группа для ее участников, тем выше давление, обеспечивающее единообразие речевых действий. Требования и ожидания группы не вступают в конфликт друг с другом и не ставят человека перед необходимостью выбора. Малую группу характеризует общность языковых средств и сходство правил их использования, приверженность к определенным речевым шаблонам, конформность речевого поведения, то есть следование тем его нормам, которые приняты в данной группе и могут отвергаться иными социальными общностями (Крысин 1989; Макаров 1998). В приведенном примере речевая гомогенность проявляется, вопервых, в том, что для группы выбрана единая номинация (the Cranfordians), и, во-вторых, в том, что каждый человек строит свою речь с ориентацией на групповые ожидания, в соответствии с которыми следует говорить неискренне (The Cranfordians had that kindly esprit de corps which made them overlook all deficiencies in success when some among them tried to conceal their poverty). Членами группы в их речевом поведении руководят два взаимосвязанных мотива: с одной стороны, не отличаться по речевой манере от остальных членов группы, не выделяться, а с другой, показать свою принадлежность к данной группе (Ср.: every one took this novel proceeding as the most natural thing in the world, and talked on about household forms and ceremonies as if we all believed that our hostess had a regular servants‘ hall, second table, with housekeeper and steward). Очевидно, что общение данной группы неискренних говорящих носит длительный характер, так как чем длиннее контакты членов группы друг с другом, тем вероятнее нивелировка их речевых индивидуальностей, выработка общей манеры общения (Крысин 1989, 83). Здесь проявляется общий принцип коммуникации с постоянными партнерами, следуя которому говорящий стремится объединить коммуникативные роли ―от себя‖ и ―как все‖, чтобы найти место для добавочной интенции: говорить от себя, но так, как полагается говорить всем в его группе, задавать тон (Винокур 1993, 101). Следует еще раз акцентировать тот факт, что члены группы неискренних собеседников 97 хорошо понимают свою неискренность и порождают данный дискурс осознанно. Принцип ограничения свободы отдельной языковой личности и подчинения общим коммуникативным намерениям играет в групповом неискреннем дискурсе весьма важную роль. В более общем плане можно размышлять о месте неискреннего дискурса в так называемом регулярном общении или регулярной коммуникации. Такая коммуникация мыслится как бесконечная, не имеющая точки завершения. Контакт сторон считается заданным как бы а priori, а смысл коммуникации состоит в его сохранении и поддержании на должном уровне. Регулярное общение реализует себя в таких видах, как дружеское, приятельское, семейное, коллегиальное, товарищеское (Радзиевская 1992, 98). Видимо, неискреннее общение играет определенную роль в данном типе коммуникации. Иногда периодическое возобновление неискреннего дискурса становится возможным благодаря использованию определенных стандартных типов текстов, например, стандартной формы письма, как это имеет место в следующем примере: ... the little woman began to dictate a letter, which he took down. ―Before quitting the country and commencing a campaign, which very possibly may be fatal.‖ ―What?‖ said Rawdon, rather surprised, but took the humour of the phrase, and presently wrote it down with a grin. ―Which very possibly may be fatal, I have come hither -‖ ―Why not say come here, Becky? Come here‘s grammar,‖ the dragoon interposed. ―I have come hither,‖ Rebecca insisted, with a stamp of her foot, ―to say farewell to my dearest and earliest friend. I beseech you before I go, not perhaps to return, once more to let me press the hand from which I have received nothing but kindness all my life.‖ ―Kindness all my life,‖ echoed Rawdon, scratching down the words ... ―I married a poor woman, and am content to abide by what I have done. Leave your property, dear Aunt, as you will. I shall never complain of the way in which you dispose of it. I would have you believe that I love you for yourself, and not for money‘s sake ...‖ ―She won‘t recognise my style in that,‖ said Becky. ―I made the sentences short and brisk on purpose‖ (Thackeray, p. 295). 98 В данном случае при порождении неискреннего дискурса проявляется полная свобода языковой личности неискреннего участника. Активная в достижении своей цели разбогатеть, Ребекка диктует мужу письмо к его родственнице, в котором на поверхностном уровне выражена любовь к ней. Текст письма представляет собой набор клишированных фраз, закрепленных в общественном языковом сознании посредством обучения эпистолярному стилю. Таким образом, дискурс уже подготовлен в обществе и заучен Ребеккой, как и многими другими людьми. Общество как бы говорит своим членам: ―Если вы хотите выразить свою любовь к кому-либо, то пользуйтесь подобной формой письма‖. Более того, у людей уже создалось осознанное понимание подлинного смысла этих высокопарных выражений. Ср. ироничное отношение мужа к словам, кажущимся ему неуместными (―What?‖ said Rawdon, rather surprised, but took the humour of the phrase, and presently wrote it down with a grin). Оба неискренних участника осознают, что выражаемая ими пропозиция <Мы Вас любим> является ложной. Свобода языковой личности при порождении данного дискурса проявляется в том, что здесь действуют не коммуникативные регламентации, а свободный выбор говорящего. Прежде всего имеет место свободный выбор между порождением дискурса и молчанием, неучастием в общении. При непосредственном порождении происходит выбор определенной стандартной формы текста из ряда альтернатив. Следует также подчеркнуть, что подобный способ порождения дискурса является весьма продуктивным в бюрократической практике ―отписок‖, которые оформляются в соответствии с клишированными стереотипными моделями и с полным основанием воспринимаются наблюдателями как неискренние. Ср.: In the editorial room Burlap was dictating letters to his secretary. ―Yours etcetera,‖ he concluded and picked up another batch of papers. ―Dear Miss Saville,‖ he began, after glancing at them for a moment. ―No,‖ he corrected himself. ―Dear Miss Romola Saville. Thank you for your note and for the enclosed manuscripts.‖ He paused and, leaning back in his chair, closed his eyes in brief reflection. ―It is not my custom,‖ he went on at last in a soft remote voice, ―it is not my custom to write personal letters to unknown contributors.‖ He reopened his eyes, to meet the dark bright glance of his secretary from across the table. The expression in Miss Cob- 99 bet‘s eyes was sarcastic... ―How contemptible!‖ she said to herself. ―How unspeakably vulgar!‖ (Huxley, p. 169). Можно сделать вывод, что наиболее характерным моментом при порождении периодически возобновляемого неискреннего дискурса является то, что общение неискреннего собеседника с другими участниками строится по принципу от языка к миру, то есть имеющийся в языковом сознании неискренний дискурс предъявляется миру по мере возможности. Неискренний говорящий находится в постоянном ожидании этой потенциальной возможности, и в момент ее реализации он готов повторить уже звучавший ранее дискурс новому собеседнику. Таким образом, этот вид порождения неискреннего дискурса учитывает не только то, что реально имеет место, но и те потенции, которые могут реализоваться. Периодическое возобновление неискреннего дискурса становится возможным благодаря тому, что говорящий присваивает себе контроль над ситуацией, действуя самостоятельно, либо под контролем лица, дающего разрешение на возобновление неискреннего дискурса. В периодически возобновляемом неискреннем дискурсе наблюдается наибольшая степень отчуждения от своей речи, иногда доходящая до того, что свой дискурс воспринимается как чужой, как цитация. Действует также принцип избирательности и свободы языковой личности, когда говорящий создает неискренний дискурс не по принуждению или необходимости, а по личным пристрастиям, изъявляя не только готовность, но и стремление к выполнению данной коммуникативной роли. 100 ГЛАВА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В НЕИСКРЕННЕМ ДИСКУРСЕ 1. Планирование и понимание ситуации общения Не подлежит сомнению, что ситуативно-дифференцированное проявление речевого взаимодействия во многом обусловлено различными механизмами использования знаний. Анализ представления знаний посредством языка имеет прямое отношение не только к лингвистике, но также к философии, психологии, культурологии и ряду других теоретических дисциплин. Мы будем придерживаться лингвистического определения знания, под которым имеются в виду любые виды последнего: теоретическое и обыденное, рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное - любые когнитивные образования, выступающие как результат переработки информации человеком в его взаимодействии с миром (Касевич 1990, 8). Изучение представления знаний в разных типах дискурсов еще только начинается. Делаются первые попытки нащупать основные направления в этой области (Кибрик 1985; Богуславская 1985; Лебедева 1990; Фрумкина, Звонкин, Ларичев, Касевич 1990 и др.). Что касается выражения неискренности как личностного смысла, то, на наш взгляд, во-первых, неискренний дискурс основан на особых структурах использования знаний говорящим и, во-вторых, он порождается в рамках определенной ситуации общения. Лингвистические взгляды на ситуацию общения восходят к идеям Р. О. Якобсона, М. М. Бахтина, Р. Барта, М. Фуко и других филологов, в чьих рассуждениях идет речь об открытости текста и процесса общения в целом и об общем диалогическом характере человеческого взаимодействия. Развитие научных представлений о ситуации общения в нынешнем веке и их современное состояние подробно анализируется в целом ряде работ М. Хэллидея и его соавторов. В обобщающем труде М. Хэллидея и Р. Хазан провозглашается главенствующая роль ситуации по отношению к дискурсу, с ней связанному (Halliday, Hasan 1989). Согласно Хэллидею, ситуация наделяется следующими параметрами. Во-первых, дискурс функционирует в определенном поле (field of discourse), которое шире самого дискурса и включает в себя 101 все имеющее к нему отношение, то есть другие референты, другие пропозиции, а также другой дискурс. Во-вторых, дискурс характеризуется определенным направлением развития (tenor of discourse), которое зависит от состава коммуникантов, их статуса и роли, выполняемой в процессе общения. В третьих, в рамках ситуации дискурс наделяется формой (mode of discourse), которая может быть вербальной, паралингвистической, письменной, устной и т.п. (Halliday, Hasan 1989, 12 и далее). В когнитивной концепции языка делаются попытки дать строго формальное обоснование того, каким образом участники коммуникации осуществляют планирование и понимание ситуации общения. Следует подчеркнуть, что в рамках когнитивного подхода понятие планирования имеет специфический характер. Планирование определяется как формальный процесс, посредством которого определенное инициальное состояние взаимодействия участников коммуникации трансформируется в то или иное целевое состояние (Schank, Abelson 1977; Wilensky 1983; Cohen, Levesque 1990 и др.). Ввиду того, что планирование, в его применении к языковому общению, изучается лишь около двух десятилетий, еще не выработано единой терминологии для его анализа. В настоящее время используются несколько терминов, наиболее употребительными из которых являются термины фрейм, сценарий, план, схема. Все эти термины имеют, в принципе, одно и то же значение, поэтому необходимо сосредоточить внимание не столько на разнице в терминологии, сколько на описании когнитивных механизмов, выделяемых исследователями в ситуации общения. Впервые задача изучения того, каким образом люди планируют и понимают дискурс, была поставлена М. Минским в середине семидесятых годов. По мнению Минского, процесс понимания состоит в том, что человек извлекает из своей памяти структуру, которую можно назвать, например, фреймом (frame) или сценарием (scenario). Фрейм представляет собой структуру данных (data-structure), содержащую описание той или иной стереотипной ситуации, например, ситуации нахождения в какой-либо комнате или ситуации присутствия на дне рождения ребенка и т.п. Каждый фрейм, находящийся в нашей памяти, сопровождается несколькими видами информации. Обязательно должна иметься информация о том, как использовать данный 102 фрейм. Может иметься информация о том, какие события ожидаются в будущем, после завершения ситуации, вызванной данным фреймом. Фрейм может также сопровождаться информацией о том, что человек должен предпринимать, если возникают затруднения с использованием фрейма. По определению Минского, в самом общем виде фрейм, или сценарий, представляет собой сеть, состоящую из ряда терминалов или узлов и отношений между ними. При порождении дискурса и его понимании имеет место процесс нахождения соответствий между реальной ситуацией, в которой находится говорящий, и всем тем огромным количеством фреймов, которые есть у него в памяти (Minsky 1980). Идеи Минского были детально разработаны Р. Шенком и Р. Абельсоном в их книге, обширно цитируемой в работах, относящихся к когнитивному направлению (Schank, Abelson 1977). Данные авторы используют два термина - план (plan) и сценарий (script). План и сценарий рассматриваются как абсолютно идентичные категории с точки зрения их формальной структуры; единственное различие между ними состоит в том, что человек имеет сценарии и изобретает планы. Другими словами, сценарии охватывают уже известные знания, в то время как планы генерируют новые знания. Формальная структура планов и сценариев описывается с использованием таких терминов, как действующие лица, роли, выполняемые действующими лицами, цели, стоящие перед действующими лицами, цепочки действий, ведущие к целям. Шенк и Абельсон приводят подробный разбор того, что представляет собой сценарий, на примере сценария ―Ресторан‖. Данный сценарий должен содержать огромное количество информации, способной охватить все разнообразие того, что может произойти в ресторане. Некоторые части этого сценария ―написаны‖ с одной точки зрения, некоторые - с другой. Например, клиент видит ресторан со своих позиций, повар - с совершенно других позиций. Сценарий, представленный в формальном виде, должен объединять все возможные комбинации данных и соответствовать общему единому взгляду во всех его возможных вариациях. Шенк и Абельсон делают вывод, что ―сценарий о ресторане представляет собой гигантскую каузативную цепочку, в которой каждое действие производится в условиях, позволя- 103 ющих произвести следующее, объективно необходимое действие‖ (Schank, Abelson 1977, 45). При порождении и понимании дискурса сценарии употребляются почти автоматически. Так, каждый из участников ситуации общения, имеющей место в ресторане, знает дискурс своей роли (клиента, официанта, повара, хозяина и т.д.) и может осуществлять диалог с собеседниками с высокой степенью предсказуемости. Более того, участники знают не только свои роли, но и весь сценарий в целом, то есть поведение всех остальных участников. К примеру, приходя в ресторан, мы знаем не только то, как мы сами будем вести себя, но также и то, как будут вести себя официанты, другие клиенты и т.д. Как отмечают Шенк и Абельсон, тот факт, что сценарии действительно хранятся в нашей памяти, доказывается тем, что мы регистрируем и обсуждаем друг с другом случаи нарушения нормального развертывания сценария в рамках ситуации общения. Например, существование общепринятого сценария о ресторане доказывается следующим отклонением: John went to a restaurant. He sat down and signaled the waitress. He got mad. He left (Schank, Abelson 1977, 51). В данном случае мы имеем дело с цепочкой действий, воспринимаемой в качестве нестандартной цепочки, не свойственной традиционному поведению в ресторане. Таким образом, отмечается наличие стандарта, или прототипа, лежащего в основе нашего знания о мире. Охарактеризовав сущность сценария, Шенк и Абельсон выделяют типы сценариев. По их мнению, сценарии бывают ситуативными и личными. Упомянутый выше сценарий о ресторане является примером ситуативного сценария, для которого характерно строго определенное место действия, известное всем членам общества, и такие же социально регламентированные ролевые обязанности участников. Но если, к примеру, клиент, находящийся в ресторане, начинает назначать свидание официантке, то он начинает осуществлять свой личный сценарий. Личные сценарии не имеют строго регламентированной жесткой структуры, которая присуща ситуативным сценариям. Более того, не все участники ситуации общения в обязательном порядке должны знать о том, что они принимают участие в осуществлении подобного 104 сценария. Как пишут Шенк и Абельсон, личный сценарий существует целиком лишь в голове его главного действующего лица и состоит из последовательности возможных действий, которые, по его мнению, приведут к желаемой цели (Schank, Abelson 1977, 62). По мнению Шенка и Абельсона, если бы человеческое общение ограничивалось лишь ситуативными сценариями типа охарактеризованного выше сценария о ресторане, то изучение планирования и понимания дискурса было бы очень простым делом, которое сводилось бы лишь к детальной классификации строго регламентированных действий, свойственных той или иной ситуации. Однако наличие личных сценариев значительно усложняет задачу исследователя. Не ясно, что представляет из себя структура подобных сценариев, и каким образом их можно классифицировать. Видимо, такая классификация должна основываться на всестороннем когнитивном анализе всей картины мира, что само по себе является невероятно сложной проблемой. Еще одна проблема в этой области состоит в том, что не все личные сценарии существуют на уровне сознания. Шенк и Абельсон особо отмечают в этой связи, что значительная часть человеческого поведения мотивируется сценариями, скрытыми от самого индивида, который не может сознательно объяснить ни самому себе, ни другим, почему он порождает тот или иной дискурс в данной ситуации общения. Если анализ сценариев представляет собой такую сложную проблему, то исследование планов, то есть структур, генерирующих новые знания, вообще может показаться задачей, непосильной для современного состояния науки. Шенк и Абельсон пишут в этой связи, что действующее лицо может создать практически любую цепочку действий, лишь бы она могла привести к нужной цели. Они иллюстрируют данное утверждение следующим примером: John wanted to become king. He went to get some arsenic (Schank, Abelson 1977, 71). Из этих рассуждений делается вывод о том, что изучение планов должно идти по пути классификации целей, которые люди могут ставить перед собой в своей ежедневной жизни, с последующим выделением основных референтов, характеризующих ту или иную цель. Абсолютно ясно, однако, что эта задача сможет быть выполнена лишь после того, как будет изучена общая когнитивная структура мира. 105 Следующей по времени важной вехой в развитии представлений о планировании и понимании дискурса является работа А. Сэнфорда и С. Геррода (Sanford, Garrod 1981). Данные авторы детально разрабатывают понятие сценария в его применении не только к одному из участников общения (порождающему или воспринимающему дискурс), но к обоим участникам в их взаимодействии. Дискурс определяется как нечто вроде контракта, как бы заключаемого участниками в процессе коммуникации, причем подразумевается, что данный контракт не должен нарушаться. Если контракт нарушается, то может произойти непонимание, как в нижеследующем примере: With hocked gems financing him, our hero bravely defied all scornful laughter that tried to prevent his scheme. ―Your eyes deceive‖, he had said. ―An egg, not a table, correctly typifies this unexplored planet..‖ Now three sturdy sisters sought proof. Forging along, sometimes through calm vastness, yet more often over turbulent peaks and valleys, days became weeks as many doubters spread fearful rumours about the edge. At last, from nowhere, welcome winged creatures appeared signifying momentous success (Sanford, Garrod 1981, 9). Сэнфорд и Геррод пишут, что здесь все предложения построены грамматически правильно и, если взять их в изоляции от контекста, то все они вполне понятны. Тем не менее, весь отрывок в целом практически невозможно ни понять, ни запомнить. Это происходит из-за того, что автор данного отрывка не соблюдает свою часть контракта. Что касается читателя, то он обязан предположить, что автор пишет о связной ситуации и что в его задачу входит обнаружить, что это за ситуация. Другими словами, читатель должен искать подходящий сценарий, в рамках которого можно было бы интерпретировать данный дискурс. Поиск подходящего сценария лучше всего производить по линии поиска самого вероятного главного референта или, в другой терминологии, самой вероятной общей темы. Для данного примера такой общей темой является открытие Америки Колумбом - если читатель сможет вспомнить сценарии, связанные с данным событием, то отрывок сразу становится понятным. Таким образом, Сэнфорд и Геррод делают вывод, что понимание дискурса это не просто понимание пропозиций, взятых в их последовательности. Это нечто большее - 106 извлечение из памяти соответствующего сценария, выбор которого производится на основе анализа главного референта дискурса. Р. Виленский пытается сформулировать прагматические принципы, лежащие в основе планирования ситуации общения. Он выделяет четыре таких принципа, которые формулируются в виде инструкций для индивида или компьютера, порождающего дискурс: экономь ресурсы; старайся достичь максимально возможное для данной ситуации количество целей; адекватно оценивай важность планируемых целей; избегай целей, недостижимых в данной ситуации общения. Виленский пишет, что при выборе действий в рамках того или иного плана индивид прежде всего руководствуется принципом экономии ресурсов. Например, ситуация для выбора плана задается следующим образом: John‘s wife called him at the office and told him that they were all out of milk. John said he would pick some up on the way home from work (Wilensky 1983, 11). Виленский пишет, что индивид выбирает самый эффективный план - купить молоко по дороге домой. В принципе, возможен какойлибо альтернативный план, например, поехать в магазин, купить молоко, вернуться на работу, а затем отправиться домой, вновь проехав мимо того же самого магазина. Однако в любой ситуации общения самым вероятным будет выбор плана с наибольшей экономией ресурсов. В формальном отношении принцип экономии ресурсов при планировании заключается в том, что из возможных цепочек действий выбираются действия самого обобщенного характера. Принцип достижения максимального количества целей направлен, главным образом, на разрешение конфликтов между целями, которые можно достичь в данной ситуации общения. Другими словами, если индивид имеет цели, которые отрицают друг друга, он должен разрешить этот конфликт. Если это сделать не удается, то тогда в действие вступает третий из выделяемых Виленским принципов - принцип оценки важности целей. Данный принцип предполагает, что необходимо выбирать такой сценарий, в котором опускаются не представляющие важности цели и, наоборот, выполняются важные цели. И, наконец, принцип отказа от невозможных целей необходимо 107 соблюдать для того, чтобы предотвратить выдвижение целей, для осуществления которых вообще не существует никаких сценариев. Виленский подчеркивает, что выделяемые им принципы характеризуют не внутреннюю когнитивную структуру планов и сценариев, а внешнюю структуру отношений между планирующим механизмом, понимаемым в самом широком смысле, и выбираемым им сценарием. Исследуется то, что Виленский называет метапланированием, определяемым как планирование внешних связей между индивидом и необходимым ему сценарием. Следует обратить внимание на работы, в которых предпринимаются попытки создать методики, позволяющие предсказывать структуру речевых актов по мере их порождения. Одним из показательных примеров является исследование П. Коэна и Г. Левескью. Данные авторы ставят перед собой цель формализовать в виде сценариев иллокутивные акты, выделенные Дж. Серлем. Например, иллокутивный акт просьбы будет характеризоваться такой структурой: (1) говорящий стремится к тому, чтобы у слушающего сформировалась интенция действовать, потому что (2) говорящий искренне хочет, чтобы слушающий действовал именно таким образом (Cohen, Levesque 1990, 226). В этой интерпретации для того, чтобы считать речевой акт ситуацией общения, к его пропозициональной структуре следует добавлять условия успешности его осуществления, в состав которых входит и выражение искренности говорящего. Исходя из анализа этого примера, Коэн и Левескью дают обобщенную формальную структуру иллокутивного акта как ситуации в виде следующей схемы: С: А ------ Е1 ------ Е2 ------ Е3 ------ ... ------ Е (Cohen, Levesque 1990, 227). Данная схема интерпретируется как наличие условий С, при которых начальное действие А производит ряд последствий Е1, Е2 и т.д. Вывод, который следует сделать, сводится к тому, что при правильно выбранных условиях коммуникации, если будет осуществлено действие А, то это объективно приведет к тому, что осуществится далеко удаленное от него последствие Е. Для классификации иллокутивных актов, рассматриваемых с позиций ситуации общения в целом, требуется создание описаний возможных начальных действий (action expressions). 108 Коэн и Левескью особо отмечают важность исследования искренности и неискренности участников общения как основополагающих понятий для выработки общего представления об интерактивном вербальном и невербальном взаимодействии. По их мнению, последующее развитие дискурсивного анализа будет все больше идти по линии формализации субъективных факторов, характеризующих ситуацию общения. Указанные выше концепции являются примерами теорий общего плана, рассматривающих наиболее характерные черты, присущие ситуации общения в целом. В таких теориях содержится общий взгляд на определенный фрагмент общения с точки зрения его инвариантных особенностей. В последнее время внимание исследователей смещается на анализ конкретных случаев общения и их типологию. Делаются попытки описать не только обобщенную структуру ситуации общения, которая, как правило, ограничена такими семиотическими понятиями, как говорящий/слушающий, но также выявить разнообразные случаи, связанные с конкретными говорящими и слушающими и с фигурой наблюдателя. По мнению А. Вежбицкой, в западной культуре существует ряд культурно-обусловленных сценариев, определяемых как некие подсознательные нормы, которым носители языка, принадлежащие к данной культуре, обычно руководствуются. Социализация ребенка в рамках культуры предполагает освоение этих норм. В качестве примера приводятся некоторые черты сценария самоутверждения (Вежбицка 1990). Интересным примером анализа личного сценария является исследование вежливого общения, проведенное П. Браун и С. Левинсоном. Они конструируют сценарий вежливости на основе фигуры Модельного Человека (Model Person), которому дается следующее определение: ―Все, что представляет собой наш Модельный Человек это то, что он свободно говорит на каком-нибудь естественном языке, и кроме этого он наделен еще двумя особыми качествами - разумом и лицом (rationality and face)‖ (Brown, Levinson 1987, 58). Понятия разума и лица концептуализируются не на бытовом уровне, а как строго формальные явления, представляющие собой научную абстракцию, необходимую для целей анализа. Разум понимается как точно опреде- 109 ляемый способ мышления Модельного Человека от цели к средствам, приводящим к достижению данных целей. Лицо также строго специфично и определяется через понятие желания (want). Модельный Человек хочет двух определенных вещей, а именно, чтобы ему не мешали в его действиях и чтобы его действия одобряли. Таким образом, лицо определяется как нечто, что каждый член общества требует для себя от других. Лицо состоит из двух взаимосвязанных аспектов негативного лица (negative face) и позитивного лица (positive face). Негативное лицо включает в себя требование уважать территорию, личные владения, свободу действий и другие права данной личности. Основная суть негативного лица как когнитивного явления - это то, что оно отражает желание индивида, чтобы ему не мешали. Позитивное лицо определяется как желание индивида, чтобы имеющееся у него представление о самом себе как о личности поддерживалось и одобрялось другими людьми. Как пишут Браун и Левинсон, ―с этой фигурой из картона мы и начинаем играть, задавая вопрос, каким образом подобное существо будет использовать язык?‖ (Brown, Levinson 1987, 58). Выясняется, что в процессе общения могут совершаться такие акты, как вербальные, так и невербальные, которые угрожают лицу собеседника и фактически отнимают его. Вежливость определяется как возвращение собеседнику отнятого у него лица. Например, сказать собеседнику ―Делайте это!‖ значит отнять у него негативное лицо, то есть быть невежливым. Если же сказать ―Могу ли я Вас попросить сделать это?‖, то подобное языковое оформление дискурса компенсирует собеседнику то количество лица, которое было у него отнято данной просьбой. Таким образом, вежливость представляет собой лингвистические средства компенсации лица, отнятого у собеседника в процессе общения. Анализ вежливого общения подтверждает теоретическое положение о том, что адресат, как и говорящий, вступает в коммуникацию не как глобальная личность, а в определенном своем аспекте, амплуа или функции. В нормальной речевой обстановке параметры говорящего и адресата должны быть между собой согласованы, например, учитель и ученик, начальник и подчиненный, муж и жена, отец и сын, или в уравновешенных ситуациях - друзья, соседи, спутники, коллеги (Арутюнова 1981, 358). 110 Однако не все ситуации основаны на подобных ясных ролевых разграничениях между участниками. Существуют такие случаи, когда ролевые отношения не выражены в явной степени, или скрываются, умалчиваются. К таким ситуациям Н.Д. Арутюнова относит, пользуясь ее термином, прагматическую ситуацию стыда. Кроме термина прагматическая ситуация, по отношению к стыду употребляется термин сценарий. ―Следует сказать несколько слов о сценарии стыда и распределении в нем ролей. В ситуации стыда участвуют двое - ―Я‖ (Эго) и Другой‖ ... Другой задает область стыда и очерчивает ее границы. Они объемлют то, что приобретает значимость при свидетелях. Я нуждаюсь в другом, чтобы в полной мере осознать структуру своей личности. ... Стыд как бы регулирует мои отношения с собой через посредство Другого‖ (Арутюнова 1997, 61). Н. Д. Арутюнова обосновывает свою теорию о прагматической ситуации положениями М. М. Бахтина о пересечении кругозоров и сознаний в процессе общения и о роли другого, в свете которой только и может строиться всякое слово о себе. Конкретные выводы о прагматике стыда делаются на основе анализа произведений Достоевского и Толстого, дающих богатый фактический материал для обобщений. Сценарий стыда описывается Н. Д. Арутюновой следующим образом. ―Я‖ совершает некоторое ненормативное действие - речевое или неречевое, намеренное или нечаянное. Оно подлежит этической или социо-этикетной оценке. Другой является его свидетелем или осведомлен о нем. Он осуждает действие, а следовательно, и деятеля (агенса). Он как бы отторгает его от себя. Эго это видит и осознает. Он начинает воспринимать себя отстраненно. Он смотрит на себя глазами Другого. Он видит свой образ в зеркале чужого сознания. Эго узнает себя в этом отражении. Ему неловко перед другим. Он чувствует, что теряет лицо, и лицо его краснеет (Арутюнова 1997, 62). Говоря о языковом оформлении сценария стыда, Н. Д. Арутюнова отмечает, что ―стыд распространяет свое действие и на смысл речи, и на ее форму. В первом случае он причастен к истинностному значению высказывания. Опасаясь ―наготы‖, стыд стремится его редуцировать к ―голым фактам‖. Он заставляет опускать детали и частности. Он противится полноте истины. Во втором случае стыд побуждает заменять прямые способы номинации косвенными. Он со- 111 здает эвфемизмы. Он пользуется окольными средствами выражения‖ (Арутюнова 1997, 64). Н.Д. Арутюнова приходит к выводу, что на современном этапе развития науки о языке требуется исследовать интерперсональное взаимодействие в подобных прагматических ситуациях, за которыми скрываются разные смыслы, связанные со ―структурой внутреннего человека‖ или ―семиотическим образом человека‖. На наш взгляд, в тех случаях, когда прагматическую релевантность приобретает когнитивная самостоятельность коммуникантов и их спонтанная реакция на языковые сообщения, термин прагматическая ситуация становится необходимым дополнением к термину ситуация общения. Прагматическая ситуация может быть связана не со всеми участниками, а с отдельной языковой личностью, реализующей специфические коммуникативные намерения. Конечная цель языковой личности в этом случае состоит в том, чтобы превратить личностный аспект прагматической ситуации в принятый всеми конечный вариант общей ситуации общения. Таким образом, современные теории речевого общения позволяют исследовать связность протяженных дискурсивных фрагментов путем обращения к анализу целостной ситуации общения, в рамках которой происходит развертывания содержания на уровне личностных смыслов говорящих, и, в частности, на уровне личностного смысла неискренности. 2. Прагматическая ситуация неискренности По нашим наблюдениям, в прагматической ситуации неискренности, также как и в вышеупомянутых прагматических ситуациях стыда и вежливости, инвариантный состав участников включает двоих - ―Я‖ (Эго) и Другого. Их интерактивные отношения основаны на главенстве Эго, или неискреннего собеседника. Он часто (хотя и не всегда) пытается играть ведущую роль, во всяком случае, стремление представить ложные пропозиции в качестве истинных требует определенной настойчивости в речевых действиях. По количеству участников прагматическая ситуация неискренности может быть и групповой, однако и в этом случае происходит четкое разграничение искренних и неискренних собеседников. С точки зрения взаимоотношения участников коммуникации неискрен- 112 ность может проявляться либо в прямом общении собеседников, либо в косвенном воздействии, когда собеседники порождают неискренний дискурс для использования против третьей стороны. С точки зрения дихотомии говорящий/слушающий неискреннее общение может инициироваться собеседником или, наоборот, производиться в ответ на реплики собеседника. Прагматическая ситуация неискренности оформляется неискренней языковой личностью как особый дискурс, то есть как особая последовательность речевых актов, создающих единый перлокутивный эффект. Единая перлокуция личностного смысла неискренности направлена на то, чтобы вызвать искомые последствия, воздействовать на сознание или поведение адресата и создать такую новую ситуацию, которая бы соответствовала целям неискреннего говорящего. Одновременно с непосредственными участниками неискреннего общения в ситуации неискренности может участвовать наблюдатель, или, в другой терминологии, интерпретатор, причем наблюдатель играет особую роль ввиду того, что он может также совмещать в себе функции порождения дискурса и его восприятия. Другими словами, неискренний говорящий может одновременно выступать в роли наблюдателя своего или чужого неискреннего дискурса. Среди упоминавшихся выше терминов, применяющихся для обозначения структур представления знаний (фреймы, сценарии, планы, схемы), для характеристики особенностей когнитивного представления ситуации неискренности наиболее адекватным представляется термин сценарий. Это связано с тем, что в настоящее время термин фрейм, в основном, употребляется для представления когнитивной структуры слов или конструкций, термины же план и схема все более перемещаются в область исследований искусственного интеллекта. При употреблении термина сценарий, в свою очередь, наблюдается тенденция описывать с его помощью стандартные ситуации, содержащие упорядоченные во времени последовательности стереотипных событий (Герасимов, Петров 1988, 8). Обобщенная структура сценария неискренности должна включать в себя кроме характеристики участников анализ возможных целей, к которым стремятся неискренние говорящие. В психологии общения под целью коммуникативного воздействия понимается побудительная, направляющая и смыслообразующая функция мотива дея- 113 тельности, выступающая в качестве опредмеченной потребности (Ермолаев 1990, 48). С точки зрения целей, ситуация неискренности, как правило, представляет собой ситуацию воздействия, то есть ситуацию, в которой говорящий имеет полное и хорошее представление о модели своей будущей деятельности и о роли слушающего в осуществлении этой деятельности. Слушающий же, напротив, обычно не догадывается о целях собеседника и о своей роли в осуществлении этих целей. Задаваясь вопросом о том, какие конкретные цели могут преследоваться неискренним говорящим, можно сказать, что эти цели являются общими для всех видов целенаправленной деятельности. В этой связи будет уместно привести классификацию целей человеческой деятельности, принадлежащую Р. Шенку и Р. Абельсону (Schank, Abelson 1977a). Данные цели были выделены в рамках теории искусственного интеллекта для компьютерного моделирования процессов интеракции, и их классификация нашла широкое применение в когнитивных исследованиях при моделировании представления знаний. Шенк и Абельсон выделяют шесть основных видов целей, которые могут преследоваться людьми в их деятельности: 1) S-цель (Satisfaction goal), выражающая стремление к удовлетворению биологических потребностей (S-hunger, S-sex, S-sleep, etc.); 2) Е-цель (Enjoyment goal), выражающая стремление к удовольствию (E-travel, E-entertainment, E-exercise, E-competition, E-sex, E-eating, E-drugs, etc.); 3) А-цель (Achievement goal), выражающая стремление к достижению материальных благ (A-possessions, A-power position, A-good job, A-social relationships, A-skill, etc.); 4) P-цель (Preservation goal), выражающаяся в стремлении сохранить имеющееся; 5) С-цель (Crisis goal), рассматриваемая как особый вид P-цели, используемый в случае кризиса или серьезной опасности (C-health, C-fire, C-storm, etc.); 6) I-цель (Instrumental goal), понимаемая как такая цель, которая служит вспомогательным звеном в осуществлении всех других выделенных выше целей (Schank, Abelson 1977a). Существуют и другие классификации неречевых целей говорящего (см., в частности, Першина 1985; Останин 1998), однако классификация Шенка и Абельсона является наиболее полной, так как она охватывает все сферы практической деятельности. 114 Добиваясь определенной неречевой цели, неискренний собеседник строит речевое общение со своих позиций, рассматривая себя в качестве субъекта воздействия, а своего собеседника - в качестве объекта. В соответствии с психологией речевого воздействия, быть субъектом - это значит регулировать деятельность своего собеседника, то есть побуждать другого человека начать, изменить, закончить какуюлибо деятельность, или создать у него готовность к совершению той или иной деятельности (Тарасов 1990, 5). Можно утверждать, что речевые действия неискреннего говорящего определяются, во-первых, его неречевыми целями и, вовторых, избранным им для выражения личностным смыслом неискренности, сформулированным выше как ―знаю, да не скажу‖, то есть осознанным стремлением выражать ложные пропозиции вместо истинных. Для анализа обобщенного сценария неискреннего дискурса необходимо определить приоритетный абстрагированный когнитивный принцип его конструирования, которого придерживается любой неискренний говорящий. Выделение такого принципа согласуется с положениями когнитивной лингвистики о системном характере когнитивных структур и о прагматическом правиле приоритета, лежащем в основе любой, в том числе и речевой целенаправленной деятельности. Характеризуя это правило, М. Б. Бергельсон и А. Е. Кибрик отмечают, что с его помощью разрешаются конфликты между идеальной целью и практическими возможностями ее реализации, когда говорящий вынужден эшелонировать компоненты смысла в соответствии со степенью их коммуникативной значимости (Бергельсон, Кибрик 1981, 343). Об этом же пишут Дж. Аллен и Р. Перро, указывающие, что лингвистическое представление о сценарии (плане) должно основываться на представлении об изменении мира посредством действий, рассматриваемых как абстрагированные параметризированные процедуры. В сценарии может быть представлена определенная последовательность конкретных действий, которые осуществляют переход от исходного состояния к желаемому. Однако более ценным в когнитивном аспекте будет определение соответствующих обобщенных параметров действий, определяющих процесс построения сценария говорящим (Аллен, Перро 1986, 326 -327). 115 Какова же та отправная точка, которая позволяет рассматривать неискренний дискурс в отвлечении от конкретных участников, предметов и действий? Какая основополагающая базовая структура служит своеобразным каркасом, обеспечивающим концептуальное единство всего сценария неискренности в целом? На наш взгляд, приоритетный когнитивный принцип, определяющий структуру обобщенного сценария неискреннего дискурса, отражает главную особенность выражаемого пропозиционального содержания - его несоответствие адекватной картине мира. Можно сказать, что представляя свои знания, то есть формулируя пропозиции, неискренний говорящий стремится изменить картину мира. Как известно, картина мира является сложным понятием, интенсивно изучаемым как в языкознании, так и в других науках. В самых общих терминах под картиной мира имеется ввиду понятие, выражающее специфику человека и его бытия, взаимодействия с миром, важнейших условий его существования в мире (Постовалова 1988, 11). В специальной литературе указывается, что картина мира отражает особенности мировидения и познания; она может быть объективной и субъективной, общей и индивидуальной (личной), научной и практической, реальной и мифологической, глобальной и ограниченной, целостной и локальной и т.п. Отмечается, что язык участвует в процессах, связанных с картиной мира, двояким образом. Во-первых, при помощи языка формируется один из глубинных видов всеобъемлющей картины мира у человека - так называемая языковая картина мира. Во-вторых, язык способствует созданию концептуальной картины мира, основанной на знании энциклопедического характера. Языковая картина мира мыслится как глобальный языковой конструкт мира, возникающий у людей в результате контактов с ним. В упрощенном виде языковая картина мира определяется как семантика словаря и семантика грамматики, ―сложенные‖ вместе, что означает, что знания человека о мире суть не что иное, как семантическая система языка. Концептуальная картина мира трактуется как экспликация при помощи языка любого иного плана содержания, отличного от плана содержания словаря и грамматики (Касевич 1990, 12). Далее подчеркивается, что семантика языка носит по преимуществу недискурсивный характер, дискурс же 116 отнюдь не представляет собой механической суммы значений единиц, из которых он слагается (Касевич 1990, 21). Мы будем пользоваться термином картина мира во втором смысле, понимая под ним ―концептуальное образование: 1) имеющее неотъемлемые имманентно присущие ему свойства (атрибуты); 2) состоящее из определенных компонентов (субстрат); 3) возникающее и развивающееся по определенным законам (генезис, развитие); 4) специфически организованное, построенное (структура) и 5) представляющее собой до известной степени стабильные поведенческие действия‖ (Постовалова 1988, 12). Для целей нашего исследования важны следующие положения о картине мира, выделенные нами в обобщенном виде из концепции В. И. Постоваловой. Картины мира у человека периодически меняются, так как процесс миропостижения у человека континуален. Картина мира возникает в акте мировидения, формируется, и затем трансформируется в другие картины мира. Картина мира имеет широкое пространство своего обитания, проявляясь в воображении действующих субъектов, в их поведении, в материально-чувственной практике, в продуктах культуры, в семиотических воплощениях. Экспликация картины мира происходит по естественным следам, которые картина мира оставляет в естественном языке и в других своих семиотических воплощениях. Исследователь эксплицирует картину мира, производя ее рациональную реконструкцию, ―вычитывая‖ картину мира по ее следам в тексте. В строгом смысле слова существует столько картин мира, сколько имеется наблюдателей, контактирующих с миром. В основу исчисления картин мира может быть положен ее субъект, ее объект, результат их деятельности. Индивидуальную картину мира можно выявить по отношению человека к окружающей действительности, обнаруживающемуся в его настроениях, чувствах, действиях (Постовалова 1988). На основе лингвистической интуиции в нашем исследовании мы анализируем индивидуальные картины мира нормального взрослого человека, воспринимаемые как типические, соответствующие привычным моделям повседневного общения. Критерием оценки картин мира мы будем считать их адекватность соответствующему миру, то есть адекватность требованию истинности пропозиций. Именно с этих позиций Д. Льюис выделяет 117 действительный мир (actual world) как такой мир, в котором все пропозиции могут быть интерпретированы как истинные и всевозможные трансформации этого мира. В качестве примера Льюис пишет, что такой человек, как Губерт Хемфри существует в действительном мире, и одна из истинных пропозиций о нем будет о том, что он проиграл президентские выборы. Если кто-либо скажет, что Хемфри выиграл президентские выборы, то он субъективным образом трансформирует мир (Lewis 1986a, 194). При моделировании речевого взаимодействия понятие картины мира сближается с понятием знания о ситуации общения. Истинное знание о ситуации определяется как полное описание мира в истинных пропозициях в момент t (Castaneda 1975, 137). С этими утверждениями перекликается вывод В. И. Постоваловой о том, что ―картины мира не могут состоять из одних ошибок, в них всегда есть доля истинного мировидения, проявляющегося хотя бы в структурировании ими ―видимого‖ мира‖ (Постовалова 1988, 35). В свете этих положений очевидно, что неискренний говорящий может, в принципе, полностью трансформировать всю картину мира, выразив одни лишь ложные пропозиции и ни одной истинной, однако этого не происходит, так как в его картине мира всегда должна оставаться доля истинного мировидения. Примем в качестве определения, что в основе обобщенного сценария неискреннего дискурса лежит приоритетный когнитивный принцип субъективной трансформации картины мира. Классификация сценариев неискреннего дискурса будет основана на конкретизации трансформаций, осуществляемых неискренним говорящим в картине мира. Как будет показано ниже, такие трансформации затрагивают прежде всего пространственно-временные параметры. Неискренний говорящий может изменять фрагмент действительности, относящийся к настоящему. Он может также изменять фрагменты действительности, удаленные от него во времени и относящиеся к прошлому или будущему. Как указывается в теоретической литературе, строгий современный анализ пространственно-временной проблематики базируется на понятиях реального (физического), перцептуального и концептуального времени и пространства. Если реальное пространство и время отражает системы отношений реально существующих объектов, то 118 перцептуальное пространство и время допускает постановку реальных объектов в такие системы отношений, которые в действительном мире присущи объектам существенно иной природы. В перцептуальное пространство и время вносит свой вклад визуальное, тактильное, моторно-кинестетическое, слуховое восприятие индивида. Концептуальные пространства и времена суть средства упорядочения любых идеализированных объектов и событий, их геометрическое и алгебраическое моделирование и т.п. (Зобов, Мостепаненко 1974, 14). В свете этих определений становится очевидным, что трансформация картины мира говорящим может осуществляться, главным образом, на уровне перцептуального пространства и времени. Это соотносится с утверждением о том, что перцептуальное пространство и время является в той или иной степени определенным отражением реального пространства и времени. Однако оно и относительно самостоятельно, так как связано с человеческой психикой. Перцептуальное пространство и время - это, в первую очередь, визуальное (или в более широком смысле - наблюдаемое) пространство и время (Зобов, Мостепаненко 1974, 19). Как будет показано ниже, пространственная и временная ориентированность на неискреннего говорящего служит ядром когнитивного содержания сценария. При этом прагматический фактор времени играет решающую роль в формировании соответствующего языкового оформления. Лексические и грамматические индикаторы времени структурируются в зависимости от производимых трансформаций. Однако ввиду того, что перцептуальное время имеет подвижный, неустойчивый характер, могут возникнуть трудности в разграничении временных сфер. При анализе дискурсивных особенностей представления времени можно воспользоваться предлагаемым в лингвистике текста понятием векторного нуля времени, в ориентации на который можно исследовать общую временную протяженность действий (Тураева 1986, 91). ―Здесь‖ и ―сейчас‖ неискреннего говорящего можно принять за векторный нуль в определении пространственных и временных параметров дискурса. Эти положения перекликаются с определением сфер времени относительно момента отсчета. Сферой абсолютного настоящего называется любой временной интервал, содержащий в себе момент отсчета. Сферой абсолютного прошедшего называется вре- 119 менной интервал, бесконечный слева от момента отсчета и ограниченный им справа. Сферой абсолютного будущего называется интервал, бесконечный справа от момента отсчета и ограниченный слева этим моментом (Дешериева 1975, 114). Можно также воспользоваться указанием на связь временного интервала с понятием тождества объекта и субъекта, которое неминуемо объединяет: 1) уже осуществившееся, выкристаллизовавшееся и ―затвердевшее‖ прошлое; 2) непосредственно переживаемое настоящее; 3) еще не осуществившееся, но уже антиципируемое будущее (Сапаров 1974, 98). Очевидно, что в сферу настоящего времени входит картина мира, совпадающая с тем местом и с тем временным промежутком, в которых непосредственно находится неискренний говорящий. В сферу прошедшего и будущего времени входят картины мира, удаленные от неискреннего говорящего, то есть находящиеся за пределами его непосредственного восприятия. Включение трансформируемой картины мира в область непосредственного чувственного восприятия свидетельствует о важности текущего момента для реализации личностного смысла неискренности. Исключение трансформируемой картины мира из области непосредственного восприятия, в свою очередь, указывает на важность ситуации общения в прошлом или будущем. С точки зрения использования языковых фактов сценарии неискреннего дискурса, трансформирующие картину мира в настоящем, ориентированы на текущий момент общения. В этом типе сценариев говорящий творит действия, и не только вербальные, но и невербальные. Сценарии, трансформирующие картины мира в прошлом и будущем, основаны на нарративизации. В этом случае неискренний говорящий рассказывает о действиях, якобы имевших место в прошлом, или о действиях, которые якобы произойдут в будущем. В любом случае следует учитывать важность настоящего, текущего момента, так как неискреннее общение - это всегда непосредственная данность, непосредственный момент протекания коммуникации. С позиций слушающего все сценарии неискренности осуществляются в настоящем, то есть в данный момент, однако их когнитивная и языковая структура будет различной в зависимости от временных и пространственных параметров соответствующей картины мира. 120 В связи с вышеизложенным становится очевидной правота исследователей, утверждающих, что проблемы знания и представления знаний имеют вполне лингвистические аспекты. В настоящее время требуется практический анализ различных способов обработки знаний в виде конкретных сценариев того или иного типа дискурса. 3. Сценарии неискреннего дискурса 3.1. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к настоящему Если понимать настоящее как момент перехода возможности в действительность (Аскин 1974, 70), то можно сказать, что в данном типе сценариев неискренний говорящий трансформирует реальную картину мира в том смысле, что для себя он конструирует новую действительность, а для слушающего представляет в виде действительности одну из нереализованных возможностей. Говорящий, начиная свой неискренний дискурс, изменяет настоящее по отношению к слушающему, творит для слушающего трансформированное, ―неправильное‖ настоящее. Часто подобная трансформация основана на удержании истины во внутреннем мире, когда неискренний говорящий спорит и борется сам с собой в своей внутренней речи в процессе формулирования ложных пропозиций. Например: ―You won‘t be late?‖ There was anxiety in Marjorie Carling‘s voice, there was something like entreaty. ―No, I won‘t be late,‖ said Walter, unhappily and guiltily certain that he would be. Her voice annoyed him. It drawled a little, it was too refined even in misery. ―Not later than midnight.‖ She might have reminded him of the time when he never went out in the evening without her. She might have done so; but she wouldn‘t; it was against her principles; she didn‘t want to force his love in any way. ―Well, call it one. You know what these parties are.‖ But as a matter of fact, she didn‘t know, for the good reason that, not being his wife, she wasn‘t invited to them. She had left her husband to live with Walter Bidlake; and Carling, who had Christian scruples, was feebly a sadist and wanted to take his revenge, refused to divorce her. It was two years now since they had begun to live together. Only two years; and now, already, he 121 had ceased to love her, he had begun to love someone else. The sin was losing its only excuse, the social discomfort its sole palliation. And she was with child. ―Half past twelve,‖ she implored ... ―If I can possibly manage it.‖ (There; she had done it. There was exasperation in his tone.) ―Bit I can‘t guarantee it; don‘t expect me‖ ... ―It‘s a blackmail,‖ he repeated inwardly, ―a blackmail. Why must I be blackmailed by her love and the fact that once I loved too - or did I ever love her, really?‖ ... He looked at her wiping her tear-wet face. Being with child made her so ugly, so old. How could a woman expect...? But no, no, no! Walter shut his eyes, gave an almost imperceptible shuddering shake of the head. The ignoble thought must be shut out, repudiated. ―How can I think such things?‖ he asked himself. ―Don‘t go,‖ he heard her repeating. How that refined and drawling shrillness got on his nerves: ―Please don‘t go, Walter.‖ ... ―Oh, why can‘t she leave me in peace?‖ He wished it furiously, intensely, with an exasperation that was all the more savage for being suppressed. (For he lacked the brutal courage to give it utterance; he was sorry for her, he was fond of her in spite of everything; he was incapable of being openly and frankly cruel - he was cruel only out of weakness, against his will.) ―Why can‘t she leave me in peace? ... What he wanted? But what he wanted was Lucy Tantamount. And he wanted her against reason, against all his ideals and principles, madly, against his own wishes, even against his own feelings - for he didn‘t like Lucy; he really hated her.‖ ... ―Stay with me this evening,‖ she implored once more. There was a part of his mind that joined in her entreaties, that wanted him to give up the party and stay at home. But the other part was stronger. He answered her with lies - half lies, that were worse, for the hypocritically justifying element of truth in them, than frank whole lies. He put his arm round her. The gesture was in itself a falsehood. ―But my darling,‖ he protested in the cajoling tone of one who implores a child to behave reasonably, ―I really must go. You see my father‘s going to be there.‖ That was true. Old Bidlake was always at the Tantamounts‘ parties. ―And I must have a talk with him. About business,‖ he added vaguely and importantly, releasing with the magical word a kind of 122 smoke-screen of masculine interests between himself and Marjorie. But the lie, he reflected, must be transparently visible through the smoke. ―Couldn‘t you see him some other time?‖ ―It‘s important,‖ he answered, shaking his head (Huxley, pp. 8 - 11). Реальная, истинная на настоящий момент, картина мира основана на знании о том, что, прожив с женщиной два года, мужчина разлюбил ее и полюбил другую (Only two years; and now, already, he had ceased to love her, he had begun to love someone else). Сложность состоит в том, что вновь сформированная, новая картина мира коренится в сознании мужчины. Только он один в точности знает о новом положении вещей. Однако по целому ряду причин мужчина не описывает произошедшие изменения в своем разговоре с женщиной. Реальная картина мира оформляется лишь на уровне внутренней речи (It‘s a blackmail; Why must I be blackmailed by her love and the fact that once I loved too - or did I ever love her, really?; Being with child made her so ugly, so old; Oh, why can‘t she leave me in peace? What he wanted? But what he wanted was Lucy Tantamount; etc.). В противоположность реальной, трансформированная картина мира оформляется на поверхностном уровне, в непосредственном обмене репликами между мужчиной и женщиной, и, если из приведенного выше примера убрать вклинивающиеся в разговор фрагменты внутренней речи, их разговор предстанет в следующем виде: ―You won‘t be late?‖ ―No, I won‘t be late.‖ ―Not later than midnight.‖ ―Well, call it one. You know what these parties are.‖ ―Half past twelve.‖ ―If I can possibly manage it.‖ ―Don‘t go. Please don‘t go, Walter. Stay with me this evening.‖ ―But my darling, I really must go. You see my father‘s going to be there. And I must have a talk with him. About business.‖ ―Couldn‘t you see him some other time?‖ ―It‘s important.‖ В этом перифразе представлена трансформированная, ―старая‖ картина мира, в которой женщина по-прежнему описывается как любимая (But my darling, I really must go), а причина, по которой мужчина оставляет ее в этот вечер, изображается как разговор с его отцом 123 по серьезному делу (You see, my father‘s going to be there. And I must have a talk with him. About business). Женщина не распознает произошедшей перемены. Это можно объяснить тем, что человек существует в рамках той или иной картины мира, но во всех деталях ее не знает и часто даже не догадывается об истинном положении вещей. И хотя действие картины мира можно в определенной степени распознать по внешним проявлениям человеческого поведения, в нашем примере женщина оказывается не в состоянии это сделать. Неискренний мужчина становится организующей силой ее мировидения, и она подчиняется навязанной ей трансформированной картине мира. В обобщенном виде можно сказать, что знания представлены неискренним говорящим таким образом, что второй участник общения лишается доступа к их новому набору. Неискренний говорящий принимает на себя роль творца картины мира для собеседника, ограничивая его право знать, что произошли релевантные изменения в их общей базе знаний. Сокрытие нового набора релевантных знаний может наблюдаться не только между двумя собеседниками, но также между группой и индивидом, как это имеет место в следующем примере. Актриса, справедливо обвиненная в неверности своим богатым покровителем, диктует своему секретарю неискреннее письмо к нему и одновременно - искреннее письмо к любовнику-тореадору: ―Camila Perichole kisses the hands of Your Excellency and says No, take another piece of paper and begin again. - The senora Micaela Villegas, artist, kisses the hands of Your Excellency and says that, being the victim of the envious and lying friends that Y.E..‘s goodness permits about Him, she can no longer endure Y.E.‘s suspicions and jealousy. Y.E.‘s servant has always valued Y.E.‘s friendship and has never committed, nor even thought, an offense against it, but she can no longer fight against the calamnies that Y.E. believes so readily. Senora Villegas, artist, called the Perichole, therefore returns herewith such of Y.E.‘s gifts as have not been placed beyond recall, since without Y.E.‘s confidence, Y.E.‘s servant can take no pleasure in them.‖ Camila continued walking about the room for several minutes, consumed by her thoughts. Presently without so much as glancing at her secretary, she commanded: ―Take another leaf. - Have you gone mad? Do not ever think of dedicating another bull to me again. It has caused a frightful 124 war. Heaven protect you, my colt. Friday night, the same place, the same time. I may be a little late, for the fox is wide-awake. - That will be all‖ (Wilder, pp. 62 -63). Из данного примера становится очевидным, что люди могут не подозревать, что делят картину мира с неизвестными им субъектами. Покровитель актрисы не догадывается, что в их общую картину мира входят также любовник-тореадор, секретарь и, возможно, ряд других людей. Актриса осознанно создает в картине мира несколько обособленных секторов, перекрывая к ним доступ определенной информации. Тем самым она берет на себя инициативу в организации бытия в каждом из его сосуществующих друг с другом фрагментов. Пример также показывает, что люди стараются накапливать знания не только о своем непосредственном окружении, но и о близких к ним по пространственно-временным параметрам картинам мира. Произошедшие изменения не проходят мимо внимания посторонних наблюдателей, и они информируют покровителя актрисы о ее неверности. Таким образом, хотя изменение мира происходит не в сфере личного опыта покровителя, он получает доступ к новому знанию. Можно сделать вывод, что, если картина мира является не чисто внутренней, как в предыдущем примере, а внешней, она подвержена верификации со стороны наблюдателей непосредственно в момент ее изменения. Получив доступ к новому знанию, покровитель актрисы обращается к ней за объяснениями. В ответ на это актриса предъявляет неискренний дискурс, направленный на опровержение, то есть негацию истинных пропозиций. Посредством механизма негации истины картина мира субъективно удерживается в ее прежнем виде, однако такая пролонгация действует только для обманываемого. На наш взгляд, лингвистическим стержнем сценариев неискреннего дискурса, основанных на скрытых от слушающего ментальных действиях, является механизм, который можно назвать «удержанием номинации». Во вновь создавшейся картине мира произошло новое наречение реалии действительности (в обоих примерах то, что раньше называлось говорящими словом love, теперь номинируется ими как hate). Однако неискренние участники удерживают старое наименование в своем общении с теми собеседниками, с которыми они не хотят делить новые знания. Пропозиции реальной картины мира при 125 этом сохраняются, однако они уходят на задний план, становятся фоном для пропозиций трансформированной картины мира. Трансформация пропозиционального содержания чаще всего становится возможной благодаря дискурсивным ожиданиям собеседника. Эта особенность проявляется не только в сценариях, связанных с вербализацией ментальных действий, но и в сценариях, основанных на физических действиях. Рассмотрим в этой связи пример, в котором идет речь о женщине, чей муж во время его пребывания в Германии завел роман с обедневшей немецкой аристократкой, содержащей магазин по продаже кукол. Получив анонимное сообщение об этом, обманутая жена едет в Германию и приходит в магазин, чтобы увидеть соперницу. При этом она притворяется, что хочет купить что-нибудь, вербализуя пропозицию трансформированной картины мира <Я - покупатель>, в то время как пропозиция реальной на данный момент картины мира должна быть сформулирована как <Я знакомлюсь с соперницей>: Entered the little lady in her finery and her crumpled prettiness ... ―You‘ve got a charming studio - charming - perfectly delightful!‖ Mitchka gave a slight ironic bow, and said in her odd, plangent English: ―Oh, yes. We like it very much also.‖ Hannele, who had dodged behind a screen, now came quickly forth. ―Oh, how do you do!‖ smiled the elderly lady. ―I heard there were two of you. Now which is which, if I may be so bold? This‖ - and she gave a winsome smile and pointed a white kid finger at Mitchka - ―is she -?‖ ―Annamaria von Prielau-Carolath,‖ said Mitchka, slightly bowing. ―Oh!‖ - and the white kid finger jerked away. ―Then this -‖ ―Johanna zu Rassentlow,‖ said Hannele, smiling. ―Ah, yes! Countess von Rassentlow! And this is Baroness von - von but I shall never remember even if you tell me, for I am awful at names. Anyhow, I shall call one Countess and the other Baroness. That will do, won‘t it, for poor me! Now I should like awfully to see your things, if I may. I want to buy a little present to take back to England with me. I suppose I shan‘t have to pay the world in duty on things like that, shall I?‖ ―Oh no,‖ said Mitchka.. ―No duty. Toys, you know, they - there is -‖ Her English stammered to an end, so she turned to Hannele. ―They don‘t charge duty on toys, and the embroideries they don‘t notice,‖ said Hannele. 126 ―Oh, well. Then I‘m all right,‖ said the visitor. ―I hope I can buy something really nice! I see a perfectly lovely jumper over there, perfectly delightful. But a little too gay for me, I‘m afraid.. I‘m not quite so young as I was, alas.‖ She smiled her winsome little smile, showing her pretty teeth and the old pearls in her ears shook. ―I‘ve heard so much about your dolls. I hear they‘re perfectly exquisite, quite works of art. May I see some, please?‖ ―Oh yes,‖ came Mitchka‘s invariable answer (Lawrence, p. 48). Несомненно, что трансформация картины мира становится возможной благодаря дискурсивным ожиданиям собеседника. Хозяйка магазина ожидает покупателей и заранее настроена на соответствующий дискурс. Возвращаясь к приведенному выше определению настоящего, можно сказать, что для хозяйки момент ее встречи с любым покупателем есть настоящее как переход от возможности (прихода покупателя) к действительности (реальному приходу). Каждый раз хозяйке известна регулярная цепочка действий в настоящем как с ее стороны, так и со стороны покупателя. В подобной стандартной ситуации общения трудно присваивать действиям какие-либо новые интерпретации, чем и пользуется неискренний говорящий. Начальное действие по совершению покупки вводит в обиход известную всем сферу знания и делает дальнейшее общение в рамках этой сферы неизбежным для продавца. Для лучшего достижения цели поверхностное действие, основанное на ложной пропозиции <Я - покупатель>, своеобразным образом ―растягивается‖ путем фатического общения, включающего в себя многословные и неинформативные в данном контексте ремарки, направленные на оценку себя и собеседника (You‘ve got a charming studio - charming - perfectly delightful!; Ah, yes! Countess von Rassentlow!; That will do, won‘t it, for poor me!; I‘m not quite so young as I was, alas; etc.). Это соотносится с наблюдениями над перцептуальным временем, согласно которым в нем допускаются такие эффекты как растяжение и сжатие, которые недопустимы на уровне физического (реального) времени (Зобов, Мостепаненко 1974, 20). Растяжение в исполнении физического действия посредством фатического общения, а также присвоение контроля над его осуществлением и определенная настойчивость в продвижении по этапам действия являются типичными признаками речевого поведения 127 неискреннего говорящего, создающего трансформированное настоящее. Следует, впрочем, подчеркнуть, что сфера применения подобного сценария неискренности ограничена. Нельзя осуществлять дополнительные действия в таких ситуациях, которые не имеют для этого предварительных условий (например, нельзя познакомиться с соперницей, придя к ней домой). Таким образом, основное и дополнительное действие должны быть связаны определенными каузальными отношениями, а также соображениями целесообразности их одновременного осуществления. Итак, общей чертой сценариев, основанных на трансформации картины мира в настоящем, является то, что неискренний говорящий искажает предметную область пространства, данную ему в непосредственном чувственном опыте. Осуществляя концептуализацию своего текущего опыта, говорящий формирует знание об истинном (с его точки зрения) положении вещей на настоящий момент. В этом смысле можно сказать, что он владеет адекватной картиной мира. Адекватная картина мира является для говорящего первичной, поскольку она предполагает первичную номинацию и первичные пространственновременные и причинно-следственные параметры. Адекватная картина мира формулируется неискренним говорящим для себя самого, чаще во внутренней, чем во внешней речи. Лишь после этого происходит вербализация трансформированной картины мира посредством использования вторичной номинации и вторичных параметров, элиминирующих (на поверхностном уровне) первичное содержание. 3.2. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к прошлому Этот вид сценариев неискреннего дискурса основан на искажении опыта, имевшего место в прошлом. Точкой отсчета для категоризации опыта как прошлого является непосредственный момент речи, ―здесь‖ и ―сейчас‖ неискреннего говорящего. Если настоящее связано с непосредственной реальностью, данной в ощущениях и воспринимаемой в момент речи, то прошлое включает в себя уже пережитый опыт, являвшийся ранее объектом восприятия. В отличие от сценариев неискреннего дискурса, относящихся к настоящему, в сценариях, относящихся к прошлому, слушающий по- 128 падает в сферу не пройденного им самим опыта. Слушающий не был в этом опыте и узнает о нем из рассказа неискреннего говорящего. Нарративизация является главной отличительной характеристикой сценария данного вида. Под нарративизацией будем понимать изложение речевых действий, связанных отношениями следования. Действия могут быть представлены как в последовательности, отражающей темпоральную локализацию событий по мере их осуществления, так и в их привязке относительно говорящего, либо относительно говорящего и слушающего. Рассмотрим пример неискреннего дискурса, концептуализируемого в виде цепочки следующих друг за другом действий: ―I can tell you, Harry. It is not a story I could tell to any one else. I spared somebody. It sounds vain, but you understand what I mean. She was quite beautiful, and wonderful like Sibyl Vane. You remember Sibyl, don‘t you? How long ago that seems! Well, Hatty was not one of our own class, of course. She was simply a girl in a village. But I really loved her. I am quite sure that I loved her. All during this wonderful May that we have been having, I used to run down and see her two or three times a week. Yesterday she met me in a little orchard. The apple-blossoms kept tumbling down on her hair, and she was laughing. We were to have gone away together this morning at dawn. Suddenly I determined to leave her as flower-like as I had found her.‖ ―I should think the novelty of the emotion must have given you a thrill of real pleasure, Dorian,‖ interrupted Lord Henry. ―But I can finish your idyll for you. You gave her good advice, and broke her heart.... Besides, how do you know that Hatty isn‘t floating at the present moment in some star-lit millpond, with lovely water-lilies round her, like Ophelia?‖ (Wilde - 2, p. 158) В данном примере неискренний дискурс как бы имеет своеобразный временной ―якорь‖, за который он зацеплен в прошлом, а именно период от начала до завершения действий (all during this wonderful May — yesterday). В течение этого периода времени действия представлены как последовательные (I used to run down and see her two or three times a week — Yesterday she met me in a little orchard — She was laughing — Suddenly I determined to leave her as flower-like as I had found her). В этой цепочке действий лишь последнее основано на ложной пропозиции, и это сразу же понимает собеседник неис- 129 креннего говорящего. Он опровергает ложную пропозицию, вербализуя скрытый истинный смысл (I should think the novelty of the emotion must have given you a thrill of real pleasure). Таким образом, эксплицируется неискренность, имевшая место в прошлом по отношению к человеку, не входящему в данную ситуацию общения. Упорядочение поступательного движения действий осуществляется вплоть до настоящего момента при помощи гипотетического предположения об истинном завершении произошедшего опыта (Besides, how do you know that Hatty isn‘t floating at the present moment in some star-lit millpond, with lovely water-lilies round her, like Ophelia?). При формировании цепочки действий, относящихся к прошлому, неискренний говорящий может вставлять ложные пропозиции внутрь рассказа, опирающегося на истинные пропозиции, что, в частности, имеет место в случаях, определяемых в народной терминологии как хвастовство. Так, в следующем примере Джозеф Седли, позорно бежавший еще до начала битвы при Ватерлоо, внимательно изучив имеющиеся свидетельства о боях, использует их для ложных сведений о своем участии в сражении: Our worthy fat friend Joseph Sedly returned to India not long after his escape from Brussels. Either hid furlough was up, or he dreaded to meet any witnesses of his Waterloo flight... He had a thousand anecdotes about the famous battles; he knew the position of every regiment and the loss which each had incurred. He did not deny that he had been concerned in those victories - that he had been with the army and carried despatches for the Duke of Wellington. And he described what the Duke did and said on every conceivable moment of the day of Waterloo, with such an accurate knowledge of his Grace‘s sentiments and proceedings that it was clear he must have been by the conqueror‘s side throughout the day; though, as a non-combatant, his name was not mentioned in the public documents relative to the battle. Perhaps he actually worked himself up to believe that he had been engaged with the army; certain it is that he made a prodigious sensation for some time at Calcutta, and was called Waterloo Sedley during the whole of his subsequent stay in Bengal (Thackeray, p. 345). Неискренний говорящий как бы расширяет предметную реальность, имевшую место в прошлом, включая в нее себя и не существовавшие предметы (he had been with the army and carried despatches for the Duke of Wellington; etc.). Трансформация картины мира создается 130 здесь посредством ее субъективного расширения. Можно даже сказать, что говорящий создает ―новое‖ прошлое взамен известного всем; не случайно, что общество отмечает эту роль ―творца‖ нового знания, присваивая ему прозвище Waterloo Sedley. Данная номинация объединяет субъект и созданный им мир, свидетельствуя об общественном осознании специфики языкового отражения объективного времени и пространства в неискреннем дискурсе. Субъективное расширение картины мира в прошлом, связанное с включением в нее ложных пропозиций, может быть вызвано деонтическими требованиями со стороны слушающего. Например: ―She‘s a very nice woman,‖ said Mildred. ―Quite the lady. I told her we was married.‖ ―D‘you think that was necessary?" ―Well, I had to tell her something. It looks so funny me being here and not married to you. I didn‘t know what she‘d think of me..‖ ―I don‘t suppose she believed you for a moment.‖ ―That she did, I lay. I told her we‘d been married two years - I had to say that, you know, because of baby - only your people wouldn‘t hear of it, because you was only a student‖ - she pronounced it stoodent - ―and so we had to keep it a secret, but they‘d given way now and we were all going down to stay with them in the summer.‖ ―You‘re a past mistress of the cock-and-bull story,‖ said Philip (Maugham, p. 565). В данном случае трансформация картины мира в прошлом создается преимущественно в интересах хозяйки квартиры. В действительной картине мира не было ни самих перечисляемых действий, ни их последовательности, представленной говорящим. Причина, заставляющая прибегать к подобному виду неискренности - это, повидимому, постижение реальности на эмпирической основе. Если бы не было представлено никаких объяснений, то, скорее всего, хозяйка не пустила бы молодых людей на квартиру. Хотя она вряд ли верит в предоставленное знание (I don‘t suppose she believed you for a moment), тем не менее сам факт его представления, то есть сам рассказ о несуществующем прошлом, может помочь хозяйке в обосновании причин сдачи жилья этим людям перед обществом. Хорошо известно, что в обыденном сознании закреплен ряд случаев, в которых социум предпочитает неискренность искренности, и подобные случаи 131 варьируются в зависимости от особенностей той или иной культурной среды. Обобщая, можно сказать, что в сценариях, относящихся к прошлому, неискренний говорящий трансформирует картину мира, реально имевшую место, путем изменения ее объема (сужения или расширения) и включения в рамку известного ему истинного знания ряда ложных пропозиций. 3.3. Сценарии, основанные на трансформации картины мира, относящейся к будущему Будущее связано с процессом развития, им называется не просто то, чего нет, а то, что люди надеются видеть осуществившимся. Будущее не существует, но это не просто отсутствие; оно не существует в качестве актуальной, наличной действительности, но существует в потенции, в тенденции, как сфера реальных возможностей развития (Аскин 1974, 70). Сценарии неискреннего дискурса, основанные на трансформации картины мира, относящейся к будущему, связаны с опытом, который еще только должен быть создан. Категоризация опыта как будущего основана на механизме прогнозирования и оценки упорядоченного поступательного движения действий в аспекте их наиболее вероятного продолжения в некотором удаленном от ―здесь‖ и ―сейчас‖ моменте времени. Созидающее языковое сознание неискреннего говорящего представляет для слушающего такую перспективу действий, которая не имеет ничего общего с реальной последовательностью действий, прогнозируемой им для себя. Сложность когнитивного анализа референции к будущему событию состоит в том, что оно не является непосредственно наблюдаемым и всегда остается гипотетическим, вплоть до момента реализации. Ввиду того, что будущие действия остаются за пределами восприятия, их выполнение связано с рядом условий, в том числе с доброй волей говорящего. Неискренний собеседник обычно излагает как абсолютно достоверное знание то, что никогда не осуществится, то есть никогда не станет соответствовать критериям истинности. Представление слушающему трансформированной картины мира в будущем вместо реальной обычно основано на привязке к теку- 132 щему опыту. Рассмотрим типичный пример, в котором неискренний говорящий использует имеющееся у него знание для осуществления сценария рассматриваемого вида. Том работает в банке. Однажды вечером его сестра Лу идет навестить рабочего Стивена, и Том решает проводить ее. Увидев Стивена, Том понимает, что ему представился случай ограбить банк и переложить вину за это на Стивена: Seeing his sister ready to depart, he got up, rather hurriedly, and put in a word. ―Just wait a moment, Loo! Before we go, I should like to speak to him a moment. Something comes into my head. If you step out on the stairs, Blackpool, I‘ll mention it. Never mind a light, man!‖ Tom was remarkably impatient of his moving towards the cupboard, to get one. ―It don‘t want a light.‖ Stephen followed him out, and Tom closed the room door, and held the lock in his hand. ―I say!‖ he whispered. ―I think I can do you a good turn. Don‘t ask me what it is, because it may not come to anything. But there‘s no harm in trying.‖ His breath fell like a flame of fire on Stephen‘s ear, it was so hot. ―That was our light porter at the Bank,‖ said Tom, ―who brought you the message to-night. I call him our light porter, because I belong to the Bank too.‖ Stephen thought, ―What a hurry he is in!‖ He spoke so confusedly. ―Well!‖ said Tom. ―Now look here! When are you off?‖ ―T‘day‘s Monday,‖ replied Stephen, considering. ―Why, sir, Friday or Saturday, nigh about.‖ ―Friday or Saturday,‖ said Tom. ―Now look here! I am not sure that I can do you the good turn I want to do you - that‘s my sister, you know, in your room - but I may be able to, and if I should not be able to, there‘s no harm done. So I tell you what. You‘ll know our light porter again?‖ ―Yes sure,‖ said Stephen. ―Very well,‖ returned Tom. ―When you leave work of a night, between this and your going away, just hang about the Bank an hour or so, will you? Don‘t take on, as if you meant anything, if he should see you hanging about there; because I shan‘t put him up to speak to you, unless I find I can do you the service I want to do you. In that case he‘ll have a note 133 or a message for you, but not else. Now look here! You are sure you understand.‖ He had wormed a finger, in the darkness, through a button-hole of Stephen‘s coat, and was screwing that corner of the garment tight up round and round, in an extraordinary manner. ―I understand, sir,‖ said Stephen. ―Now look here!‖ repeated Tom. ―Be sure you don‘t make any mistake then, and don‘t forget. I shall tell my sister as we go home, what I have in view, and she‘ll approve, I know. Now look here! You‘re all right, are you? You understand all about it? Very well, then. Come along, Loo!‖ (Dickens, p. 137). Неискренний собеседник заставляет слушающего выполнить необходимые условия для формирования будущей картины мира. Чтобы нужная картина образовалась, Стивену следует в обязательном порядке прийти поздним вечером одного из дней текущей недели к банку и простоять около него час или два. Данные действия совершенно необходимы для того, чтобы в будущем имел место факт наблюдения за ситуацией в ее непосредственной чувственной данности. Неискреннему собеседнику нужно, чтобы в будущем конкретный наблюдатель (our light porter) мог подтвердить истинность опыта, используя соответствующие глагольные формы (He is standing near the Bank; He was standing near the Bank; etc.). Не случайно, поэтому, что семантическим центром этого вида неискреннего дискурса являются императивы, указывающие на потребность в осуществлении действий. При этом акцентируются как сами действия, так и время их осуществления в будущем (When you leave work of a night, between this and your going away, just hang about the Bank an hour or so, will you? Don‘t take on, as if you meant anything, if he should see you hanging about there). Употребление императивов способствует тому, что гипотетические действия подаются как идентифицированные на основе знания, в связи с чем их осуществление становится как бы неизбежным. Императивы подкрепляются многочисленными призывами к вниманию слушающего (выражение ―Look here‖, к примеру, повторяется пять раз). Неискреннему говорящему важно не просто отдать приказ о необходимых действиях в будущем, но и убедиться, что собеседник хорошо его понял. Ввиду расплывчатости будущего, необ- 134 ходимые для создания нужной ситуации действия должны быть закреплены в лингвистическом сознании исполнителя. Трансформация картины мира становится возможной благодаря тому, что для будущего множество смыслов остается открытым, и истинными станут только те утверждения, для которых говорящий выполнит соответствующие критерии. Том обещает Стивену определенную цепочку действий в будущем, однако он не собирается выполнять условия их истинности. Так, он обещает послать привратника к Стивену с важным сообщением, а на самом деле не будет это делать; он обещает помочь Стивену найти работу, а на самом деле хочет выставить его в роли вора. Итак, начальные действия по созданию картины мира в будущем ведут к двум параллельным цепочкам действий, одна из которых представляет основу реальной картины мира, а другая - основу трансформированной картины мира, формируемой неискренним говорящим для обманываемого им собеседника. Неискренний говорящий добивается того, чтобы слушающий поверил, что в его эмпирическом опыте будет иметь место такая ситуация, в которой возникнут и реализуются прогнозируемые смыслы. 4. Неискренность и игра При анализе представления знаний в неискреннем дискурсе нельзя оставить без внимания такой их аспект, как концептуализация картины мира в форме игры. В лингвистике термин игра используется, в основном, в двух значениях. Первый подход основан на концепции Л. Витгенштейна, рассматривавшего весь процесс словесного творчества как языковую игру, понимая ее как использование языка в целях оказания воздействия на людей (Витгенштейн 1994). Второй подход к понятию игра основан на положениях когнитивной психологии, согласно которым игра представляет собой сложный вид человеческой деятельности, строящийся на определенных когнитивных структурах. В данной работе термин игра будет использоваться во втором смысле. Когнитивная теория игры базируется на положении о ролевом характере человеческого поведения. Считается, что выполнение ролей основано на механизме имитации и что в определенном смысле 135 все человеческое сознание может быть названо имитационным (Cassirer 1973; Sartre 1972). Вместе с тем для игры недостаточно лишь одной имитации, поскольку имитация чаще всего является неосознанным процессом отождествления с другими, во время которого человек не воспринимает себя как другого, а просто действует как все (Mead 1972, 58). В отличие от простой имитации игра, даже в такой ее простейшей форме, как детская игра, основана на том, что играющий осознает, что выполняет роль другого по отношению к самому себе. По замечанию М. М. Бахтина, мальчик, играющий атамана разбойников, изнутри переживает свою жизнь разбойника, глазами разбойника смотрит на пробегающего мимо другого мальчика, изображающего путешественника, его кругозор есть кругозор изображаемого им разбойника; то же самое имеет место и для его сотоварищей по игре, и в этом смысле игра подобна мечте о себе (Бахтин 1979, 67). Детская игра рассматривается в когнитивной психологии как простейшая форма ролевого поведения по той причине, что ребенок может принимать на себя каждый раз только одну роль. В более сложных играх необходимо уметь принимать на себя не только свою собственную роль, но и роли всех других участников. Есть такие игры, в которых участники должны выполнять сразу несколько сложных ролей. Благодаря играм человек обучается функционировать в организованной группе, в связи с чем игру можно назвать подготовительным этапом по отношению к более высоким формам самостоятельной интеллектуальной деятельности (Mead 1972, 160). Каждая игра основана на определенном сценарии. Сущность игры составляют правила, предписывающие определенное заполнение игрового пространства. При этом целевые установки повседневной человеческой деятельности уходят на задний план. По мнению Х.- Г. Гадамера, мир игры закрыт миру цели, поэтому человек может самозабвенно предаваться процессу игры не иначе, как преобразовав целевые установки своего поведения в задачи игры (Гадамер 1988, 153). Можно утверждать, что в тех случаях, когда для говорящего его неречевые цели становятся несущественными или вообще отсутствуют, его неискренность похожа на детскую игру. Подобные случаи обычно характеризуют еще не сформировавшуюся личность, каковой является, к примеру, личность подростка Питера в следующем примере. Сам не понимая зачем, он переодевается в наряд своей сестры и 136 в этом виде ходит по саду, делая вид, что убаюкивает новорожденного ребенка: Well! He went to her room, it seems, and dressed himself in her old gown, and shawl, and bonnet; just the things she used to wear in Cranford, and was known by everywhere; and he made a pillow into a little ... into a little baby, with white long clothes. It was only, as he told me afterwards, to make something to talk about in the town; he never thought of it as affecting Deborah. And he went and walked up and down in the Filbert walk - just half hidden by the rails, and half seen; and he cuddled his pillow, just like a baby, and talked to it all the nonsense people do. Oh dear! And my father came stepping stately up the street, as he always did; and what should he see but a little black crowd of people - I dare say as many as twenty - all peeping through his garden rails (Gaskell, p. 76). Здесь Питер фактически играет в свою сестру Дебору, представляя ее как мать якобы рожденного ею незаконнорожденного ребенка. Следуя законам игры, он переодевается. Переодевание считается одним из основных признаков играющего, стремящегося предстать другим и таковым считаться. Ведя игру таким образом, играющий скрывает свою преемственность с самим собой от окружающих, хотя для себя он эту преемственность фиксирует (Гадамер 1988, 158). Факт переодевания можно, по-видимому, считать семиотическим маркером, свидетельствующим о переходе неискренности говорящего в игру. Если неискреннее общение требует собеседника, то игровой процесс требует зрителя. Именно о зрителях идет речь в данном примере, так как игра Питера собирает целую аудиторию - около двадцати человек. Вместе с тем нельзя сказать, что интеракция переходит за рамки реального для присутствующих мира. Собравшиеся люди получают новое знание о реальном человеке - сестре Питера. Это знание основано на ложных пропозициях, выраженных осознанно. Поэтому согласно формальной дефиниции, мы имеем дело с неискренностью. Именно в плоскости неискренности, а не игры, оценивает поведение сына отец Питера, местный священник. Понимая, что репутации семьи причинен ущерб, он бьет сына в присутствии собравшихся. Подобное ―исправление‖ трансформированной картины мира никогда не наблюдается, если мы имеем дело с игрой в чистом виде. В неискреннем общении, напоминающем сложную игру, все роли обычно взаимосвязаны, и все ―пасы‖ определены правилами, уста- 137 новленными еще до начала игры. Для того, чтобы провести игру как единое структурное целое, участники должны знать не только свои собственные роли, но и весь сценарий в целом. Рассмотрим пример, в котором супруги разыгрывают перед своими собеседниками сценарий игры, основанный на ложной пропозиции, которую можно сформулировать как <Мы - глупые>. Изображая из себя глупцов, супруги преследуют неречевую цель понравиться своим богатым праздным собеседникам и сохранить свое место в их кругу. Интересно то, что данный пример позволяет сравнить речевое поведение неискренних участников как во время самой игры, так и после ее завершения, когда супруги, оставшись наедине, дают истинную оценку людям, перед которыми они только что разыгрывали глупцов. ―What I complain of,‖ said Mark Rampion, ―is the horrible unwholesome tameness of our world.‖ Mary Rampion laughed whole-heartedly from the depth of her lungs. It was a laugh one could not hear without wishing to laugh oneself. ―You wouldn‘t say that,‖ she said, ―if you‘d been your wife instead of you. Tame? I could tell you something about tameness.‖ ... ―Well, you‘re not exactly a sheep either,‖ said Rampion. ... ―Man is a fighting animal. ... But what I complain of is that he‘s a domestic animal.‖ ―And getting more domestic every day,‖ said Mary Rampion, who shared her husband‘s opinions ... ―It‘s factories, it‘s Christianity, it‘s science, it‘s respectability, it‘s our education,‖ she explained. ―They weigh on the modern soul. They suck the life out of it. They ...‖ ―Oh, for God‘s sake shut up!‖ said Rampion. ―But isn‘t it that what you say?‖ ―What I say is what I say. It becomes quite different when you say it.‖ The expression of irritation which had appeared on Mary Rampion‘s face cleared away. She laughed. ―Ah, well,‖ she said good-humouredly, ―racionation was never my strongest point. But you might be a little more polite about it in public.‖ ―I don‘t suffer fools gladly.‖ ―You‘ll suffer one very painfully, if you‘re not careful,‖ she menaced laughingly. ―If you‘d like to throw a plate at him,‖ said Spandrell, pushing one over to her as he spoke, ―don‘t mind me.‖ 138 Mary thanked him. ―It would do him good,‖ she said. ―He gets so bumptious.‖ ―And it would do you no harm,‖ retorted Rampion, «if I gave you a black eye in return.» ―You just try. I‘ll take you on with one hand tied behind my back.‖ They all burst out laughing. ―Thank heaven!‖ said Mary as the taxi drove away. ―That dreadful Arkwright!‖ ―Ah, but that woman‘s worse,‖ said Rampion. ―She gives me creeps. ... You might as well like cobras.‖ ... ―But if it‘s a matter of creeps, what about Spandrell? He‘s like a gargoyle, a demon.‖ ―He‘s like a silly schoolboy,‖ said Rampion emphatically. ―He‘s never grown up. Can‘t you see that? He‘s a permanent adolescent. Bothering his head about all the things that preoccupy adolescents‖ (Huxley, pp. 95 - 98). Дискурс супругов можно считать игрой, так как он фактически является не общением с собеседниками, а представлением для собеседников. Хотя во время разговора присутствуют несколько людей, лишь один из них принимает некоторое участие в беседе с супругами; в целом же, можно сказать, что неискренние говорящие узурпируют право говорить, превращая место действия в сцену, себя - в актеров, а собеседников - в зрителей. Хотя в этом случае игра не сопровождается переодеванием, все же происходит изменение внешнего образа говорящих. Пользуясь терминологией М. М. Бахтина, можно сказать, что имеет место преодоление сопротивления собственного внешнего образа и переход в новый внешний образ. Этот процесс, требующий усилий, описывается следующим образом: ―Мой зрительно выраженный образ начнет зыбко определяться рядом со мною, изнутри переживаемым, он едваедва отделится от моего внутреннего самоощущения по направлению вперед себя и сдвинется немного в сторону, как барельеф, отделится от плоскости внутреннего самоощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы раздвоюсь немного, но не распадусь окончательно ... Но мое внутреннее самоощущение и жизнь для себя остаются во мне воображающем и видящем, во мне воображенном и видимом их нет‖ (Бахтин 1979, 28 - 29). В нашем случае происходит формирование но- 139 вого внешнего образа супругов как образа глупых людей; в то же самое время их истинный образ расчетливых, преследующих свои цели дельцов сохраняется в их внутреннем самоощущении. Создание нового внешнего образа основано на индивидуальном знании говорящих. В общей совокупности знаний о мире индивидуальное знание является недостаточно изученным, поэтому важное значение приобретает анализ того, как происходит представление такого знания. В частности, встает вопрос, каким образом происходит концептуализация представлений о глупости человека? Очевидно, что глупость входит в сферу наивно-языковых понятий о человеческом общении, то есть таких, которые определяются при помощи когнитивных характеристик, выделенных в результате интуитивного обобщения знания об особенностях процесса коммуникации. Усвоение такого знания является одной из существенных сторон жизнедеятельности человека на протяжении всей его жизни. В качестве основной особенности глупца, по-видимому, рассматривается то, что он отличается по своему вербальному и невербальному поведению от окружающих его нормальных взрослых членов данного дискурсивного сообщества. Так, если все взрослые люди говорят сдержанно, то глупец ―не знает‖ этого, и его манера говорить привлекает к себе всеобщее внимание. Супруги используют это знание для выражения своего нового образа (Mary Rampion laughed wholeheartedly from the depths of her lungs). Признаком глупости, по-видимому, можно считать неумение говорящего придерживаться нужной темы и развивать ее в нужном направлении. Для имитации речи глупцов используется прием перехода к обсуждению тем, непредсказуемых и неуместных в рамках текущей ситуации общения. В нашем примере неискренний дискурс начинается именно с перехода к неуместным референтам, относящимся к обобщенным философским проблемам (―What I complain of,‖ said Mark Rampion, ―is the horrible unwholesome tameness of our world.‖) Введение референта tameness лишает собеседников доступа к окружающему их предметному миру и перемещает их в сферу индивидуального знания неискренних говорящих. Тем самым происходит захват инициативы в беседе и исключение из нее собеседников. Нарушение автоматизма восприятия, новизна впечатлений признается одним из конститутивных признаков игры. Начав игру, то 140 есть сумев ввести первый референт, необходимый для представления знания о себе как о глупцах, неискренние говорящие производят целую цепочку ―глупых‖ высказываний. Глупость мужа проявляется в том, что он выдает затертые клишированные выражения за оригинальные (Man is a fighting animal ... But what I complain of is that he‘s a domestic animal). Жена с жаром подхватывает ―идеи‖ мужа и разъясняет их (It‘s factories. It‘s Christianity. It‘s science). Такое вмешательство вызывает раздражение мужа, и он напрямую называет жену глупой (I don‘t suffer fools gladly). После этого сценарий продвигается по направлению к хорошо известному всем явлению ―ссоры глупцов‖, с угрозой драки. В то же самое время здесь выражено и добродушие глупцов, признание ими своих ошибок; при этом глупость акцентируется при помощи неправильного употребления книжного слова (Ah, well, racionation was never my strongest point). Осуществленный супругами спектакль завершается по законам жанра комедии общим смехом. Указанием на то, что неискренние говорящие осуществляют дискурс по типу игры, является искусно осуществляемая ими регуляция собственного речевого поведения. Они побуждают друг друга к речевым действиям путем выражения согласия и несогласия друг с другом (―You wouldn‘t say that,‖ she said, ―if you‘d been your wife instead of you. Tame? I could tell you something about tameness‖); постановки вопросов (But isn‘t it that what you say?); запрета речевых действий (Oh, for God‘s sake shut up!). Признаком игры является также определенная эстетизация речи, внимание к сообщению ради самого сообщения. Неискренние говорящие ―замечают‖ сами языковые формы. Отдельные слова и выражения ―нравятся‖ или ―не нравятся‖ им. Они присваивают себе право на произнесение отдельных выражений и лишают других такого права (What I say is what I say. It becomes quite different when you say it). Именно сама речь, само говорение, а не то, о чем говорится, выдвигается на первый план в неискреннем дискурсе, основанном на принципе игры. Следует подчеркнуть, что хотя неискренний дискурс подобного типа имеет сходство с игрой, тем не менее выражение личностного смысла неискренности остается его приоритетной задачей. На основе определенного индивидуального знания неискренний говорящий 141 строит высказывания, кажущиеся ему вполне надежными, чтобы добиться необходимых неречевых целей. 5. Неискренний дискурс в форме реминисценций-дайджестов В процессе употребления некоторые сценарии неискреннего дискурса закрепляются в общественном сознании и начинают воспроизводиться, приобретая характер реминисценций. Дискурсивные (текстовые) реминисценции рассматриваются в одном ряду с такими филологическими явлениями, как прецедентные тексты, протосюжеты, литературные варианты, вторичные тексты и т.п. Их общее содержание связано с передачей в новом производимом дискурсе тех или иных фрагментов ранее произведенных дискурсов. Вместе с тем за каждым из этих терминов закрепилось свое особое употребление. Под прецедентным текстом чаще всего имеется ввиду текст общекультурного значения, принадлежащий известному автору (Караулов 1992). Исследование протосюжетов ведет свое начало от известных работ В. В. Проппа о морфологии волшебной сказки (Propp 1970). Изучение литературных вариантов обнаруживает многие аналогичные сюжеты в литературе разных народов и разных эпох, причем повторение сюжетов происходит как в результате заимствований, так и независимого отображения в различных литературах аналогичных человеческих ситуаций (Гак 1996). Под вторичным текстом имеется ввиду такое произведение, в котором сознательно и последовательно воспроизводятся характерные черты лингвостилистической и композиционно-образной организации другого произведения в таких формах, как стилизация, пародия, сказ, перифраз (Вербицкая 1989). Термин реминисценция используется как удобное обобщение, отражающее основную формальную особенность всех вышеперечисленных явлений, а именно: включенность или вкрапление старого дискурса в новый. Реминисценциями могут быть не только крупные текстовые фрагменты, но и отдельные высказывания, передаваемые цитатами или аллюзиями, или даже отдельные слова и фразеологические единицы (Головачева 1988). Малоизученным видом реминисценций являются так называемые дайджесты, источником которых служат не конкретные автор- 142 ские произведения, а целый широкий корпус текстов, составляющий размытое или нечеткое множество. По своей семантике такие реминисценции представляют собой когнитивные структуры, которые сформировались в памяти разных людей на основе прочтения ими одних и тех же книг и газет, просмотра одних и тех же фильмов и спектаклей, обсуждения одних и тех же общественно-политических и бытовых событий. Реминисценции-дайджесты являются совместным продуктом всех членов той или иной культурной общности, и для их адекватного понимания требуется знание данной культуры (Супрун 1995, 26). Если тот или иной сценарий неискреннего дискурса оказывается удачным с точки зрения осуществления неречевых целей, то он может быть повторен говорящим, затем он может быть подхвачен другими говорящими и, наконец, он может стать известным многим людям, то есть приобрести характер реминисценции-дайджеста. Подобные дайджесты могут также находить выражение в литературных произведениях. В нижеследующем примере пишущий не может, следуя нормам своей культуры, написать другу правду о своей связи с дальней родственницей, некрасивой немолодой женщиной, приехавшей в гости из Франции, где она служит гувернанткой. Поэтому письмо отражает не то, что происходит на самом деле, а то, что должно было бы происходить, если бы ситуация соответствовала общепринятым нормам. Пример интересен также тем, что в нем есть упоминание одного из источников реминисценции - произведений Д. Мередита. Прослеживается связь и с другими источниками - популярными стихами и клишированными высказываниями, известными носителям изображаемой культурной среды. He thought he would write to Hayward, and in his mind composed the letter. He would talk of the garden and the roses, and the little French governess, like an exotic flower amongst them, scented and perverse: he would say she was French, because — well, she had lived in France so long that she almost was, and besides it would be shabby to give the whole thing away too exactly, don't you know; and he would tell Hayward how he had seen her first in her pretty muslin dress and of the flower she had given him. He made a delicate idyll of it: the sunshine and the sea gave it passion and magic, and the stars added poetry, and the old vicarage garden 143 was a fit and exquisite setting. There was something Meredithian about it. ... He thought of the object of his affections. She had the most adorable little nose and large brown eyes — he would describe her to Hayward — and masses of soft brown hair, the sort of hair it was delicious to bury your face in, and a skin which was like ivory and sunshine, and her cheek was like a red, red rose. How old was she? Eighteen perhaps, and he called her Musette. Her laughter was like a rippling brook, and her voice was so soft, so low, it was the sweetest music he had ever heard (Maugham, p.182). Культурный фон как бы давит на пишущего, и он сознательно отказывается от истины, прибегая к сюжету, заимствованному из произведений Мередита и других источников. Представление знания о реальном мире имеет настолько сильную информативную зависимость от корпуса текстов-источников, что истинный смысл происходящего подвергается полной трансформации. Искажение смысла достигает апофеоза в том, что даже происходит потеря реальных имен собственных (вместо подлинного имени немолодой гувернантки употребляется клишированное имя Musette). Сообщение о внешнем облике женщины также следует принципу реминисценции о типичной для данной среды красавице (She had the most adorable little nose and large brown eyes ... and masses of soft brown hair ... and a skin which was like ivory and sunshine, and her cheek was like a red, red rose). Благодаря представлению знания по принципу реминисценции ситуация теряет свою конкретность и превращается в знаковую. Пишущий играет роль наблюдателя-интерпретатора, описывающего реальный мир не на основе фактов, а путем выборки и компоновки информации из имеющихся источников. Адресат становится действующим лицом, полностью полагающимся на интерпретатора при восприятии и оценке полученного знания. Его временная и пространственная удаленность от исходной ситуации придает реминисценции свою собственную модальность. Прагматическую релевантность приобретает запрограммированная реакция на те или иные части дайджеста, не допускающая никаких сомнений со стороны адресата относительно их достоверности. В более общем плане подобные сценарии выступают в качестве опорных элементов для создания единого для данной культурной общности субъективного отношения к действительности. Неискренний дискурс, выраженный в форме реминисценций-дайджестов, вхо- 144 дит в общую модель культуры. Он занимает определенное место в представлении общественных идеалов. Источник идеального находится в объективном мире, однако при его осмыслении велика и роль субъективного фактора. Именно человек выбирает и осознает идеалы, а также мечтает о них. Когда идеал отмирает, он начинает высмеиваться, что и происходит в вышеприведенном примере. Выражение клишированности лингвистического сознания, ведущего к неискренности и искажениям в представлении знаний, является важной функцией сценариев-реминисценций. Своеобразие того или иного типа культуры раскрывается через присущий ему стабильный культурный фон. Б. А. Успенский относит к фону описание второстепенных событий и персонажей, которые создают в произведении особый портрет культуры, в рамках которого разворачивается основной сюжет (Успенский 1994). Фоновое знание о типе культуры может передаваться и при помощи неискреннего дискурса в форме реминисценций. При анализе неискреннего дискурса можно наблюдать противопоставление двух типов поведения личности - правильного и неправильного с точки зрения норм культуры. Так, в следующем примере личность, относящаяся к старой культуре (Marcus Darnley), разоблачается представительницей новой культуры (Mrs Hushabye). Mrs Hushabye (echoing the music). Marcus Darnley! What a splendid name! Ellie. Oh, I'm so glad you think so. I think so too; but I was afraid it was only a silly fancy of my own. Mrs Hushabye. Hm! Is he one of the Aberdeen Darnleys? Ellie. Nobody knows. Just fancy! He was found in an antique chest — Mrs Hushabye. A what? Ellie. An antique chest, one summer morning in a rose garden, after a night of the most terrible thunderstorm. Mrs Hushabye. What on earth was he doing in the chest? Did he get into it because he was afraid of the lightning? Ellie. Oh no, no: he was a baby. The name Marcus Darnley was embroidered on his baby-clothes. And five hundred pounds in gold. Mrs Hushabye (looking hard at her). Ellie! Ellie. The garden of the Viscount — 145 Mrs Hushabye. — de Rougemont? Ellie (innocently). No: de Larochejaquelin. A French family. A vicomte. His life has been one long romance. A tiger — Mrs Hushabye. Slain by his own hand? Ellie. Oh no: nothing vulgar like that. He saved the life of the tiger from a hunting party: one of King Edward's hunting parties in India. The King was furious: that was why he never had his military services properly recognized. But he doesn't care. He is a Socialist and despises rank, and has been in three revolutions fighting on the barricades. Mrs Hushabye. How can you sit there telling me such lies? You, Ellie, of all people! (Shaw - 1, p. 157). Для рассматриваемой культурной среды рассказ о таинственном благородном происхождении стал настолько стереотипным, что почти утратил связь с корпусом текстов-источников и превратился в расхожий сюжет, преднамеренно используемый мужчиной для обмана женщины. Для осуществления своих неречевых целей, неискренний собеседник (Marcus Darnley) прибегает к этому сюжету, то есть рассказывает о своем таинственном благородном происхождении при помощи готового набора клишированных высказываний, закрепленных в его памяти. Этот рассказ, вне сомнения, может быть назван реминисценцией о том корпусе стереотипных и часто повторяющихся дискурсов, которые послужили его информативной базой. Со временем старое знание, представленное в форме сценариевреминисценций, начинает подвергаться критике носителями новой культуры. Это свидетельствует о том, что данные сценарии скоро выйдут из употребления. Однако старые сценарии не сразу отвергаются всеми общающимися, некоторые люди продолжают в них верить. Например: ... she did not talk of him, but prattled on about the ship in which Jim was going to sail, about the gold he was certain to find, about the wonderful heiress whose life he was to save from the wicked, red-shirted bushrangers. For he was not to remain a sailor, or a super-cargo, or whatever he was going to be. Oh, no! A sailor's existence was dreadful. Fancy being cooped up in a horrid ship, with the hoarse, hump-backed waves trying to get in, and a black wind blowing the masts down, and tearing the sails into long screaming ribands! He was to leave the vessel at Melbourne, bid a polite good-bye to the captain, and go off at once to the gold-fields. Before a 146 week was over he was to come across a large nugget of pure gold, the largest nugget that had ever been discovered, and bring it down to the coast in a wagon guarded by six mounted policemen. The bushrangers were to attack them three times, and be defeated with immense slaughter. Or, no. He was not to go to the gold-fields at all. They were horrid places, where men got intoxicated, and shot each other in bar-rooms, and used bad language. He was to be a nice sheep-farmer, and one evening, as he was riding home, he was to see the beautiful heiress being carried off by a robber on a black horse, and give chase, and rescue her. Of course she would fall in love with him, and he with her, and they would get married, and come home, and live in an immense house in London. Yes, there were delightful things in store for him (Wilde - 2, pp. 67 -68). В этом примере реминисценции-дайджесты передают фоновые знания о характерных сторонах жизни той культурной общности, к которой принадлежат героиня и ее брат. Эти знания являются общим достоянием всех носителей данной культуры. По своему содержанию они представляют собой списки действий, которые ведут либо к успеху, либо к неудаче. Специфика культурного фона - его изменчивость. В связи с этим происходят постоянные изменения в прагматическом статусе действий, входящих в сценарии. Действия, считавшиеся идеальными, могут со временем отвергаться, что и происходит в примере. Героиня пытается представить себе будущее своего брата, нанявшегося матросом на корабль, идущий в дальнее плавание. Воспринимая будущую жизнь брата прекрасной, она рисует ее в совершенных формах. Однако созданный при помощи текстовой реминисценции идеал каждый раз отвергается путем анализа отрицательных сторон связанной с ним жизни. Идеал исчезает, когда героиня анализирует несоответствие двух типов дайджестов, передающих, соответственно, истинную и ложную информацию. Однако в конечном итоге происходит эмоциональное переосмысление действительности в пользу ложности, что свидетельствует о том, что героиня воспринимает ложные пропозиции как истинные. Несмотря на то, что в реминисценциях-дайджестах можно найти ряд общих черт с пародией (таких как стилистическая вторичность, имитационный характер, комическое описание другого произведения), их нельзя отнести к пародии в чистом виде. Пародия не имеет прочных внутренних связей со структурой другого произведения, в то 147 время как дискурсивная реминисценция становится неотъемлемой частью характеризации говорящего и окружающей его культурной среды. Неискренний дискурс в форме реминисценций-дайджестов позволяет еще раз говорить о прагматической семантике как о семантике выбора и интерпретации. Неискренний говорящий выбирает дайджесты в зависимости от своей личности. Хотя реминисценции носят интертекстуальный характер и отражают некое обобщенное клишированное сознание, их конкретный выбор и употребление сугубо индивидуальны. Прагматическая интерпретация неискреннего дискурса в форме реминисценций-дайджестов является актуальной научной проблемой ввиду того, что данный вид реминисценций находится на грани индивидуального и социального в использовании языка и отражает важный аспект взаимодействия языковой и неязыковой деятельности. В дайджестах проявляются глубинные когнитивные механизмы языковой личности, которые, в свою очередь, базируются еще глубже — в самом человеческом познании и культуре. 6. Неискренний дискурс и фактор адресата В процессе общения представление знаний в форме неискреннего дискурса во многом становится возможным благодаря фактору адресата. В нормальной речевой обстановке параметры говорящего и фактор адресата согласованы между собой, обеспечивая тем самым правильное ведение коммуникации (Арутюнова 1981, 358). По нашим наблюдениям, успешное использование неискреннего дискурса становится возможным благодаря тому, что неискренний собеседник старается соблюдать внешние признаки нормального общения, при которых не должно происходить (на поверхностном уровне) рассогласование параметров собеседников. Под углом зрения говорящего кажущаяся достоверность передаваемого знания принимается как некая идеальная основа общения, в то время как умышленное выражение ложных пропозиций тщательно скрывается. Рассмотрение неискреннего дискурса под углом зрения его восприятия наводит на мысль о том, что для данного вида дискурса существуют две основные модели адресата - адресат, не осознающий 148 неискренность собеседника, и адресат, осознающий неискренность собеседника. В первом случае у адресата отсутствует знание об адекватной картине мира, поэтому он слепо следует за неискренним собеседником, ―сотрудничает‖ с ним, позволяя обманывать себя. Все уже приведенные в данной работе примеры репрезентируют именно первую модель адресата. В рамках этой модели неискренний участник играет активную роль, представляя неизвестное собеседнику знание в трансформированном, искаженном виде. То, что люди позволяют сообщать себе ложную информацию, по-видимому, связано с коммуникативной ценностью представляемого знания. Чтобы ложь была принята за истину, необходимо, чтобы знание соответствовало ожиданиям адресата. Вторая модель адресата представляет такого участника, который адекватно воспринимает неискренность собеседника, оставляя за собой право выбора соответствующего приема реагирования. В принципе, такой адресат свободен в своих речевых реакциях, и их варьирование зависит от преследуемых им в данный момент неречевых целей. Следует подчеркнуть, что термин адресат подчеркивает сознательную направленность речевого высказывания к лицу, которое может быть определенным образом охарактеризовано. Категория адресата сложнее и шире, чем дихотомия говорящий/слушающий, пишущий/читающий. Адресатом может быть как говорящий - зачинщик, так и говорящий - ответчик. В связи с этим адресатом считается тот участник, который, в принципе, свободен в выборе вектора реагирования (Арутюнова 1981, 359). Рассмотрим, что происходит с неискренним дискурсом под давлением фактора адресата. Как уже указывалось, в случае успешного осуществления дискурсивной стратегии неискренности функция адресата сводится к контролируемому восприятию и сотрудничеству в развитии предложенных тем. Для неискреннего участника модель неконфликтного, легко поддающегося влиянию адресата является предпочтительной, и именно эта модель в большинстве случаев прогнозируется в момент порождения неискреннего дискурса. Однако не всегда неискреннее общение протекает гладко, и адресат может прибегнуть к нетипичным (с точки зрения неискреннего 149 участника) способам реагирования. Обратимся к анализу активного реагирования, носящего оборонительный характер. Рассмотрим пример, в котором адресат обвиняет неискреннего собеседника в намеренном искажении истины, указывая, что состояние мира иное, чем это выражено. Речь идет о том, что, предложив тост в честь женщины, мужчина услышал от своего собеседника неправду относительно ее поведения, которую немедленно опроверг: It now came to the turn of Mr. Jones to give a toast, as it is called; who could not refrain from mentioning his dear Sophia ... Ensign Northerton declared he would not drink her health in the same round with his own toast, unless somebody would vouch for her. ―I knew one Sophy Western,‖ says he, ―that was lain with by half the young fellows at Bath; and perhaps this is the same woman.‖ Jones very solemnly assured him of the contrary, asserting that the young lady he named was one of great fashion and fortune. ―Ay, ay,‖ says the ensign, ―and so she is: d-n me, it is the same woman; and I‘ll hold half a dozen of burgundy Tom French, of our regiment, brings her into company with us at any tavern in Bridges Street.‖ He then proceeded to describe her person exactly (for he had seen her with her aunt), and concluded with saying ―that her father had a great estate in Somersetshire.‖ ... To say the truth, having seen but little of this kind of wit, he did not really understand it, and for a long time imagined Mr. Northerton had really mistaken his charmer for some other. But now, turning to the ensign with a stern aspect, he said, ―Pray, sir, choose some other subject for your wit; for I promise you I will bear no jesting with this lady‘s character.‖ ―Jesting!‖ cries the other, ―d-n me if ever I was more in earnest in my life. Tom French, of our regiment, had both her and her aunt at Bath.‖ ―Then I must tell you in earnest,‖ cries Jones, ―that you are one of the most impudent rascals upon earth.‖... Northerton was very importunate with the lieutenant for his liberty ... ―Zounds!‖, says he, ―I was but in jest with the fellow. I never heard any harm of Miss Western in my life.‖ ―Have not you?‖ said the lieutenant; ―then you richly deserve to be hanged, as well for making such jests, as for using such a weapon: you are my prisoner, sir; nor shall you stir from hence till a proper guard comes to secure you‖ (Fielding, pp. 35 - 36). Данный пример демонстрирует, что ввиду того, что за ситуацией общения стоит сложная система межличностных и социальных отношений, утверждение или отрицание пропозиций не может быть пол- 150 ностью произвольным делом. Общение допускает манипулирование истиной только при условии неконтрадикторности при выражении пропозиций. Если же в процессе коммуникации происходит борьба между утверждением и отрицанием одной и той же пропозиции, то имеет место процесс верификации, ведущий к установлению истины. Становится очевидным, что в условиях неискреннего дискурса прагматическая интерпретация хода общения приобретает особую значимость. Принятие или отторжение навязываемой ложной пропозиции напрямую связано не только с запасом знаний адресата, но и с тем, как адресат пользуется своими знаниями непосредственно на каждой стадии коммуникации. В данном случае адресат, владея необходимым знанием, начинает играть роль арбитра, оценивающего речевые действия собеседника как нежелательные. По замечанию В. З. Демьянкова, наличие арбитра объясняет, почему избегается заведомая ложь. Это происходит потому, что именно арбитр может санкционировать неполную искренность и некооперативность общения (Демьянков 1981, 371). Что касается нашего примера, то в нем адресатарбитр не санкционирует клевету, а, наоборот, подвергает предъявляемые ложные утверждения немедленной верификации, пытаясь вернуть трансформированную картину мира в ее прежнее состояние. Интересно, что клеветник несет перед собеседниками наказание - его подвергают аресту. Подобное изменение физического мира, идущее непосредственно за соответствующими вербальными действиями, еще раз подтверждает, что факты социальной действительности не являются жестко заданными и вытекают из непосредственного взаимодействия людей, в том числе и речевого. Впрочем, решение о верификации принимается не во всех случаях, когда адресат обладает нужными для этого знаниями. Иногда даже владея истинным знанием, адресат не заинтересован в верификации и предпочитает не прерывать общение с неискренним собеседником, позволяя ему обманывать себя. Так, в нижеследующем примере, собеседник разорившегося купца, зная о его полном банкротстве, не верифицирует заверения купца о том, что бизнес процветает и что его семья продолжает быть принятой в обществе: ―I am very glad to see you, Captain Dobbin, sir. ... How is the worthy alderman, and my lady, your excellent mother, sir?‖ He looked round at the waiter as he said, ―My lady‖, as much as to say, ―Hark ye, John, I have 151 friends still, and persons of rank and reputation, too.‖ ―Are you come to do anything in my way, sir? My young friends Dale and Spiggot do all my business for me now, until my new offices are ready; for I‘m here only temporarily, you know, Captain. What can we do for you, sir? Will you like to take anything?» Dobbin, with a great deal of hesitation and stuttering, protested that he was not in the least hungry or thirsty; that he had no business to transact; that he only came to ask if Mr. Sedley was well, and to shake hands with an old friend; and, he added, with a desperate perversion of truth, ―My mother is very well - that is, she‘s been very unwell, and is only waiting for the first fine day to go out and call upon Mrs. Sedley. How is Mrs. Sedley, sir? I hope, she is quite well.‖ And here he paused, reflecting on his own consummate hypocrisy; for the day was as fine and the sunshine as bright as it ever is in Coffin Court where the Tapioca Coffee-house is situated; and Mr. Dobbin remembered that he had seen Mrs. Sedley himself only an hour before (Thackeray, p. 230). Представление знаний происходит здесь одновременно с интерпретацией характера собеседников. Подтверждается мысль о том, что при общении люди опираются не только на рациональный компонент, но они также следуют принципу так называемой эмоциональноаффективной коннекции. Ее смысл формулируется следующим образом: ―я хочу общаться с вами на основе общих моральных представлений о ценностях‖ (Сухих 1989, 85). Понимая, что его собеседник говорит неискренне, Добин все же не исправляет его ввиду того, что сам контакт, само общение приобретает здесь первостепенную важность. Восстановление трансформированной картины мира становится нерелевантным; на первый план выдвигается ориентированность на собеседника, учет его коммуникативных интересов. Важно то, что желание поддержать контакт с неискренним говорящим ведет к тому, что его собеседник тоже становится неискренним. По-видимому, имеет место определенное давление трансформированной картины мира на процесс выбора ложных пропозиций, даже если адресат понимает, что его обманывают. Если бы Добин предпочел вообще не разговаривать с купцом, прибегнув к тактике умолчания, то каждый из них остался бы в рамках своей картины мира. Однако, начав разговор, Добин поневоле оказался втянутым в пределы искаженной картины мира и к своему ужасу даже стал развивать ее, 152 говоря очевидные нелепицы. По-видимому, следует согласиться с несколько парадоксальной мыслью о том, что в некоторых случаях ―эффективность общения - только видимость, на самом же деле каждый остается в своем внутреннем мире, и интерпретируются не очередные ходы партнера, а только языковые выражения, понимаемые на фоне ―мысленных‖ ходов, предсказуемых внутри этих внутренних миров‖ (Демьянков 1981, 372). Именно за счет формального зацепления за языковые выражения и происходит переход адресата в рамки неискренности. Купец, стремясь поддержать общение, справляется о матери Добина (How is the worthy alderman, and my lady, your excellent mother, sir?). Отвечая на этот вопрос, Добин выражает сразу две ложные пропозиции - о том, что его мать больна, и о том, что она приедет навестить семью купца в первый же погожий день. Ввиду того, что в данный момент ярко светит солнце, эта ложь приобретает характер иррациональности; она граничит с абсурдом. По-видимому, вовлеченность в тот или иной вид дискурса, связанная с осуществлением той или иной дискурсивной стратегии, может носить не только осознанный характер, но и быть неосознанной, особенно тогда, когда мы имеем дело с адресатом, принимающим навязанный ему ход общения. Будучи принята в качестве ответного хода, неискренность адресата может быть закреплена в его общении с данным собеседником, в результате чего возникает взаимная неискренность. Так, в нижеследующем примере жена, зная о неверности мужа, не только не подвергает его неискренний дискурс верификации, но и отвечает взаимной неискренностью: Sidney talked for the same reason as the hunted sepia squirts ink, to conceal his movements. Behind the ink-cloud of the Ancient Indians he hoped to go jaunting up to town unobserved. Poor Sidney! He thought himself so Machiavellian. But his ink was transparent, his cunning like a child‘s. ―Couldn‘t you get the books sent down from the London Library?‖ Mrs Quarles rather pointedly asked. Sidney shook his head. ―They‘re the sort of books,‖ he said importantly, ―that are only in the Museum.‖ 153 Rachel sighed and could only hope that the woman could be trusted to look after herself well enough to keep out of serious trouble and so well as to want to make mischief. ―I think I shall run up to town with you to-morrow,‖ he announced on the morning before Philip and Elinor took their leave. ―Again?‖ asked Mrs Quarles. ―There‘s a point about those wretched Indians,‖ he explained, ―that I ryahly must clyahr up. I think I may find it in Pramathanatha Banerjea‘s book. Or it may be dealt with by Radakhumud Mookerji.‖ He rolled out the names impressively, professionally. ―It‘s about local government in Maurya times. So democratic, you know, in spite of the central despotism. For example...‖ Through the ink-cloud Mrs Quarles caught glimpses of a female figure (Huxley, pp. 266 - 267). Как известно, чем дольше происходит общение, тем все менее неопределенными становятся для людей высказывания партнеров (Демьянков 1981, 372). Ввиду постоянного общения неискренность мужа становится для жены очевидной, однако она не верифицирует ее, а принимает навязываемый тип общения. В когнитивных терминах можно сказать, что жена делает вид, что принимает навязываемое ей знание. В лингвистическом плане это проявляется в том, что она позволяет мужу производить описание действий в рамках создаваемой им картины мира, не прерывая его, как это происходит в случае верификации. Муж детально развивает тему своего увлечения древними индейскими племенами, прибегая к многочисленным псевдонаучным наименованиям, и, хотя жена знает, что он лжет, она не опровергает ложные пропозиции. Более того, жена поддерживает конструируемую мужем картину мира путем информационных вопросов о ней. Например, она развивает тему о мнимых поездках мужа в библиотеку, делая соответствующий информационный запрос (―Couldn‘t you get the books sent down from the London Library?‖ Mrs Quarles rather pointedly asked). Фактом постановки вопроса имплицируется принятие картины мира, ведь несомненно, что, если человек задает вопрос, то это значит, что он принимает его пресуппозиции, то есть признает лежащие в его основе фоновые знания. Тем самым знание собеседников становится общим и взаимодополняющим. Адресат признает предъявленное знание самим фактом доступа к нему. 154 Интересно отметить, что в случае взаимной неискренности происходит развитие лишь одной трансформированной картины мира. Так, в нашем примере жена не выступает в роли оппонента, развивающего другую картину мира, и оба собеседника оказываются в рамках одной и той же картины мира, а именно той, которую создает муж. Таким образом, при взаимной неискренности дискурс адресата строится с ориентацией на коммуникативные потребности адресанта. Не вызывает сомнения, что неискренность не замкнута на неискренней языковой личности и имеет четко выраженную ориентацию на адресата. Анализ представления знаний с позиций адресата показывает, что существуют разные типы отношений между неискренним говорящим и его непосредственным собеседником. В большинстве случаев неискренний участник представляет собой языковую личность авторитарного типа, пользующуюся знанием, неизвестным адресату. Если же в условиях неискреннего дискурса собеседники обладают общим знанием, то адресат стоит перед необходимостью выбора адекватного способа реагирования на неискренность. Адресат может подвергнуть неискренность верификации, однако он также может предпочесть уклониться от верификации. Уклонение от верификации происходит в тех случаях, когда для адресата самой важной функцией в его общении с собеседником становится функция установления и поддержания бесконфликтного взаимодействия. 155 ГЛАВА 4. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕИСКРЕННЕГО ДИСКУРСА 1. Особенности референции при выражении неискренности 1.1. Фокусирование центрального референта Под референцией понимается отнесение языковых выражений к внеязыковым объектам (референтам, денотатам, номинатам, десигнатам) и, шире, соединение мысли и реальности посредством языка (Арутюнова 1982, 5). По нашим наблюдениям, неискренний дискурс характеризуется специфическими особенностями референции, а именно: механизмом, известном в лингвистике как фокусирование референта. Понятие фокусирования восходит к предложенному Т. ван Дейком понятию фокуса, под которым понимается акт выбора объекта для ―специальной обработки вниманием‖. В этом отношении объект, находящийся в фокусе, выделяется из множества других объектов, образующих его окружение (environment), или периферию (fringe) (Дейк 1978, 315). Особо разъясняется, что понятие фокуса должно быть локализовано на уровне референции. Сам факт произнесения слова или словосочетания помещает их в фокус, и, следовательно, фокус не является ни морфологическим, ни синтаксическим явлением, а относится к словоупотреблению (Дейк 1978, 317). Неискреннему дискурсу свойственно фокусирование как осознанный выбор и актуализация в лингвистическом сознании говорящего, как правило, одного, центрального референта и его языковая обработка, заключающаяся в приписывании этому референту некоторых свойств и отношений. Таким образом, понятие фокуса неискреннего дискурса включает в себя измерение значимости центрального референта, выраженное лингвистическими средствами. Неискренний дискурс характеризуется описанными в литературе механизмами входа и выхода факторов фокусирования, то есть особыми структурно-семантическими параметрами предтекста высказывания и квалификации референта по фокусной выделенности (Кибрик 1987, 81). При этом неискренний говорящий стремится поместить в фокус дискурса такой референт, который будет принят и поддержан адресатом. Если же возникает референциальный кон- 156 фликт, то неискренний участник активно устраняет ненужные ему объекты рассмотрения и настойчиво возвращается к фокусированному референту. Из выделяемых в лингвистических работах типов референции неискреннему дискурсу в наибольшей степени свойственны конкретная и абстрактная референция. Конкретная референция связана, в основном, с такой категорией осмысления мира, как существование; абстрактная референция больше связана с такой категорией, как тождество (Арутюнова 1982, 6). Рассмотрим языковые выражения, присущие этим двум типам референции в условиях неискреннего дискурса. 1.2. Конкретная референция Конкретная референция, как правило, основана на номинации известного адресату объекта. Конкретная референция может быть прямой, когда объект непосредственно присутствует в ситуации общения. При этом значение именного выражения подкрепляется указанием на объект. В случае неискренности наблюдаемый объект получает от говорящего неправильное наименование. Так, в следующем примере женщина и мужчина покупают щенка, и при этом продавец проявляет свою неискренность, неправильно называя его породу и пол. ―What kind are they?‖ asked Mrs Wilson eagerly, as he came to the taxi-window. ―All kinds. What kind do you want, lady?‖ ―I‘d like to get one of those police dogs; I don‘t suppose you got that kind?‖ The man peered doubtfully into the basket, plunged in his hand and drew one up, wriggling, by the back of the neck. ―That‘s no police dog,‖ said Tom. ―No, it‘s not exactly a police dog,‖ said the man with disappointment in his voice. ―It‘s more of an Airedale.‖ He passed his hand over the brown washrag of a back. ―Look at that coat. Some coat. That‘s a dog that‘ll never bother you with catching cold.‖ ―I think it‘s cute,‖ said Mrs Wilson enthusiastically. ―How much is it?‖ 157 ―That dog?‖ He looked at it admiringly. ―That dog will cost you ten dollars.‖ The Airedale - undoubtedly there was an Airedale concerned in it somewhere, though its feet were startlingly white - changed hands and settled down into Mrs Wilson‘s lap, where she fondled the weather-proof coat with rapture. ―Is it a boy or a girl?‖ she asked delicately. ―That dog? That dog‘s a boy.‖ ―It‘s a bitch,‖ said Tom decisively. ―Here‘s your money. Go and buy ten more dogs with it‖ (Fitzgerald - 1, p. 30). Неискренность базируется здесь на неправильном именовании объекта посредством соответствующего использования механизмов номинации. Выбранное по отношению к объекту референтное выражение (police dog), будучи отвергнуто адресатом (―That‘s no police dog,‖ said Tom), заменяется неискренним собеседником на другое (―No, it‘s not exactly a police dog ... It‘s more of an Airedale). Для закрепления этой номинации используются именные выражения, указывающие на партитивные признаки объекта, способные закрепить его принадлежность к данному классу (Look at that coat. Some coat. That‘s a dog that‘ll never bother you with catching cold). Адресат, соглашаясь в какой-то мере с произведенной референцией, все же отмечает некоторые противоречащие ей признаки (The Airedale - undoubtedly there was an Airedale concerned in it somewhere, though its feet were startlingly white). В процессе верификации происходит также переименование объекта по принципу пола (―That dog? That dog‘s a boy.‖ — ―It‘s a bitch,‖ said Tom decisively). В сфере конкретной референции неискренний говорящий часто прибегает к добавлению референта, то есть присоединяет к имеющимся в действительности объектам другой, несуществующий объект, соответствующим образом номинируя его. Ср., как говорящий, родители которого на самом деле очень бедны, неискренне сообщает о том, что его отец содержит отель: He did not feel that he could admit the truth in connection with his family at all. So he announced that his father conducted a hotel in Denver not so very large, but still a hotel (Dreiser, p.354). Возможность произвольного добавления референтов, способствующая выражению неискренности, связана с отсутствием в фонде 158 знаний слушающего соответствующей информации. Если слушающий примет пресуппозицию существования объекта, то он примет и ложное знание. Если же слушающий сделает запрос по поводу полученного знания, в результате чего выяснится, что референт не существует, неискренность подвергнется верификации. Например: ―The hussy!‖ cried Athelny, with a dramatic wave of the hand. ―She taunts me with the notorious fact that Joseph, a son of Levi who sells jewels in Holborn, has made her an offer of marriage.‖ ―Have you accepted him, Sally?‖ asked Philip. ―Don‘t you know father better than that by this time? There‘s not a word of truth in it‖ (Maugham, p. 625). При выражении неискренности наблюдаются также случаи сужения экстенсионала референции, при которых общие признаки класса переносятся на несуществующий конкретный объект. Так, в разговоре по поводу нежелательной беременности своей подруги, в связи с чем срочно нужен врач, мужчина указывает собеседнику на несуществующего рабочего, который якобы обратился к нему с подобной проблемой в своей семье. Тем самым он сужает область референции от класса мужчин, имеющих подобную проблему, до несуществующего в реальности представителя этого класса: Oh, by the way, before I forget it. There‘s something I‘ve been wanting to ask you about. Maybe you can tell me what I want to know. One of the boys at the factory - a young fellow who hasn‘t been married very long - about four months now, I guess - is in a little trouble on account of his wife (Dreiser, p. 426). Неискренность может также базироваться на переносе внимания с одного конкретного референта на другой в рамках общей структуры референтной ситуации. Ср., как мужчина, приехавший к любовнице, фокусирует внимание ее мужа на референте ―your car‖, хотя на самом деле его интересует референт ―your wife‖: ―Hello, Wilson, old man,‖ said Tom, slapping him jovially on the shoulder. ―How‘s business?‖ ―I can‘t complain,‖ answered Wilson unconvincingly. ―When are you going to sell me that car?‖ ―Next week; I‘ve got my man working on it now.‖ ―Works pretty slow, don‘t he?‖ 159 ―No, he doesn‘t,‖ said Tom coldly. ―And if you feel that way about it, maybe I‘d better sell it somewhere else after all.‖ ―I don‘t mean that,‖ explained Wilson quickly. ―I just meant - ‖... Then I heard footsteps on a stairs, and in a moment the thickish figure of a woman blocked out the light from the office door... Then she wet her lips, and without turning around spoke to her husband in a soft, coarse voice: ―Get some chairs, why don‘t you, so somebody can sit down.‖ ―Oh, sure,‖ agreed Wilson hurriedly ... ―I want to see you,‖ said Tom intently. ―Get on the next train‖ (Fitzgerald -1, p. 28). Итак, при выражении неискренности использование конкретной референции направлено на введение в фокус внимания такого объекта, который либо отсутствует в реальной картине мира, либо является нерелевантным для истинных целей неискреннего собеседника. Конкретная референция связана с деятельностным аспектом коммуникации, так как с ее помощью неискренний говорящий пытается организовать предметную область деятельности адресата. В неискреннем дискурсе конкретная референция осуществляется, в основном, именами нарицательными и именными выражениями, выполняющими как денотативную функцию, то есть функцию обозначения, так и дескриптивную функцию, то есть функцию описания некоторых свойств и признаков объекта. 1.3. Абстрактная референция В случае абстрактной референции неискренний говорящий держит в фокусе внимания стабильно выделенный референт, обозначаемый, как правило, абстрактным существительным, и организует свой дискурс таким образом, чтобы в нем выражалось общепринятое значение данного существительного. В связи с тем, что общепринятое значение абстрактного существительного фиксируется на онтологическом уровне семантики, то есть в терминах абстрагированных отношений, существующих между фактами действительности, оно понятно всем членам данного языкового сообщества. По этой причине для идентификации соответствующего объекта совсем не обязательно употреблять указывающие на него референтные выражения. Так, В. 160 Кох анализирует высказывания ―Speech is silver, silence is gold‖ как восходящие к референту вербального поведения, который остается на уровне метадискурсивной темы (Кох 1978, 159). В большинстве случаев абстрактный референт восстанавливается из всего неискреннего дискурса. Ср., как в следующем примере происходит эксплицитное указание на референт ―love‖, который хотя и не номинируется соответствующим существительным, но легко ―вычисляется‖ из других кодирующих его языковых средств: When Rebecca saw the two magnificent Cashmere shawls which Joseph Sedley had brought home to his sister, she said, with perfect truth, ―that it must be delightful to have a brother,‖ and easily got the pity of the tender-hearted Amelia for being alone in the world, an orphan without friends or kindred. ―Not alone,‖ said Amelia; ―you know, Rebecca, I shall always be your friend, and love you as a sister - indeed I will.‖ ―Ah, but to have parents, as you have - kind, rich, affectionate parents, who give you everything you ask for; and their love, which is more precious than all! My poor papa could give me nothing, and I had but two frocks in all the world! And then, to have a brother, a dear brother! Oh, how you must love him!‖ Amelia laughed. ―What! Don’t you love him? You, who say you love everybody?‖ ―Yes, of course, I do - only -‖ ―Only what?‖ ―Only Joseph doesn‘t seem to care much whether I love him or not ...‖ ―Isn‘t he very rich?‖ said Rebecca. ―They say all Indian nabobs are enormously rich.‖ ―I believe he has a very large income.‖ ―And is your sister-in-law a nice pretty woman?‖ ―La! Joseph is not married,‖ said Amelia, laughing again... She was quite disappointed that Mr. Sedley was not married; she was sure Amelia had said he was, and she doted so on little children. ―I think you must have had enough of them at Chiswick,‖ said Amelia, rather wondering at the sudden tenderness on her friend‘s part; and indeed in later days Miss Sharp would never have committed herself so far as to advance opinions, the untruth of which would have been so easily de- 161 tected. But we must remember that she is but nineteen as yet, unused to the art of deceiving (Thackeray, pp. 28 - 29). Неискренний говорящий поддерживает здесь референцию к абстрактной сущности ―love‖, пытаясь навязать собеседнику общепринятое значение этого слова, при этом сохраняя для себя другое значение - значение говорящего. Хотя слово love и синонимичные ему слова, например, слово dote, используются в предикатных термах, их употребление уходит из функции предиката в функцию объекта, лежащего за всеми высказываниями, входящими в неискренний дискурс. Это соответствует положению о том, что аспектизация и событийная мотивировка превращают предикат в объект (Арутюнова 1982, 30). Более того, это согласуется с правилом, согласно которому, если сочетание предикатов подобрано должным образом, то существует только одна вещь, удовлетворяющая этому сочетанию (Вежбицкая 1982, 242). В данном примере из подбора предикатов со значением ―любить‖ возникает только один предмет, о котором идет речь - любовь Ребекки к семье Амелии, и именно на этом предмете фокусируется внимание в разговоре. Пользуясь образным выражением П. Стросона, можно сказать, что референтное выражение ―прячется‖ в предикатных термах (Стросон 1982, 126). Все средства номинации направлены на поддержание внешней точки зрения на действия Ребекки как соответствующие референту. Однако при верификации другой референт служит конкурентом ввиду того, что знания слушающего оказываются несовместимыми с общепринятым значением. Зная, как Ребекка на самом деле относится к детям, Амелия отвергает ее претензию на референт ―love‖ по отношению к ним, в то же время она оказывается не в состоянии воспринять подлинное, контекстуальное значение слова love, выражаемое неискренней Ребеккой по отношению к ее собственной семье. Итак, навязывая собеседнику общепринятое значение слова love, неискренний говорящий осуществляет для самого себя индивидуальную субъективную категоризацию, в которой отдается предпочтение отрицательной идентификации. В значении говорящего слово love тяготеет скорее к лексико-семантическим классам слов, выражающим зависть, недоброжелательность, стремление к богатству. Это подтверждает наблюдения над словом love, согласно которым его упо- 162 требление обнаруживает значительное варьирование в понимании говорящими того, что оно значит (Кульгавова 1995). Упомянутое выше положение о том, что за особо подобранным сочетанием предикатов может стоять единый референт, подтверждается тем фактом, что неискренний говорящий обычно осознает еще до начала порождения своего дискурса, какой именно абстрактный референт будет обозначен. Как явствует из предыдущего примера, Ребекка, наверняка, заранее продумала, что ей нужно выражать любовь. Точно так же в следующем примере говорящий осознает, что он должен неискренне выражать радость, вступая в разговор с вызывающей у него антипатию женщиной: ―Dear Mrs Betterton!‖ he exclaimed. ―This is delightful.‖ But he disguised his repugnance very badly (Huxley, p. 52). В терминах теории референции говорящий стремится представить абстрактную сущность ―радость‖ в виде сквозного референта, с которым должны соотноситься все его высказывания. Вначале говорящему трудно перестроиться с искренности на неискренность, поэтому первое высказывание не вполне адекватно выбранному референту. Однако сумев сфокусировать внимание на референте, говорящий продолжает разговор в нужном ему русле. Особенность абстрактной референции состоит в том, что абстрактные общности находятся как бы за гранью чисто индивидуального опыта познания мира. Обобщенные наблюдения находят отражение в общепринятых значениях абстрактных имен. Оперируя таким именем и шире - концептом, - неискренний говорящий прибегает к процедуре, известной в теории референции как цитирование. Утверждается, что все референтно непрозрачные контексты можно свести к контексту цитирования типа ―говорит, что...‖, ―считает, что...‖, ―... назвали так‖ и т.п. (Куайн 1982, 90). Другими словами, обращаясь к абстрактной сущности, говорящий как бы цитирует массу других подобных контекстов, и подобная цитация означает, что выражение употреблено референтно (Вежбицкая 1982, 240). Ср., как происходит референция к абстрактной сущности ―страх‖ благодаря механизму цитирования. Неискренность проявляется в том, что выражение страха путем цитирования соответствующих языковых средств предназначено для слушающего, для себя же говорящий выражает прямо противоположное значение: 163 I started as if I had been frightened. ―Sir,‖ says I, ―what do you mean? What, to marry in an inn, and at night too!‖ ―Madam,‖ says the minister, ―if you will have it be in the church, you shall; but I assure you your marriage will be as firm here as in the church; we are not tied by the canons to marry nowhere but in the church; and as for the time of the day, it does not at all weigh in this case, our princes are married in their chambers, and at eight or ten o‘clock at night.‖ It was a great while before I could be persuaded, and pretended not to be willing at all to be married but in the church. But it was all grimace (Defoe, p. 157). Следует подчеркнуть, что мы имеем дело именно с референтным употреблением, то есть с таким, для которого не столько важна связь между субъектом и предикатом, сколько дескриптивная функция имени, достигаемая при помощи цитирования. Благодаря использованию принятых в подобных контекстах языковых средств неискренний говорящий вводит в фокус нужный абстрактный референт, в связи с которым и делается все сообщение. При абстрактной референции могут иметь место случаи так называемой логической инстанциации (перехода от общего к частному) (Куайн 1982, 93). Ср., как в следующем примере неискренний говорящий употребляет слово с неопределенным абстрактным значением - местоимение nothing. В процессе верификации его содержательные границы сужаются до частного случая (nothing - completely finished): ―I should think you have something to say! Have you been to the club?‖ He nodded and waved an impatient hand. ―That was nothing,‖ he muttered. ―No, but if you must pretend you have to work late‖... ―Well, I wasn‘t, Pongo,‖ he said quietly. ―I was quite serious. No, listen. We‘re absolutely done - I mean the firm, Twigg and Dersingham completely finished‖ (Priestley -1, p. 443). В неискреннем дискурсе вводится противопоставление между утверждаемым значением и предполагаемым у слушающего. Не сумев удачно подобрать такие языковые выражения, которые бы вызвали у слушающего веру в то, что выражается общепринятое значение слова nothing, говорящий вынужден сообщить истинное знание. 164 Хотя референциальный аспект речевой коммуникации имеет много параметров, для анализа неискреннего дискурса особую важность играет то, что говорящий, как правило, выделяет, или фокусирует тот или иной референт. Основная особенность референции в условиях неискреннего дискурса состоит в том, что в фонд знаний собеседника вводится объект, неадекватно представленный относительно реальной картины мира. Неправильная референция верифицируется в том случае, если слушающий восстанавливает и соответствующим образом номинирует исходный референт, замененный при выражении неискренности. 2. Тема-рематическая организация дискурса при выражении неискренности 2.1. Способы представления темы Понятие коммуникативного динамизма, выдвинутое впервые в трудах чехословацких ученых и развитое в многочисленных научных публикациях, предполагает, что движение от темы к реме базируется на переходе от данного к новому, или от старой информации к новой. Как гласит одно из определений, ―данная (или старая) информация это то знание, которое, по предположению говорящего, находится в сознании слушающего в момент произнесения высказывания. Так называемая новая информация - это то, что, по предположению говорящего, он вносит своим высказыванием в сознание слушающего‖ (Чейф 1982, 281). Понятия данного и нового, являющиеся, по мнению многих исследователей, скорее психологическими, чем лингвистическими, часто заменяются на понятия темы (топика) и комментария, определяемые, соответственно, как предмет обсуждения и то, что говорится о данном предмете. Ср. одно из подобных определений темы: ―Собеседники перестают разговаривать на тему ―деньги‖ и переходят к теме ―секс‖. Благодаря тому, что фрагмент дискурса посвящен обсуждению той или иной темы, его можно вычленить из беседы как отдельную единицу. Понятие темы является унифицирующим принципом, делающим один отрезок дискурса сообщением об одном предмете, а следующий за ним отрезок - сообщением о другом предмете‖ (Brown, Yule 1983, 69 - 70). 165 Согласно современным взглядам, категории темы и ремы остаются базовыми при анализе как данного/нового, так и топика/комментария. В формальном плане непрерывное движение от темы к реме свидетельствует прежде всего о межфразовой связности определенных протяженных отрезков дискурса; эту связность можно доказать, выразив ее в общеструктурных терминах, таких, например, как начало - середина - конец того или иного фрагмента дискурса (Stubbs 1984, 9). В совокупности наблюдения над темой и ремой соответствуют точке зрения о том, что по мере развития дискурса некоторые элементы (темы, топики, данное) находятся в активном состоянии, то есть в процессе обсуждения; другие же элементы составляют развивающееся представление новой информации (ремы, комментарии, новое) (Лухьенбрурс 1996, 150). Тема дискурса в первую очередь зависит от лежащей в его основе референции. Когда ведут речь о темах отдельных предложений, плавно переходящих друг в друга в процессе развертывания дискурса, то имеют ввиду кореферентные языковые выражения, то есть отсылающие к одним и тем же референтам (Палек 1978). Коммуникативное сотрудничество говорящих в выражении темы признается в качестве необходимого условия для создания связности. Считается, что границы внутри дискурса, то есть переходы от одного законченного дискурсивного фрагмента к другому, обычно связаны с введением нового набора тем (Ochs, Schieffelin 1976; Clark, Wilkes 1990). В. Кох называет наличие единой темы первой аксиомой дискурсивного анализа, объясняя это тем, что предложения становятся контекстносвязанными, в основном, при помощи темы (Кох 1978, 149). Главное проявление категории темы состоит в том, что тема сообщается в более слабой и смягченной форме, чем рема. Тема произносится более низким тоном и с более слабым ударением, чем рема. Тема активно подвергается прономинализации (Кибрик 1987; Кормановская 1987). В английском языке определенность, свойственная теме, выражается на поверхностном уровне в явном виде - в виде определенного артикля. Статус определенности входит также в значение таких слов, как this, that. Собственные имена вводят тему уже по самому своему 166 статусу, поскольку они являются непосредственными наименованиями конкретных референтов (Чейф 1982). При выражении неискренности наблюдаются следующие особенности представления темы. Неискренний говорящий либо поддерживает обсуждаемую в данный момент тему, сотрудничая с другими участниками в ее развитии, либо меняет обсуждаемую тему, переводя разговор в новое русло, либо же уклоняется от темы, не вступая в разговор или прекращая его. Рассмотрим наиболее типичные примеры подобного взаимодействия. Сотрудничество в развитии темы имеет место в том случае, если в процессе общения неискренний говорящий участвует в обсуждении совместно принятой темы; при этом происходит повторение одного и того же наименования, либо употребляются его синонимы, либо происходит местоименно-анафорическая номинация. В следующем примере темой разговора служит личность неискреннего говорящего сбежавшего из тюрьмы преступника, который, чтобы скрыться от погони, стучится в дом фермера. Присутствующие начинают разговор, пытаясь понять, кто к ним пришел, и преступник вынужден участвовать в развитии данной темы: ―Walk in!‖ said the shepherd promptly... ―The rain is so heavy, friends, that I ask leave to come in and rest awhile.‖ ―To be sure, stranger,‖ said the shepherd. ―And faith, you‘ve been lucky in choosing your time, for we are having a bit of a fling for a glad cause - though, to be sure, a man could hardly wish that glad course to happen more than once a year.‖ ―Nor less,‖ spoke up a woman. ―For ‗tis best to get your family over and done with, as soon as you can, so as to be all the earlier out of the fag o‘t.‖ ―And what may be this glad cause?‖ asked the stranger. ―A birth and christening,‖ said the shepherd... ―Late to be traipsing athwart this coomb - hey?‖ said the engaged man of fifty. ―Late it is, master, as you say. - I‘ll take a seat in the chimney-corner, if you have nothing to urge against it, ma‘am; for I am a little moist on the side that was next the rain.‖... 167 ―Yes, I am rather cracked in the vamp,‖ he said freely, seeing that the eyes of the shepherd‘s wife fell upon his boots, ―and I am not well fitted either. I have had some rough times lately, and have been forced to pick up what I can get in the way of wearing, but I must find a suit better fit for working-days when I reach home.‖ ―One of hereabouts?‖ she inquired. ―Not quite that - further up the country.‖ ―I thought so. And so be I; and by your tongue you come from my neighbourhood.‖ ―But you would hardly have heard of me,‖ he said quickly. ―My time would be long before yours, ma‘am, you see.‖ This testimony to the youthfulness of his hostess had the effect of stopping her cross-examination (Hardy, p. 41). Тема-рематическое строение высказываний неискреннего говорящего образует единую структуру с тема-рематической организацией окружающего их дискурса. В связи с этим анализ представления темы при выражении неискренности следует проводить в рамках цельного дискурсивного фрагмента, содержащего начало общения с момента введения темы, тематическую прогрессию в ходе развертывания беседы и заключительную часть беседы, указывающую на завершение рассмотрения темы. Приведенный пример представляет собой один цельный темарематический блок, включающий в себя как неискренний дискурс сбежавшего преступника, так и искренний дискурс его собеседников. Пример показывает типичную особенность представления темы, а именно: наличие четко выраженной верхней границы, сигнализирующей о ее первом появлении в общении. Верхняя граница неискреннего дискурса служит начальной точкой отсчета для развития единой тематической прогрессии. Как отмечает М. Култхард, инициируемая кем-то тема, во-первых, должна носить характер новости (to be newsworthy) и, во-вторых, эта новость должна быть принята к обсуждению всеми участниками общения (Coulthard 1977, 75). В примере само появление странного незнакомца является новостью, которую собравшиеся готовы обсуждать. В связи с этим начинается сложный процесс порождения темы. Порождение темы осуществляется при помощи особых выражений, называемых указателями инициации темы (topic initial elicitors) 168 (Button, Casey 1986, 169). Такие языковые средства служат для сегментации дискурса, выполняя двоякую функцию. Во-первых, они могут указывать на то, что текущая тема рассматривается одним или всеми участниками как полностью разработанная и что ощущается необходимость перехода к новой теме. Во-вторых, они могут начинать дискурс с ―нуля‖, то есть с введения ранее не обсуждавшейся темы. В приведенном примере наблюдается второй из названных способов инициации темы - введение темы непосредственно в момент начала общения. Указатели инициации темы представляют собой группу высказываний, принадлежащих неискреннему собеседнику (The rain is so heavy, friends, that I ask leave to come in and rest awhile), хозяину дома (To be sure, stranger. And faith, you‘ve been lucky in choosing your time, for we are having ... a birth and christening) и присутствующей женщине (For ‗tis best to get your family over and done with). Функционирование указателей инициации темы направлено на актуализацию одного из упомянутых референтов в качестве темы. При этом референты конкурируют друг с другом. Сбежавший преступник предлагает в качестве будущей темы референт ―rain‖, и, хотя референт ―I‖ также вводится в его реплике, он, естественно, не хочет, чтобы присутствующие завели разговор о его личности. Однако референт ―rain‖ отвергается присутствующими. Фермер, в свою очередь, вводит референт ―stranger‖ и референтную ситуацию, относящуюся к своей собственной семье ―family: birth and christening‖. Присутствующие, конечно, не заинтересованы говорить о дождливой погоде или о семье фермера; они выбирают тему ―незнакомец‖. Признаком того, что тема принята к обсуждению, обычно является информационный запрос о ней (Coulthard 1977, 174). Именно это и происходит в примере, когда один из участников задает вопрос незнакомцу (Late to be traipsing athwart this coomb - hey?). Данное высказывание свидетельствует о том, что этап поиска темы закончен, тема выбрана, и далее начинается ее развитие. Сущность последовательной тематической прогрессии состоит в постепенном добавлении значений к основному тематическому элементу ―stranger‖. В основном, добавление значений идет по линии отношений дополнительности в описании внешности, акцента и возрас- 169 та (stranger — a little moist on the side — cracked in the vamp — not well fitted — one of hereabouts/further up the country — my time would be long before yours). Неопределенное значение слова stranger все более конкретизируется. Хотя говорящие и стремятся не совершить семантической ошибки и правильно раскрыть значение тематического слова, создавая его субъективную семантику по мере добавления дескрипций, все же им не удается ― выйти‖ на значение, которое бы помогло верифицировать неискренность. В связи с этим следует подчеркнуть важную роль добавления значений по мере развития тематической прогрессии для успешной верификации неискреннего дискурса. Перейдем к рассмотрению второго способа представления темы при выражении неискренности, когда неискренний собеседник производит смену обсуждаемой в данный момент темы. В следующем примере лидер политической партии предлагает известному ученому вступить в его организацию. По правилам хорошего тона ученый не может прервать разговор, поэтому он активно меняет тему: Everard Webley had got Lord Edward into a corner and was trying to persuade him to support the British Freemen. ―But I‘m not interested in politics‖, the old man protested. ―I‘m not interested in politics.‖ ... Obstinately, mulishly, he repeated the phrase, whatever Webley might say... Harassed, like a bear in a pit set upon by dogs, Lord Edward turned uneasily this way and that, pivoting his bent body from the loins. ―But I‘m not interested in pol...‖ He was too agitated to be able to finish the word. ―But even if you‘re not interested in politics,‖ Webley persuasively continued, ―you must be interested in your fortune, your position, the future of your family. Remember, all those things will go down in the general destruction.‖ ―Yes, but... No...‖ Lord Edward was growing desperate. ―I... I‘m not interested in money.‖... ―I‘m not interested in money,‖ he now repeated... ―But if not for your own sake,‖ Webley insisted, attacking from another quarter, ―for the sake of civilization, of progress.‖ Lord Edward started at the word. It touched a trigger, it released a flood of energy. ―Progress!‖ he echoed, and the tone of misery and embarrassment was exchanged for one of confidence. ―Progress! You politicians 170 are always talking about it. As though it were going to last. Indefinitely. More motors, more babies, more food, more advertising, more money, more everything, for ever. You ought to take a few lessons in my subject. Physical biology. Progress, indeed! What do you propose to do about phosphorus, for example?‖ His question was a personal accusation. ―But all this is entirely beside the point,‖ said Webley impatiently. ―On the contrary,‖ retorted Lord Edward, ―it‘s the only point.‖... ―But all this has nothing to do with me,‖ protested Webley. ―Then it ought to,‖ Lord Edward answered sternly. ―That‘s the problem with you politicians. You don‘t even think of the important things. Talking about progress and votes and Bolshevism and every year allowing a million tons of phosphorus pentoxide to run away into the sea.‖... ―But damn it all,‖ said Webley, half angry, half amused, ―your phosphorus can wait. This other danger‘s imminent. Do you want a political and social revolution?‖ ―Will it reduce the population and check production?‖ asked Lord Edward. ―Of course.‖ ―Then certainly I want a revolution.‖... ―Well, if that‘s your view...‖ began Webley; but Lord Edward interrupted him. ―The only result of your progress,‖ he said, ―will be that in a few generations there‘ll be a real revolution - a natural, cosmic revolution. You‘re upsetting the equilibrium. And in the end nature will restore it.‖... Webley shrugged his shoulders. ―Dotty old lunatic!‖ he said to himself, and aloud. ―Parallel straight lines never meet, Lord Edward. So I‘ll bid you good-night.‖ He took his leave (Huxley, pp. 61 - 64). В данном примере исходным моментом коммуникации является тема ―politics‖, которую лорд Эдвард отказывается развивать, используя для выражения отказа соответствующее метадискурсивное высказывание (But I‘m not interested in politics). Данное высказывание повторяется им несколько раз, что говорит об упорном стремлении уйти от развития темы. Однако для собеседника стремление вовлечь лорда Эдварда в политику является основной неречевой целью, тем, ради чего он вступает в общение. Он упорствует, инициируя смежные темы (But even if you‘re not interested in politics, you must be interested in your fortune, your position, the future of your family). Лорд Эдвард от- 171 вергает и эти темы, дважды повторяя очередное метадискурсивное высказывание (I‘m not interested in money). Собеседник в третий раз расширяет круг инициируемой им темы (But if not for your own sake, for the sake of civilization, of progress). Поняв, что уклониться от разговора невозможно, лорд Эдвард меняет тему ―politics‖ на тему ―progress‖. Это достигается посредством лексического повтора (... of progress — ―Progress!‖ he echoed). Таким образом, смена темы происходит посредством выбора наименования из состава указателей инициации темы, предложенных собеседником. В более общем плане можно сказать, что смена темы предполагает определенную расстыковку с предшествующей частью дискурса; вместе с тем полный разрыв невозможен, так как обработка дискурса неотделима от процедуры интерактивного вывода следствий, то есть соотнесения с информацией, содержащейся в предшествующем контексте. Как показывает анализ, смена темы становится возможной по мере того, как увеличивается степень данности (термин Лухьенбрурс 1996, 149). Возрастание степени данности связано с нанизыванием лексических средств, ожидаемых и легко предсказуемых в данной референтной ситуации: the British Freemen — politics — pol... — politics — fortune — position — family — money — money — civilization — progress. Одним из способов прерывания данной тематической прогрессии становится кореферентное зацепление за очередную тему (progress — progress), сопровождающееся развитием новой тематической прогрессии уже в рамках неискреннего дискурса: progress — physical biology — phosphorus — phosphorus pentoxide. Активность в представлении тем меняет коммуникативные роли участников общения. Из слушающего ученый превращается в говорящего, так как теперь именно он располагает информацией о рассматриваемых темах, и поэтому именно он будет контролировать концептуальную деятельность, протекающую в уме собеседника. Политик делает попытки указать, что смена тем произошла неправомерно и что разговор идет ―не о том‖, с чем ученый активно не соглашается (―But all this is entirely beside the point,‖ said Webley impatiently. — ―On the contrary,‖ retorted Lord Edward, ―it‘s the only point; ―But all this has nothing to do with me,‖ protested Webley — ―Then it ought to,‖ Lord Edward answered sternly). Не в состоянии верифицировать меха- 172 низм смены темы в целях выражения неискренности, политик интерпретирует произошедшее развитие дискурса как проявление аномального поведения (―Dotty old lunatic!‖ he said to himself). Итак, при смене темы неискренний говорящий субъективно определяет коммуникативно значимую информацию, образующую основу для последующего развертывания общения в нужном ему русле. Третий способ представления темы при выражении неискренности, а именно: уклонение от темы, состоит в игнорировании тематических элементов, упомянутых собеседником. В следующем примере неискренний участник просто молчит в ответ на последовательное введение темы: He stepped out into the glare. The man in the tarboosh was waiting. He pounced, he caught Philip by the sleeve. Desperately, he played his last trump. ―Nice post-cards,‖ he whispered confidentially and produced an envelope from his breast-pocket. ―Hot stuff. Only ten shillings.‖ Philip stared uncomprehending. ―No English,‖ he said and limped away along the street.. The man in the tarboosh hurried at his side. ―Tres curieuses,‖ he said. ―Tres amusantes. Moeurs arabes. Pour passer le temps a bord. Soixante francs seulement.‖ He saw no answering light of comprehension. ―Molto artistiche,‖ he suggested in Italian. ―Proprio curiose. Cinquanta franchi.‖ He peered in desperation into Philip‘s face; it was a blank. ―Hubsch,‖ he went on, ―sehr geschlechtlich. Zehn mark.‖ Not a muscle moved. ―Muy hermosas, muy agraciadas, mucho indecorosas.‖ He tried again. ―Skon bref kort. Liderlig fotografi bild. Nakna jungfrun. Verklig smutsig.‖ Philip was evidently no Scandinavian. Was he a Slav? ―Sprosny obraz,‖ the man wheedled. It was no good. Perhaps Portugese would do it. ―Photographia dishonista,‖ he began. Philip burst out laughing. ―Here,‖ he said, and gave him half a crown. ―You deserve it‖ (Huxley, p. 234). Тема ―nice post-cards‖ вводится здесь в момент встречи собеседников, когда уличный торговец предлагает английскому туристу купить неприличные открытки. Возникшее коммуникативное напряжение создает ожидание ремы и получает свое разрешение в репликереакции: ―No English,‖ he said. 173 Подобное проявление неискренности, очевидно, связано с осведомленностью туриста о том, что может произойти в случае вступления в общение с данным типом собеседника. Видимо, следует согласиться с теми исследователями категории темы, которые утверждают, что фоновое знание может быть данным (Чейф 1982, 286). В примере поиск связующей основы дискурса в виде зацепления за предложенную тему ее номинаций в самых разных языках происходит до тех пор, пока неискренний собеседник не верифицирует свою собственную неискренность. Тематические прогрессии предполагают присоединение новой темы к крайне правому члену прогрессии. В результате тема является важным средством связности дискурса. Если в процессе общения неискренний собеседник принимает текущую тему, общая связность не нарушается, и неискренний дискурс органично присоединяется к предыдущему фрагменту. Если же неискренний говорящий меняет тему или отказывается от общения, уклоняясь от темы, то в этом случае наблюдается разрушение текущей тематической прогрессии. 2.2. Рематическая доминанта в формировании смысла Отбор и комбинация лексических и грамматических средств, а также преимущественное употребление тех или иных синтаксических конструкций при выражении неискренности во многом определяются видом используемой рематической доминанты. Термин рематическая доминанта заимствуется из работы Г. А. Золотовой, которая понимает под ним движение мысли от предложения к предложению, фиксируемое определенным типом рем (Золотова 1979, 120). Взаимоотношение между типами коммуникативных задач и языковыми средствами их решения в актуальном членении предложения обозначается и другими терминами (см., например, Савосина 1998), однако термин рематическая доминанта представляется наиболее удачным. Среди выделяемых Г. А. Золотовой видов рематических доминант неискреннему дискурсу в наибольшей степени свойственны предметная, качественная, акциональная и импрессивная доминанты. Рассмотрим наиболее типичные приемы и архитектонические схемы движения рем внутри каждой из них. 174 Общей особенностью неискреннего дискурса с предметной рематической доминантой является то, что в нем логическое ударение несут слова, обозначающие предметы, находящиеся в определенном пространственном соположении и составляющие в своей совокупности единую картину той или иной области пространства - интерьера, пейзажа, обстановки, географического местоположения и т.п. При этом предметы, обозначения которых включены в состав рем, не соответствуют реальной картине мира, поэтому за предметной рематической доминантой, выраженной в неискреннем дискурсе, стоит воссоздаваемая в процессе верификации другая, подлинная доминанта. Например: Miss Wilkinson was dissatisfied with her lot. She resented having to earn her living and told Philip a long story of an uncle of her mother‘s, who had been expected to leave her a fortune but had married his cook and changed his will. She hinted at the luxury of her home and compared her life in Lincolnshire, with horses to ride and carriages to drive in, with the mean dependence of her present state. Philip was a little puzzled when he mentioned this afterwards to Aunt Louisa, and she told him that when she knew the Wilkinsons they had never had anything more than a pony and a dog-cart; Aunt Louisa had heard of the rich uncle, but as he was married and had children before Emily was born she could never have had much hope of inheriting his fortune (Maugham, p. 159). Неискренний говорящий создает предметную рематическую доминанту в описании роскошной обстановки своей прежней жизни. Движение смысла осуществляется путем нанизывания предметных рематических элементов: the luxury of her home — horses to ride — carriages to drive in. При верификации воссоздается подлинная доминанта: the Wilkinsons‘ home — a pony and a dog-cart. Глагольные элементы в дискурсе данного вида выполняют функцию своеобразных связочных средств между обозначениями предметов и реализуют, в основном, те значения, которые указывают на их локальные характеристики. Благодаря всей совокупности употребляемых средств отдельные предметы объединяются неискренним участником в единую законченную картину: an uncle of her mother‘s — had been expected to leave her a fortune — the luxury of her home — horses to ride — carriages to drive in — the uncle had married his cook and changed his will. Законченная картина создается также и в процес- 175 се верификации: the rich uncle was married and had children before Emily was born — the Wilkinsons‘ home — a pony and a dog-cart — no hope of inheriting the uncle‘s fortune. В следующем примере внутренняя речь следователя, замышляющего добавить недостающие улики к имеющейся картине преступления, иллюстрирует принцип движения мысли по типу предметной рематической доминанты: He found himself meditating on how easy it would be for him or any one to cut a finger and let it bleed on the rug or the side of the boat or the edge of the camera. Also, how easy to take from the head of Roberta two or three hairs and thread them between the sides of the camera, or about the row-lock to which her veil had been attached (Dreiser, p. 621). Отличительной чертой предметной рематической доминанты при выражении неискренности является передача статичного изображения, проявляющаяся в том, что несущие основную смысловую нагрузку элементы ремы акцентируют наличие объектов в пространстве. Смысл, передаваемый неискренним говорящим, состоит именно в том, чтобы констатировать наличие предметов, не существующих в реальности. Качественная рематическая доминанта при выражении неискренности представляет собой развертывание содержания путем выделения элементов, характеризующих качества предметов. Слова, составляющие ядро качественных рем, содержат в своем значении квалификативные семы. Ср., как в следующем примере мужчина, неискренне внушающий девушке надежду относительно замужества, превозносит в своих похвалах ее скромный дом: ―What!‖ he exclaimed, ―improve this dear cottage! No. That I will never consent to. Not a stone must be added to its walls, not an inch to its size, if my feelings are regarded.‖ ―Do not be alarmed,‖ said Miss Dashwood; ―nothing of the kind will be done; for my mother will never have money enough to attempt it.‖ ―I am heartily glad of it,‖ he cried. ―May she always be poor, if she can employ her riches no better!‖ ―Thank you, Willoughby... But are you really so attached to this place as to see no defect in it?‖ ―I am,‖ said he. ―To me it is faultless. Nay, more: I consider it as the only form of building in which happiness is attainable; and were I rich 176 enough I would instantly pull Combe down, and build it up again in the exact plan of this cottage.‖ ―With dark narrow stairs, and a kitchen that smokes, I suppose,‖ said Elinor. ―Yes,‖ cried he, in the same eager tone, ―with all and everything belonging to it; in no one convenience or inconvenience about it should the least variation be perceptible. Then and then only, under such a roof, I might perhaps be as happy at Combe as I have been at Barton‖ (Austen-2, pp. 62 - 63). Как известно, квалификация предметов, людей, событий производится через оценочные выражения, при этом основным средством квалификации и собственно оценки является прилагательное, однако не меньшую роль играют и другие оценочные структуры (Вольф 1981, 392). В данном примере квалификация, производимая неискренним говорящим, связана с оценкой объекта (cottage) по принципу ―хорошо/плохо‖. Оценка выражается в семантике прилагательных, входящих в ремы. Cлово cottage характеризуется прилагательными dear и faultless. Собственно оценочными оказываются и целые высказывания (Not a stone must be added to its walls, not an inch to its size, if my feelings are regarded; I consider it as the only form of building in which happiness is attainable; Then and then only, under such a roof, I might perhaps be as happy at Combe as I have been at Barton; etc.). Данные высказывания не описывают действительность, какой она есть, а указывают на то, что говорящий считает хорошим. В этом отношении смысл всех этих высказываний можно свести к значению упомянутых прилагательных dear и faultless в их приложении к слову cottage. Если неискренний говорящий применяет по отношению к дому только положительную оценку, то его собеседник, наоборот, акцентирует отрицательную оценку. Развивая смысл, выраженный в неискреннем дискурсе, дискурс верификации содержит качественную рему, передающую истинное знание (―...and were I rich enough I would instantly pull Combe down, and build it up again in the exact plan of this cottage.‖ — ―With dark narrow stairs, and a kitchen that smokes, I suppose,‖ said Elinor). Будет уместно привести точку зрения Е. М. Вольф относительно того, что существуют специальные способы переводить оценочный знак в противоположный (Вольф 1981, 393). Одним из таких спосо- 177 бов и верифицируется неискренность в данном примере, а именно: наложением отрицательной оценки на положительную по отношению к одному и тому же объекту. Итак, если неискренний участник общения прибегает к качественной рематической доминанте, то он использует в рематически ударных позициях оценочные структуры с ориентацией на те дескриптивные признаки, которые отсутствуют в реальной картине мира. Сопоставление несуществующих и существующих качеств способствует верификации неискренности. В пределах акциональной рематической доминанты логическое ударение несут глаголы, называющие действия. При субъекте наблюдается последовательная смена действий, их соотношение между собой и аспектно-временная локализованность. Неискренний говорящий осознанно представляет действия, имеющие отношение к какому-то иному субъекту, как относящиеся к себе самому. Например: ... I was standing at the inn gate, and a woman that stood there before, and which was the porter‘s wife belonging to the Barnet stage-coach, having observed me, asked if I waited for any of the coaches. I told her yes, I waited for my mistress, that was coming to go to Barnet. She asked me who was my mistress, and I told her any madam‘s name that came next me; but it seemed I happened upon a name a family of which name lived at Hadley, near Barnet. I said no more to her, or she to me, a good while; but by and by, somebody calling her at a door a little way off, she desired me that if anybody called her for the Barnet coach, I would step and call her at the house, which it seems was an alehouse. I said ―Yes,‖ very readily, and away she went. She was no sooner gone but comes a wench and a child, puffing and sweating, and asks for the Barnet coach. I answered presently, ―Here.‖ ―Do you belong to the Barnet coach?‖ says she. ―Yes, sweetheart,‖ said I; ―what do you want?‖ ―I want room for two passengers,‖ says she. ―Where are they, sweetheart?‖ said I. ―Here‘s this girl; pray let her go into the coach,‖ says she, ―and I‘ll go and fetch my mistress.‖ ―Make haste, then, sweetheart,‖ says I, ―for we may be full else.‖ The maid had a great bundle under her arm; so she put the child into the coach, and I said, ―You had best put your bundle into the coach too.‖ ―No,‖ said she; ―I am afraid somebody should slip it away from the child.‖ ―Give it me, then,‖ said I. 178 ―Take it, then‖ says she, ―and be sure you take care of it.‖ ―I‘ll answer for it,‖ said I, ―if it were 20 pounds value.‖ ―There, take it, then,‖ says she, and away she goes. As soon as I got the bundle, and the maid was out of sight ... I walked away (Defoe, pp. 205 - 206). Конечной целью неискреннего участника является действие совершения кражи, в связи с чем все общение организуется как цепочка действий, ведущих к данной цели. При описании имевших место действий рематически выделенные элементы представляют собой глаголы, совокупность которых создает представление о динамике событий: was standing — asked — desired — went away — comes — put — got (the bundle). Таким образом, как и в предыдущих примерах, слова, несущие основную нагрузку в движении смысла, характеризуются грамматико-семантической однородностью. Импрессивная рематическая доминанта свойственна неискреннему дискурсу, в котором логическое ударение несут слова и выражения, передающие внутреннее состояние человека, чувства и эмоции. Типичными средствами выражения импрессивных рем служат абстрактные имена соответствующей семантики и эмоциональноэкспрессивные конструкции. При импрессивной рематической доминанте реальное положение вещей в мире не искажается, как это имеет место при предметной, акциональной и частично - качественной доминанте. Трансформируется внутреннее состояние и отношение говорящего к положению вещей. Истинная и ложная эмоции, как правило, находятся друг с другом в отношениях антиномии, например, радость - страх, спокойствие - волнение, восхищение - презрение и т.п. Рассмотрим пример, в котором женщина разговаривает со своим мужем по поводу развода, испытывая внутри гамму чувств и переживаний. На поверхностном же уровне она пытается выразить ложную пропозицию <Я спокойна>: Her throat tightened. She felt her heart turn cold, and her legs seemed suddenly too weak to carry her... ―Hello, Dave.‖ They stared at each other in silence. God, he‘s old, she thought. His face was in shadow, but she could not mistake the sharp angles of shadow across the jaw and under his cheekbones. 179 ―How are you, Stephanie?‖ ―I‘m all right.‖ ―May I walk with you a way?‖ ―Yes, of course.‖ They moved between the buildings towards Fifty-Ninth Street. Questions she wanted to ask poured into her mind, but she pressed them back, afraid to ask them. The silence weighed upon her. At last, in a toneless voice, she said. ―And you - are you all right?‖ ―Sure.‖ ―Were you hurt?‖ ―Some.‖ ―Oh, Dave -‖... ―But you want a divorce. Maybe we‘d better talk about that‖ (Saxton, p. 201). Эпитет calm можно считать доминирующей, хотя и не выраженной в явном виде, ремой данного неискреннего дискурса. Главенствует субъективно-оценочная характеристика чувств, ясных для говорящего, но скрываемых от собеседника. Одно чувство заменяет другое, и именно эта черта составляет содержательную сущность неискреннего общения. Тот факт, что импрессивная рематическая доминанта находит свое выражение при помощи какого-то одного основного эпитета, проявляется и в следующем примере, в котором отец, провожающий сына на войну, скрывая горе, старается выглядеть радостным: But instead it was Robert‘s voice, saying, ―Five medium tanks -‖ ―What was that?‖ Nelson looked at his son, apologetically. ―I‘m sorry. I didn‘t quite -‖ ―I‘m in command of five medium tanks,‖ Robert said. ―Thirty tons apiece, with a crew of four men...‖ ―You‘ll do all right,‖ Nelson said soberly. Robert stared at him seriously for a moment, the smile gone. ―I suppose so,‖ he said... ―Is anyone else seeing you off?‖ Nelson asked. ―No girls?‖ ... Nelson smiled at the joke ... but whatever words he could think of would be clumsy and tragic, so he said nothing (Shaw - 4, p. 16). 180 Часто фальшивые наигранные чувства проявляются сверх всякой меры, и эта особенность может помочь верифицировать неискренность. Так, бурное проявление веселья человеком, только что узнавшим о своем банкротстве, сигнализирует о его неискренности: He was dumbfounded; his head suddenly began to ache furiously; but he did not want them to think him unmanly. He sat on for an hour. He laughed feverishly at everything they said. At last he got up to go (Maugham, p. 610). Сигналом фальшивых чувств могут служить некоторые физиологические признаки, например, прилив крови к лицу: ―Awkward, this sort of thing,‖ said the other. ―Particularly if one‘s short of a leg, what?‖ ―Very.‖ ―Damaged in the War?‖ Philip shook his head. ―Accident when I was a boy,‖ he explained telegraphically, and the blood mounted to his cheeks... Philip himself would have found it hard to explain what there was in the military gentleman‘s question to distress him (Huxley, p. 231). Итак, движение смысла в неискреннем дискурсе может осуществляться по принципу обозначения одного предмета вместо другого (предметная рематическая доминанта), одного качества вместо другого (качественная рематическая доминанта), одного действия вместо другого (акциональная рематическая доминанта) или одного чувства вместо другого (импрессивная рематическая доминанта). Становится очевидным, что категориально-семантические изменения оказываются не безразличными, замена классов лексем в ремах может привести к изменению типа неискреннего дискурса. Понятие рематической доминанты позволяет определить семантическую общность и какими языковыми средствами она выражается. Фактически, рематическая доминанта - это то, что будет сказано о теме, и каким образом произойдет движение смысла. Отбор говорящим высказываний с именными, адъективными, акционально-глагольными или эмоционально-экспрессивными предикатами создает предпосылки для взаимной организации предложений в пределах выбранного вида неискреннего дискурса. Cледует подчеркнуть, что рематическая доминанта является не свойством отдельных слов или высказываний, но всего неискреннего 181 дискурса в целом. Она возникает на основе идентичности смыслов информативно значимых частей отдельных высказываний и их слияния в динамике развертывания дискурса. Конечно, предметные, качественные, акциональные и импрессивные ремы могут встречаться в пределах одного и того же неискреннего дискурса; иногда даже выбор предметов предполагает оценку, а действие зачастую трудно рассматривать вне предметов и оценок. Тем не менее, как показывает анализ, неискренний говорящий обычно придерживается какого-то одного основного способа развертывания содержания, что позволяет подтвердить вывод о наличии рематической доминанты при выражении неискренности. 3. Структура диалога при выражении неискренности 3.1. Выражение неискренности в инициирующих репликах Как отмечают исследователи взаимодействия диалогической и монологической форм общения, данные формы различаются, главным образом, разной структурой связей, являющейся для реципиента одновременно и тем фоном, на основании которого изложение воспринимается ими как расчлененное (Кожевникова 1979, 64). Резкой границы между диалогом и монологом нет, так как в ходе общения обе формы могут варьироваться, в частности, в устном общении, даже если примерная концепция будет монологической, мысль об адресате может способствовать созданию диалога (Брчакова 1979, 249). Структурно-семантические характеристики диалога к настоящему моменту уже достаточно хорошо изучены. Выявлены как основные общие закономерности диалогического общения, так и специфические черты строения отдельных вопросно-ответных единств (Арутюнова 1970; 1990а; Вейхман 1987; Баранов, Крейдлин 1992 и др.). В диалоге неискренний дискурс вплетен в общую структуру вопросно-ответных единств. При этом связность создается обоими участниками диалогического общения. С точки зрения структуры диалога неискренность может выражаться как в инициирующих (первых) репликах, так и в ответных (вторых) репликах. Неискренний говорящий, выступающий в роли спрашивающего, задает вопросы, у которых появляются дополнительные качества по 182 сравнению с обычной структурой вопросительной конструкции. Чаще всего неискренность проявляется в том, что предполагаемые ответы приблизительно известны, и поэтому вопросы задаются не для получения информации, а в каких-то иных целях. Рассмотрим пример, в котором отец и дочь приглашают в гости человека, о котором известно, что он имеет странности в поведении. Задавая вопросы своему гостю, хозяева предполагают, что получат ответы, подобные тем, о которых им рассказывали другие люди: I poured myself a cup of coffee and sat down. He said to Marv, ―Something the matter with the food?‖ ―It‘s delicious.‖ ―Then why are you eating it that funny way?‖ Marv turned pink, but smiled bravely. ―People don‘t know that it‘s not what you eat, but the order you eat it in that counts.‖ ―Counts for what?‖ ―Digestibility, efficient use of nutrients, toxin shedding.‖ ―You‘re not fat.‖ Indeed he wasn‘t. He said, ―Actually, I don‘t even think about fat any more. I was obsessed with that for years, but that‘s very low-level body awareness. Thinking about fat and calories is actually a symptom of the problem, not a way to find a solution.‖ ―What‘s the solution?‖ ―My main effort now is to be aware of toxins and try to shed them as regularly as possible. I urinate twelve to twenty times a day, now. I sweat freely. I keep a careful eye on my bowel movement.‖ He said this utterly without embarrassment. ―Knowing that organizes everything... If I don‘t exercise, I can feel myself getting a little crazy from the toxins in my brain.‖ I said, ―How so?‖ ―Oh, you know. Negative thoughts... I can spot someone in the toxic overload stage a mile away.‖ I said, ―What are the toxic foods?‖ ―Oh, Ginny, goodness me, everything is toxic...I was getting thinner, but then you store the toxins in your muscles and organs and it‘s actually worse.‖ ―When was that?‖ I said. ―I had no idea.‖ Daddy had stopped staring at Marv and started eating, which was a relief. 183 ―No one did.‖ He finished his eggs and began on his sausage. ―It was a very isolated time for me. Now I talk about it whenever it comes up. I feel much better. You blow off toxins through your lungs too.‖ ―Hmmp,‖ said my father. Marv fell silent, and Daddy looked up to watch Marv eat his English muffin. He said, ―You got any hot sauce? Tabasco works the best.‖ ―For what?‖ said my father. ―Drawing off a good sweat.‖ He gave us an innocent smile. I smiled back at him and shook my head. ―We don‘t eat much spicy food.‖ Marv wiped his mouth and said, ―That‘s okay. I‘ll get to it later‖ (Smiley, pp. 29 - 30). В отличие от правил постановки вопросов в условиях искренности в данном примере функциональное назначение задаваемых вопросов состоит не в запросе о пропозициях, а в получении заранее прогнозируемого сообщения. Неискренние говорящие задают вопросы как средство вторжения во внутренний мир собеседника, чтобы понять, действительно ли он отличается в своих рассуждениях от других людей. Как указывает М. А. К. Хэллидей, вопросительная конструкция имеет две основные функции - конативную (эксплицируемую при помощи фразы ―You tell me‖) и экспрессивную (эксплицируемую при помощи фразы ―I don‘t know‖). Эти функции объединяются общей семантической формой вопроса, обычно выражаемой вопросительной конструкцией (Хэллидей 1980, 120). В приводимом примере основная ложная пропозиция строится на негации экспрессивной функции вопросов. Спрашивающие, хотя и приблизительно, но знают о возможных ответах, поэтому их цель состоит в том, чтобы убедиться самим в том, что говорят другие, и, может быть, получить удовольствие от мысли, что перед ними не совсем нормальный человек. Двусмысленность закладывается в структуру вопросов осознанно, при этом она остается непонятой собеседником. Таким образом, налицо две структурно-семантические интерпретации, выявляющие два смысла, две пропозиции - истинную и ложную, что и позволяет говорить о действующем здесь механизме неискренности. Неискренние участники ведут диалог осторожно; задаваемые ими вопросы ориентированы не столько на семантическую, сколько на структурно-функциональную связность с ответами собеседника. 184 Это проявляется в том, что происходит чисто структурный подхват любых вводимых собеседником тем при помощи лексических или местоименных повторов (People don‘t know that it‘s not what you eat, but the order you eat it in that counts — Counts for what?; I can spot someone in the toxic overload stage a mile away — What are the toxic foods?). Осторожность неискренних участников заключается также в том, что они терпеливо ждут введения собеседником новых тем, проявляя сдержанность и не переводя разговор в новое русло (You got any hot sauce? Tabasco works the best — For what?). Это позволяет сделать вывод о том, что в подобном диалоге механизм связности основан на приеме любых ответов. Не случайно, что когда один из неискренних собеседников утрачивает осторожность и начинает выражать удивление и насмешку, другой испытывает тревогу по этому поводу (―Hmmp,‖ said my father; Daddy had stopped staring at Marv and started eating, which was a relief). Становится очевидным, что избранная структура диалога не является случайной и что подобный способ постановки вопросов служит осознанным средством выражения неискренности. Данный способ выражения неискренности используется не только в общении с людьми, имеющими низкий интеллектуальный уровень или отклонения в психике. Он может встречаться также и в других ситуациях общения, в частности, в разговоре врача и пациента, социального работника и безработного, взрослого и ребенка и т.п. (Labov, Fanshel 1977; Sinclair, Brazil 1982). Выражение неискренности со стороны спрашивающего во многом основано на предсказуемости, определяемой в терминах синтагматической цепочки, в которой один элемент в какой-то мере предугадывает элемент, следующий за ним. Дискурсивные последовательности, и особенно вопросы, вызывают сильные ожидания относительно пропозиционального содержания следующих за ними реплик (Stubbs 1984, 92). Неискренний спрашивающий может строить структуру своих вопросов на основе интуиции о наиболее предсказуемых в данной ситуации общения ответах. Так, в следующем примере горничная - беженка из Австрии, желая сохранить свое место работы, льстит брату своей хозяйки, пытаясь понравиться ему: ―No tea?‖ she said. 185 Susceptible to the disappointment in her voice, Jon murmured: ―No, really; thanks.‖ ―A lil cup - it ready. A lil cup and cigarette.‖ Fleur was gone! Hours of remorse and indecision lay before him! And with a heavy sense of disproportion he smiled, and said: ―Well - thank you!‖ She brought in a little pot of tea with two little cups, and a silver box of cigarettes on a little tray. ―Sugar? Miss Forsyte has much sugar - she buy my sugar, my friend‘s sugar also. Miss Forsyte is a veree kind lady. I am happy to serve her. You her brother?‖ ―Yes,‖ said Jon, beginning to puff the second cigarette of his life. ―Very young brother,‖ said the Austrian, with a little anxious smile, which reminded him of the wag of a dog‘s tail. ―May I give you some?‖ he said. ―And won‘t you sit down, please?‖ The Austrian shook her head. ―Your father a very nice old man - the most nice old man I ever see. Miss Forsyte tell me all about him. Is he better?‖ Her words fell on Jon like a reproach. ―Oh! Yes, I think he‘s all right.‖ ―I like to see him again,‖ said the Austrian, putting a hand on her heart; ―he have veree kind heart.‖ ―Yes,‖ said Jon. And again her words seemed to him a reproach. ―He never give no trouble to no one, and smile so gentle.‖ ―Yes, doesn‘t he?‖ ―He look at Miss Forsyte so funny sometimes. I tell him all my story; he so sympatisch. Your mother - she nice and well?‖ ―Yes, very.‖ ―He have her photograph on his dressing-table. Veree beautiful.‖ Jon gulped down his tea. This woman, with her concerned face and her reminding words, was like the first and second murderer. ―Thank you,‖ he said: ―I must go now. May - may I leave this with you?‖ He put a ten-shilling note on the tray with a doubting hand and gained the door. He heard the Austrian gasp, and hurried out (Galsworthy, p. 743). 186 В данном примере постановка вопросов рассчитана на действие дискурсивной стратегии вежливости со стороны собеседника. Как указывается в работах по дискурсивному анализу, в принципе, после вопроса можно бы было ожидать какой угодно реакции, как вербальной, так и невербальной. Теоретически, такой вопрос как ―Where‘s Harry?‖ мог бы вызвать как ответ типа ―He‘s not well today‖, так и ответ типа ―What do you mean?‖ Однако второй ответ менее предсказуем, так как он предполагает преодоление условий вежливости (Stubbs 1984, 108). В примере горничная интуитивно чувствует, что ее собеседник будет вынужден вести с ней беседу, подчиняясь требованиям хорошего тона, и она настойчиво задает ему вопросы, не смущаясь тем, что получает в ответ одни лишь формулы вежливого согласия. В пропозициональном отношении задаваемые вопросы не являются вопросами в чистой форме, так как в их функциональное назначение входит не запрос о пропозиции, а скорее распределение одной и той же пропозиции между репликами обоих участников. То, что требуется от брата хозяйки - это соглашаться с горничной, и он вынужден это делать, хотя в глубине души он чувствует, что на него оказывается давление. Данный пример подтверждает положение о том, что если в вопросе делается запрос по поводу знания, относящегося к слушающему (например, ―Are you cold?‖), то это расценивается как просьба выразить согласие (request for confirmation) (Labov, Fanshel 1977, 62 63). Пользуясь тем, что собеседник вынужден следовать требованиям вежливости, неискренний участник приобретает возможность задавать вопросы относительно его личной жизни, добиваясь своих целей. Таким образом, вопросы приобретают характер риторических, а диалог превращается в псевдодиалог, так как и вопросы, и ответы предназначены, в конечном счете, для разговора спрашивающего с самим собой. Собеседник здесь вообще не заинтересован в общении, поэтому подобный вид диалога с полным основанием может быть назван навязанным диалогом. Условия вежливости могут влиять на неискреннего спрашивающего также в том случае, когда он вынужден задавать вопросы, повинуясь необходимости. Например: 187 ―Hullo,‖ said Walter, as he got within speaking distance. The two young men shook hands. ―How‘s science?‖ What a silly question! thought Walter as he pronounced the words (Huxley, p. 57). Здесь диалог навязывается спрашивающим самому себе. Он не хочет общаться, однако заставляет себя делать это, подстраивая свою речь под потребности собеседника. Следование принципу вежливости влечет постановку вопроса как просьбу об информации по поводу близкой для собеседника темы. Итак, задавая вопросы, неискренний участник ориентируется прежде всего на выражение личностного смысла неискренности. У вопросов появляются дополнительные экспрессивные качества. Ложная пропозиция добавляется именно в плане экспрессивности, а не конативности. Инициирующие реплики, в которых выражается неискренность, подразумевают определенные синтагматические ограничения на возможные последовательности ответных реплик. Спрашивающий отказывается от контроля за репликами собеседника, что проявляется в отсутствии прерываний, несогласия, выражения недовольства и т.п. 3.2. Выражение неискренности в ответных репликах Исследование ответов занимает особое место в анализе вопросно-ответных единств, ввиду важной роли ответа в процессе развертывания и продолжения диалога. Теория дискурсивного анализа предлагает ряд интерпретативных процедур объяснения ответных реплик в диалоге. По своему статусу в структуре диалога ответные реплики реализуют потенциальные возможности, заложенные в вопросах. Сущность ответа состоит в том, что он является синсемантичным образованием, зависящим от предшествующего вопроса. В ответе подвергается актуализации какой-то из уже введенных смыслов. Количество ответов, которые могут следовать за тем или иным вопросом, обычно ограничено (Coulthard 1977; Sinclair 1979). Неискренний отвечающий старается подстроиться под потребности спрашивающего. При этом уже введенный смысл подвергается актуализации в сфере ложности. Выражение неискренности в ответных репликах основано на реализации семантической потенциальности, проявляющейся в том, что референтная соотнесенность либо 188 поддерживается, либо нейтрализуется, либо активизируется. Рассмотрим каждый их этих приемов. Поддержка референтной соотнесенности выражается прежде всего посредством речевого акта согласия с собеседником. Градация степени согласия обычно напрямую зависит от отношений власти. Так, в следующем примере заключенный вынужден соглашаться даже с самыми оскорбительными высказываниями, а также поддерживать введенные референты при помощи уточняющих вопросов, чтобы не ухудшить свое положение. Поэтому можно сказать, что неискреннее согласие основано на чисто структурном зацеплении: ―The air around you stinks!‖ he cried suddenly. ―This whole corridor, this whole prison.‖ ―I suppose it does,‖ admitted the Fiend. ―I noticed it too.‖ ―You‘ll have time to notice it,‖ Crenshaw muttered. ―All your life you‘ll pace up and down stinking in that little cell with everything getting blacker and blacker. And after that there‘ll be hell waiting for you. For all eternity you‘ll be shut in a little space, but in hell it‘ll be so small that you can‘t stand up or stretch out.‖ ―Will it now?‖ asked the Fiend concerned. ―It will!‖ said Crenshaw (Fitzgerald - 2, p. 275). Референтная соотнесенность может поддерживаться при помощи субъективно устанавливаемых гиперо-гипонимических отношений. Так, в следующем примере женщина, ездившая кататься на лодке с другим мужчиной, говорит, что была на рыбалке. Вместо актуализованного тематического ряда water — boating — another young man выражается потенциальный тематический ряд water — fishing — (slippery) fish: Olsen said, ―I came to take you out to tea. Clotted cream and strawberry jam on hot scones. But you look as if a dry towel would suit you better. Where have you been?‖ ―Fishing,‖ Anna said, laughing. He looked wonderfully well cared for in his silk shirt and leather coat.. ―What for? In this weather?‖ he asked, looking at her drenched hair and sodden jacket. ―A slippery fish. The one that got away.‖ ―Go and change,‖ he said. ―I‘ll wait for you here‖ (Cody, p. 119). 189 Следует также отметить эллиптичность используемых в ответах синтаксических конструкций, что позволяет опустить значительную часть запрашиваемой информации. При нейтрализации референтной соотнесенности происходит либо ссылка на незнание, либо изменение значения слова, употребленного в вопросе, таким образом, что доминирующими становятся вторичные семантические признаки. Ссылка на незнание является наиболее употребительным способом нейтрализовать ненужный референт и вывести его из обсуждения: ―Mr. Evans,‖ I said, ―I just want the truth.‖ He glanced at me. ―Dr. Scarpetta, I don‘t know what‘s happened, but I can tell it‘s bad. Please don‘t be getting mad at me. I don‘t like it down there at night. I‘d be a liar if I said I did. I try to do a good job.‖ ―Just tell the truth.‖ I measured my words. ―That‘s all we want‖ (Cornwell, p. 185). Инициирующая реплика предполагает, что в ответе будут употребляться слова, связанные общим контекстом со словом truth. Однако неискренний отвечающий не создает семантической конкатенации между инициацией и ответом, ссылаясь на незнание. Ссылку на незнание можно с полным основанием считать завуалированной формой несогласия, типичной для неискреннего дискурса. Иногда утверждение о незнании носит чисто формальный характер, о чем свидетельствует следующий пример, в котором неискренний говорящий сразу же вслед за высказыванием ―I don‘t know‖ дает правильный ответ: ―Are you all right, Muriel? Tell me the truth.‖ ―I‘m fine. Stop asking me that, please.‖ ―When did you get there?‖ ―I don‘t know. Wednesday morning, early‖ (Salinger, p. 28). Ограничение референтной соотнесенности при помощи актуализации вторичных семантических признаков слова влечет за собой нейтрализацию искомого семантического компонента. Так, в следующем примере имеет место семантический перенос по принципу ―частное, непосредственное/общее, опосредованное‖. При этом общее исключает частное из рассмотрения: Walter had once complained to her, jokingly, of his miserable six pounds a week. 190 ―But the World‘s worth making sacrifices for,‖ she rapped out. ―After all, one has a responsibility towards people; one ought to do something for them.‖... The obvious retort was that his own private income was very small and that he wasn‘t in love with Burlap. He didn‘t make it, however (Huxley, p. 164). Неискренний отвечающий демонстрирует нежелание расчленять обобщающий референт (the World magazine) на более мелкие референты (Walter‘s salary), и тем самым не развивает семантическую связь ответа с инициирующей репликой. Этот прием в имплицитной форме выражает несогласие. Несколько иначе структурируются ответы неискреннего собеседника, основанные на активизации референтной соотнесенности. В структурном отношении подобные ответы присоединяются к предшествующей реплике прочными лексическими и синтаксическими связями, однако в семантическом плане ответ переадресуется самому спрашивающему. Например: He had seen her near Eleventh and Baltimore, or thought he had. Had his mother heard anything from her?... He expected his mother would be as astonished and puzzled as he was - quick and curious for details. Instead, she appeared to him to be obviously confused and taken aback by this information, as though she was hearing about something that she already knew and was puzzled as to just what her attitude should be. ―Oh, did you? Where? Just now, you say? At Eleventh and Baltimore? Well, isn‘t that strange? I must speak to Asa about this. It‘s strange that she wouldn‘t come here if she is back.‖ Her eyes, as he saw, instead of looking astonished, looked puzzled, disturbed (Dreiser, p. 106). Неискренний ответ переводится в инициацию посредством постановки встречных вопросов и повтора опорных слов. Этому виду ответа характерна также повышенная экспрессивность, реализующаяся посредством интонационных структур и эмоционально-оценочных конструкций. Важно то, что эмоциональность не базируется здесь на инстинктивном постижении действительности, а подчинена выражению личностного смысла неискренности. Обращают на себя внимание также сложные виды неискренних ответов, а именно ответы, в которых референты активизируются не спрашивающим, а самим отвечающим. Другими словами, чтобы дать 191 ответ, неискренний участник должен каким-то образом заставить собеседника задать нужный вопрос. Иногда это возможно достичь при помощи паралингвистических средств. Так, в следующем примере нужный вопрос провоцируется безучастным видом и свистом неискреннего участника: At the close of a performance Camila would return to her dressing room to find Uncle Pio whistling nonchalantly in one corner. She would divine his attitude at once and cry angrily: ―Now what is it? Mother of God, what is it now?‖ ―Nothing, little pearl. My little Camila of Camilas, nothing.‖ ―There was something you didn‘t like. Ugly fault-finding thing that you are. Come on now, what was it? Look, I‘m ready.‖ ―No, little fish. Adorable morning star, I suppose you did as well as you could.‖... Uncle Pio went on whistling... Suddenly Uncle Pio would lean forward and ask with angry intensity: ―Why did you take that speech to the prisoner so fast?‖ (Wilder, p. 101). Активизация референтной соотнесенности позволяет отвечающему перейти от ложного ответа к истинному. Часто неискренний участник предлагает собеседнику взглянуть на ту или иную сцену собственными глазами, так сказать, ―убедиться самому‖. Этот прием также может спровоцировать искомые вопросы: Charteris. Sh! I want to show you something. Look! (He points to the pair in the recess). Julia. (jealously) That woman! Charteris. My young woman, carrying off your young man. Julia. What do you mean? Do you dare insinuate — Charteris. Sh—sh—sh! Don‘t disturb them. Paramore rises; takes down a book; and sits on a footstool at Grace’s feet. Julia. Why are they whispering like that? Charteris. Because they don‘t want any one to hear what they are saying to one another. Paramore shows Grace a picture in the book. They both laugh heartily over it. Julia. What is he showing her? (Shaw - 2, p. 51). В данной ситуации происходит семантическая модификация заложенного смысла. На самом деле люди, на которых указывает неис- 192 кренний участник, беседуют на вполне невинные темы, однако издали эта сцена воспринимается как любовное свидание. В целях выражения неискренности важно не заговорить первым и вынудить собеседника задать необходимые вопросы. В прагматическом отношении происходит включение нерелевантного лингвистического единства посторонней беседы - в прагматическую ситуацию неискренности. Использование стимулов, идущих от ситуации общения, делает возможным представить потенциальное как актуальное, ложное как истинное. Можно сделать вывод, что главным для неискреннего отвечающего является не создать эффект обманутого ожидания, то есть не нарушить предсказуемость при переходе от вопроса к ответу. В связи с этим на поверхностном уровне вопросно-ответные единства производят впечатление цельно оформленных, подчиняющихся формальным механизмам лексической и синтаксической связности. 4. Неискренний дискурс в форме монолога В монологе говорящий организует свою речь, не ожидая непосредственного участия собеседника. Если в диалоге связность создается обоими участниками в процессе поочередного обмена репликами, то в монологе дискурс понимается как связный, в основном, со стороны адресанта. Там, где в диалогической речевой ситуации реплики становятся чисто акцентирующими, или если один из общающихся постепенно становится единственным говорящим, речь может монологизироваться (Брчакова 1979, 249). Неискренний дискурс как монолог образуется по мере формирования говорящим какой-либо монологической формы изложения описания, повествования, рассуждения, либо их комбинации. Неискренний монолог является удобной формой не только для выражения ложной пропозиции, но и для ее обоснования. Это связано с тем, что монолог развивается в одном направлении мысли и посвящен обычно одной доминирующей теме, раскрываемой без больших смысловых лакун и домысливания (Кожевникова 1979, 64). Неискренний говорящий обычно пытается как-то обозначить переход от диалогического общения к монологическому, указать, что он хочет присвоить себе право на ведение разговора. Так, в следую- 193 щем примере, начиная монолог, выражающий ложную пропозицию <Положение таково, что честными методами действовать невозможно>, говорящий подводит присутствующих к мысли о необходимости взятки. Однако вначале он акцентирует внимание на том, что берет слово, начинает рассказ. Сам обширный монолог будет опущен, так как здесь нас интересует прежде всего начальный момент монологического общения и выход из него, возврат к диалогу: He drew his chair closer to the table and began to arrange the coins in piles. ―This is the whole story. I couldn‘t tell it before and for reasons you‘ll understand it must never be told again. At the end of the war I was with a man called L. C. Corkran - you spotted him the other day in Killowen Square, Morty - doing one of those hush-hush jobs in France... After the trial - when it was clear that Teague had no intention of speaking - the loss had to be placed very regretfully in the just-too-bad section, and filed for reference.‖ ―Written off?‖ ―The Department,‖ said Mr Campion formally, ―never explains its budget, but it has to ask for it just the same. Unfortunately, this does not mean that the funds are liberal.‖ He paused to empty his cup. ―There was - there still is - an alternative. Really a very simple one if you know that part of the world. Bribery. A well greased palm for politician and policeman alike. A lot of money, a cargo of Eagles distributed judiciously very near the top, would open any prison in the country.‖ ―Lovely work if you can get it.‖ Mr Lugg‘s throaty tones brought the party back to immediate considerations. ―More tea, one and all?‖ (Allingham, pp. 203 - 205). Монологический неискренний дискурс предназначен для целостного восприятия. Здесь для неискреннего говорящего релевантна смысловая завершенность. О начале монолога свидетельствуют метадискурсивные высказывания, единственный смысл которых состоит в объявлении о прекращении диалога и о переходе к монологу (This is the whole story. I couldn‘t tell it before). Отдельные высказывания строятся с учетом характера монолога как единого целого. При этом наблюдается связность линейного типа, когда высказывания тесным образом связаны друг с другом в силу то- 194 го, что они непрерывно порождаются одним говорящим. Обращения к собеседникам приобретают чисто формальный характер и служат призывом к вниманию, а не приглашением сделать вклад в разговор (L. C. Corkran - you spotted him the other day in Killowen Square, Morty). Другие участники становятся слушающими в полном смысле этого слова; их вклад в общение ограничивается поддерживающими репликами-перифразами (... filed for reference — Written off?). Очевидно, что в одну из задач слушающих входит также умение распознать окончание монолога и соответствующим образом сигнализировать об этом (Lovely work if you can get it... More tea, one and all?). Все это свидетельствует о том, что в условиях неискреннего монолога вовлеченность собеседников основана скорее на формальном, чем на содержательном принципе. Рассмотрим более подробно механизмы связности, действующие в неискреннем монологе. В следующем примере говорящий обосновывает в форме рассуждения ложную пропозицию <Я недоволен тем, что получил наследство>: Pickering. A safe thing for you, Doolittle. They won‘t ask you twice. Doolittle. It ain‘t the lecturing I mind. I‘ll lecture them blue in the face, I will, and not turn a hair. It‘s making a gentleman of me that I object to. Who asked him to make a gentleman of me? I was happy. I was free. I touched pretty nigh everybody for money when I wanted it, same as I touched you, Henry Higgins. Now I am worrited; tied neck and heels; and everybody touches me for money. It‘s a fine thing for you, says my solicitor. Is it? says I. You mean it‘s a good thing for you, I says. When I was a poor man and had a solicitor once when they found a pram in the dust cart, he got me off, and got shut of me and got me shut of him as quick as he could. Same with the doctors: used to shove me out of the hospital before I could hardly stand on my legs, and nothing to pay. Now they finds out that I‘m not a healthy man and cant live unless they looks after me twice a day. In the house I‘m not let do a hand‘s turn for myself: somebody else must do it and touch me for it. A year ago I hadn‘t a relative in the world except two or three that wouldn‘t speak to me. Now I‘ve fifty, and not a decent week‘s wages among the lot of them. I have to live for others and not for myself: that‘s middle class morality. You talk of losing Eliza. Don‘t you be anxious: I bet she‘s on my doorstep by this: she that could support herself 195 easy by selling flowers if I wasn‘t respectable. And the next one to touch me will be you, Henry Higgins. I‘ll have to learn to speak middle class language from you, instead of speaking proper English. That‘s where you‘ll come in; and I daresay that‘s what you done it for. Mrs Higgins. But my dear Mr Doolittle, you need not suffer all this if you are really in earnest. Nobody can force you to accept this bequest. You can repudiate it. Isn‘t that so, Colonel Pickering? (Shaw-3, p. 744). Получив наследство, Дулитл пытается нащупать отношения между своим речевым опытом и общепринятой нормой общения богатых людей. Его основной целью является вступить в общение с данными собеседниками, заинтересовать их собой. Однако он не может представить какой-либо достаточный объем знаний, поэтому информативность вербализуемой референтной ситуации невелика. Отсутствие значимой информации заменяется протяженным монологом, постепенно приобретающим черты абсурда. Прежде всего для обоснования ложной пропозиции устанавливаются временные связи по типу then — now (I was happy. I was free. — Now I am worrited). Высказывания, заключающиеся между показателями темпоральной локализованности, объединяются в синтагматическую последовательность в составе монологической формы рассуждения. Смысловое зацепление проявляется во временных и логических взаимоотношениях, таких как соположение по времени, следование, причина, следствие, противопоставление. Семантический контраст выражается в повторах и параллельных конструкциях (It‘s a fine thing for you, says my solicitor — You mean it‘s a good thing for you, I says), а также посредством использования антонимов (happy — worrited; a poor man — a rich man). Принадлежность лексем к одному семантическому полю создает связность неискреннего монолога по принципу семантической ассоциации. Используются также лексикосинтаксические скрепы, указывающие на идентичность передаваемого содержания (same with — same with; now — now; a year ago — now). Признаком монолога является авторизованность, выражаемая сквозным повтором соответствующего личного местоимения. Неискренний говорящий подкрепляет ложную пропозицию проекцией своего собственного ―я‖, оценкой своей речи, прямыми обращениями к адресату и к самому себе, что выражается, в частности, риториче- 196 скими вопросами (Is it? says I). Он как бы заменяет собеседников, выражая несогласие и опровергая доводы воображаемых оппонентов. Все эти приемы создают коммуникативную интимизацию, приближая говорящего к собеседникам, что и является его основной целью. В неискреннем монологе структурное зацепление высказываний друг за друга отражает не столько градацию смысла, сколько нарастание уверенности говорящего в себе. Сосредоточиваясь на собственной оценке событий, он начинает проявлять императивность по отношению к собеседнику. Даже обращение приобретает оттенок обвинения (And the next one to touch me will be you, Henry Higgins). Еще одним средством выражения категоричности служит семантическое расширение, когда с обозначения единичного объекта внимание переключается на обобщенный класс объектов (a solicitor — they; a year ago I hadn‘t a relative in the world — now I‘ve fifty; etc.). Благодаря употреблению перечисленных средств приведенный дискурс воспринимается как монолог, то есть как смысловое целое, как законченное дискурсивное единство. Интересно, что даже сам говорящий определяет свою речь в наивных терминах как лекцию, то есть как вид монологического дискурса (It aint the lecturing I mind. I‘ll lecture them blue in the face). Более того, здесь даже имеется типичное для лекции заключительное высказывание, подытоживающее все содержание (That‘s where you‘ll come in; and I daresay that‘s what you done it for). Все указанные связи являются языковой манифестацией внутренней спаянности смысла вокруг выражаемой ложной пропозиции с целью презентации ее в качестве истинной. Однако монолог, организуемый неискренним говорящим по всем правилам связности, то есть с выражением отношений равнозначности, идентичности, соподчиненности и т.п., интерпретируется слушающим как бессвязный, не содержащий информативной ценности. Поверхностная связность акцентирует ложность основной пропозиции, что и приводит к ее верификации. М-с Хиггинс понимает абсурдность выражаемого смысла и указывает Дулитлу, что если он недоволен внезапно полученным богатством, он может отказаться от него. В целом, в неискреннем монологе присутствуют внешние показатели связей высказываний, придающие дискурсу когерентность. Однако глубинная связность, обеспечиваемая структурой референции 197 и пропозициональным содержанием, отсутствует, что создает возможность верификации неискренности. 198 ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЕРИФИКАЦИИ НЕИСКРЕННОСТИ 1. Герменевтические основы верификации неискренности При анализе неискреннего дискурса под углом зрения окружающего его широкого контекста наблюдаются лингвистические особенности, свидетельствующие о верификации неискренности. Встает вопрос, каковы эти особенности и с каких позиций можно распознать неискреннего собеседника. Верификация представляет собой ментальную деятельность, когнитивные принципы которой еще мало исследованы. Согласно имеющимся определениям, процесс верификации связан с тем, что говорящему приходится обращаться к положению вещей в мире. Происходит одновременное интерактивное взаимодействие с предшествующими высказываниями и действительностью, относительно которой они верифицируются (Арутюнова 1990а, 181). Очевидно, что в общетеоретическом плане верификация неискренности обусловлена способностью говорящих к контекстному разрешению неоднозначности (Булыгина 1983) и основана на общих закономерностях свертки и синтеза смысла при создании и понимании дискурса (Davidson 1984; Васильев 1988; Фефилов 1991). На наш взгляд, проблемы понимания такого сложного типа дискурса как неискренний дискурс и его верификации можно наиболее успешным образом объяснить с позиций герменевтического анализа. Герменевтика, в задачу которой входит обнаружение особенностей понимания сообщений языковой личностью, привлекает все больше внимания (Богин 1986; Рикер 1995; Пименов 1998 и др.). Сейчас герменевтика нуждается прежде всего в практических исследованиях, в которых было бы собрано достаточное количество фактов для последующих теоретических обобщений. Исследование того, как осуществляется верификация неискренности и каким образом при этом происходит взаимодействие участников общения, может внести определенный вклад в общетеоретическую разработку интерпретативных процедур. Герменевтика основана на понятии речевого взаимодействия в процессе поиска истинного понимания сообщения. Она призвана объ- 199 яснить, как в процессе понимания соединяются элементы познавательного, оценочного, эмоционального, интенционально-целевого, этического характера (Сусов 1989). Интерпретация не может быть сведена к поверхностному пониманию, так как человеку присуща рефлективность восприятия, связывающая гносеологические понятия и пережитой опыт. Превращение рефлективной реальности в единицы смысла составляет направленность рефлексии. Важным понятием в теории интерпретации является также понятие горизонта как характеристики объекта с разных точек обзора. Горизонты открывают другие возможные миры по отношению к миру, лежащему в основе данного дискурса. По мере постижения горизонта смысла открываются новые моменты в понимании (Богин 1998; 1999; Васильев 1994; Кузьмина 1994). В соответствии с общетеоретическими положениями тверской школы герменевтических исследований, понимание основано на интендировании, определяемом как техника извлечения смыслов дискурса. Механизм интендирования приводит в движение опыт интерпретатора. Происходит указание на топосы онтологической конструкции объекта, открывающие возможности для нового смыслообразования в пределах герменевтического круга. Ученые отмечают, что в ходе понимания участвуют мышление, интуиция, фантазия, воображение, эмоциональные и культурологические факторы. Неискренний участник общения олицетворяет собой сложный тип понимающего. Его моделирование - это моделирование скорее не друга, а врага, противника, оппонента (Thagard 1992). В отличие от адресованных типов текста (термин О. П. Воробьевой 1993), неискренний дискурс не является таковым в прямом смысле этого слова, так как трудности в его понимании осознанно программируются адресантом. В процессе восприятия неискреннего дискурса создается определенная когнитивная напряженность. Верификация неискренности определенным образом разрушает конфликт между участниками. Обычно после верификации общение либо прерывается, либо переводится в мирное русло. В процессе верификации взаимодействуют два уровня знания пропозиции неискреннего дискурса и знания о мире, с опорой на которые происходит понимание. При верификации происходит иденти- 200 фикация пропозиций и выявление среди них ложных пропозиций, которые затем подвергаются отторжению в той или иной форме. Ввиду того, что в неискреннем общении изначально заложена возможность нескольких интерпретаций, в процессе верификации при помощи того или иного лингвистического способа формулируются выявленные ложные пропозиции, то есть они выводятся интерпретатором на ―поверхность дискурса‖. При этом у каждого интерпретатора понимаемые смыслы складываются в разные конфигурации (Hoey 1983). В теории, выработанной тверской школой герменевтического анализа, особо подчеркивается, что успех в понимании зависит от ―развитости‖ языковой личности. Модели языковой личности соответствует готовность рецептивного характера. Рефлексия есть связка между прошлым опытом и ситуацией, которая представлена как предмет для освоения. Рефлексия возникает тогда, когда дискурс ―переводится‖ в другую форму. Готовность к ―перевыражению‖ - коррелят рефлективной способности человека. Рефлективный процесс может иметь интуитивную или дискурсивную форму, последняя в случае словесной высказанности рефлексии имеет характер интерпретации. Следует остерегаться наивных представлений о том, что, пока реципиент не произнесет текста интерпретации, исходный текст остается непонятым (Богин 1986, 3 и далее). Опираясь на эти положения, можно утверждать, что верификация неискренности обусловлена ее пониманием, при этом понимание и верификация суть разные понятия. Нельзя смешивать представление о способности дать в ходе рефлектирования другой дискурс в качестве интерпретации неискреннего дискурса и представление о готовности дать дискурс-интерпретацию в рамках той или иной конкретной ситуации общения. Итак, в случае верификации неискреннего дискурса происходит отторжение ложных пропозиций, если они признаются таковыми. Этот когнитивный процесс может находить или не находить отражение в соответствующем дискурсном виде. Дискурс верификации представляет собой результат обработки неискреннего сообщения. При верификации возможно не только понимание чужого сообщения, но и своего собственного, а также вполне вероятна совместная интерпретативная деятельность двух и более участников. Интендирование, 201 или осознанная направленность на понимание является важным приемом, позволяющим поставить предел неискреннему дискурсу. 2. Верификация, осуществляемая адресатом Один из видов верификации - это верификация, осуществляемая адресатом неискреннего дискурса, причем под адресатом может подразумеваться как непосредственный собеседник, так и посторонний наблюдатель, воспринимающий дискурс опосредованно, через его устное или письменное изложение. Пользуясь термином Г. И. Богина, можно сказать, что мера полноты понимания неискреннего дискурса адресатом зависит от его развитости в качестве языковой личности (Богин 1986, 8). Однако даже полное понимание неискренности не означает, что адресат тут же приступит к ее верификации. Освоение и переработка личностного смысла неискренности обусловлены не только интеллектуальными и лингвистическими возможностями, но в равной степени зависят от социальных и культурных факторов, которые не всегда способствуют верификации. Верификация, осуществляемая адресатом, может носить имплицитный характер. В этом случае используются высказывания, основанные на имплицитном допущении, что при восприятии сообщения не наблюдается однозначного соответствия между языковыми фактами и ситуацией. Согласно точке зрения наблюдателя, ситуация предсказывает какие-то другие языковые формы, а не те, которые используются. При имплицитной верификации адресат чаще всего указывает на неуместность или неприемлемость тех или иных языковых средств. Ср. в уже цитированных выше примерах: Mrs Higgins. But, my dear Mr Doolittle, you need not suffer all this if you are really in earnest. Nobody can force you to accept this bequest (Shaw -3, p.744); ...and she doted so on little children. ―I think you must have had enough of them at Chiswick,‖ said Amelia (Thackeray, p. 29). Ограничиваясь указанием на то, что услышанные высказывания неуместны, адресат закладывает возможность дальнейшей верификации, отдавая приоритет в этом процессе адресанту. Именно адресант 202 должен ответить на вопрос, что же конкретно неуместно. В результате он должен констатировать, что неуместно само содержание (Почепцов 1990, 110). Однако, как правило, адресант оставляет сигналы о неуместности используемых им языковых средств без внимания, и подлинной верификации в этом случае не происходит. Адресат может ограничиться указанием на ложность выражаемой пропозиции, не прибегая к формулированию истинной пропозиции взамен ложной. Если в таких случаях наблюдаются два и более адресатов, то наиболее информированный идентифицирует ложность, а другие соглашаются или не соглашаются с верификацией: His manner, when he said this, was so equivocal that Roberta could tell he was merely lying (Dreiser, p. 449); ―My dear young lady,‖ I groaned, ―you don‘t want to be stripped of every dollar for such a rigmarole!‖ (James, p. 514). Тот факт, что ложная пропозиция верифицирована, может подкрепляться паралингвистическими средствами: Instead of denying or reproaching him further, she merely looked at him, her expression one of injured wistfulness (Dreiser, p. 449). Наблюдатель может активно участвовать в верификации, даже если непосредственный адресат неискреннего дискурса не хочет признавать истину или согласен быть обманутым: ―But why should you let yourself be swindled?‖ ―I‘m not being swindled.‖ There was a note of exasperation in his voice, the exasperation of a man who knows he is in the wrong. ―And even if I were, I prefer being swindled to haggling for my pound of flesh. After all, it‘s my business‖ (Huxley, p. 72). Семантическим центром высказываний, верифицирующих ложные пропозиции, служат глагольные формы и имена с соответствующей семантикой (lying, deceiving, swindling, rigmarole, etc.). Иногда к ним присоединяются лексические единицы, в семантику которых входит компонент ―игра‖, что еще раз подтверждает выдвинутое в данной работе положение о связи неискренности с игровым принципом коммуникации. Ср. использование слова comedy для верификации неискренности: ―But what‘s too thick?‖ she asked. ―What have I done this time?‖ ―None of your comedy with me,‖ said Bidlake (Huxley, p. 42). 203 Верификация ложных пропозиций может быть произведена в косвенном виде посредством характеризации неискреннего участника адресатом. Ср., как в следующем примере адресат противопоставляет интеллекту неискреннего участника свою собственную глупость. Семы обмана и игры подкрепляются семантическими признаками, обозначающими сильную волю и импульсивные отрицательные эмоции. Одновременно с этим осознание неискренности собеседника вызывает у адресата чувство восхищения: ―What an accomplished little devil it is!‖ thought he. ―What a splendid actress and manager! She had almost got a second supply out of me the other day, with her coaxing ways. She beats all the women I have ever seen in the course of all my well-spent life. They are babies compared to her. I am greenhorn myself, and a fool in her hands - an old fool. She is unsurpassable in lies.‖ His lordship‘s admiration for Becky rose immeasurably at this proof of her cleverness (Thackeray, p. 620). Следующим способом верификации неискренности адресатом является формулирование им истинных пропозиций в одном контексте с ложными. Важно отметить, что даже если человек понимает ложность адресованных ему утверждений, выдвижение истинных контр-пропозиций затруднено при отсутствии у него надлежащего социального статуса. Адресат обычно предпочитает промолчать, либо верифицировать неискренность в имплицитной форме, и лишь в редких случаях прибегает к выражению контр-пропозиции. Ср., как в следующем примере наблюдатель - богатый аристократ - формулирует истинные намерения небогатой девушки. Интересно, что она, несмотря на свой более низкий социальный статус, подчеркивает в своем ответе неуместность высказывания-верификации: ―Ay, ay, I see how it will be,‖ said Sir John — ―I see how it will be. You will be setting your cap at him now, and never think of poor Brandon.‖ ―That is an expression, Sir John,‖ said Marianne warmly, ―which I particularly dislike‖ (Austen -2, p. 39). Наблюдается тенденция выдвигать истинные пропозиции вместо ложных не в лицо неискреннему собеседнику, а за его спиной. Подобная верификация чаще всего происходит в разговоре между непосредственным адресатом неискреннего дискурса и каким-либо 204 посторонним человеком. Адресат обычно делится своими соображениями по поводу того, кто и как его обманул: When Briggs had read the epistle out, her patroness laughed more. ―Don‘t you see, you goose,‖ she said to Briggs, ―don‘t you see that Rawdon never wrote a word of it. He never wrote to me without asking for money in his life, and all his letters are full of bad spelling, and dashes, and bad grammar. It is that little serpent of a governess who rules him.‖ They are all alike, Miss Crawley thought in her heart. They all want me dead, and are hankering for my money (Thackeray, p. 296). Истинная пропозиция может быть сформулирована одним наблюдателем, но отвергаться другим: ―I understand. She is in love with James, and flirts with Frederick.‖ ―Oh no, not flirts. A woman in love with one man cannot flirt with another.‖ ―It is probable that she will neither love so well, nor flirt so well as she might do either singly‖ (Austen - 3, p. 150). Выдвижение истинных контр-пропозиций взамен ложных обычно сопровождается выражением враждебности, неприязненного отношения к собеседнику. Даже если подобная форма общения имеет место между близкими людьми, например, между мужем и женой, присутствующие чувствуют себя неловко: ―We do not live a great way from him in the country, you know — not above ten miles, I dare say.‖ ―Much nearer thirty,‖ said her husband. ―Ah, well, there is not much difference. I never was at his house; but they say it is a sweet, pretty place.‖ ―As vile a spot as I ever saw in my life,‖ said Mr. Palmer; ―My love,‖ applying to her husband, ―don‘t you long to have the Miss Dashwoods come to Cleveland?‖ ―Certainly,‖ he replied, with a sneer; ―I came into Devonshire with no other view.‖ ―There, now,‖ said his lady; ―you see Mr. Palmer expects you; so you cannot refuse to come.‖ They both eagerly and resolutely declined her invitation (Austen - 2, pp. 96 - 98). Формулирование истинных пропозиций имеет прагматическую функцию опровержения индивидуального выбора используемых вы- 205 сказываний. Истинные и ложные высказывания в речи двух разных участников являются взаимозаменимыми в ситуации общения, и подобное соположение влечет за собой более глубокое проникновение во внутренний мир собеседников и их взаимоотношения. Произошедшая верификация показывает, что интеллектуальный уровень адресата оказался выше, чем предполагал неискренний адресант. Необходимо также подчеркнуть, что изучение верификации, осуществляемой адресатом, относится к более общей проблеме объяснения влияния, оказываемого коммуникацией на динамику социальных отношений. 3. Верификация, осуществляемая неискренним участником общения В процессе общения неискренний участник может сам верифицировать выраженные им ложные пропозиции. Как показывает анализ, самоверификация имеет место в трех случаях: под иллокутивным вынуждением адресата, в случае неискренности, осуществляемой как розыгрыш, и в случае намеренного саморазоблачения. Под иллокутивным вынуждением понимается давление на собеседника, имеющее своей целью навязать ему тот или иной способ ведения беседы (Баранов, Крейдлин 1992). Если в процессе речевого взаимодействия адресат понимает, что его обманывают, он может начать давить на собеседника, вынуждая его к самоопровержению ложных утверждений. Так, в следующем примере Роберта, пытаясь избавиться от беременности, обманывает врача, однако тот, имея большой опыт в подобных делах, вынуждает ее сказать правду посредством соответствующего ведения беседы: ―What is your name?‖ ―Ruth Howard. Mrs. Howard,‖ replied Roberta nervously and tensely... ―How long have you been married?‖... ―Let me see — three months.‖ At once Dr. Glenn became dubious again, though he gave her no sign. Her hesitancy arrested him. Why the uncertainty? He was wondering now again whether he was dealing with a truthful girl or whether his first suspicions were substantiated. In consequence he now asked: ―Well, now 206 what seems to be the trouble, Mrs. Howard? You need have no hesitancy in telling me — none whatsoever. I am used to such things year in and out, whatever they are. That is my business, listening to the troubles of people. ... You say your husband is an electrician?‖‖ ―Yes,‖ replied Roberta, nervously, not a little overawed and subdued by his solemn moralizing. ―Well, now, there you are,‖ he went on. ―That‘s not such an unprofitable profession. At least all electricians charge enough. And when you consider, as you must, how serious a thing you are thinking of doing, that you are actually planning to destroy a young life that has as good a right to its existence as you have to yours...‖ he paused... Suddenly beginning to open and shut her fingers and at the same time beating her knees, while her face contorted itself with pain and terror, she exclaimed: ―But you don‘t understand, doctor, you don‘t understand! I have to get out of this in some way! I have to. It isn‘t like I told you at all. I‘m not married. I haven‘t any husband at all‖ (Dreiser, pp. 435 - 439). Неискренний участник может активно сопротивляться иллокутивному вынуждению, отказываясь сказать правду. Так, в следующем примере сестра, зная, что ее брат совершил кражу, оказывает на него давление, добиваясь признания, но он уклоняется от самоверификации: ―Tom, have you anything to tell me? If you ever loved me in your life, and have anything concealed from every one besides, tell it to me.‖ ―I don‘t know what you mean, Loo. You have been dreaming.‖ ―My dear brother, is there nothing that you have to tell me? Is there nothing you can tell me if you will? You can tell me nothing that will change me. O Tom, tell me the truth!‖ ―I don‘t know what you mean, Loo!‖ ―As you lie here alone, my dear, in the melancholy night, so you must lie somewhere one night, when even I, if I am living then, shall have left you.... In the name of that time, Tom, tell me the truth now!‖ ―What is it you want to know?‖ ―You may be certain that I will not reproach you. You may be certain that I will be compassionate and true to you. You may be certain that I will save you at whatever cost. O Tom, have you nothing to tell me? Whisper very softly. Say only ―yes‖, and I shall understand you!‖ She turned her ear to his lips, but he remained doggedly silent. 207 ―Not a word, Tom?‖ ―How can I say Yes, or how can I say No, when I don‘t know what you mean? Loo, you are a brave, kind girl, worthy I begin to think of a better brother than I am. But I have nothing more to say. Go to bed, go to bed‖ (Dickens, p. 209). При иллокутивном вынуждении адресат демонстрирует определенную социальную дистанцию между собой и неискренним говорящим. То, что сестра задает брату вопросы, побуждая его сказать в ответ правду, и не осмеливается в открытую объявить о совершенном им преступлении, отражает особенности языковой культуры. Принципы английской языковой культуры предписывают проявлять сдержанность в общении и не вмешиваться в личную жизнь даже самых близких людей. Несомненно, что решение говорящего о том, что можно выразить эксплицитно, а что имплицитно, определяется индивидуальным выбором говорящего, но одновременно оно зависит от действующих в рамках данной культуры норм речевого этикета. Верификация по типу розыгрыша и саморазоблачения связана с прагматическими аспектами самооценки, под которой понимается позитивная или негативная оценка говорящим своего собственного речевого поведения (Золотарева 1998). Самоверификация неискренности, осуществляемой по типу розыгрыша, обычно планируется говорящим как логическое завершение неискреннего дискурса. Неискренность в этом случае, как правило, организована по игровому сценарию. Так, в следующем примере Рочестер, переодевшись в цыганку, предсказывает судьбу Джейн Эйр, однако с самого начала он планировал вскрыть розыгрыш в конце общения: ―That will do. I think I rave in a kind of exquisite delirium. I should wish now to protract this moment ad infinitum; but I dare not. So far I have governed myself thoroughly. I have acted as I inwardly swore I would act; but farther might try me beyond my strength. Rise, Miss Eyre: leave me; the play is played out.‖ Where was I? Did I wake or sleep? ... Again I looked at the face; which was no longer turned from me — on the contrary, the bonnet was doffed, the bandage displaced, the head advanced. ―Well, Jane, do you know me?‖ asked the familiar voice. ―Only take off the red cloak, sir, and then —‖ 208 ―But the string is in a knot — help me.‖ ―Break it, sir.‖ ―There, then — Off, ye lendings!‖ And Mr. Rochester stepped out of his disguise (Bronte, pp. 243 244). При вскрытии розыгрыша верифицируется не основная, а вспомогательная ложная пропозиция, а именно проясняется, кто скрывался под нарядом цыганки. Однако главная ложная пропозиция остается неверифицированной. Рочестер не осмеливается сказать Джейн, что за его претензиями и придирками к ней скрывается любовь. С помощью розыгрыша он старается привлечь ее внимание к себе, сделать их отношения более близкими. При верификации по типу вскрытия розыгрыша неискренний участник апеллирует к собеседнику в надежде на его догадливость относительно истинных мотивов своего поведения. В розыгрыше проявляется некатегоричная самооценка, в которой в эксплицитной, но чаще в имплицитной форме присутствует оценочный предикат ―хорошо‖. Неискренний говорящий выражает не подлежащую с его стороны сомнению оценку своего поведения как ―хорошего‖, идущего на пользу адресату. В то же время он не делает свою оценку безусловной, оставляя собеседнику возможность высказать иное мнение. Самоверификация при розыгрыше основана на недосказанности, когда неискреннему говорящему хочется получить определенную реакцию со стороны адресата, но только в случае его доброй воли. Розыгрыш является довольно специфическим типом коммуникации, так как коммуникативная неудача - разоблачение неискренности входит в планы самого говорящего. Бытующее в обыденном сознании мнение о том, что разоблачение неискренности является свидетельством неудачи, неуспешного ведения разговора, опровергается и в таком специфическом типе дискурса как намеренное саморазоблачение. Обратимся к примеру, в котором мужчина рассказывает о том, как он соблазняет женщин. На первый взгляд может показаться, что он критикует себя или цинично хвастается. Однако более глубокий анализ показывает, что им ставится задача узнать отношение слушающих к подобному поведению, выяснить оценку каждого из них: 209 ―Well then, finally, when the moment seems ripe and they‘re thoroughly domesticated and no more frightened, one stages the denouement. Tea in one‘s rooms - one‘s got them thoroughly used to coming with absolute impunity to one‘s rooms - and they are going to go out to dinner with one, so that there‘s no hurry. The twilight deepens, one talks disillusionedly and yet feelingly about the amorous mysteries, one produces cocktails very strong - and goes on talking so that they ingurgitate them absentmindedly without reflection. And sitting on the floor at their feet, one begins very gently stroking their ankles in an entirely platonic way, still talking about amorous philosophy, as though one were quite unconscious of what one‘s hand were doing. If that‘s not resented and the cocktails have done their work, the rest shouldn‘t be difficult. So at least I‘ve always found.‖ Spandrell helped himself to more brandy and drank. ―But it‘s then, when they‘ve become one‘s mistress that the fun really begins. It‘s then one deploys all one‘s Socratic talents. One develops their little temperaments, one domesticates them - still so wisely and sweetly and patiently to every outrage of sensuality. It can be done, you know, the more easily, the more innocent they are. They can be brought in perfect ingenuousness to the most astonishing pitch of depravity.‖ ―I‘ve no doubt they can,‖ said Mary indignantly. ―But what‘s the point of doing it?‖ ―It‘s an amusement,‖ said Spandrell with theatrical cynicism. ―It passes the time and relieves the tedium.‖ ―And above all,‖ Mark Rampion went on, without looking up from his coffee cup, ―above all it‘s vengeance. It‘s a way of getting one‘s own back on women, it‘s a way of punishing them for being women and so attractive, it‘s a way of expressing one‘s hatred of them and of what they represent, it‘s a way of expressing one‘s hatred of oneself. The trouble with you, Spandrell,‖ he went on, suddenly and accusingly raising his bright pale eyes to the other‘s face, ―is that you really hate yourself. You hate the very source of your life, its ultimate basis - for there‘s no denying it, sex is fundamental. And you hate it, hate it.‖ ―Me?‖ It was a novel accusation. Spandrell was accustomed to hearing himself blamed for his excessive love of women and the sensual pleasures (Huxley, p. 120). Данный пример иллюстрирует ориентированность неискреннего говорящего на получение определенных речевых действий со сторо- 210 ны собеседников. Саморазоблачение не несет каких-то абсолютно новых знаний, так как образ жизни говорящего всем хорошо известен. Неискренний говорящий не столько выражает истинные пропозиции, сколько имитирует искренность, создавая своего рода дискурспародию. Оценка пародируемого содержания идет не по линии критики своего поведения. Скорее, наоборот, самоверификация одного неискреннего проявления базируется на еще более глубинном выражении неискренности. Можно сделать вывод, что верификация, осуществляемая самим неискренним участником общения, состоит не столько в констатации истинного знания, сколько в рефлексии над этим знанием. При этом происходит, во-первых, воспроизведение репрезентативных черт прагматической ситуации неискренности и, во-вторых, их модификация в соответствии с новыми неречевыми целями неискреннего говорящего. 4. Взаимная верификация Взаимная верификация представляет собой диалогический дискурс, в котором оба собеседника высказывают несогласие друг с другом, опровергая ложные пропозиции, выраженные как с одной, так и с другой стороны. С точки зрения наивно-языковых представлений подобный дискурс можно назвать выяснением отношений. При взаимной верификации обычно выражается негативная реакция со стороны обоих участников, поэтому дискурс носит конфликтный или даже враждебный характер. Выяснение отношений предполагает сравнение двух разных интерпретаций мира, и подобная беседа часто заканчивается ссорой. С другой стороны, восстановление истины может способствовать преодолению конфликта и переходу к мирным отношениям. Несогласие выражается при помощи языковых средств контрадикторной и негативно-оценочной семантики, синтаксических конструкций в отрицательной форме, перифраз, стилистических приемов иронии и сарказма и других средств, указывающих на некорректность высказываний. Рассмотрим пример выяснения отношений между супругами: 211 ―Edwin,‖ she exclaimed very passionately, in a thick voice, quite unlike her usual clear tones, as she surveyed the furniture, ―this is really too much!‖... ―It‘s war, this is!‖ thought Edwin. ... Aloud he said, with a kind of self-conscious snigger: ―What‘s too much?‖ Hilda went on: ―You simply make me look a fool in my own house, before my own son and the servants.‖ ―You‘ve brought it on yourself,‖ said he fiercely. ―If you will do these idiotic things you must take the consequences. I told you I didn‘t want the furniture moved, and immediately my back‘s turned you go and move it. I won‘t have it, and so I tell you straight.‖ ―You‘re a brute,‖ she continued, not heeding him, obsessed by her own wound. ―You are a brute!‖ She said it with terrifying conviction. ―Everybody knows it. Didn‘t Maggie warn me? You‘re a brute and a bully. And you do all you can to shame me in my own house. Who‘d think I was supposed to be the mistress here? Even in front of my friends you insult me.‖ ―Don‘t act like a baby. How do I insult you?‖ ―Talking about boarding-houses. Do you think Janet and all of them didn‘t notice it?‖ ―Well,‖ he said, ―let it be a lesson to you.‖ She hid her face in her hands and sobbed, moving toward the door. He thought: ―She‘s beaten. She knows she‘s got to take it.‖ Then he said: ―Do I go altering furniture without consulting you? Do I do things behind your back? Never!‖ ―That‘s no reason why you should try to make me look a fool in my own house. ... I think you ought to apologize to me,‖ she blubbered. ―Yes, I really do.‖ ―Why should I apologize to you? You moved the furniture against my wish. I moved it against yours. That‘s all. You began. I didn‘t begin. You want everything your own way. Well, you won‘t have it.‖ She blubbered once more: ―You ought to apologize to me.‖ And then she wept hysterically. ... ―I don‘t think I ought to apologize,‖ he said, with a slight laugh. ―But if you think so I don‘t mind apologizing. I apologize. There!‖ He dropped into an easy-chair. To him it was as if he had said: ―You see what a magnanimous chap I am.‖ 212 She tried to conceal her feelings, but she was pleased, flattered, astonished. Her self-respect returned to her rapidly. ―Thank you,‖ she murmured, and added: ―It was the least you could do‖ (Bennett, pp. 42 43). В данном примере ложность проявляется в сфере личной жизни. Длительная взаимная неискренность супругов становится непереносимой, и, в конце концов, это приводит к выяснению отношений. Со стороны жены отторжение накопившихся ложных пропозиций акцентируется путем выражения желания положить конец неискреннему общению (this is really too much!), а со стороны мужа - путем выражения желания осуществлять речевые действия враждебного характера (it‘s war, this is!). Каждый из участников передает отрицательную оценку речевого поведения другого. Для этого используется лексика с отрицательной оценочной семантикой (idiotic, brute, bully, fool) и глаголы и глагольные конструкции с обвинительным оттенком значения (look a fool, shame, insult, do things behind one‘s back). Употребляя эти средства, каждый из собеседников преследует цель приостановить нежелательные речевые действия, восстановить гармоничность общения, и обязательно на его условиях. Общей особенностью выяснения отношений является то, что каждый участник, во-первых, выдвигает свою интерпретацию ситуации, во-вторых, предлагает пути преобразования ситуации и, в третьих, навязывает собеседнику определенный перечень речевых действий. Во время взаимной верификации один из собеседников может быть полностью искренним, в то время как другой, верифицируя часть ложных утверждений, старается сохранить некоторые знания скрытыми. Иногда собеседники как бы соревнуются друг с другом, пытаясь даже в процессе выяснения отношений не сказать всей правды. Обратимся к примеру: Helen said, ―I saw you on the beach this afternoon.‖ Scobie looked apprehensively up from the glass of whisky he was measuring. Something in her voice reminded him oddly of Louise. He said, ―I had to find Rees — the Naval Intelligence man.‖ ―You even didn‘t speak to me.‖ ―I was in a hurry.‖ ―You are so careful. Always,‖ she said. ... 213 He laughed with half a heart and said, ―For once I wasn‘t thinking of you. I had other things in mind.‖ ―What other things?‖ ―Oh, diamonds ...‖ ―Your work is much more important to you than I am,‖ Helen said, and the banality of the phrase, read in how many books, wrung his heart like the too mature remark of a child. ―Yes,‖ he said gravely, ―but I‘d sacrifice it for you.‖ ―Why?‖ ―I suppose because you are a human being. One may love a dog more than any other possession, but one wouldn‘t run down even a strange child to save it.‖ ―Oh,‖ she said impatiently, ―why do you always tell me the truth? I don‘t want the truth all the time.‖ He put the whisky glass in her hand and said, ―My dear, you are unlucky. You are tied up with a middle-aged man. We can‘t be bothered to lie all the time like the young.‖ ―If you knew,‖ she said, ―how tired I get of all your caution. You come here after dark and you go after dark. It‘s so — so ignoble.‖ ―Yes.‖ ―We always make love — here. Among the junior official‘s furniture. I don‘t believe we‘d know how to do it anywhere else.‖ ―Poor dear,‖ he said. She said furiously, ―I don‘t want your pity ... Can‘t you ever risk anything?‖ she asked. ―You never even write a line to me. You go away on trek for days, but you won‘t leave anything behind. I can‘t even have a photograph to make this place human.‖ ―But I haven‘t got a photograph.‖ ―I suppose you think I‘d use your letters against you.‖ He thought wearily, if I shut my eyes it might almost be Louise speaking ... He said gently, ―You talk such nonsense, dear.‖ ―You think I‘m a child. You tiptoe in — bringing me stamps.‖ ―I‘m trying to protect you.‖ ―I don‘t care a bloody damn if people talk.‖ He recognized the hard swearing of the netball team. He said, ―If they talked enough, my dear, this would come to an end.‖ 214 ―You are not protecting me. You are protecting your wife.‖ ―It comes to the same thing.‖ ―Oh,‖ she said, ―to couple me with — that woman.‖ He couldn‘t prevent the wince that betrayed him. ... ―My dear,‖ he said, ―it‘s too soon to quarrel.‖ ―That woman,‖ she repeated, watching his eyes. ―You‘d never leave her, would you?‖ ―We are married,‖ he said. ―If she knew of this, you‘d go back like a whipped dog.‖ ... ―I don‘t know.‖ ―You‘ll never marry me.‖ ―I can‘t. You know that. I‘m a Catholic. I can‘t have two wives.‖ ―It‘s a wonderful excuse,‖ she said. ―It doesn‘t stop you sleeping with me — it only stops you marrying me.‖ ―Yes,‖ he said heavily (Greene, pp.168 -169). В этом диалоге верификация со стороны женщины представляет собой движение к более полному выяснению отношений, а для мужчины она идет по пути уступок, когда формулирование истинных смыслов происходит по мере требований женщины. Женщина хочет достичь абсолютного предела развития смысла в нужном для себя ракурсе, выяснить все до конца; мужчина же растягивает уже верифицированные смыслы, стремясь утаить то, что еще осталось недосказанным. Очевидно, что при выяснении отношений проблема состоит не в степени свободы самовыражения, а в различных установках на тип верификации. Обычно один участник заинтересован в более полном установлении истины, чем другой. Степень верификации зависит от степени понимания. В данном примере мужчине не удалось проникнуть в ―глубину‖ неискренности женщины. Он не понимает, что с самого начала их отношений она хотела, чтобы он ушел от жены. В этой связи будет уместным вспомнить, что обращение опыта на дискурс есть процесс, который угасает в предмете, не равном пониманию (Богин 1986, 7). Отсутствие понимания у мужчины ведет к тому, что выяснение отношений развивается односторонне - критикуя действия мужчины, женщина искусно выводит истинностную оценку своего собственного поведения из сферы верификации. 215 Итак, взаимная верификация может иметь разные ориентиры. Участники могут быть в равной степени заинтересованы в установлении полной истины. Один из участников может препятствовать полной верификации, особенно в касающейся его самого части опыта. В целом, проведенный анализ особенностей речевого взаимодействия в процессе верификации неискреннего дискурса позволяет сделать следующий вывод. Верификация неискренности зависит от многих факторов, главными из которых являются способность языковой личности к верификации, обусловленная способностью к адекватному пониманию, и готовность языковой личности к верификации, зависящая от социальных, культурологических, этических и прочих аспектов ситуации общения. 216 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основное содержание данной книги направлено на защиту следующих положений: 1) Термин неискренность является наиболее адекватным по сравнению с другими терминами, выражающими тот же самый концепт, такими как ложь, обман, дезинформация, тенденциозное представление событий и т.п. 2) С семантической точки зрения неискренность представляет собой личностный смысл, состоящий в осознанном выражении ложных пропозиций взамен истинных. 3) Неискренность как дискурсивная стратегия языковой личности проявляется в порождении неискреннего дискурса. 4) Неискренность является одним из видов лингвокреативной деятельности, в результате которой происходит создание нужного говорящему сценария неискреннего дискурса. 5) Неискренний дискурс функционирует, в основном, в контексте искреннего дискурса других участников коммуникации, однако наблюдаются также случаи взаимной неискренности. 6) В неискреннем дискурсе действует принцип фокусирования центрального референта, находящий свое выражение в различных способах представления темы. 7) Неискренний дискурс характеризуется наличием рематической доминанты. 8) Неискренность может быть выражена как в структуре диалога, так и монолога. 9) Неискренний дискурс во многих случаях является нелинеарным образованием, в котором действуют дистантные межфразовые связи. 10) Неискренность может быть верифицирована на основе анализа особенностей речевого взаимодействия участников общения. Исследование неискренности является звеном в изучении человеческого фактора в языке, так как неискренность исходит от языковой личности и выражается зависящими от нее языковыми средства- 217 ми. Неискренний дискурс представляет собой неотъемлемую часть речевого общения, что предопределяет правомерность его рассмотрения в рамках таких кардинальных проблем теоретической лингвистики, как порождение речи, представление знаний и их объективация в языковых формах. Неискренний дискурс основан на особом способе концептуализации картины мира автором речи, а именно: на трансформации пространственно-временных координат, структуры действий и референтного состава ситуации общения. Путь, который проделывает неискренний говорящий, начинается от формирования личностного смысла неискренности и ведет к созданию реальных контуров будущих высказываний через использование различных типов когнитивных сценариев неискреннего дискурса. Для реализации неискренности в дискурсном виде требуется не только отбор языковых средств из имеющегося инвентаря, но и лингвокреативная деятельность языковой личности, связанная с творческим началом в сфере номинации, актуального членения высказываний, организации структуры диалога и монолога, контактных и дистантных межфразовых связей. Рассмотрение неискреннего дискурса важно не только с точки зрения его имманентных внутренних характеристик, но и с позиций интерпретации. Неискренность как дискурсивная стратегия языковой личности влечет за собой определенные модели речевого взаимодействия, в процессе которого реализуются ситуативнодифференцированные приемы верификации неискренности. 218 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абалакина М. А., Агеев В. С. Анатомия взаимопонимания. - М.: Знание, 1990. 2. Адмони П. Г. Грамматика и текст // Вопр. языкознания. - 1985. - № 1. 3. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1984. 4. Алисова Т. В. Дополнительные отношения модуса и диктума // Вопр. языкознания. - 1971. - № 2. 5. Аллен Дж. Ф., Перро Р. Выявление коммуникативного намерения, содержащегося в высказывании // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. 6. Антропова М. В. Личностные доминанты и средства их языкового выражения: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1996. 7. Аошуан Т. Китайский язык и концептуальный мир говорящего // Вопр. языкознания. - 1994. - № 5. 8. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопр. языкознания. - 1995. - № 1. 9. Арнольд И. В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды // Вопр. языкознания. - 1991. - № 3. 10. Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и ―почему‖реплики в русском языке // Филологические науки. - 1970. - № 3. 11. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1981. Т. 40. - № 4. 12. Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и лингвистика (проблемы референции). – М.: Радуга, 1982. 13. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой ―картины мира‖) // Вопр. языкознания. - 1987. - № 3. 14. Арутюнова Н. Д. Речевой акт // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. 15. Арутюнова Н. Д. Феномен второй реплики, или о пользе спора // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990а. 16. Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991. 17. Арутюнова Н. Д. Речеповеденческие акты и истинность. Речеповеденческие акты в зеркале чужой речи. ―Я‖ и ―Другой‖ // Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. - М.: Наука, 1992. 18. Арутюнова Н. Д. Вторичные истинностные оценки: правильно, верно // Логический анализ языка. Ментальные действия. - М.: Наука, 1993. 19. Арутюнова Н. Д. О стыде и стуже // Вопр. языкознания. - 1997. - № 2. 219 20. Аскин Я. Ф. Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, 1974. 21. Астафурова Т. Н. Стратегия: когнитивный или коммуникативный концепт? // Язык в эпоху знаковой культуры. Тезисы докл. международной науч. конф. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 22. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Пер. с франц. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. 23. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Знаковые функции вещных сущностей // Язык - Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 24. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 1997. – Т. 56. - № 1. 25. Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопр. языкознания. - 1992. - № 2. 26. Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов // Вопр. языкознания. - 1992а. - № 3. 27. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1989. 28. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Худ. лит-ра, 1975. 29. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. 30. Белл Р. Т. Социолингвистика / Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1980. 31. Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. Прагматический ―принцип приоритета‖ и его отражение в грамматике языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1981. -Т. 40. - № 4. 32. Бердяев Н. А. Философия неравенства. - М.: ИМА-Пресс, 1990. 33. Бисималиева М. К. О понятиях «текст» и «дискурс» // Филологические науки. - 1999. - № 2. 34. Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 35. Блох М. Я. Вопросы изучения грамматического строя языка. – М.: Изд-во МГПИ, 1976. – 108 с. 36. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - Л., 1984. 37. Богин Г. И. Типология понимания текста: Учебное пособие. - Калинин: КГУ, 1986. 38. Богин Г. И. Интенциональность как средство выведения к смысловым мирам // Понимание и интерпретация текста: Сб. науч. тр. - Тверь: ТГУ, 1994. 39. Богин Г. И. Рефлективность против реактивности: одна из проблем в ситуациях когнитивного развития человеческого индивида и человеческого рода // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 220 Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике. - Ч. 1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. 40. Богин Г. И. Переход содержаний в смыслы как одна из техник понимания // Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 41. Богуславская О. Ю. Учет базы знаний адресата в процессе номинации и референции // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1985. 42. Болинджер Д. Истина - проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 43. Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // Вопр. языкознания. - 1985. - № 1. 44. Бондарко А. В. К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопр. языкознания. - 1992. - № 3. 45. Брчакова Д. О связности в устных коммуникатах // Синтаксис текста. - М.: Наука, 1979. 46. Бубер М. Я и Ты. - М.: Высшая школа, 1993. 47. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1981. - Т. 40. - № 4. 48. Булыгина Т. В. К проблеме моделирования способности говорящих к контекстному разрешению неоднозначности // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. - М.: Наука, 1983. 49. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Возможность и необходимость в логике и языке // Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. - М.: Наука, 1992. 50. Бурдина З. Г. Грамматика и коммуникативно-когнитивные стратегии интерпретации текста // Филологические науки. - 1995. - № 4. 51. Бурдина З. Г. Синтаксические фреймы и их интерпретация в художественном тексте современного немецкого языка // Филологические науки. - 1994. № 3. 52. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 53. Вайсгербер Й.-Л. Язык и философия // Вопр. языкознания. - 1993. -№ 2. 54. Васильев Л. Г. Рефлексия, понимание, фреймы // Понимание и интерпретация текста: Сб. науч. тр. - Тверь: ТГУ, 1994. 55. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста. - Киев: Наукова думка, 1988. 56. Вежбицка А. Культурно-обусловленные сценарии и их когнитивный статус // Язык и структура знания. - М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1990. 221 57. Вежбицкая А. Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и лингвистика (проблемы референции). – М.: Радуга, 1982. 58. Вейхман Г. А. Дериваты вопросно-ответных единств // Вопр. языкознания. – 1987. - № 3. 59. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс, 1985. 60. Вербицкая М. В. К обоснованию теории вторичных текстов // Филологические науки. - 1989. - № 1. 61. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. - М.: Наука, 1976. 62. Верещагин Е. М., Ратмайр Р., Ройтер Т. Речевые тактики ―призыва к откровенности‖. Еще одна попытка проникнуть в идиоматику речевого поведения и русско-немецкий контрастивный подход // Вопр. языкознания. - 1992. № 6. 63. Винокур Т. Г. К характеристике говорящего. Интенция и реакция // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. 64. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М.: Наука, 1993. 65. Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с англ. - М.: Гнозис, 1994. 66. Вольф Е. М. О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1981. - Т. 40. -№ 4. 67. Вольф Е. М. Эмоциональные состояния и их представление в языке // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. - М.: Наука, 1989. 68. Воркачев С. Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии // Вопр. языкознания. - 1997. - № 4. 69. Воркачев С. Г. Зависть и ревность: К семантическому представлению моральных чувств в естественном языке // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. - 1998. - Т. 57. - № 3. 70. Воробьева О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (одноязычная и межъязыковая коммуникация): Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1993. 71. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка. - М.: Изд-во Академии пед. наук, 1956. 72. Гадамер Х.- Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. - М.: Прогресс, 1988. 73. Гак В. Г. Истина и люди // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. - М.: Наука, 1995. 74. Гак В. Г. Литературные варианты и особенности национальной культуры // Филологические науки. - 1996. - № 3. 222 75. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981. 76. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.: Новое литературное обозрение, 1996. 77. Герасимов В. И., Петров В. В. На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. 78. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Пер. с франц.- М.: Прогресс, 1992. 79. Глаголев Н. В. Ложная информация и способы ее выражения в тексте // Филологические науки. - 1987. - № 4. 80. Головачева А. Г. Литературно-театральные реминисценции в пьесе А. П. Чехова «Чайка» // Филологические науки. - 1988. -№ 3. 81. Гончаренко С. Ф. Символическая звукопись: квазиморфема как ―внутреннее слово‖ в процессе поэтической коммуникации // Язык - Система. Язык Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 82. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс, 1985. 83. Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности. Психолингвистические основы искусственного интеллекта. - Таллин: Валгус, 1987. 84. Городецкий Б. Ю., Кобозева И. М., Сабурова И. Г. К типологии коммуникативных неудач // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1985. 85. Горский Д. П., Нарский И. С., Ойзерман Т. И. Истина как процесс и как результат познания // Современные проблемы теории познания диалектического материализма. – М.: Мысль, 1970. 86. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1984. 87. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии // Язык и интеллект. - М.: Прогресс, 1996. 88. Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. 89. Дейк Т. А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. 90. Дементьев В. В. Фатические речевые жанры // Вопросы языкознания. 1999. - № 1. 91. Демина Л. А. Парадоксы нереференциальности // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990. 92. Демьянков В. З. Интерпретация текста и стратегемы поведения // Семантика языковых единиц и текста (лингвистические и психолингвистические исследования). - М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1979. 223 93. Демьянков В. З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1981. -Т. 40. - № 4. 94. Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века // Язык и наука конца 20 века. - М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. 95. Дешериева Т. И. Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам // Вопр. языкознания. - 1975. № 2. 96. Добровольский Д. О., Караулов Ю. Н. Идиоматика в тезаурусе языковой личности // Вопр. языкознания. - 1993. - № 2. 97. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо. Изд-во МГУ, 1996. 98. Ермакова О. Н., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. - М.: Наука, 1993. 99. Ермолаев Б. А. Целеобразование и коммуникация // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. 100. Ермолаева Л. С. Очерки по сопоставительной грамматике германских языков: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1987. – 128 с. 101. Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопр. языкознания. - 1964. - № 6. - С. 26 - 38. 102. Жинкин Н. Н. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. 103. Зельдович Г. М. О типах семантической информации: слабые смыслы // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. - 1998. - Т. 57. - № 2. 104. Земская Е. А., Ширяев Е. Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? // Вопросы языкознания. - 1980. - № 2. 105. Зобов Р. А., Мостепаненко А. М. О типологии пространственновременных отношений в сфере искусства // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, 1974. 106. Золотарева Е. В. О прагматике самооценки // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф. Иркутск: ИГЛУ, 1998. 107. Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста. - М.: Наука, 1979. 108. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. 109. Золотова Г. А. Говорящее лицо и структура текста // Язык - Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 110. Йокояма О. Теория коммуникативной компетенции и проблематика порядка слов в русском языке // Вопр. языкознания. - 1992. - № 6. 111. Каменская О. Л. Компоненты семантической структуры текста: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1988. 224 112. Каплуненко А. М. Развитие фразеологии и человеческий фактор // Фразеология и личность: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1995. 113. Каплуненко А. М. Язык в эпоху знаковой культуры: бегство от символа // Язык в эпоху знаковой культуры. Тезисы докл. международной науч. конф. Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 114. Каплуненко А. М. Об интенциональном горизонте двусмысленности // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 115. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 1987. 116. Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. 117. Караулов Ю. Н. О русском языке зарубежья // Вопр. языкознания. - 1992. № 6. 118. Карнап Р. Значение и необходимость: Исследования по семантике и модальной логике. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 119. Касевич В. Б., Храковский В. С. От пропозиции к семантике предложения // Типология конструкций с предикатными актантами. - Л.: Наука, 1985. 120. Касевич В. Б. Язык и знание // Язык и структура знания / Отв. ред. Р. М. Фрумкина. – М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1990. 121. Кибрик А. А. Фокусирование внимания и местоименно-анафорическая номинация // Вопр. языкознания. – 1987. - № 3. 122. Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопр. языкознания. - 1994. - № 5. 123. Кибрик А. Е. Динамика информационного диалога // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1985. 124. Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. - Л.: ЛГУ, 1978. 125. Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Языковая личность в аспекте проблем судебной экспертизы устной речи // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. 126. Кобозева И. М. ―Теория речевых актов‖ как один из вариантов теории речевой деятельности // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 17. Теория речевых актов. - М.: Прогресс, 1986. 127. Кобрина Н. А. Механизмы речепорождения и восприятия текста в рамках когнитивной лингвистики ( перспективы изучения) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике. - Ч. 1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. 128. Ковалева Л. М. Проблемы структурно-семантического анализа простой глагольной конструкции в современном английском языке. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1987. 129. Ковалева Л. М. Идентифицирующее и предикатное значение vs. компонентный анализ и теория прототипического значения // Язык в эпоху знако- 225 вой культуры. Тезисы докл. международной науч конф. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 130. Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. - М.: Наука, 1979. 131. Колшанский Г. В. О языковом механизме порождения текста // Вопр. языкознания. – 1983. - № 3. 132. Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. – М.: Наука, 1975. 133. Комлев Н. Г. Фридрих Кайнц и статус психологии языка // Вопросы языкознания. - 1980. - № 2. 134. Кормановская Т. И. О коммуникативной организации сложноподчиненного предложения // Вопр. языкознания. – 1987. - № 3. 135. Костюшкина Г. М. Пространственно-временная категоризация опыта в языке // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 136. Костюшкина Г. М. К проблеме языковой концептуализации //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 137. Кох В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. 138. Кравченко А. В. Вопросы теории указательности: Эгоцентричность. Дейктичность. Индексальность. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1992. 139. Кравченко А. В. К проблеме наблюдателя как системообразующего фактора в языке // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. - 1993. - Т. 52. - № 3. 140. Кравченко А. В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1996. 141. Кривоносов А. Т. Мышление - без языка? // Вопр. языкознания. - 1992. - № 2. 142. Крысин Л. П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. 143. Куайн У. О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и лингвистика (проблемы референции). – М.: Радуга, 1982. 144. Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. 145. Кубрякова Е. С. Модели порождения речи и главные отличительные особенности речепорождающего процесса. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. 226 146. Кубрякова Е. С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991а. 147. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. - М.: Инт языкознания РАН, 1995. 148. Кузнецова Т. Я. Вертикальный контекст (К проблеме сложного синтаксического целого): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - СПб, 1995. 149. Кузьмина Т. Е. Закономерности понимания причинно-следственных отношений в тексте // Понимание и интерпретация текста: Сб. науч. тр. - Тверь: ТГУ, 1994. 150. Кульгавова Л. В. Опыт анализа значений говорящего (на материале абстрактного имени love в современном английском языке): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Иркутск, 1995. 151. Кухаренко В. А. Типы и средства выражения импликации в английской художественной речи // Филологические науки. - 1974. - № 1. 152. Ладыгин Ю. А. К проблеме функционирования экстенсиональных значений в прозаическом художественном тексте //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 153. Лакофф Дж. Прагматика в естественной логике // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс, 1985. 154. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 155. Лаптева О. А. О грамматике устного высказывания // Вопросы языкознания. - 1980. - № 2. 156. Лахман Р. Ценностные аспекты семиотики культуры (семиотики текста Ю. Лотмана) // Лотмановский сборник. - М.: ИЦ-Гарант, 1994. 157. Лебедева Л. Б. Высказывания о мире: содержательные и формальные особенности // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990. 158. Ленерт У. Проблемы вопросно-ответного диалога // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. 159. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.: Наука, 1969. 160. Леонтьев А. А., Шахнарович А. М., Батов В. И. Речь в криминалистике и судебной психологии. - М.: Наука. Ред. восточной лит-ры, 1977. 161. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Изд-во политической лит-ры, 1975. 162. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. - Т. 52. - № 1. 163. Лосев А. Ф. Дерзание духа. - М.: Изд-во политической лит-ры, 1988. 227 164. Лукин В. А. Слово ―истина‖ и идея тождества // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. - Т. 52. - № 1. 165. Лурия А. Р. Язык и сознание. - М.: Изд-во МГУ, 1979. 166. Лухьенбрурс Д. Дискурсивный анализ и схематическая структура // Вопр. языкознания. - 1996. - № 2. 167. Ляпон М. В. Оценочная ситуация и словесное самомоделирование // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. 168. Ляпон М. В. Языковая личность: поиск доминанты // Язык - Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 169. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: ТГУ, 1998. 170. Маковский М. М. Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке // Вопр. языкознания. - 1976. - № 1. 171. Маковский М. М. «Картина мира» и миры образов (Лингвокультурологические этюды) // Вопр. языкознания. - 1992. - № 6. 172. Малинович М. В., Бидагаева С. Д. О роли наречий в тема-рематической организации высказывания // Глубинные аспекты языковых единиц. Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 173. Малинович М. В., Семенова Д. Ю. Причинность в естественном языке как форма отражения отношений объективной действительности // Проблемы структурно-семантической организации текста: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск, ИГЛУ, 1999. 174. Малинович Ю. М. Экспрессия и смысл предложения: Проблемы эмоционально-экспрессивного синтаксиса. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1989. 175. Малинович Ю. М. Семантика личностной пристрастности как одна из актуальных проблем современной лингвистики // Язык в эпоху знаковой культуры. Тезисы докл. международной науч конф. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 176. Малинович Ю. М. Семантика эгоцентрических категорий в концептуальной модели естественного языка // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 177. Малинович Ю. М. Семантика эгоцентических категорий: клятвы в русскоязычной культуре // Проблемы структурно-семантической организации текста: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. О. К. Денисова. - Иркутск, ИГЛУ, 1999. 178. Матевосян Л. Б. Стереотипное высказывание как психо- и социолингвистический феномен // Филологические науки. - 1994. - № 2. 179. Матевосян Л. Б. Имплицитные смыслы высказывания в рамках диалогического единства // Филологические науки. - 1996. - № 3. 180. Матезиус В. О потенциальности языковых явлений // Пражский лингвистический кружок: Сб. статей. – М.: Прогресс, 1967. 228 181. Мезенин С. М. Образность как лингвистическая категория // Вопр. языкознания. – 1982. - № 6. 182. Мезенин С. М. Образные средства языка (на материале произведений Шекспира). - М.: МГПИ им. И. И. Ленина, 1984. 183. Менг К. Проблема анализа диалогического общения // Текст как психолингвистическая реальность. - М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1982. 184. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. 185. Москальская О. И. Грамматика текста: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1981. 186. Нефедова Л. А. Высказывание как средство манипулирования наблюдателем в повседневном общении // Когнитивные аспекты языкового значения 2. Говорящий и наблюдатель: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГЛУ, 1999. 187. Николаева Т. М. Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенсиональности. - М.:, 1988. 188. Николаева Т. М. О принципе ―некооперации‖ и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990. 189. Новосельцева О. О. Высказывания, выражающие оценку истинности чужого сообщения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - СПб, 1997. 190. Останин А. И. Целевая соотносительность обращения и высказывания // Филологические науки. - 1998. - № 1. 191. Павиленис В. М. Проблема смысла. - М.: Мысль, 1983. 192. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений). - М.: Наука, 1985. 193. Падучева Е. В. Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991. 194. Падучева Е. В. Говорящий как наблюдатель: об одной возможности применения лингвистики в поэтике // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. - 1993. - Т. 52. - № 3. 195. Палек Б. Кросс-референция; к вопросу о гиперсинтаксисе // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. 196. Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века // Вопр. языкознания. – 1996. - № 2. 197. Першина Е. Л. Формирование системы целей участника языкового взаимодействия // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1985. 198. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. - М.: Изд-во МГУ, 1988. 199. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. - М.: Учпедгиз, 1956. 229 200. Пиирайнен И. Г. Вежливость как категория языка // Вопр. языкознания. 1996. - № 6. 201. Пименов Е. А. Бипропозициональность в типологическом аспекте // Язык в эпоху знаковой культуры. Тезисы докл. международной науч конф. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 202. Пименов Е. А. Этногерменевтика и этнориторика: пути развития // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике. - Ч. 1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. 203. Плотникова С. Н. Решение проблем в серии бесед // Фразеология и личность: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1995. 204. Плотникова С. Н. К основам судебной лингвистики: дискурс, представляющий собой обман // Язык в эпоху знаковой культуры. Тезисы докл. международной науч конф. - Иркутск: ИГПИИЯ, 1996. 205. Плотникова С. Н. Структура знания как основа определения типа беседы // Когнитивные аспекты языкового значения: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГЛУ, 1997. 206. Плотникова С. Н. Пропозициональная основа дискурса и перевод // Вопросы теории и практики перевода: Межвуз. сб. науч. тр. - Иркутск: ИГЛУ, 1997а. 207. Плотникова С. Н. Сотрудничество и конфликт в беседе: анализ интерактивных стратегий: Учебное пособие. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 208. Плотникова С. Н. Обман как вербальное знаковое поведение //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 209. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. 210. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. - М.: Радио и связь, 1997. 211. Потебня А. А. Мысль и язык. - Киев: Синто, 1993. 212. Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопр. языкознания. - 1990. - № 6. 213. Прозоров В. В. Молва как филологическая проблема // Филологические науки. - 1998. - № 3. 214. Протасова Е. Ю. Функциональная прагматика: вариант психолингвистики или общая теория языкознания? // Вопр. языкознания. - 1999. - № 1. 215. Пузанова О. В. Прагматика и семантика умолчания: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - СПб., 1998. 216. Пушкин А. А. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности // Личностные аспекты языкового общения: Межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: КГУ, 1989. 230 217. Радзиевская Т. В. Прагматические противоречия при текстообразовании // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990. 218. Радзиевская Т. В. Текстовая коммуникация. Текстообразование // Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. - М.: Наука, 1992. 219. Разлогова Е. З. Когнитивные установки в прямых и непрямых ответах на вопрос // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. - М.: Наука, 1989. 220. Рижинашвили И. У. Лингвистические механизмы тенденциозного представления события в англо-американской периодике: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - СПб., 1994. 221. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М.: АО ―KAMI‖, Изд. Центр ―Academia‖, 1995. 222. Рябцева Н. К. ―Вопрос‖: Прототипическое значение концепта // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991. 223. Рябцева Н. К. Истинность в субъективно-модальном контексте // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. - М.: Наука, 1995. 224. Савосина Л. М. Актуализационная парадигма предложения. Типы коммуникативных задач и средства их решения // Вопр. языкознания. - 1998. - № 3. 225. Сапаров М. А. Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, 1974. 226. Сапожникова О. С. Соотношение естественной и литературной коммуникациии // Филологические науки. - 1998. - № 1. 227. Сафаров Ш. Этносоциопрагматика речевого общения (принципы сопоставительно-типологического описания): Автореф. дис. … докт. филол. наук. – Л., 1991. 228. Сахарный Л. В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. 229. Свинцов В. И. О дезинформации // Текст как психолингвистическая реальность. - М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1982. 230. Свинцов В. И. Заблуждение, ложь, дезинформация (соотношение понятий и терминов) // Философские науки. - 1982. - № 1. 231. Свинцов В. И. Истинностные аспекты коммуникации и проблемы совершенствования речевого сообщения // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. 232. Сергеев В. М. Когнитивные методы в социальных исследованиях // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 233. Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. – М.: Наука, 1983. 231 234. Серебренников Б. А. Язык отражает действительность или выражает ее знаковым способом? Как происходит отражение картины мира в языке? // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. 235. Серио П. Лингвистика и биология. У истоков структурализма: биологическая дискуссия в России // Язык и наука конца 20 века. - М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. 236. Сидоров Е. В. Личностный аспект речевой коммуникации и текста // Личностные аспекты языкового общения: Межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: КГУ, 1989. 237. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. - М.: Наука, 1981. 238. Солнцев А. В. Виды номинативных единиц // Вопр. языкознания. – 1987. № 2. 239. Сорокин Ю. А. Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (Какими мы видим себя и других) // Вопр. языкознания. - 1995. - № 6. 240. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1977. 241. Спивак Д. Л. Лингвистика измененных состояний сознания // Вопр. языкознания. - 1985. - № 1. 242. Степанов Ю. С. Слова ―правда‖ и ―цивилизация‖ в русском языке (К вопросу о методе в семантике языка и культуры) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1972. - Т. 31. - № 2. 243. Степанов Ю. С. В поисках прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. - Т. 40. - № 4. 244. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века. - М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. 245. Степанов Ю. С. Между ―системой‖ и ―текстом‖: выражения фактов // Язык - Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995а. 246. Столнейкер Р. С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 16. Лингвистическая прагматика. - М.: Прогресс, 1985. 247. Стросон П. Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и лингвистика (проблемы референции). – М.: Радуга, 1982. 248. Стросон П. Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значение // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и лингвистика (проблемы референции). – М.: Радуга, 1982а. 249. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопр. языкознания. - 1995. - № 6. 250. Сусов И. П. Личность как субъект языкового общения // Личностные аспекты языкового общения: Межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: КГУ, 1989. 232 251. Сущинский И И. Коммуникативно-прагматическая категория ―акцентирование‖ и средства ее реализации в современном немецком языке: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1991. 252. Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер. с англ. – М.: Прогресс. Универс, 1993. 253. Тарасов Е. Ф. Речевое воздействие: методология и теория // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. 254. Тарасов Е. Ф. Речевое общение как воздействие //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 255. Тарасова И. П. Метапредложение как средство анализа единиц различных уровней // Филологические науки. - 1989. - № 5. 256. Тарасова И. П. Структура смысла и структура личности коммуниканта // Вопр. языкознания. - 1992. - № 4. 257. Тарасова И. П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез: Пособие по самообразованию. - М.: Высшая школа, 1992а. 258. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. 259. Толстая С. М. Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. - М.: Наука, 1995. 260. Торсуева И. Г. Интонация и смысл высказывания. – М.: Наука, 1979. 261. Тураева З. Я. Лингвистика текста (Текст: Структура и семантика): Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1986. 262. Тураева З. Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопр. языкознания. - 1994. - № 3. 263. Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в английском языке. - М.: Высшая школа, 1990. 264. Ульрих М. Об имитации речи // Вопр. языкознания. - 1992. -№ 6. 265. Успенский Б. А. Избранные труды. Семиотика истории. Семиотика культуры. – М.: Гнозис, 1994. – Т. 1. 266. Успенский Б. А. Избранные труды. Язык и культура. – М.: Гнозис, 1994а. – Т. 2. 267. Уфимцева А. А., Азнаурова Э. С., Кубрякова Е. С., Телия В. Н. Лингвистическая сущность и аспекты номинации // Языковая номинация. Общие вопросы. - М.: Наука, 1977. 268. Уфимцева Н. В. Ядро языкового сознания и этнический характер русских //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики. Тезисы докл. Всероссийской науч. конф. - Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 1999. 269. Фефилов А. И. Модально-прагматическая интерпретация чужого высказывания // Филологические науки. - 1991. - № 1. 233 270. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. 271. Филонов Л. Б. Психология развития контакта между людьми в условиях затрудненного общения: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1985. 272. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. 273. Фрумкина Р. М., Звонкин А. К., Ларичев О. И., Касевич В. Б. Представление знаний как проблема // Вопр. языкознания. - 1990. - № 6. 274. Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. - М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. 275. Фрумкина Р. М. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. - 1999. - Т. 58. - № 1. 276. Фуко М. Археология знания / Пер. с франц. - Киев: Ника-центр, 1996. 277. Хайдеггер М. Феноменология. Герменевтика. Философия языка. – М.: Гнозис, 1993. 278. Халеева И. И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста // Язык - Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 279. Хахалова С. А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры. - Иркутск: Изд-во Иркутского гос. лингвистического ун-та, 1998. 280. Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1972. 281. Храпченко М. В. Текст и его свойства // Вопр. языкознания. – 1985. - № 2. 282. Хэллидей М. А. К. Лингвистическая функция и литературный стиль // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 9. Лингвостилистика. - М.: Прогресс, 1980. 283. Целищев В. В. Философские проблемы семантики возможных миров. Новосибирск: Наука, 1977. 284. Чахоян Л. П., Паронян Ш. А. Взаимодействие интенций как фактор, определяющий типы межличностного общения // Личностные аспекты языкового общения: Межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: КГУ, 1989. 285. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – М.: Прогресс, 1982. 286. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопр. языкознания. - 1996. - № 2. 287. Черняховская Л. А. Информационный инвариант смысла и информативность его языкового выражения: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – М., 1983. 288. Шатуновский И. Б. ―Правда‖, ―истина‖, ―искренность‖, ―правильность‖ и ―ложь‖ как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991. 234 289. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.: Учпедгиз, 1941. 290. Шахнарович А. М. Языковая личность и языковая способность // Язык Система. Язык - Текст. Язык - Способность. - М: Ин-т русск. яз. РАН, 1995. 291. Шахнарович А. М. Онтогенез мыслеречедеятельности: семантика и текст // Филологические науки. - 1998. - № 1. 292. Шаховский В. И. Язык власти: взгляд лингвиста // Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф. - Иркутск: ИГЛУ, 1998. 293. Шаховский В. И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации // Филологические науки. - 1998. - № 2. 294. Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. 295. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. - М.: Наука, 1976. 296. Шендельс Е. И. Многозначность и синонимия в грамматике (на материале глагольных форм современного немецкого языка). - М.: Высшая школа, 1970. 297. Шингарева Е. А. Семиотические основы человеко-машинной коммуникации и принципы распознавания смысла: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – Л., 1988. 298. Шмелев А. Д. Парадокс самофальсификации // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. - М.: Наука, 1990. 299. Шмелев А. Д. Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. - М.: Наука, 1995. 300. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. 301. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: ―за‖ и ―против‖: Сб. статей. – М.: Прогресс, 1975. 302. Якобсон Р. Язык и бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. 303. Яковлева Е. С. О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира // Вопр. языкознания. - 1993. - № 4. 304. Яковлева Е. С. Фрагмент русской языковой картины времени // Вопр. языкознания. - 1994. - № 5. 305. Ямшанова В. А. Инструментальность как семантическая категория // Вопр. языкознания. - 1992. - № 4. 306. Янко Т. Е. Когнитивные стратегии в речи: коммуникативная структура русских интродуктивных предложений // Вопр. языкознания. - 1994. - № 6. 307. Ярцева И. Н. Контрастивная грамматика. - М.: Наука, 1981. 308. Abelson R. The structure of belief systems // Schank R, Colby K. (eds.). Computer Models of Thought and Language. - San Francisco: Freeman, 1973. 309. Abelson R., Carrol J. D. Computer simulation of individual belief systems // American Behavioral Scientists. - 1965. - Vol. 8. 235 310. Austin J. L. How to Do Things with Words. - London: Oxford University Press. - 1971. 311. Austin J. L. Pretending // Austin J. L. Philosophical Papers. - Oxford: Clarendon. - 1966. 312. Bamberg M., Marchman M. Binding and unfolding: Towards the linguistic construction of narrative discourse // Discourse Processes. - 1992. - Vol. 15. - № 3. 313. Barnds W. J. The Right to Know, to Withhold and to Lie. - New York: Council on Religion and International Affairs, 1969. 314. Barwise J., Etchemendy J. The Liar. An Essay on Truth and Circularity. - New York: Oxford University Press. - 1987. 315. Basso E. B. In Favor of Deceit. A Study of Tricksters in an Amazonian Society. - Tucson: The University of Arizona Press, 1987. 316. Blakemore D. The relevance of reformulations // Language and Literature. Journal of the Poetics and Linguistics Association. - 1993. - Vol. 2. - № 2. 317. Bloomfield L. Language or ideas? // Katz J. J. (ed.). The Philosophy of Linguistics. - Oxford: Oxford University Press, 1985. 318. Bronowski J. The Origins of Knowledge and Imagination. - New Haven: Yale University Press, 1978. 319. Brown G., Jule G. Discourse Analysis. - Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 320. Brown P., Levinson S. C. Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. - 1987. 321. Bulow-Muller A. M. Trial evidence: overt and covert communication in court // International Journal of Applied Linguistics. - 1991. - Vol. 1. - № 1. 322. Butt D. Talking and Thinking: The Patterns of Behaviour. - Oxford: Oxford University Press, 1989. 323. Button G., Casey N. Generating topic: the use of topic initial elicitors // Atkinson J. M., Heritage J. (eds.). Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 324. Button G. Moving out of closings // Button G., Lee J. R. E. (eds.). Talk and Social Organisation. - Philadelphia: Clevedon, 1987. 325. Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. - New Haven: Yale University Press, 1973. 326. Castaneda H-N. Thinking and Doing. The Philosophical Foundations of Institutions - Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1975. 327. Clark H. H., Wilkes-Gibbs D. Referring as a collaborative process // Cohen P. R., Morgan J., Pollack M. E. (eds.). Intentions in Communication. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. 328. Cohen P. R., Levesque H. J. Persistence, intention, and commitment // Cohen P. R., Morgan J., Pollack M. E. (eds.). Intentions in Communication. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. 329. Cook G. Discourse. - Oxford: Oxford University Press, 1989. 236 330. Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. - London: Longman, 1977. 331. Coulthard M. On beginning the study of forensic texts: corpus concordance collocation // Hoey M. (ed.). Data, Description, Discourse. - London: Harper Collins, 1993. 332. Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. - Oxford: Clarendon, 1984. 333. Dewey J. Judgment as spatial-temporal determination: narration - description // Oller J. W., Jr. (ed.). Language and Experience. Classic Pragmatism. - New York: University Press of America, 1989. 334. Dijk T. A. van., Kintsch W. Cognitive psychology and discourse: Recalling and summarizing stories // Dressler W. U. (ed.). Current Trends in Textlinguistics. Berlin: Walter de Gruyter, 1978. 335. Dijk T. A. van. Cognitive processing of literary discourse // Poetics Today. 1979. - Vol. 1. - № 1-2. 336. Dijk T. A. van. The study of discourse // Dijk T. A. van (ed.). Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London: Thousand Oaks, 1997. 337. Dummett M. A. E. Truth and other Enigmas. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978. 338. Ekman P. Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage. - New York: Norton, 1985. 339. Ellison D. R. Of Words and the World. Referential Anxiety in Contemporary French Fiction. - Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993. 340. Fingarette H. Self-deception. Studies in Philosophical Psychology. - New York: Humanities Press, 1969. 341. Gamble T. K., Gamble M. Communication Works. - New York: McGraw-Hill, 1990. 342. Gardner M. Aha! Gotcha. Paradoxes to Puzzle and Delight. - San Francisco: Freeman and Company, 1982. 343. Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. - New York: Doubleday, 1959. 344. Goffman E. Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior. - New York: Doubleday Anchor Books, 1967. 345. Goffman E. Strategic Interaction. - Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1969. 346. Goffman E. Relations in Public. Microstudies of the Public Order. - New York: Harper & Row, 1971. 347. Goody J. The Domestication of the Savage Mind. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 348. Grice H. P. Studies in the Way of Words. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. 237 349. Grimshaw A. D. (ed.) Conflict Talk: Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversations. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 350. Gumperz J. J. Discourse Strategies. - Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 351. Halett G. L. Language and Truth. - New Haven: Yale University Press, 1988. 352. Halliday M. A. K. Selected Papers. - London: Oxford University Press, 1976. 353. Halliday M. A. K., Hasan R. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. - Oxford: Oxford University Press, 1989. 354. Hammond K. R., Summers D. A. Cognitive dependence on linear and nonlinear cues // Psychological Review. - 1965. - Vol. 72. 355. Harris Z. S. Discourse analysis // Language. - 1952. - Vol. 28. - № 1. 356. Hayakawa S. I. Language in Thought and Action. - London: George Allen & Unwin, 1974. 357. Hoey M. On the Surface of Discourse. - London: George Allen & Unwin, 1983. 358. Hoey M. Discourse-centred stylistics: a way forward // Carter R., Simpson P. (eds.). An Introductory Reader in Discourse Stylistics. - London: Unwin Hyman, 1989. 359. Hudson R. A. Sociolinguistics. - Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 360. James W. Pragmatism‘s conception of truth // Oller J. W., Jr. (ed.). Language and Experience. Classic Pragmatism. - New York: University Press of America, 1989. 361. Jameson A. How to appear to be conforming to the ―maxims‖ even if you prefer to violate them // Natural Language Generation: New Results in Artificial Intelligence , Psychology and Linguistics. - Dordrecht: Nijhoff, 1987. 362. Kasper G. Linguistic politeness: Current research issues // Journal of Pragmatics. - 1990. - Vol. 14. - № 2. 363. Kintsch W. Notes on the structure of semantic memory // Tulving E., Donaldson W. (eds.). Organization of memory. - New York: Academic Press, 1972. 364. Kirkpatrick J. J. (ed.). The Strategy of Deception: A Study in World-Wide Communist Tactics. - New York: Farrar, Straus, 1963. 365. Koppett L. The Essence of the Game is Deception: Thinking about Basketball. Boston: Little Brown, 1973. 366. Labov W. The study of language in its social context // Labov W. Sociolinguistic Patterns. - Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1972. 367. Labov W., Fanshel D. Therapeutic Discourse. Psychotherapy as Conversation. New York: Academic Press, 1977. 368. Lakoff R. T. The logic of politeness; or minding your p’s and q‘s // Papers from the Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. - 1973. - Vol. 9. 369. Lakoff R. T. Talking Power: The Politics of Language in Our Life. - New York: Basic Books, Harper Collins Publishers, 1990. 370. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. - Vol. 1. Theoretical Prerequisites. - Stanford: Stanford University Press, 1987. 238 371. Larson J. A. Lying and its Detection: A Study of Deception and Deception Tests. - New Jersey: Patterson Smith, 1969. 372. Lee D. Competing Discourses: Perspective and Ideology in Language. - London: Longman, 1992. 373. Levinson S. C. Activity types and language // Linguistics. - 1979. - Vol. 17. 374. Lewis D. Counterfactuals. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973. 375. Lewis D. Survival and identity // Rorty A. O. (ed.). The Identities of Persons. Los Angeles: University of California Press, 1976. 376. Lewis D. Truth in fiction // Lewis D. Philosophical Papers. - Vol. 1. - New York: Oxford University Press, 1983. 377. Lewis D. Counterpart theory and quantified modal logic. Counterparts of persons and their bodies // Lewis D. Philosophical Papers. - Vol. 1. - New York: Oxford University Press, 1983a. 378. Lewis D. Scorekeeping in a language game // Lewis D. Philosophical Papers. Vol. 1. - New York: Oxford University Press, 1983b. 379. Lewis D. Convention. A Philosophical Study. - Oxford: Basil Blackwell, 1986. 380. Lewis D. On the Plurality of Worlds. - Oxford: Basil Blackwell, 1986a. 381. Maddox D. Semiotics of Deceit: The Pathelin Era. - Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 382. McCarthy M. Discourse Analysis for Language Teachers. - Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 383. McKeown K. R. Text Generation: Using Discourse Strategies and Focus Constraints to Generate Natural Language Text. - Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 384. Mead G. H. Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist. - Chicago: The University of Chicago Press, 1972. 385. Minsky M. Frame-system theory // Johnson-Laird P. N., Wason P. (eds.). Thinking. Readings in Cognitive Science. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 386. Minsky M. A framework for representing knowledge // Metzing D. (ed.). Frame Conceptions and Text Understanding. - Berlin: Walter de Gruyter, 1980. 387. Morris C. Types of discourse // Morris C. Writings on the General Theory of Signs. - The Hague: Mouton, 1971. 388. Mortimer J. The Oxford Book of Villains. - Oxford: Oxford University Press, 1992. 389. Newell A. On the analysis of human problem solving protocols // Johnson-Laird P. N., Wason P. (eds.). Thinking. Readings in Cognitive Science. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 390. Nisbett R. E., Borgida E., Crandall R., Reed H. Popular induction: Information is not necessarily informative // Kahneman D, Slovic P., Tversky A. (eds.). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. - Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 239 391. Nystrand M., Wiemelt J. When is a text explicit? Formal and dialogical conceptions // Text. - 1991. - Vol. 11. - № 1. 392. Ochs E. Planned and unplanned discourse // Givon T. (ed.). Syntax and Semantics. - Vol. 12. Discourse and Syntax. - New York: Academic Press, 1979. 393. Ochs E., Schieffelin B. B. Topic as a discourse notion: a study of topic in the conversations of children and adults // Li C. N. (ed.). Subject and Topic. - New York: Academic Press, 1976. 394. Peirce C. S. Some consequences of four incapacities. Thought-signs. Man, a sign // Collected Papers of Charles Sanders Peirce. - Vol. 5. Pragmatism and Pragmaticism. - Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University, 1965. 395. Peirce C. S. Truth // Oller J. W., Jr. (ed.). Language and Experience. Classic Pragmatism. - New York: University Press of America, 1989. 396. Peirce C. S. Reality // Oller J. W., Jr. (ed.). Language and Experience. Classic Pragmatism. - New York: University Press of America, 1989a. 397. Petrey S. Speech Acts and Literary Theory. - London: Routledge, 1990. 398. Phillipson R. Linguistic Imperialism. - Oxford: Oxford University Press, 1992. 399. Piaget J. Intellectual evolution from adolescence to adulthood // Johnson-Laird P. N., Wason P. (eds.). Thinking. Readings in Cognitive Science. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 400. Plotnikova S. Radical stylistics: The detective genre as a device teaching to think // Radical Stylistics. Abstracts of the Annual International Conference of the Poetics and Linguistics Association. - Sheffield: Sheffield Hallam University Press, 1994. 401. Plotnikova S. Detective discourse as a device for teaching to think // Green K. (ed.). Radical Stylistics. - Sheffield: Sheffield Hallam University Press, 1998. 402. Pollack M. E. Plans as complex mental attitudes // Cohen P. R., Morgan J., Pollack M. E. (eds.). Intentions in Communication. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. 403. Pomerantz A. Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes // Atkinson J. M., Heritage J. (eds.). Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 404. Popper K. In Search of a Better World. - London: Routledge, 1992. 405. Propp V. Morphology of the Folktale. - Austin: University of Texas Press, 1970. 406. Rockwell J. Fact in Fiction. The Use of Literature in the Systematic Study of Society. - London: Routledge & Kegan Paul, 1974. 407. Rumelhart D. E, Lindsay P. H., Norman D. A process model for long-term memory // Tulving E., Donaldson W. (eds.). Organization of memory. - New York: Academic Press, 1972. 240 408. Russell B. On propositions: What they are and how they mean // Oller J. W., Jr. (ed.). Language and Experience. Classic Pragmatism. - New York: University Press of America, 1989. 409. Ryan M. L. Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 410. Sacks H. Everyone has to lie // Sanches M., Blount B. G. (eds.). Sociocultural Dimensions of Language Use. - New York: Academic Press, 1975. 411. Sacks H. On doing ―being ordinary‖ // Atkinson J. M., Heritage J. (eds.). Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 412. Sacks H. On the preferences for agreement and contiguity in sequences in conversation // Button G., Lee J. R. E. (eds.). Talk and Social Organisation. - Philadelphia: Clevedon, 1987. 413. Sanford A. J., Garrod S. C. Understanding Written Language. Explorations of Comprehension Beyond the Sentence. - Chichester: John Wiley, 1981. 414. Sartre J-P. The Psychology of Imagination. - New Jersey: The Citadel Press, 1972. 415. Schank R., Abelson R. Scripts, Plans, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge Structures. - Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1977. 416. Schank R., Abelson R. Scripts, plans and knowledge // Johnson-Laird P. N., Wason P. (eds.). Thinking. Readings in Cognitive Science. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977a. 417. Searle J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. - Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 418. Searle J. R. Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 419. Searle J. R. Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind. - Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 420. Searle J. R. Collective intentions // Cohen P. R., Morgan J., Pollack M. E. (eds.). Intentions in Communication. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. 421. Short M. Discourse analysis and the analysis of drama // Carter R., Simpson P. (eds.). An Introductory Reader in Discourse Stylistics. - London: Unwin Hyman, 1989. 422. Simpson P. Phatic communion and fictional dialogue // Carter R., Simpson P. (eds.). An Introductory Reader in Discourse Stylistics. - London: Unwin Hyman, 1989. 423. Simpson P. Language, Ideology and Point of View. - London: Routledge, 1993. 424. Sinclair J. McH., Coulthard M. Towards an Analysis of Discourse. The English Used by Teachers and Pupils. - London: Oxford University Press, 1975. 241 425. Sinclair J. McH. Discourse in relation to language structure and semiotics // Greenbaum S., Leech G., Svartvic J. (eds.). Studies in English Linguistics. - London: Longman, 1979. 426. Sinclair J. McH., Brazil D. Teacher Talk. - London: Oxford University Press, 1982. 427. Stubbs M. Discourse Analysis. The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. - Oxford: Basil Blackwell, 1984. 428. Swales J. M. Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 429. Taavitsainen I. Subjectivity as a text-type marker in historical stylistics // Language and Literature. Journal of the Poetics and Linguistics Association. - 1994. Vol. 3. - № 3. 430. Tannen D. What‘s in a frame? Surface evidence for underlying expectations // Tannen D. (ed.). Framing in Discourse. - Oxford: Oxford University Press, 1993. 431. Tannen D. Talking from 9 to 5. - New York: William Morrow and Company, 1994. 432. Thagard P. Adversarial problem solving: modeling an opponent using explanatory coherence // Cognitive Science. - 1992. - Vol. 16. - № 1. 433. Toolan M. Analysing conversation in fiction: an example from Joyce‘s Portrait // Carter R., Simpson P. (eds.). An Introductory Reader in Discourse Stylistics. London: Unwin Hyman, 1989. 434. Trabasso T., Nickels M. The development of goal plans of action in the narration of a picture story // Discourse Processes. - 1992. - Vol. 15. - № 3. 435. Travis C. The True and the False: The Domain of Pragmatics. - Amsterdam: Benjamins, 1981. 436. Trilling L. Sincerity and Authenticity. - London: Oxford University Press, 1972. 437. Trosborg A. Rhetorical Strategies in Legal Language: Discourse Analysis of Statutes and Contracts. - Tubingen: Narr, 1997. 438. Vanderveken D. Illocutionary logic and self-defeating speech acts // Searle J. R. (ed.). Speech Act Theory and Pragmatics. - Dordrecht: Reidel, 1990. 439. Vincent J. M., Castelfranchi C. On the art of deception: How to lie while saying the truth // Possibilities and Limitations of Pragmatics: Proceedings of the Conference on Pragmatics. - Amsterdam: Benjamins, 1981. 440. Wise D. The Politics of Lying: Government Deception, Secrecy, and Power. New York: Vintage Books, 1973. 441. Weiser A. How to not answer a question: Purposive devices in conversational strategy // Papers from the Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. 1975. - Vol. 11. 442. Widdowson H. G. Explorations in Applied Linguistics. - Part 1. - Oxford: Oxford University Press, 1979. 443. Widdowson H. G. Explorations in Applied Linguistics. - Part 2. - Oxford: Oxford University Press, 1986. 242 444. Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. - New York: Oxford University Press, 1992. 445. Wierzbicka A. Semantics, Primes and Universals. - Oxford: Oxford University Press, 1996. 446. Wilensky R. Planning and Understanding. A Computational Approach to Human Reasoning. - Reading, Mass.: Wesley Publishing Company, 1983. 447. Winograd T. Formalisms for knowledge // Johnson-Laird P. N., Wason P. (eds.). Thinking. Readings in Cognitive Science. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 448. Yokoyama O. Disbelief, lies and manipulation in a transactional discourse model // Argumentation. An International Journal on Reasoning - 1987. - Vol. 1. - № 1. 449. Zillig W. Zur Frage der Wahrheitsfahigkeit bewertender Ausserungen in Alltagsgesprachen // Arbeiten zur Konversationsanalyse. - Tubingen: Niemeyer, 1979. 243 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Allingham - M. Allingham. Cargo of Eagles. - London: Penguin Books, 1968. 207 p. 2. Austen-1 - J. Austen. Mansfield Park. - London: William & Norgate, 1948. - 289 p. 3. Austen-2 - J. Austen. Sense and Sensibility. - London: Thomas Nelson and Sons, 1963. - 235 p. 4. Austen-3 - J. Austen. Northanger Abbey. - London: Thomas Nelson and Sons, 1959. - 358 p. 5. Bennett - A. Bennett. These Twain. - London: Penguin Books, 1962. - 379 p. 6. Bronte - Ch. Bronte. Jane Eyre. - London: Heron Books, 1948. - 367 p. 7. Cody - L. Cody. Stalker. - London: Arrow Books, 1984. - 201 p. 8. Cornwell - P. Cornwell. From Potter‘s Field. - New York: Berkley Books, 1996. 369 p. 9. Defoe - D. Defoe. Moll Flanders. - New York: Dutton, 1972. - 478 p. 10. Dickens - Ch. Dickens. Hard Times. - London: Penguin Books, 1964. - 295 p. 11. Dreiser - T. Dreiser. An American Tragedy. - New York: The World Publishing Company, 1953. - 986 p. 12. Fielding - H. Fielding. The History of Tom Jones, a Foundling. - New York: Barnes & Noble, 1967. - 1607 p. 13. Fitzgerald-1 - F. S. Fitzgerald. The Great Gatsby. - London: Penguin Books, 1988. - 285 p. 14. Fitzgerald-2 - F. S. Fitzgerald. Selected Short Stories. - M.: Progress Publishers, 1979. - 357 p. 15. Fowles - J. Fowles. The Ebony Tower. - M.: Progress Publishers, 1980. - 246 p. 16. Galsworthy - J. Galsworthy. To Let. - London: William Heinemann, 1950. 467 p. 17. Gaskell - E. Gaskell. Cranford. - London: Heron Books, 1956. - 412 p. 18. Greene - G. Greene. The Heart of the Matter. - London: Penguin Books, 1982. 313 p. 19. Hardy - T. Hardy. The Three Strangers. - London: Penguin Books, 1978. - 103 p. 20. Hemingway-1 - E. Hemingway. Selected Stories. - M.: Progress Publishers, 1971. - 398 p. 21. Hemingway-2 - E. Hemingway. Islands in the Stream. - New York: Bantam Books, 1971. - 435 p. 22. Huxley - A. Huxley. Point Counter Point. - London: Penguin Books, 1971. 261 p. 23. James - H. James. Four Meetings // Fiction 100. An Anthology of Short Stories. New York: Macmillan, 1978. - P. 508 - 521. 244 24. Lawrence - H. Lawrence. The Captain‘s Doll // Fiction 100. An Anthology of Short Stories. - New York: Macmillan, 1978. - P. 46 - 85. 25. Maugham - W. S. Maugham. Of Human Bondage. - New York: The Modern Library, 1942. - 418 p. 26. Priestley-1 - J. B. Priestley. Angel Pavement. - London: J. M. Dent & Sons, 1940. - 655 p. 27. Priestley-2 - J. B. Priestley. Dangerous Corner and other Plays. - M.: Higher School, 1989. - 178 p. 28. Salinger - J. D. Salinger. Nine Stories. - M.: Progress Publishers, 1982. - 437 p. 29. Saxton - A. Saxton. The Great Midland. - London: Penguin Books, 1976. - 276 p. 30. Shaw-1 - B. Shaw. Heartbreak House // B. Shaw. Four Plays. - M.: Foreign Languages Publishing House, 1952. - P. 137 - 240. 31. Shaw-2 - B. Shaw. The Philanderer // The Complete Plays of Bernard Shaw. London: Collins, 1983. - P. 35 - 69. 32. Shaw-3 - B. Shaw. Pygmalion // The Complete Plays of Bernard Shaw. - London: Collins, 1983. - P. 732 - 759. 33. Shaw-4 - I. Shaw. Preach on the Dusty Roads // Foley M. (ed.). Best American Short Stories. - New York: Random House, 1963. - P. 133 - 147. 34. Sillitoe - A. Sillitoe. Key to the Door. - London: Penguin Books, 1978. - 321p. 35. Simon - N. Simon. The Odd Couple // Gamble T. K., Gamble M. Communication Works. - New York: McGraw Hill, 1990. - P. 211 - 213. 36. Smiley - J. Smiley. A Thousand Acres. - New York: Ballantine Books, 1991. 371 p. 37. Snow - C. P. Snow. The Masters. - London: Penguin Books, 1986. - 364 p. 38. Thackeray - W. M. Thackeray. Vanity Fair. - New York: Signet Classics, 1962. 747 p. 39. Vidal - G. Vidal. Burr. - New York: Bantam Books, 1974. - 564 p. 40. Wilde-1 - Lord Arthur Saville‘s Crime // The Works of Oscar Wilde. - London: Collins, 1975. - P. 154 - 179. 41. Wilde-2 - The Picture of Dorian Gray - London: Penguin Books, 1975. - 359 p. 42. Wilder - T. Wilder. The Bridge of San Luis Rey. - New York: Harper & Row, 1955. - 321 p.