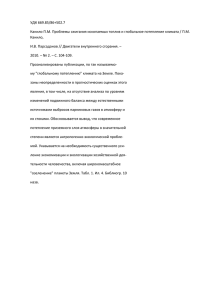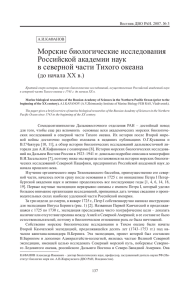Ола М. ЙОХАННЕССЕН
advertisement

Ола М. ЙОХАННЕССЕН 25.06.2005 Красноречивое безмолвие льдов На этой неделе в Петербурге прошел 31-й Международный симпозиум по дистанционному зондированию окружающей среды, в котором приняли участие более 500 исследователей из 40 стран. Ученые отвечали на вопросы, как с максимальной точностью прогнозировать природные бедствия, научиться предсказывать климатические изменения, происходящие на Земле. К чему наконец может привести глобальное потепление и таяние льдов в Арктике. Один из авторитетнейших участников симпозиума — создатель и президент норвежского Нансен-центра, названного так по имени известного ученого, путешественника и гуманитарного миссионера Фритьофа Нансена. Ола М. Йоханнессен руководит многими международными проектами по изучению высоких широт, он член целого десятка академий, международных исследовательских структур, автор сотен публикаций. С 1992 года, когда Ола основал еще и петербургский Нансен-центр, он побывал в России, в основном в ее северной столице, больше 50 раз. А сегодня господин Йоханнессен — гость нашей редакции, и говорим мы о том, какую «информацию для размышлений» удается получить ученым от суровой и безмолвной дамы по имени Арктика. — Еще три года назад ученые Бергена, Петербурга и Гамбурга сделали совместное заявление о том, что Северный Ледовитый океан стремительно тает. Как идет процесс сегодня и каких катаклизмов в связи с этим можно ждать? — Осознание этого глобального явления произошло еще раньше. В 1995 году я опубликовал статью в журнале Nature («Природа»), в которой отметил, что площадь ледового покрова сокращается на три процента за десятилетие. Конечно, мы продолжаем собирать подробные данные дрейфующих станций и спутниковых наблюдений. На их основании делаем детальные прогнозы состояния Ледовитого океана и возможных погодных «схем» на разных участках Земли. Один из выводов действительно состоит в том, что к концу столетия Северный Ледовитый океан полностью растает. Но надо знать, что таяние морского ледяного покрова Ледовитого океана не приведет к изменению уровня Мирового океана, так как объем воды северной океанической чаши останется прежним. Приведем простой пример. Если, скажем, в стакане с напитком плавают кусочки льда, то, когда они растворятся, уровень жидкости не поднимется. Это может легко проверить каждый... И все же в масштабах планеты это драматичная ситуация. Ведь при таянии льда усиливается испарение. Учитывая, что Гольфстрим, который идет в Баренцево море и дальше в Арктический океан, тоже теплеет, в атмосфере скапливается большое количество влаги. Это в свою очередь приводит к нарушению ледового баланса материковых ледников. Возьмем, к примеру, Гренландский ледниковый щит, покрывающий этот огромный остров. По краям ледник тает. А огромный внутренний ледник, наоборот, из-за выпадения большого количества осадков растет: начиная с 1992 года — на 5 см в год. Но глобальное потепление не остановишь, и через полвека-век этот новый лед начнет быстро таять. Весь щит может исчезнуть за полтысячи-тысячу лет, вот тогда уровень Мирового океана поднимется на 7 метров и под водой окажутся огромные пространства материков. Это очень отдаленное будущее, но думать о нем нужно сегодня, так как процесс таяния Гренландского щита станет необратимым. — А каковы российские обозримые перспективы в связи с изменением климата и водного баланса на севере? Для нас это очень важно, ведь наши территории в высоких широтах, включая океаническое побережье, самые обширные в мире. — В чем-то для российской экономики эта ситуация даже выгодна. Судоходство по северным морям будет более безопасным и круглогодичным, добыча нефти на шельфе станет более доступной, а ведь ваша страна в Арктике владеет двадцатью пятью процентами всех имеющихся у человечества ресурсов нефти и газа. Не забудьте и то, что рыба не знает границ. Если глобальное потепление будет продолжаться, то знаменитая норвежская сельдь мигрирует в Баренцево море на территорию России. К северу поднимется и треска, и мелкая рыбешка с планктоном, являющиеся для нее пищей. Но не все так уж безоблачно. Из-за того что температура воды в Арктике повышается, потепление в северных регионах идет гораздо быстрее, чем в других частях света, и в первую очередь это скажется на состоянии тундры. Она попросту начнет таять, а это серьезная проблема для северных городов, построенных с учетом вечной мерзлоты. Фундаменты зданий начнут размываться, «поплывут» коммуникации и инженерные сооружения. — Интересно получается: Север совсем рядом, он активно реагирует на глобальное потепление, а лето в Петербурге который год холодное и дождливое. Да и весна похожа на затянувшуюся зиму. — Вот и норвежцы спрашивают, почему на фоне всех этих процессов весна в Норвегии в последние годы такая необычно суровая. Наш петербургский коллега из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, используя ретроспективные данные, составил диаграмму повышения средней температуры на Земле начиная с 20-х годов прошлого столетия. На ней видны два заметных скачка: один, послабее, — в середине века и другой, более сильный, — с 1980-х годов и поныне. Первый обусловлен естественными климатическими колебаниями, как и необычно холодные лето в Петербурге и весна в Норвегии, как другие сезонные аномалии, наблюдающиеся в разных районах Земли в разное время. Второй же период потепления вызван скоплением в атмосфере двуокиси углерода. Но опять же на его фоне в разных районах планеты происходят естественные погодные колебания. — В России часто говорят, что отечественная система метеорологических наблюдений в последние десятилетия разрушается, что методы зондирования устарели, а количество станций и наблюдательных пунктов сокращается. Насколько полны и достаточны в общей мировой картине гидрометеорологические данные, которые поступают из России? Есть ли к нам в этом плане претензии? — Никаких претензий. Во Всемирной метеорологической организации есть комитет, который занимается наблюдениями за глобальными климатическими изменениями. Я являюсь членом координационного центра этого комитета, как, кстати, и директор петербургской Главной геофизической обсерватории Валентин Мелешко. Мы собираем информацию из самых разных стран и территорий. Российские данные полностью соответствуют стандартам международной системы и ничем не отличаются по объему и точности. Более того: данные, собранные полярными и дрейфующими станциями вашей страны, просто уникальны, в других странах о таких сведениях могли бы только мечтать. Именно Россия организовала больше всего арктических экспедиций, они проходили на самом высоком технологическом и организационном уровне. В этом плане архивы Арктического и Антарктического научно-исследовательского института можно сравнить с запасниками Эрмитажа. Да, до 1960-х годов советские арктические архивы были полностью закрыты. Но сегодня пришло другое время, а вместе с ним общие для человечества экологические, климатические проблемы. Чтобы их решить, невозможно обойтись без тесного, открытого международного сотрудничества. — А нужны ли сегодня дорогостоящие, рискованные экспедиции на дрейфующих станциях, ведь спутниковые наблюдения дают полную и подробную картину. — Да, новые спутниковые методы позволяют получать не только привычную информацию о распределении облачности, но и оценивать параметры морского волнения, скорость и направление приводного ветра, определять положение фронтальных зон, оценивать состояние ледяного покрова и обнаруживать полыньи, по которым можно проводить суда с грузами для нефтяных и газовых месторождений, обеспечивать всем необходимым жителей полярных регионов... То есть из космоса можно добыть детальные сведения о состоянии земной поверхности. Можно, к примеру, сделать подробнейшую карту распределения льдов различного возраста буквально с точностью до нескольких метров. Это очень ценно как раз для подготовки экспедиций. А без них обойтись ну никак нельзя. К сожалению, спутники не способны пока еще определить температуру воды подо льдом, соленость воды на разных горизонтах, динамику течений, процессы в живом мире на глубинах океана. Я уверен, что пройдет не одно десятилетие, прежде чем можно будет отказаться от исследований Арктики с дрейфующего льда, с научных судов. — Известно, что вы страстный арктический путешественник, побывали в 25 экспедициях. Расскажите, пожалуйста, о наиболее опасных для вас моментах, которые врезались в память. — Дело было в 1992 году. Мы отправились в экспедицию от Бергенского университета, чтобы исследовать глубоководные районы неподалеку от Шпицбергена. Замечу, что делать это пришлось в зимнее время. Представьте: январь, шторм с волнами 20 — 30-метровой высоты, маленькое судно, не ледокол, оледенело и рискует перевернуться. Сзади подобралась гигантская волна и полностью накрыла наше суденышко. Ледяная вода пробила дверь одного из трюмов и под давлением ринулась в машинное отделение, в лабораторные отсеки, где было много очень дорогой техники, электроники, оборудования. Мы были на волосок от гибели. Все обошлось, а когда экспедиция вернулась, директор университета вызвал меня «на ковер» и отругал за такое безрассудство. Но научные интересы превыше рисков, и ровно через год мы (опять-таки зимой) были там же на том же судне. В другой знаменитой экспедиции «Норсекс» наш ледокол атаковали белые медведи. Однажды утром просыпаемся, а вокруг бродят 8 белых медведей. На беду дверь трюма, из которой можно выйти прямо на лед, была открыта, и один из мишек приготовился к прыжку в этот проем. Я постарался заснять этот любопытный момент, и вспышка отпугнула медведя. С тех пор мы несли постоянную вахту и использовали сигнальные ракеты. Кстати, все студенты, которые учатся в Бергенском университете, проходят практический курс выживания в Арктике и на это время получают собственное оружие, чтобы не быть съеденными случайным встречным. На Севере большие незаселенные пространства, и всегда есть риск зайти на территорию, где хозяйничает белый медведь. — Будучи в экспедиции в окружении ледяного безмолвия, чем кроме работы вы наполняете свою жизнь? — В экспедиции я думаю только о деле. Работаем мы как черти, вахтенным методом: шесть часов на вахте — шесть отводится на отдых. Поспишь — и опять на работу, и так сутки за сутками. Вот у немцев есть большой ледокол «Полярная звезда», там бассейн, сауна, кинозал и три бара. У нас ничего такого нет, все заменяет работа, а в редкие минуты досуга я слушаю классическую музыку: Чайковского, Скрябина, Шостаковича, Грига. Вообще-то Арктика по-прежнему очень сурова к человеку, несмотря на нашу суперсовременную экипировку. Когда я в экспедиции, я максимально сосредоточен, так как чувствую, что соревнуюсь с самой природой, и расслабляться было бы просто неразумно.