Тема 3. Русская философия - Томский Государственный
advertisement
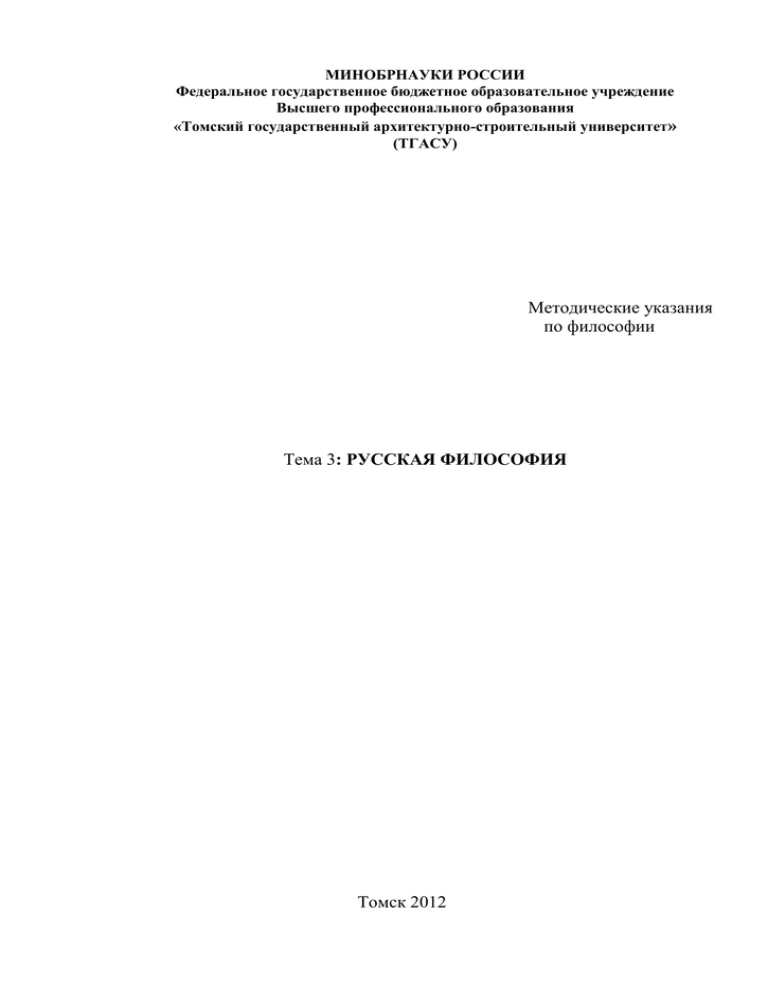
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ) Методические указания по философии Тема 3: РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ Томск 2012 РАЗРАБОТАНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ секцией гуманитарной подготовки научно-методического Совета ТГАСУ Составитель: доцент кафедры философии и культурологии Новиков И.А. Методические указания предназначены для студентов всех факультетов при изучении курса «Философия». 2 ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 1. 2. 3. 4. Характерные черты русской философии. Славянофилы и западники. Учение Вл. Соловьёва. Русская философия “Серебряного века”. Н.А. Бердяев. ЛИТЕРАТУРА 1. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – М.: Академический проект; Культура, 2008. 2. История философии: учебник для высших учебных заведений/ под ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 3. Островский Э.В. Философия: учебник/ Островский Э.В. – М.: Вузовский учебник, 2009. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Введение в русскую философию. - М., 1995. - с. 64 – 107. 2. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. - М., 1995. - с. 126 – 138. 3. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. - М., 1995. – статьи: “Соловьёв В.С.”, “Бердяев Н.А.”, “Соборность”. 4. Философия и мировоззрение. - М., 1990. - с. 73 – 84. (Н.А. Бердяев “Воля к жизни и воля к культуре”) 5. О России и русской философской культуре. - М., 1990. - с. 266 – 269. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 1. Подборка текстов по истории русской философии http://filosof.historic.ru/books/c0011_1.shtml 2. Библиотека «Вехи»: тексты русских религиозных философов http://www.vehi.net/ 3. Статья о русской философии в энциклопедии «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/?q=enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/RUSSKAYA_FILOSOFIYA.html Контрольные вопросы: 1. Каковы источники возникновения русской философии? 2. В чём отличие русской религиозной философии от западноевропейской? 3. В чём принципиальные различия позиций славянофилов и западников? В чём их единство? 4. Каково содержание понятий “всеединство”, “соборность”, “софийность”? 5. На какие основания нравственности указывает В.С. Соловьёв? 6. Какие особенности русской истории выделяет Н.А. Бердяев? 7. Как соотносятся по мысли Н.А. Бердяева религиозная и коммунистическая идеи в русской истории? 3 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 1. Филофей. 2. Русская философия до реформ Петра I. Митрополит Илларион и инок А.Ф. Лосев: диалектика Имени. ЛИТЕРАТУРА К ДОКЛАДАМ 1. 2. 3. Гумилёв Л.Н. От Руси до России. - М., 1997. Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. - М., 1994. Русская идея. - М., 1992. - с. 18 – 36. Текст № 1. Особенности русской философии. А.Ф.Лосев «Русская философия» (отрывок) А.Ф.Лосев Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991, с. 209 – 217. Осуществляется ли познание только в русле мышления — вопрос непростой. Основное направление современной философии как будто не дает оснований для подобных сомнений. В то же время накапливается все больше оснований привлекать и учитывать нелогические и до-логические слои познания и мышления. Разумеется, такой метод многим людям представляется неприемлемым; более того, за ним скрывается, по их мнению, наивное, мифологическое понимание философии. Но тут уж ничего не поделаешь, здесь мы и должны быть мифологами, потому что почти вся русская философия являет собой дологическую, до-систематическую, или, лучше сказать, сверхлогическую, сверхсистематическую картину философских течений и направлений. В Германии создание завершенных систем, в которых находят более или менее удачное отражение все основные проблемы человеческого духа, удается не только главам школ, но и второстепенным мыслителям. Не так в России. В XIX столетии Россия произвела на свет целый ряд глубочайших мыслителей, которых по гениальности можно поставить рядом со светилами европейской философии. Однако никто из них не оставил после себя цельной, замкнутой философской системы, охватывающей своими логическими построениями всю проблему жизни и ее смысла. Поэтому тот, кто ценит в философии прежде всего систему, логическую отделанность, ясность диалектики — одним словом, научность, может без мучительных раздумий оставить русскую философию без внимания. Правда, в последнее время из-под пера русских университетских профессоров вышло несколько работ, которые трактуют (в основном на немецкий систематический лад) преимущественно проблемы теории познания и логики. Но остальная русская философия является насквозь интуитивным, можно даже сказать, мистическим творчеством, у которого нет времени, а вообще говоря, нет и охоты заниматься логическим оттачиванием мыслей. Впервые философские интересы пробуждаются в России в XVIII в., когда русский ум был затронут идеями французского Просвещения и одновременно идеями просвещенного абсолютизма. Однако яркая социально-публицистическая окраска этой философии помешала ей выразиться в виде спокойной и уравновешенной системы. В начале и в первой трети XIX в. на смену французскому Просвещению у нас пришел немецкий идеализм. Однако чрезмерный пыл его русских приверженцев, а отчасти и политический гнет помешали его окончательному логическому оформлению и систематизации в качестве направления русской философии. В 40, 50 и 60-е годы противниками немецкого идеализма выступили славянофилы, которые сами во многих отношениях прошли его школу. Но и славянофилы, сознательно 4 взявшие на вооружение мистическое познание православной церкви, не могли оформить свои мысли в определенную систему. Помимо этого направления в 40—80-х годах в России влиятельным было так называемое западничество, которое, в противоположность славянофилам, не признавало за русской культурой никакой оригинальности и самобытности и призывало к полному культурному воссоединению с Западом в борьбе с традиционными основами русской мысли и русской жизни. Разумеется, и этому «западноевропейскому направлению», носившему исключительно публицистический характер, далеко было до построения философской системы, да и системы вообще. Пришедшее на смену материализму и западничеству чисто идеалистическое направление (с 80-х годов до нашего времени) благодаря широте поставленных задач и небывалой глубине и всеохватности его философских откровений все еще бесконечно удалено от систематизации, если таковая вообще здесь возможна. Даже наиболее плодовитый философ этого направления — Владимир Соловьев (1853—1900), который посвятил свои всеобъемлющие работы основным вопросам философии, по выражению профессора Лопатина, «не оставил законченной философской системы, а скорее только план системы, ряд ее очерков, не во всем между собою согласных, и частные ее приложения к разрешению отдельных проблем». Почти то же самое следует сказать о другом выдающемся представителе современной русской философии — князе Сергее Трубецком (1862— 1905), друге Владимира Соловьева. Также и у него, по характеристике того же автора, мы находим «только общий план системы», однако этот «план» так глубок и интересен в философском отношении, так оригинально и удачно намечен, так глубоко продуман и тонко обоснован, что посвященные общим философским вопросам статьи князя С. Н. Трубецкого (капитальные его работы посвящены историко-философской проблематике) дают читателю очень много. Наконец, довольно широкой систематической проработкой поставленных проблем отличаются труды современных университетских профессоров, каковы, например, Н. Лосский, С. Франк, И. Лапшин, Г. Челпанов. Однако эти авторы взяли за правило ни в коем случае не выходить за границы чистой теории познания, логики и весьма умеренной онтологии и упрямо этому правилу следуют. Большей широтой характеризуется мировоззрение Л. Лопатина и С. Алексеева (Аскольдова); однако и у этих мыслителей многие основные проблемы, как, например, религиозная, очерчиваются только в общем виде и слишком неопределенно. Неблагоприятные условия для систематической разработки и представления философских достижений в той или иной степени имели место во всех странах Европы. Однако только в России существует такая острая нехватка философских систем. Наверное, в этом есть глубокий смысл. Причина этого не только во внешних условиях, но скорее прежде всего во внутреннем строении русского философского мышления. В этой связи представляется уместным привести здесь некоторые соображения относительно сущности русского мышления и русской философии. Н. Бердяев следующим образом начинает изложение теории познания и метафизики А. Хомякова, наиболее известного и значительного представителя славянофильского направления в философии. «Основатели славянофильства не оставили нам больших философских трактатов, не создали системы. Философия их осталась отрывочной, она передалась нам лишь в нескольких статьях, полных глубокими интуициями. Киреевский едва приступил к обоснованию и развитию славянофильской философии, как умер от холеры. Та же участь постигает и Хомякова, пожелавшего продолжить дело Киреевского. В этом было что-то провиденциальное. Быть может, такая философия и не должна быть системой. Славянофильская философия — конец отвлеченной философии, и потому уже не может быть системой, подобной другим системам отвлеченной философии. То была философия цельной жизни духа, а не отсеченного интеллекта, не отвлеченного рассудка. Идея цельного знания, основанного на органической полноте жизни,— исходная идея славянофильской и русской философии. Вслед за Хомяковым и Киреевским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила у нас себе задачу раскрытия не отвлеченной, интеллектуальной истины, а истины как пути к жизни. Это своеобразие русского философствования сказалось и в лагере противопо5 ложном, даже в нашем позитивизме, всегда жаждавшем соединить правду-истину с правдойсправедливостью. Русские не допускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина есть лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология не в силах, по-видимому, поколебать того дорационального убеждения русских, что постижение сущего дается лишь цельной жизни духа, лишь полноте жизни. Даже наша quasi западническая и quasi позитивная философия стремилась к синтетической религиозной целостности, хотя бессильна была выразить эту русскую жажду. А наша творческая философская мысль, имевшая истоки славянофильские, сознательно ставила себе задачу утвердить против всякой рационалистической рассеченности целостную религиозную философию. Иван Киреевский, с которым Хомяков должен разделить славу основателя славянофильской философии, говорит: «Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, быть может, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных Философия немецкая вкорениться у нас не может, наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта». Слова эти могут быть взяты эпиграфом ко всякому русскому философствованию. И Киреевский и Хомяков не игнорировали германской философии, они прошли через нее и творчески преодолели ее. Они преодолели германский идеализм и западную отвлеченную философию верой в то. что духовная жизнь России рождает из своих недр высшее постижение сущего, высшую, органическую форму философствования. Первые славянофилы убеждены были, что Россия осталась верна цельной истине христианской Церкви и потому свободна от рационалистического рассечения духа. Русская философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Первые интуиции этой философии родились в душе Киреевского. Хомяков же был самым сильным ее диалектиком»! Я привел здесь в качестве характеристики русской философии собственные слова Бердяева, одного из значительнейших представителей современного русского философского мышления, чтобы показать, что в наше время русская философская мысль сознает собственную сущность и что, как правило, эта мысль не ставит перед собой других задач, помимо тех, которые всегда соответствовали подлинной русской философии. Несколько с другой точки зрения сущность русской философии характеризует Волжский («Из мира литературных исканий», 1906). Подчеркнув в полном соответствии с приведенной характеристикой Бердяева отсутствие завершенной философской системы в России и указав на Вл. Соловьева как на типичного и гениального представителя русского способа мышления, автор продолжает: «Небогатая оригинальными философскими системами, русская литература тем не менее очень богата философией, своеобразной, яркой и сочной. Русская художественная литература — вот истинная русская философия, самобытная, блестящая философия в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь живых образов художественного творчества. Всегда отзывчивая к настоящему, преходящему, временному, русская художественная литература в то же время всегда была сильна мыслью о вечном, непреходящем; почти всегда в глубине ее шла неустанная работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами человеческого духа; с проклятыми вопросами она почти никогда не расставалась. И какой роскошью линий и красок, какой дивной прелестью образов и картин развертывалась эта работа в художественно-философских, бессистемных системах русских писателей, в их. казалось бы, таких далеких от философии повестях, романах и стихотворениях. За последнее время многие стали понимать, что истинную русскую философию следует искать больше всего именно здесь. Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Салтыков, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Успенский. Короленко. Чехов — все это подлинная наша философия, философия в красках и образах живого, дышащего слова. 6 Богатство философии, сокровища оригинального мышления не исчерпываются у нас пока еще очень небогатой, чаще всего зависимой и малокровной академической философией, не исчерпываются они и художественной философией изящной литературы. Значительные философские дарования ушли в публицистику, которая в силу исторических особенностей русской жизни заняла у нас совершенно своеобразное положение. В публицистике нашей сложным клубком сплелись интересы и вопросы художественные, философские, научные, моральные, религиозные; из-за них-то собственно общественная жизнь только просвечивала, отражаясь и преломляясь в самых прихотливых, запутанных переплетениях всевозможных элементов. Это сложное своеобразие в укладе русской жизни, эта недифференцированность русской мысли и слитность духовных интересов русских людей в общей причудливой спайке публицистики сильно способствовали тому, что значительные русские философские силы растворились и, в глазах академической истории философии, затерялись в пестрой паутине текущей общественности, в сутолоке журналистики». Если мы теперь возьмемся кратко сформулировать общие формальные особенности русской философии, то можно выделить такие пункты: 1. Русской философии, в отличие от европейской, и более всего немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности. 2. Русская философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая берет начало в общем духе времени, со всеми его положительными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом. Поэтому среди русских очень мало философов par excellence*: они есть, они гениальны, но зачастую их приходится искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных партий. 3. В связи с этой «живостью» русской философской мысли находится тот факт, что художественная литература является кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочинениях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима Горького часто разрабатываются основные философские проблемы, само собой в их специфически русской, исключительно практической, ориентированной на жизнь форме. И эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий судья назовет эти решения не просто «литературными» или «художественными», но философскими и гениальными. Процесс познания собственной сущности, отражающийся в современной русской философской литературе, распространяется не только на чисто формальную и внешнюю сторону. Современные представители русской мысли также и изнутри, с точки зрения содержания их философии устанавливают резкую границу между собой и европейской философией. В книге В. Эрна «Г. С. Сковорода» (1912) мы находим следующую характеристику содержания самобытной русской философии, ее сущности. Если рассматривать всю историю новой европейской философии в ее основных направлениях, отвлекаясь при этом от менее характерных путей ее развития (в этой связи Декарт и Кант несравнимо более характерны для новой философии, нежели, например, Бёме и Баадер), то можно выделить три следующие характерные тенденции: рационализм, меонизм, имперсонализм. Ко времени возникновения новой философии разум, ratio, выдвинулся в качестве основного принципа всего миропонимания. В постоянной борьбе с мистицизмом средневековья новая философия оторвалась от темных, хаотических основ разума и сознания, от иррациональной, творческой, космической почвы. В борьбе с тем же мистицизмом оторвалась она и от неба, от сверкающих вершин разума, которые высились в благословенной и умиротворенной небесной голубизне. Безвозвратно прошли времена поэтов-философов преимущественно (фр.) * 7 Платона и Данте. Вместо живой гармонии цельного, неразделенного логоса и музыкального народного мифа в новой философии сформировалось понимание поэзии как чистого вымысла и развлекательности, понимание природы как иррелигиозного, механического целого. А где религия еще не утратила своего значения, там ее постарались рационализировать. Рационалистические доказательства бытия Божия, которые сегодня не удовлетворили бы семинаристов, казались достаточными таким колоссальным интеллектам, как Декарт и Лейбниц. Это был рационализм. Он характерен почти для всей новой философии, не только для французского рационализма, но и для английского эмпиризма, поскольку здесь результаты опыта обрабатываются тем же ratio, который в картезианстве был направлен на врожденные качества. Также характерен рационализм и для пантеизма Спинозы, панлогизма Гегеля, для Канта и неокантианства, для всех многообразных форм позитивизма конца XIX в. Вторая основная тенденция новой западноевропейской философии является необходимым следствием первой. Если разум лежит в основании всего, то ясно, что все, не укладывающееся в границы и схемы этого разума, отбрасывается как обуза и рассматривается только как чистый вымысел, субъективное человеческое построение. Таким образом, весь мир становится бездушным и механическим, он превращается в субъективную деятельность души. Все роковые последствия рационализма можно выразить одним словом — «меонизм» (от греч. me on, не-сущее): вера в ничто. Третья тенденция также является необходимым следствием первой. Богатство индивидуальной, живой личности непостижимо для рационализма, он сознательно отказывается от этого богатства. Он мыслит категориями разума, причем, в сущности, вещественными категориями. Именно эта «вещественность» со всем присущим ей механизмом и формализмом занимает господствующее положение во всех учениях новой философии, даже в учении о личности, которая превращается в простой пучок перцепций. Этот имперсонализм — также одна из основных тенденций новой философии. Я никоим образом не настаиваю на том, что эта характеристика новой европейской философии является полной и точной. Можно найти другие, более характерные для наших целей черты. Также если стремиться к полноте, то можно назвать не только эти три, но еще и другие основные тенденции новой философии. Но основной идее этой характеристики, как мне представляется, противопоставить нечего. И это становится особенно ясно, когда новую западноевропейскую философию мы сравниваем с русской. Основание западноевропейской философии — ratio. Русская философская мысль, развившаяся на основе греко-православных представлений, в свою очередь, во многом заимствованных у античности, кладет в основание всего Логос. Ratio есть человеческое свойство и особенность; Логос метафизичен и божествен. Русский философ следующим образом характеризует этот Логос. «Это не субъективно-человеческий принцип, а объективнобожественный. En arche en ho Logos*. В нем сотворено все существующее, и поэтому нет ничего, что не было бы внутренно, тайно себе, проникнуто Им. Логос есть принцип, имманентный вещам, и всякая res* таит в себе скрытое, сокровенное Слово. И в то же время Логос извечно существует в Себе. Сотворенный в Нем мир символически знаменует Ипостась Сына, уходящую в присно-сущную тайну Божества. Отсюда онтологическая концепция истины, чрезвычайно характерная для логизма. Истина не есть какое-то соответствие чего-то с чемто, как думает рационализм, превращающий при этом и субъект, и объект познания в двух меонов. Истина онтологична. Познание истины мыслимо только как осознание своего бытия в Истине. Всякое усвоение истины не теоретично, а практично, не интеллектуалистично, а волюнтаристично. Степень познания соответствует степени напряженности воли, усвояющей Истину. И на вершинах познания находятся не ученые и философы, а святые. Теория познания рационализма статична — отсюда роковые пределы и непереходимые грани. Тот, кто стоит, всегда ограничен какими-нибудь горизонтами. Теория познания «логизма» динамичВ начале было Слово (греч.) вещь (лат.) * * 8 на. Отсюда беспредельность познания и отсутствие горизонтов. Но тот, кто хочет беспредельности ведения, кто стремится к неограниченности актуального созерцания, тот должен не просто идти, а восходить. И путь восхождения один: это лестница христианского подвига. Таким образом, «логизм» высшее свое осуществление находит в прагматике христианского подвига, явленной миру бесчисленными святыми и мучениками христианской идеи». Русская философия, которая в противоположность западноевропейскому рационализму провозглашает восточно-христианский логизм, в то же время провозглашает в противовес меонизму полнокровный и беспокойный мистико-онтологический реализм, а бескровному и абстрактному имперсонализму — динамический и волюнтаристский тонизм (tonos — погречески степень внутреннего напряжения). «Постигая в себе и предчувствуя негибнущее, вечное зерно, извечную мысль Божества, личность в атмосфере логизма, естественно, занимает центральное место, и если рационализм с его универсальной категорией вещи в лице Юма объявляет личность меоном, бессмысленным пучком перцепций, то логизм все существующее воспринимает в категории личности и чистую вещность мира считает лишь призраком, застилающим глаза падшего человека от истинно Сущего, от тайного Лика мира, не имеющего ничего общего с мертвой, меонической концепцией вещи. В логизме Бог — Личность, Вселенная — Личность, Церковь — Личность, человек — Личность. И хотя модусы личного существования Бога, Мира и Церкви бесконечно превосходят модус личного существования человека и от него безмерно отличны, но все же человек в глубочайшей тайне своего личного бытия, в непостижимом зерне своей индивидуальности гораздо ближе и существеннее постигает модус существования Бога и Мира, чем применяя периферическое, совершенно бессмысленное и отвлеченное понятие мертвенной вещности» Ratio и Логос не могут встретиться и схватиться на европейской почве, «ибо нельзя побеждать логизм неосознанностью и бесчувствием. Историческим изучением логизм не усвоишь, а глубоко въевшийся в западную философскую мысль рационализм не позволяет мыслителям новой Европы даже увидеть врага, осознать его как внутренно-данное; с другой стороны, восточнохристианское умозрение процветало за много веков до начала западноевропейского рационализма и потому, естественно, помериться с ним не могло». Если мы захотим, подводя итог сказанному, как можно короче охарактеризовать внешнюю и внутреннюю сущность самобытной русской философии, то можно это сделать следующей фразой. Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным, богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно поднимающимся на новую ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом. Текст № 2. Славянофилы. А.Ф.Лосев «Русская философия» (отрывок) А.Ф.Лосев Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991, с. 222 – 226. До славянофилов, т. е. до 40-х годов, самостоятельная русская философия не развивалась у нас по непрерывной линии. Только Сковорода был в XVIII в., сам того не зная, провозвестником своеобразной русской философии; все остальное в России XVIII в. было привозным и неорганичным. Органическое развитие прервалось еще задолго до того. Энергичные реформы, проведенные Петром Великим по западноевропейскому образцу, давно уже прервали органический путь развития старой московской религии и жизни. С этого времени русские воспринимают и поверхностно усваивают только чужое. Так, они лишь чрезвычайно поверхностно усвоили французскую философию XVIII в.; мы не знаем ни одного скольконибудь заметного мыслителя этого направления. Также и русское вольтерьянство XVIII в., и русский мистицизм XIX в. представляли собой привозные, неорганичные явления. Первой 9 органически русской философией, не обособленной, как в XVIII в. философия Сковороды, а такой, что не только восприняла православный, христианский способ мышления, но и стала образцом для всей последующей русской философии, оказалась философия славянофилов. Славянофилы произошли из того романтического движения, в котором немецкий народ осознал самого себя; они взяли на вооружение органический и исторический методы как необходимые методы всякой философии, особенно национальной. Славянофилы первыми выразили внутренний синтез русского народного духа и религиозного опыта восточной ортодоксии. Но в то же время и западную культуру они освоили в полном объеме, прежде всего учения Шеллинга и Гегеля. Здесь уместно будет воспроизвести рассуждения Н. Бердяева, где он следующим образом характеризует славянофильство: «То, что принято называть реакцией начала XIX века, было, конечно, творческим движением вперед, внесением новых ценностей. Романтическая реакция была реакцией лишь в психологическом смысле этого слова. Она оплодотворила новый век творческим историзмом и освобождающим признанием иррациональной полноты жизни. Наше славянофильство принадлежало этому мировому потоку, который влек все народы к национальному самосознанию, к органичности, к историзму. Тем большая заслуга славянофилов, что в этом мировом потоке они сумели занять место своеобразное и оригинально выразить дух России и призвание России. Они — плоть от плоти и кровь от крови русской земли, русской истории, русской души, они выросли из иной духовной почвы, чем романтики немецкие и французские. Шеллинг, Гегель, романтики прямо или косвенно влияли на славянофилов, связывали их с европейской культурой; но живым источником их самосознания, национального и религиозного, были русская земля и восточное православие, неведомые никаким Шеллингам, никаким западным людям. Славянофильство довело до сознательного, идеологического выражения вечную истину православного Востока и исторический уклад русской земли, соединив то и другое органически. Русская земля была для славянофилов прежде всего носительницей христианской истины, а христианская истина была в православной Церкви. Славянофильство означало выявление православного христианства, как особого типа культуры, как особого опыта религиозного, отличного от западно-католического и потому творящего иную жизнь. Поэтому славянофильство сыграло огромную роль не только в истории нашего национального самосознания, но и в истории православного самосознания». Разумеется, у нас нет возможности подробно рассмотреть учение славянофилов, однако необходимо сказать несколько слов о философии А. Хомякова, который вместе с И. Киреевским был основателем и главой славянофильства. Теория познания Хомякова и Ивана Киреевского основывается на рассуждениях о единой, неразделенной духовной жизни. Иван Киреевский утверждал, что у западных народов «раздвоение в самом основном начале западного вероучения, из которого развилась сперва схоластическая философия внутри веры, потом реформация в вере и, наконец, философия вне веры. Первые рационалисты были схоластики; их потомство называется гегельянцами». Соответственно теория познания славянофилов исходит из критики гегелевской философии. Хомяков не только обнаружил основную ошибку гегелевской философии — отождествление живого бытия с понятием, но и предвидел роковые последствия, которые эта ошибка должна была повлечь за собой. Изумительно ясно и отчетливо он предсказал и формулировал переход от гегелевского абстрактного идеализма к диалектическому материализму. Согласно Хомякову и Киреевскому, немецкий идеализм — это продукт протестантства. Германия отделилась от живого организма церкви и утратила единство духовной жизни. «Германия смутно сознавала в себе полное отсутствие религии и переносила мало-помалу в недра философии все требования, на которые до тех пор отвечала вера. Кант был прямым и необходимым продолжателем Лютера. Можно бы было показать в его двойственной критике чистого и практического разума характер вполне лютеранский». В противовес этим худосочным теории познания и онтологии Хомяков провозглашает общую соборную, т. е. церковную, теорию познания. Сам себя обосновывающий дух бессилен, он идет навстречу собственному разрушению, смерти. Разум и воля, находящиеся в мо10 ральном согласии с всеобъемлющим разумом, составляют основание всего. Хомяков видит истинный критерий познания в церковном общении, в любви. «Из всемирных законов волящего разума или разумеющей воли первым, высшим, совершеннейшим является неискаженной душе закон любви. Следовательно, согласие с ним по преимуществу может укрепить и расширить наше мысленное зрение, и ему должны мы покорять, и по его строю настраивать упорное неустройство наших умственных сил. Только при совершении этого подвига можем мы надеяться на полнейшее развитие разума. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных: от латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от протестантства, отрешающего личность для свободы в пустынях рассудочной отвлеченности». Излагатель философии Хомякова прибавляет в этой связи: «Особенно нужно настаивать на том, что соборность, общение в любви, не было для Хомякова философской идеей, заимствованной у западной мысли, а было религиозным фактом, взятым из живого опыта восточной Церкви... Соборность ничего общего не имеет с «сознанием вообще», с «сверхиндивидуальным субъектом» и т. п. кабинетными измышлениями философов, соборность взята из бытия, из жизни, а не из головы, не из книг». Учение славянофилов и вообще русской философии о вере как истинном источнике и условии всякого отдельного знания также не имеет ничего общего с западными учениями о вере, об интеллектуальном созерцании, о здравом человеческом рассудке и о чувстве. Всем этим западным понятиям соответствует, говоря словами профессора Лопатина, в основном более ограниченное и специальное содержание. Так, например, интеллектуальное созерцание у Шеллинга совпадает просто с актом чистого самосознания, в котором наше Я возвышается над всем относительным и конечным и находит свою собственную абсолютную сущность, одновременно являющуюся внутренней действительностью всех других вещей. Далее западные учения о вере делают большой упор на антагонизм, который существует между безошибочными откровениями, с одной стороны, и выводами абстрактного разума и эмпирического опыта — с другой. Такая точка зрения представлена, например, типичным для этого направления учением Якоби. Русские же философы видят в вере основание всей философии, в ней синтезируются и примиряются отдельные элементы знания, в том числе и чисто рациональные. Такова эта теория познания целостного духа. Полное понимание — это «воссозидание, т. е. обращение разумеваемого в факт нашей собственной жизни». Воля — вот что действительно отделяет субъект от объекта, истину от лжи. «Свобода в положительном проявлении силы есть воля». Воля так же ясно обнаруживается в творческой деятельности, как вера — в отображающей восприимчивости, а разум — в завершенном сознании. «Необходимость есть только чужая воля». Волящий свободный разум есть центр всего мировоззрения. На основе своего общего учения о волящем разуме Хомяков пытается дать правильное понятие о Церкви. По высказываниям его друзей и учеников, как и по мнению современных исследователей, это было первое правильное определение Церкви в православной теологии. «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь — стало быть, я не верую... Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истины и любви или, точнее, истина и любовь как организм». Мышление Хомякова было совершенно свободным и независимым; кажется, ни у какого другого русского не встретишь такой свободы мышления, какой обладал Хомяков. «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время Жизнь христианина, внутренняя Жизнь его». «Само христианство есть не что иное, как свобода во Христе... Я признаю Церковь более свободною, чем протестанты; ибо протестантство признает в св. Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как Церковь в Писании признает свое собственное свидетельство и смотрит на него, как на внутренний факт своей собственной жизни. Итак, крайне несправедливо ду11 мать, что Церковь требует принужденного единства или принужденного послушания; напротив, она гнушается того и другого; ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть». Насколько глубоко и возвышенно это построение нового понятия Церкви, настолько же, однако, несправедливо отношение Хомякова к католицизму. Хомяков усматривал в нем только рационалистический и юридический формализм и не углублялся в мистику католицизма и протестантства, например, Якова Бёме. Поэтому многие стороны западного вероисповедания остались от него скрытыми, хотя многое, например, несомненно, наличный элемент рационализма, он ухватил и прочувствовал очень остро и полно. Славянофилы рассматриваются в русской литературе в основном в качестве публицистов и социологов. Верная оценка славянофилам была дана только теперь, можно сказать, только в наши дни. Общественные воззрения критиков всегда имели в русской литературной критике огромное значение, сама литература брала на себя в русской мысли роль публицистики и философии. Возможно, что причины и оправдания этому явлению следует искать в общих стесненных обстоятельствах, в которых находилась литература до последнего времени. Но как бы то ни было, славянофилов часто считали реакционерами, в лучшем случае — консервативными публицистами. Философские основы мировоззрения славянофилов остались непонятыми, да их тогда и не в состоянии были понять. Сегодня нам ясно, что история философии и социология славянофилов являются лишь завершением вышеупомянутого органического учения о едином духе, о Церкви, о соборной теории познания. Тест № 3. Западники. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Высшая школа. – 1991, с.67-83. В истории русской философии и особенно русской политической мысли яркий контраст представляют два взаимно противоположных направления - славянофильское и западническое. Старания славянофилов были направлены на разработку христианского миропонимания, опирающегося на учения отцов восточной церкви и православие в той самобытной форме, которую ему придал русский народ. Они чрезмерно идеализировали политическое прошлое России и русский национальный характер. Славянофилы высоко ценили самобытные особенности русской культуры и утверждали, что русская политическая и общественная жизнь развивалась и будет развиваться по своему собственному пути, отличному от пути западных народов. По их мнению, Россия призвана оздоровить Западную Европу духом православия и русских общественных идеалов, а также помочь Европе в разрешении ее внутренних и внешних политических проблем в соответствии с христианскими принципами. Западники, наоборот, были убеждены, что Россия должна учиться у Запада и пройти тот же самый этап развития. Они хотели, чтобы Россия усвоила европейскую науку и плоды векового просвещения. Западники мало интересовались религией. Если среди них и были религиозные люди, то они не видели достоинств православия и имели склонность к преувеличению недостатков русской церкви. Что же касается социальных проблем, то одни из них более всего ценили политическую свободу, а другие являлись сторонниками социализма в той или иной форме. Некоторые историки русской культуры считают, что эти две противоположные тенденции имеют место и по сей день, правда, под другими названиями и в других формах. Следует отметить, что мировоззрение некоторых западников не отличалось постоянностью. В начале или к концу жизни они значительно отступали от типичных западнических взглядов. В этом отношении ярким примером может служить мыслитель, идеи которого мы рассмотрим в этой главе. 12 1. П.Я. ЧААДАЕВ Петр Яковлевич Чаадаев (1794 - 1856) - сын богатого помещика, учился в Московском университете. Не окончив университет, он добровольно вступил в армию. В 1812 г. Чаадаев принял участие в кампании против Наполеона. Он также участвовал в заграничных походах русской армии. В 1820 г., в бытность офицером гусарского гвардейского полка, Чаадаев был послан на конгресс в Троппау с докладом Александру I о мятеже в Семеновском полку. Через несколько месяцев он вышел в отставку. С 1823 по 1826 г. Чаадаев жил за границей и поэтому не принял участия в восстании декабристов. В Карлсбаде он встречался с Шеллингом и впоследствии с ним переписывался. В конце 1829 г. Чаадаев начал работать над трактатом «Философические письма» (на французском языке). Эта работа, состоящая из восьми писем, была закончена в 1831 г. Письма адресуются к некой даме, которая, по видимому, желала посоветоваться с Чаадаевым о том, как упорядочить свою духовную жизнь. В «Письме первом» Чаадаев советует этой даме тщательно соблюдать все обряды, предписываемые церковью. «Это упражнение в покорности, - пишет он, - ...укрепляет дух» (II, 108). Без строгого соблюдения церковных обрядов можно обойтись только тогда, «...когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, - верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие» (И, 108). Чаадаев рекомендует «размеренный образ жизни», ибо только он соответствует духовному развитию. Он восхваляет Западную Европу, где «...идеи долга, справедливости, права, порядка... родились из самих событий, образовавших там общество... входят необходимым элементом в социальный уклад» и составляют «...больше, чем психологию: - физиологию европейского человека» (II, 114). Здесь Чаадаев, очевидно, имеет в виду дисциплинарное влияние римской католической церкви. По отношению к России Чаадаев был настроен крайне критически: «...мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого» (II, 109). «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих...» (II, 117). «Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы... И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений...» (II, 117). В 1836 г. журналом «Телескоп» было опубликовано первое «Философическое письмо» (от 1 декабря 1829 г.). Цензор, разрешивший напечатать это письмо, был смещен со своего поста, журнал запрещен, а его редактор профессор Надеждин выслан в Усть-Сысольск, а затем в Вологду, откуда вернулся только в 1838 г. Самого Чаадаева император Николай I объявил сумасшедшим. В течение года Чаадаев был пленником в своем доме под присмотром врачей и полиции. Цензоры получили указание не пропускать в печать какие-либо критические отклики на письмо Чаадаева. Это письмо было напечатано вторично только в 1906 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» и в «Собрании сочинений и писем Чаадаева» под редакцией Гершензона. Другие письма Чаадаева были недавно найдены князем Шаховским. Второе, третье, четвертое, пятое и восьмое письма опубликованы в 1935 г. в журнале «Литературное наследство» (XXII - XXIV). Шестое и седьмое письма не опубликованы в печати, очевидно, по той причине, что в них Чаадаев говорит о благотворном влиянии церкви. Фанатические атеисты, стоящие у власти в СССР, рассматривают эти письма как «опиум для народа». Философское мировоззрение Чаадаева носит ярко выраженный религиозный характер. Чаадаев говорит, что желающие сочетать идеи истины и добра должны «стремиться проникнуться истинами откровения». Однако лучше всего «...целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу, и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце» 13 («Письмо второе», 24). Две силы являются действенными в нашей жизни. Одна из них находится внутри нас «несовершенная», а другая стоит вне нас - «совершенная». От этой «совершенной» силы мы получаем «...идеи о добре, долге, добродетели, законе...» («Письмо третье», 31). Они передаются от поколения к поколению благодаря непрерывной преемственности умов, которая составляет одно всеобщее сознание. «Да, сомненья нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ ...это факт огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое Все: он создает логику причин и следствий, но он не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов... («Письмо пятое», 46) ...как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно...» («Письмо пятое», 49). Наше «пагубное я» в какой-то мере разобщает человека с «природой всеобщей». «Время и пространство - вот пределы человеческой жизни, какова она ныне». В результате такого разобщения нам является внешний мир. «Необходимо только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не существует... Действительные количества, т.е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме...» («Письмо четвертое», 38). Прочитав критику чистого разума Канта, Чаадаев зачеркнул название книги и понемецки написал «Apologete adamitischer Vernunft» («Апология адамовского разума»). Он, очевидно, считал, что Кант изложил учение не о чистом разуме, а о разуме, извращенном грехом. «Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа...». Это означает, «...что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом...» («Письмо третье», 30). «Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству; вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние - все предназначение христианства. Истина едина: царство божие, небо на земле, все евангельские обетования - все это не что иное, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого бога, иначе говоря, - осуществленный нравственный закон» («Письмо седьмое», 62). «Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги... Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге» («Письмо восьмое»). «И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела Христова в евхаристии и их не знающее пределов поклонение телу спасителя столь достойны уважения». Этот догмат об евхаристии «сохраняется в некоторых умах... нерушимым и чистым... Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями?» («Письмо восьмое», 62). Крепостничество вызывало у Чаадаева особое негодование. Его отношение к монархии выражено в прокламации, которая была написана в 1848 г., во время революции в Европе. Эта прокламация была спрятана в одной из книг в его библиотеке. В прокламации, написанной мнимо-крестьянским языком, Чаадаев выражает радость по тому случаю, что народы поднялись против монархов. Прокламация заканчивается словами: «Мы не хотим царя другого, окромя царя небесного» («Литературное наследство», XXII - XXIV, 680). Отрицательное отношение Чаадаева к России, выраженное так сильно в его первом «Философическом письме», несколько сгладилось под влиянием князя Одоевского и других друзей. В 1837 г. Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», которая после его смерти была опубликована в Париже русским иезуитом князем Гагариным в книге «Oeuvres choisies de P. Tchaadaief» (1862). Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известном смысле благом. Русский народ, не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свободой духа для выполнения великих задач грядущего. 14 Православная церковь сохранила сущность христианства во всей его первоначальной чистоте. Поэтому православие может оживить тело католической церкви, которое слишком сильно механизировано. Призвание России состоит в осуществлении окончательного религиозного синтеза. Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы в том случае, если она усвоит все, что есть ценного в Европе, и начнет осуществлять свою богом предначертанную миссию. Не следует полагать, что Чаадаев пришел к этому убеждению сразу же в 1836 г., после постигшей его катастрофы. Французская революция 1830 г. сделала его менее склонным к идеализации Запада по сравнению с тем временем, когда он писал свое «Первое письмо». В сентябре 1831 г. Чаадаев писал Пушкину: «Но человечество ставит перед собой задачу осуществления. Быть может, на первых порах это будет нечто подобное той политической линии, которую в настоящее время проповедует С.-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем» (И, 180). В 1835 г. в письме к А.И. Тургеневу, за год до выхода в свет «Первого письма», он писал: «...нам нет дела до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад; что Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком величественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого; ...что император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его, что провидение создало нас слишком сильными, чтобы быть эгоистами, что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить: что в этом наше будущее, в этом наш прогресс... таков будет логический результат нашего долгого одиночества: все великое приходило из пустыни» («Литературное наследство», XXII-XXIV, 16, 17). Эти идеи, близкие к мировоззрению славянофилов, Чаадаев выразил еще до того, как последние развили свое учение. 2. В.Г. БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич Белинский (1811 - 1848) был талантливым литературным критиком. Во время учебы в Московском университете Белинский принадлежал к кружку Станкевича. В этом кружке он познакомился с философией природы Шеллинга. В 1836 г., под влиянием Бакунина, Белинский в течение короткого периода времени увлекался философией Фихте, а затем благодаря Станкевичу и Бакунину стал восторженным гегельянцем и оставался им с 1837 по 1840 г. Как использовал Белинский гегелевскую философию в своих критических статьях, можно видеть, например, из его понимания поэзии, изложенного им в статье «Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова» (1839). В этой статье Белинский писал: «Поэзия есть истина в форме созерцания; ее создания - воплотившиеся идеи, видимые, созерцаемые идеи. Следовательно, поэзия есть та же философия, то же мышление, потому что имеет то же содержание - абсолютную истину, но только не в форме диалектического развития идеи из самой себя, а в форме непосредственного явления идеи в образе». В 1839 г. Белинский переехал из Москвы в Петербург и начал сотрудничать в журнале Краевского «Отечественные записки». В этом же году он опубликовал в данном журнале три статьи, написанные в духе «примирения с действительностью» - «Бородинская годовщина», «Менцель, критик Гете» и «Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова». Эти статьи проникнуты гегелевской идеей о том, что «все действительное разумно, все разумное действительно». Превознося самодержавие, Белинский писал: «...у нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою путеводною к его высокому назначению». Царская власть «всегда таинственно сливалась с волею Провидения - с разумною действительностью». «Человек служит царю и отечеству вследствие возвышенного понятия о своих обязанностях к ним, вследствие желания быть орудием истины и блага, вследствие сознания себя, как части общества, своего кровного и духовного родства с ним - это мир действительности». За эти статьи Белинский подвергся ожесточенным нападкам со стороны противников само15 державия. Живя в Петербурге, Белинский понял реакционную сущность режима Николая I. В июне 1841 г. в письме к Боткину он резко высказывается не только о самодержавии, но и о монархии вообще. «Примирение с действительностью», проходящее яркой чертой через статьи Белинского, написанные в 1839 г., не следует истолковывать как недопонимание теории Гегеля. Только люди с поверхностным знанием философии Гегеля могут вообразить, что Гегель отождествляет «действительность» с каждым эмпирическим фактом. В таком случае следовало бы полагать, что, например, наказание солдат шпицрутенами до смерти, применявшееся при Николае I, «действительно», а следовательно, и «разумно». Однако в сложной философской системе Гегеля не все то, что сейчас существует, можно назвать действительным. Гегель различает три стадии бытия: действительность, явление и видимость (Wirklichkeit, Erscheinung und Schein), т.е. нечто подобное индусской системе майя. Белинский не знал немецкого языка, но усвоил философию Гегеля от таких знатоков, как Н. Станкевич и М. Бакунин. Отсюда следует, что он разбирался в том, что Гегель понимал под «действительностью». Это видно из следующих слов Белинского: «Разум в сознании и разум в явлении - словом, открывающийся самому себе дух есть действительность; тогда как все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, как противоположность действительности, как ее отрицание, как кажущееся, а не сущее. Человек пьет, ест, одевается - это мир призраков, потому что в этом нисколько не участвует дух его...». В этой же статье он пишет: «Общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество». Отсюда видно, как мало значения придавал Белинский личности. Белинский окончательно отверг философию Гегеля лишь тогда, когда пришел к признанию величайшей ценности личности. В письме к Боткину (1841) Белинский писал: «Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны... Благодарю покорно, Егор Федорыч, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, - костей от костей моих и плоти от плоти моея. ...судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т.е. гегелевской Allgemeinheit)». В 1841 г. Белинский познакомился с французским социализмом Сен-Симона и Леру, а к 1848 г. социализм стал для него «идеей идей». «Неистовый Виссарион» (так называли Белинского за пылкий темперамент), предавая забвению свое недавнее беспокойство за «жертвы истории», писал Боткину: «Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». В 1843 - 1844 гг. один из друзей Белинского перевел для него «Сущность христианства» Фейербаха. Эта работа произвела на Белинского сильное впечатление. Советские авторы утверждают, что в конце своей жизни Белинский под влиянием Фейербаха усвоил взгляды «антропологического материализма». Однако эти авторы получили указание советского правительства отыскать как можно больше материалистов среди представителей западноевропейской и русской культуры. Поэтому не следует принимать во внимание их утверждения. Они считают материалистом даже такого философа, как Спиноза. Из сочинений Белинского не видно, что он стал материалистом, хотя, правда, в последние годы своей жизни он совершенно перестал ссылаться на сверхчувственные основы мирового бытия. В феврале 1847 г. Белинский писал Боткину: «Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость... Освободить науку от призраков, трансцендентализма и thly» [теологии. -Ред.]. 16 В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский пишет: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии». Эти слова о сочетании психической жизни с физиологическим процессом могут быть истолкованы по-разному. Тем не менее они не имеют ничего общего с воззрениями материалистов. Действительно, в той же статье он пишет: «Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? - Конечно, то, что мы называем его духовностию, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность... Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? - Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что назвали вы в нем духовным и нравственным, а умерло только грубо материальное, случайное? ...Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели, но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами». Возможно, у многих возникнет вопрос: был ли в конце своей жизни Белинский действительно атеистом. В письме к Гоголю о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский отзывается о русской православной церкви по большей части с неприязнью и утверждает, что русские «по натуре глубоко атеистический народ». Во Франции, пишет он, «...многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога» (15 июля 1847 г.)2. Но шесть месяцев спустя в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», написанной незадолго до смерти, Белинский отмечал следующее: «Искупитель рода человеческого приходил в мир для всех людей... Он - сын бога - человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, злодействах... Но божественное слово любви и братства не втуне огласило мир». На протяжении своей краткой, но деятельной жизни Белинский часто менял свои философские взгляды, и каждое изменение глубоко отражалось на его произведениях, как критических, так и публицистических. Однако он ничего не сделал для дальнейшего развития философии как таковой. И я говорил о нем так пространно только потому, что он оказал большое влияние на русскую культуру как замечательный литературный критик, обладавший прекрасным эстетическим вкусом. Тест № 4. Учение Вл. Соловьева. А.Гулыга Философия любви. Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. Второе издание. – М.: «Мысль», 1990, с. 33 – 46. Вл. Соловьева волновала судьба человечества. Он предвидел возможный прорыв к высшему бытию, но опасался и угрозы конца истории. Конечно, нельзя принимать всерьез то, что написано в «Краткой повести об Антихристе», венчающей его последнее крупное произведение «Три разговора». И все же обращение к этому сюжету весьма примечательно. Языком газетного репортажа повествует Соловьев о завоевании Европы желтой расой. После разгрома завоевателей возникает мировая империя во главе с Антихристом и со столицей в Иерусалиме. Последний акт мировой трагедии — столкновение разноплеменного языческого войска Антихриста с армией Израиля. Во всей этой истории есть сильный элемент иронии (и даже пародии): Соловьев выступает против всех видов мессианства. Причем главный объект критики — толстовство, толстовское учение о непротивлении злу насилием. В «Трех разговорах» читателя потрясает экспрессивно рассказанный эпизод русско-турецкой войны, когда казачий отряд наталкивается на следы зверской расправы с мирным населением. Не сопротивляться такому злу? В лучших традициях русской баталистики Соловьев описывает бой, в котором башибузуки получили по заслугам. И все же предчувствие культурной катастрофы не покидало мыслителя. После «Трех 17 разговоров» посмертно вышла небольшая заметка «По поводу последних событий» — своего рода духовное завещание философа. «Боксерское восстание» в Китае Соловьев принял за начало «панмонголизма», который, по его мнению, должен привести к краху Европы. Вот последние абзацы, вышедшие из-под пера Соловьева: «Что современное человечество есть больной старик и что всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца (знаменитого русского историка Сергея Соловьева.— А. Г.), и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: «Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы сыщешь? Те островитяне, что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы. Или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту». А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, ...что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., то мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу, как сейчас. Какое яркое подтверждение своему продуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого ... китайца и конец истории сошелся с ее началом! Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно». Каким же образом этот безнадежный пессимист, пророк катастрофы, весь устремленный в запредельное будущее, мог создать проникновенный философский гимн земной любви, который в мировой культуре можно смело поставить в один ряд с «Пиром» Платона? У Соловьева была еще одна ипостась — лирический поэт. Ему не дано было основать семью, он влюблялся в замужних женщин; и, может быть, потому, что не суждено было ему обрести покой разделенной любви, все остальное в его переживаниях теряло свое значение. Не об этом ли говорят его стихи? Порой холодно-торжественные: Смерть и Время царят на земле,— Ты владыками их не зови; Все кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви. Порой исполненные самых доверительных интонаций: Милый друг, иль ты не чуешь, Что одно на целом свете — Только то, что сердце к сердцу Говорит в немом привете? Соловьев многолик. «Куда же поместить нам сегодня разные знакомые лики Соловьева,— вопрошал Александр Блок в своей речи в двадцатую годовщину смерти философа,— где найти для них киот? Нет такого киота, и не надо его; ибо все знакомые лики Соловьева — личины, как ясно указывал в воспоминаниях о нем А. Белый; а я уверен, что это — лучшее, что до сих пор было сказано о Вл. Соловьеве. Соловьев философ — личина, публицист — тоже личина, Соловьев — славянофил, западник, церковник, поэт, мистик — личины; Соловьев, как говорил А. Белый, был всегда мучим «несоответствием между всей своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми». Сейчас, в наши дни, уже слишком ясно, что без некоего своеобразного «хождения перед людьми» всякая литературно-философская деятельность бесцельна и по меньшей мере мертва». Блок неточно процитировал Белого (хотя смысл схватил верно), в статье которого «Владимир Соловьев» сказано: «Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской 18 свечой». Со свечой перед людьми идут, чтобы освещать им дорогу. Какую дорогу освещал Соловьев? В данном контексте нас интересует Соловьев как мыслитель и моралист. Он был взращен в рамках сложившейся традиции, возникшей в начале века под сильным воздействием Шеллинга. Не Канту и не Фихте, а именно Шеллингу суждено было стать властителем русских философских дум и решающим образом влиять на развитие самобытного русского философствования. До тех пор пока на первый план не вышли Гегель и Фейербах, Шеллинг значил для России больше, чем для Германии. Русское шеллингианство — сильное умственное течение, не повторявшее учителя, а интерпретировавшее его. Для понимания Вл. Соловьева знакомство с Шеллингом необходимо, хотя он прямо нигде не высказывает своего отношения к немецкому философу. Но любопытная деталь: первая работа Соловьева («Мифологический процесс в древнем язычестве»), как и первая работа Шеллинга, посвящена мифологии, здесь есть ссылки на Шеллинга. Последняя крупная работа Соловьева («Три разговора») полна шеллинговских мотивов и реминисценций. Когда Соловьев защищал докторскую диссертацию («Критика отвлеченных начал»), один из официальных оппонентов заметил, что соискатель отстаивает воззрения, близкие Шеллингу. Отвечая оппоненту, Соловьев признал родство своих взглядов с поздней философией Шеллинга. В отличие от предшествовавших русских шеллингианцев, считавших, что Шеллинг всегда оставался одним и тем же, Соловьев называл «умозрительным пантеизмом» воззрения раннего Шеллинга и отвергал их, соглашаясь, однако, с «теософическими построениями второй Шеллинговой системы...». Противник Соловьева — неизменный и бескомпромиссный Гегель. У позднего Шеллинга заимствует Соловьев свои аргументы против Гегеля. Гегелевская философия доводит до абсурда абстрактный рационализм, панлогизм. По Гегелю, отмечает Соловьев, нет ничего непосредственно существующего, все есть «бываемость понятия». Соловьев же считает, что «понятие не есть все, иначе, понятие как такое не есть еще сама действительность (как только понятие, оно имеет действительность, лишь насколько я его мыслю, т. е. только в моей голове...)». Вслед за Шеллингом Соловьев называет свое учение философией «всеединства» и видит в ней начало нового типа философствования. С требованием «самобытной, не зависящей от понятий действительности,— утверждает он,— кончается век чисто логической, или априорной, философии, кладется начало философии положительной...». Это тоже общеизвестная идея Шеллинга. Положительная философия (в отличие от «негативной», логической) исходит из примата нравственного начала. Философская система зрелого Соловьева складывается из трех составных частей — учения о нравственности, учения о знании, учения о красоте. Первая часть системы была изложена философом в главном его труде — «Оправдание добра», за ним должен был последовать оставшийся ненаписанным труд «Оправдание истины» (три фрагмента, объединенные заголовком «Теоретическая философия»,— заготовки этого труда). Соловьев думал и о создании «Оправдания красоты», но здесь не было и заготовок, и только по двум небольшим статьям — о красоте природы и о смысле искусства, а также по многочисленным литературно-критическим статьям и рецензиям можно судить о его эстетике. «Оправдание добра» начинается с констатации несостоятельности взгляда, всецело подчиняющего нравственную философию отвлеченным принципам любого порядка, будь то религиозным или спекулятивно-теоретическим. У этики свой специфический предмет исследования, главное в котором составляют особые переживания человека. Самоочевидность переживания должна заменить здесь исходную идею Декарта о самоочевидности мышления: «Я стыжусь, следовательно, существую». Чувство стыда отличает человека от животного. Стыд, жалость, благоговение — вот три элементарных переживания, три «кита», на которых стоит нравственность. Из этих трех переживаний выводит Соловьев все богатство духовной жизни человека. Философ выступает против искусственных попыток ограничить эту полно19 ту. Стыд удерживает человека от неумеренных чувственных наслаждений. Но на одном стыде нравственность не построишь. Стыд делает человека аскетом, однако аскетизм в основе своей ложен. Плотин стыдился своего тела, нормальный человек чужд этому чувству, мы не стыдимся своей материальности, хотя и стремимся подчинить телесное, животное начало в нашей жизни духовному. Что касается аскетизма, то он перегибает палку. «Бывали и бывают успешными аскетами не только люди, преданные духовной гордости, лицемерию и тщеславию, но и прямо злобные, коварные и жестокие эгоисты». Поэтому жалость и милосердие — обязательное дополнение к стыдливости, ограничивающей животные порывы нашей души. Но на одном альтруизме опять-таки нравственность не построишь. Шопенгауэр не прав, считая сострадание единственной опорой нравственности. Развратник, обжора и пьяница может быть добрым и сострадательным, однако моральной личностью такого человека назвать нельзя. Стыд выступает как обязательный регулятор человеческого поведения. Третий стимул нравственного образа жизни — уверенность в разумном смысле своего существования. Моральный человек задается вопросом, зачем я живу, и отвечает на него: чтобы творить добро. А творить добро я могу только в том случае, если верю в его значение, в его обязательность, в его величие. Соловьев называет это благоговение религиозным чувством, но сам же показывает, что оно может носить и вполне светский характер: благоговеть можно перед предками, перед обществом, народом, семьей, сформировавшими тебя как культурную личность. ”...Я не могу не чувствовать благодарности и благоговения к тем людям, которые своими трудами и подвигами вывели мой народ из дикого состояния и довели его до той степени культуры, на которой он теперь находится». Чувство неоплаченного долга перед предками, «отцами», за переданную тебе культуру, положенное на сознание собственной ответственности перед «детьми», потомками, стремление передать им культурную эстафету в сохранности, в обогащенном виде — вот основа нравственного поведения того повеления к добру, которое Кант назвал категорическим императивом. Соловьев принял кантовскую идею автономной морали. И тем заслужил порицания ортодоксально-религиозных авторов. Говорили (и писали) об «антихристовом добре» Соловьева. К. Мочульский определеннее других отметил неприятие церковью этики, изложенной в «Оправдании добра», и ее отличие от того, что утверждал мыслитель до этого: «Трудно представить себе более решительное отречение от прежних заветных верований”. Раньше Соловьев выводил понятие добра из понятия Бога, теперь понятие Бога он пытается вывести из понятия добра... Задача построения автономной этики явно неосуществима... Соловьев постоянно путается в неразрешимых противоречиях...». На самом деле он удивительно просто и убедительно показывает перед читателем процесс развертывания этического сознания. Соловьев видит три необходимые составные части любого морального поведения: 1) сознание собственного морального несовершенства; 2) наличие объективно данного совершенства; 3) мое стремление приблизиться к совершенству, преодолеть свое несовершенство, т. е. мое совершенствование. Вторую позицию Соловьев называет богом, вечно сущим, высшим добром. Дело не в наименовании. Важно понять, что без признания морального абсолюта никакие нравственные императивы не «работают», приобретают релятивный характер. Со времени Гегеля принято различать мораль и нравственность. Нравственность корпоративна — это принципы поведения той или иной общности, основанные на нравах. Мораль общечеловечна — это постулаты поведения индивида как части человеческого рода. Мораль — это абсолютная нравственность, единая во все времена для всех народов, для всего человечества. Корпоративная нравственность знает такие понятия, как «свой» и «чужой», «друг» и «враг» (если враг не сдается, его уничтожают; если сдается — тоже уничтожают, заодно уничтожают и потенциального врага и вообще — подозрительных). Абсолютная нравственность (мораль) признает безусловное значение каждого человека независимо от его предикатов и корпоративной принадлежности. Убийство дикаря, говорит Соловьев, такое же преступление, как и убийство гения и святого. Нравственность возникла одновременно с человеческим обществом и принимала под20 час аморальные формы. Убийство престарелых и больных, каннибализм — нравственные нормы первобытного общества. Мораль — более позднего происхождения. Если верить Гегелю, то в Европе ее открыл Сократ, показав, что существует добро как таковое. Источником морального несовершенства, по Сократу, служит недостаток знаний: зло от умственной темноты; светоч знаний ведет к добру. Позднейшее развитие этической мысли показало, что дело обстоит сложнее: для утверждения добра одних знаний недостаточно. Добро от бога — утверждала христианская традиция; добро от правильного понимания собственных интересов — так говорили метафизические материалисты. Кант сказал, что мораль автономна, не зависит ни от каких внешних импульсов, только внутреннее повеление ведет к моральному образу жизни. Соловьев следует в русле рассуждений Канта, при том, что ни Кант, ни Соловьев не отрицают социальных основ морали. Особенно на первых порах развития морального сознания нужны внешние нормы и запреты. Их дает право. «Право есть низший предел или определенный минимум нравственности». Нравственность не может ограничиться жизнью отдельного человека, и прежде всего потому, что таковой вообще нет, жизнь человека протекает в обществе. Соловьев называет три социальные ячейки, три вида «собирательного человека», в которых и проявляется моральное лицо индивида,— семья, народ, человечество. Право — это минимум нравственности, максимум ее, всеполнота реализации — любовь. Чтобы понять ее смысл, нужно снова вспомнить о Шеллинге, его учении о сущем. «Сущее,— поясняет Соловьев,— не есть бытие, но ему принадлежит всякое бытие в том же смысле, как мы должны сказать, например, что человек (мыслящий) не есть мышление, но ему принадлежит мышление. Как мыслящий не тождествен с мышлением, но имеет мышление, так и сущее не тождественно с бытием, но имеет бытие или обладает бытием. Обладать чем-нибудь — значит иметь над ним силу, так что сущее должно определяться как сила или мощь бытия, как его положительная возможность». Противоположность бытия — ничто, небытие, величина отрицательная. А что представляет собой противоположность сущего? Соловьев вводит понятие «положительного отрицания». Противоположность сущего — ничто как положительная величина, т. е. наполненное содержанием другое. А самоотрицание в этом случае становится самоутверждением. Так Соловьев приходит к пониманию «смысла любви». «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение. Отсутствие самоотрицания, или любви, то есть эгоизм, не есть действительное самоутверждение существа,— это есть только бесплодное, неудовлетворимое стремление или усилие к самоутверждению, вследствие чего эгоизм и есть источник всех страданий; действительное же самоутверждение достигается только в самоотрицании, так что оба эти определения суть необходимо противоположные себя самих. Итак, когда мы говорим, что абсолютное первоначало, по самому определению своему, есть единство себя и своего отрицания, то мы повторяем только в более отвлеченной форме слово великого апостола: Бог есть любовь». Бог есть любовь. Соловьев исследует обе стороны этого равенства. Он пишет о боге и о любви. В данном контексте для нас важно второе. В статье для Энциклопедии Соловьев определяет любовь как «влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни». Из обоюдности отношений он выводит три вида любви. Во-первых, любовь, которая больше дает, нежели получает, или нисходящая любовь. Вовторых, любовь, которая больше получает, нежели дает, или восходящая любовь. В-третьих, когда то и другое уравновешено. В первом случае это родительская любовь, она основана на жалости и сострадании, включает в себя заботу сильных о слабых, старших о младших; перерастая родственные отношения, она создает отечество. Второй случай — любовь детей к родителям, она покоится на чувстве благодарности и благоговения; за пределами семьи она рождает представление о духовных ценностях. Полнота жизненной взаимности достигается в половой любви; жалость и благоговение в соединении с чувством стыда создают эмоциональную основу этого третьего вида любви. Любовь как «преодоление эгоизма» определял Шеллинг в «Штуттгартских беседах». 21 Соловьев прекрасно знал и умно интерпретировал эту работу. Сохранился черновой фрагмент статьи Соловьева о Шеллинге, где речь идет о «Штуттгартских беседах». Шеллинг говорит о божественном эгоизме и божественной любви. По словам Соловьева, половая любовь создает «расцвет индивидуальной жизни». Как ни парадоксально, но эгоизм несет гибель личностному началу. Утверждая по видимости свою персону, эгоизм на самом деле губит ее, выдвигая на первый план животное или житейское начало в ущерб духовному. Подлинное самоутверждение человека как одухотворенного существа состоит в преодолении эгоизма, в том, чтобы утвердить себя в другом. «Тогда только эгоизм будет подорван или упразднен не в принципе только, а во всей своей конкретной действительности. Только при этом, так сказать, химическом соединении двух существ, однородных и разнозначительных, но всесторонне различных по форме, возможно (как в порядке природном, так и в порядке духовном) создание нового человека...». Итак, смысл любви — создание нового человека. Это следует понимать и в переносном смысле — как рождение нового духовного облика у человека, так и в прямом — как продолжение человеческого рода. Простите, вправе перебить читатель, но Соловьев недвусмысленно начал свой трактат с утверждения того, что размножение не является смыслом любви. Здесь необходимы уточнения. Один из первых читателей «Смысла любви», Н. Я. Грот, обратил внимание автора на несуразность выдвинутого им тезиса, и автор вынужден был согласиться. «Согласен, что ты, Грот, возражаешь насчет размножения. Дело в том, что я употребил это слово, чтобы избежать термина (coitus), принятого в медицинской и зоологической, но не в философской литературе. Размножение же в точном смысле, т. е. деторождение, по справедливому твоему замечанию, не есть грех, а по моему справедливому дополнению, есть даже искупление греха...» «Дополнение», т. е. разъяснение своей позиции, Соловьев сделал в работе «Оправдание добра», работать над которой он начал вскоре после завершения «Смысла любви». Здесь Соловьев пишет: «Нравственно-дурное (плотский грех) следует видеть, конечно, не в физическом факте деторождения (и зачатия), который, напротив, есть некоторое искупление греха, а только в безмерном и слепом влечении (похоть плоти, concupiscensia) к внешнему, животно-материальному соединению с другим лицом (на деле или в воображении), которое ставится как цель само для себя, как независимый предмет наслаждения». На проблему деторождения Соловьев смотрел не только с нравственно-этической, но и с социологической точки зрения. Его беспокоило падение рождаемости. В статье «Россия через сто лет» он иронически усмехался по поводу услышанного в поезде прогноза, будто в России будет к этому времени четыреста миллионов человек. «По недавно обнародованным несомненным статистическим данным, та значительная прогрессия, в которой возрастало наше население до восьмидесятых годов, с тех пор стала сильно убывать и в некоторых частях Империи уже сошла на нуль. А именно в губерниях среднечерноземной полосы с 1885 года прибыль населения, как известно, вовсе прекратилась, и тот значительный (хотя и меньший, чем ожидали) прирост в 12 миллионов за 10 лет, который обнаружен переписью 1897 г., падает преимущественно на различные нерусские или полурусские окраины... Есть, значит, помимо механического перемещения людских масс, какая-то органическая причина, остановившая наш рост». Поэтому призыв Соловьева (высказанный в «Оправдании добра») — «деторождение благословляется» — приобрел общенациональный, государственный смысл. Соловьев выступает против любой «робинзонады» любви. Любящая пара живет не на необитаемом острове, а среди людей, среди таких же любящих пар. Преодоление эгоизма не может ограничиться тем, что ты перенес свою исключительность на объект любви, считаешь центром вселенной не только себя, но и своего партнера. «Из того, что самое глубокое и интенсивное проявление любви выражается во взаимоотношении двух восполняющих друг друга существ, никак не следует, что это взаимоотношение могло отделять и обособлять себя от всего прочего как нечто самодовлеющее; напротив, такое обособление есть гибель любви...» И Соловьев настаивает: «Истинная жизнь индивидуальности в ее полном и безусловном значении осуществляется и увековечивается только в соответствующем развитии все22 мирной жизни, в котором мы можем и должны деятельно участвовать...». Любовь для Соловьева — но только субъективное переживание, но активное вторжение в жизнь. Как дар речи состоит не в говорении самом по себе, а в передаче через слово мысли, так истинное назначение любви не в простом испытывании чувства, а в том, что благодаря тому совершается, в деле любви, в преображении социальной и природной среды. Природа до сих пор была для человека либо деспотической матерью, либо чужою ему рабою, вещью. Во втором случае «одни только поэты сохранили еще... хотя безотчетное и робкое чувство любви к природе, как к равноправному существу». Соловьев заканчивает свой трактат о любви призывом установить любовное, сигизическое (гармоническое) отношение человека к природе, к космосу. В работе «Жизненная драма Платона» (1898) Соловьев возвращается к теме любви. Он видит у любви пять возможных путей — два ложных и три истинных. Первый путь любви — «адский». Соловьев не хочет о нем говорить (подразумевается, видимо, мастурбация, которая в те годы считалась губительной для организма). Второй ложный путь — животный, неразборчивое удовлетворение полового влечения. Третий путь (первый истинный) — брак, человек в нем «отвергает, бракует свою непосредственную животность и принимает, берет норму разума. Без этого великого учреждения, как без хлеба и вина, без огня, без философии, человечество могло бы, конечно, существовать, но недостойным человека образом — обычаем звериным». Четвертый путь — аскетизм, умерщвление плоти, ангельское бытие. Но ангел с христианской точки зрения ниже человека, поэтому монашество хотя и подвиг, но не высший путь любви для человека. Высший, пятый путь — это божественная любовь, когда предстает не пол человека, не его половина, а целый человек, в соединении мужского и женского начал. Человек становится в этом случае «сверхчеловеком», «богочеловеком»; именно здесь он решает главную задачу любви — увековечить любимое, спасти его от смерти и тлена. Об этом виде любви Соловьев говорит в другом месте, что она есть та сила, которая выводит нас внутренне из границ нашего «данного существования». И далее: «Эта любовь низводит благодать божию на земную природу и празднует победу не только над нравственным злом, но и над его физическими последствиями — болезнью и смертью». Достигается подобная высшая любовь за счет воздействия высших, внечеловеческих потенций. Можно ли считать эти рассуждения, венчающие трактат «Россия и Вселенская церковь» (1890), итогом всего философствования Соловьева? Нет, это не был итог. Среди последних работ Соловьева есть две, открывающие иные перспективы. С одной — «По поводу последних событий»,— где человечество выступает как безнадежно больной старик, мы уже знакомы. Другая работа — «Идея сверхчеловека»,— написанная в 1899 г., полна оптимизма и переводит разговор о бессмертии и высшей любви в естественнонаучную плоскость. Послушаем Соловьева: «В ту пору, когда я резал пиявок бритвою и зоолога Геккеля предпочитал философу Гегелю, мой отец рассказал мне однажды довольно известный анекдот о том, как «отсталый» московский купец сразил «передового» естественника, обращавшего его в дарвинизм. Это учение, по тогдашней моде и к «некоторому несчастью» для Дарвина, понималось как существенное приравнение человека к прочим животным. Наговорив очень много на эту тему, передовой просветитель спрашивает слушателя: «Понял?» — «Понял».— «Что ж скажешь?» — «Да что сказать? Ежели, значит, я — пес, и ты, значит,— пес, так у пса со псом какой же будет разговор?» Ныне, благодаря Ницше, передовые люди заявляют себя, напротив, так, что с ними логически возможен и требуется серьезный разговор». Разговор этот — о бессмертии. Соловьев ведет его совсем как естествоиспытатель. «Внутренний рост человека и человечества в своем действительном начале тесно примыкает к тому процессу усложнения и усовершенствования природного бытия, к тому космическому росту, который особенно ярко выражается в развитии органических форм растительной и животной жизни. Раньше появления человека широко и разнообразно развиваются формы жизни чувственной; человеком доисторически начинается и на глазах истории продолжается развитие жизни разумной... На таком всестороннем видоизменении и осложнении телесных форм держится и развитие душевной жизни организмов (по крайней мере в животном царстве). Если бы обра23 зование новых телесных форм остановилось, положим, на форме устрицы, то никакого дальнейшего развития и в психическом отношении больше не было бы, так как совершенно очевидно, что в этой форме бытия — устрицы — не могло бы вместиться не только духовное творчество человека, но и душевная жизнь собаки...» С появлением человека появляется такая животная форма, которая благодаря развитому нервно-мозговому аппарату не требует более существенных перемен в телесной организации, потому что может вместить в себя бесконечный ряд ступеней духовного развития. Одухотворение человека не изменяет анатомического типа. Поэтому никакой новой, «сверхчеловеческой» телесной формы не потребуется в дальнейшем, хотя духовное развитие человека безгранично и ему предстоит «стать сверхчеловеком». И первое, что сделает человека сверхчеловеком,— это победа над смертью. Цель далека, «но ведь путь-то, к ней ведущий, приближение к ней по этому пути, хотя бы и медленное, исполнение, хотя бы и несовершенное, но все совершенствующееся, тех условий, полнота которых требуется для торжества над смертью,— это-то ведь, несомненно, возможно и существует действительно». Соловьев ждет от науки достижения индивидуального бессмертия. Что случилось с философом любви? А случилось вот что — он попал под влияние идей Н. Федорова. Еще в 80-е годы, ознакомившись с рукописными работами великого русского утописта, мечтавшего о победе над смертью и о возвращении жизни умершим средствами науки, он писал их автору: «Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном... Я со своей стороны могу признать Вас своим учителем и отцом духовным». У Федорова есть фрагмент «Сверхчеловечество как порок и добродетель». Название говорит о содержании фрагмента. Идея сверхчеловека порочна, когда речь идет об избранных, привилегированных. Она благодетельна, когда «состоит в исполнении естественного долга разумных существ в их совокупности, в обращении слепой, неразумной силы природы, стихийно рождающей и умерщвляющей, в управляемую разумом... Возвращение живущими жизни всем умершим для жизни бессмертной есть добро без зла. Воссоздание из земли всех умерших, освобождение их от власти земли и подчинение всех земель и всех миров воскрешенным поколениям — вот высшая задача человечества... Высший императив (приказ) может быть создан только высшею любовью». Философия любви перерастает здесь в философию беспредельного прогресса человечества. Соловьев сближается с русским космизмом: о «сверхлюдях», достигших бессмертия в ходе развития науки, будет говорить и Циолковский. В метаниях Соловьева отразились предреволюционные метания русской интеллигенции. Он был человеком со странностями, мог отпугивать, внушать неприязнь. Но мог воодушевлять, воспитывать. Он носил порой несвойственные ему личины, придумывал утопические проекты, кликушествовал по поводу грядущего. Но сквозь личины проглядывал лик — ищущего моралиста, сквозь личины пробивался свет — вечного, не уходящего за человеческий горизонт солнца любви, которое освещает путь не только от человека к человеку, но и всему человечеству — к истине, красоте, добру, побеждая извечного людского врага — смерть. Тест № 5. Н.А. Бердяев. Русская идея. – М.: Изд-во «Республика», 1992, с.295-312. Николай Александрович Бердяев — один из самых известных русских философов XX века. Учился в Киевском университете. За участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» был исключен и сослан в Вологду. Вскоре отошел от марксизма. В начале XX столетия принимает активное участие в духовно-общественном движении, получившем название «русский религиозный и культурный ренессанс». Участвовал в программных сборниках «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918), ставших, по общему признанию, манифестами русского идеализма. После Октября был профессором Мос24 ковского университета, основал Вольную академию духовной культуры. В 1922 году выслан из СССР; жил в Берлине, затем в Париже. Здесь им были написаны книги, принесшие ему мировую известность. Философия Бердяева впитала в себя множество самых разнообразных источников. В различные периоды его вдохновляли Кант, Маркс, Бёме, Шопенгауэр, Ницше. Из русских мыслителей на него заметное влияние оказали Михайловский, Хомяков, Достоевский, Соловьев, Несмелое, Розанов и другие. Проблемы России, русской мысли в творчестве Бердяева занимают центральное место. Его первая работа была посвящена Михайловскому («Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», 1901), а одна из последних, итоговых книг «Русская идея» (1946) — анализу интеллектуальной истории России. Его перу принадлежит ряд трудов по истории русской философии: «А. С. Хомяков» (1912), «Миросозерцание Достоевского» (1923), работы о К. Леонтьеве, Н. Федорове, Л. Толстом, других русских мыслителях. Исследованием русской идеи Бердяев начал заниматься еще в годы первой мировой войны. В 1915 году он опубликовал очерк «Душа России» (1915), а затем серию статей, составивших книгу «Судьба России» (1918). Суждения Бердяева о России своеобразны и неповторимы, свободны и широки. В них нет строгой последовательности и терминологической точности, зато присутствуют яркая образность и аллегоричность, обилие афоризмов и исторических параллелей, контрасты и парадоксы. Главной отличительной чертой русской идеи, по Бердяеву, является религиозный мессианизм, наполняющий глубоким содержанием все стороны жизни общества, его историю, сознание, культуру. Его истоки прослеживаются им со времен средневековья (религиозное учение «Москва — третий Рим»), затем через славянофилов и Достоевского он ведет линию мессианизма в XX век — к основным религиозным и нерелигиозным (включая марксизм) течениям. Религиозное призвание, по Бердяеву, делает русскую идею уникальной и самобытной, но в то же время весьма противоречивой. Русская душа, пишет он, представляет собой сочетание разнородных сущностных начал: «неисчислимого количества тезисов и антитезисов» — свободы и порабощенности, революционности и консерватизма, новаторства и инертности, предприимчивости и лени. В «Русской идее» Бердяев излагает свою концепцию «коммюнотарности» (общинности), составляющей, по его словам, существо русской самобытности. « Коммюнотарность» не связывается им с какими-либо конкретными социальными, экономическими или политическими формами жизни. Это — метафизическая и мистическая разновидность коллективизма, выработанного, как считает Бердяев, русской народной жизнью и философской культурой начиная со славянофилов. Она противопоставляется существующим на Западе теориям и практике индивидуализма, негативным аспектам современной цивилизации. Труды Бердяева содержат критику социалистического пути переустройства России. Вместе с тем за рубежом он выступал как патриот, видный представитель русской культуры, противник различных форм русофобии. Наряду с В. Зеньковским, Г. Федотовым и С. Франком впервые познакомил Запад с историей русской философии, способствовал восприятию русской культуры как явления, имеющего мировое значение. Душа России (отрывок) Мировая война остро ставит вопрос о русском национальном самосознании. Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми задачами. Но это глубокое чувство сопровождается сознанием неопределенности, почти неопределимости этих задач. С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия — особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы как Третьего Рима, через славянофильство — к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам. К идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и 25 что-то подлинно народное, подлинно русское. Не может человек всю жизнь чувствовать какое-то особенное и великое призвание и остро сознавать его в периоды наибольшего духовного подъема, если человек этот ни к чему значительному не призван и не предназначен. Это биологически невозможно. Невозможно это и в жизни целого народа. Россия не играла еще определяющей роли в мировой жизни, она не вошла еще понастоящему в жизнь европейского человечества. Великая Россия все еще оставалась уединенной провинцией в жизни мировой и европейской, ее духовная жизнь была обособлена и замкнута. России все еще не знает мир, искаженно воспринимает ее образ и ложно и поверхностно о нем судит. Духовные силы России не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая. Многих на Западе влечет к себе таинственная глубина русского Востока. Но все еще не наступало время признания за духовной жизнью христианского Востока равноправия с духовной жизнью Запада. На Западе еще не почувствовали, что духовные силы России могут определять и преображать духовную жизнь Запада, что Толстой и Достоевский идут на смену властителям дум Запада для самого Запада и внутри его. Свет с Востока видели лишь немногие избранные индивидуальности. Русское государство давно уже признано великой державой, с которой должны считаться все государства мира и которая играет видную роль в международной политике. Но духовная культура России, то ядро жизни, по отношению к которому сама государственность есть лишь поверхностная оболочка и орудие, не занимает еще великодержавного положения в мире. Дух России не может еще диктовать народам тех условий, которые может диктовать русская дипломатия. Славянская раса не заняла еще в мире того положения, которое заняла раса латинская или германская. Вот что должно в корне измениться после нынешней великой войны, которая являет собой совершенно небывалое историческое соприкосновение и сплетение восточного и западного человечества. Великий раздор войны должен привести к великому соединению Востока и Запада. Творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте. То, что совершалось в недрах русского духа, перестанет уже быть провинциальным, отдельным и замкнутым, станет мировым и общечеловеческим, не восточным только, но и западным. Для этого давно уже созрели потенциальные духовные силы России. Война 1914 года глубже и сильнее вводит Россию в водоворот мировой жизни и спаивает европейский Восток с европейским Западом, чем война 1812 года. Уже можно предвидеть, что в результате этой войны Россия в такой же мере станет окончательно Европой, в какой Европа признает духовное влияние России на свою внутреннюю жизнь. Бьет тот час мировой истории, когда славянская раса во главе с Россией призывается к определяющей роли в жизни человечества. Передовая германская раса истощит себя в милитаристическом империализме. Призванность славянства предчувствовали многие чуткие люди на Западе. Но осуществление мировых задач России не может быть предоставлено произволу стихийных сил истории. Необходимы творческие усилия национального разума и национальной воли. И если народы Запада принуждены будут, наконец, увидеть единственный лик России и признать ее призвание, то остается все еще неясным, сознаем ли мы сами, что есть Россия и к чему она призвана? Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Россия — противоречива, антиномична. Душа России не покрывается никакими доктринами. Тютчев сказал про свою Россию: Умом России не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать В Россию можно только верить. И поистине можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, и каждый находит в полном противоречии бытии России факты для подтверждения своей веры. Подойти к разгадке 26 тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализации, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства. Противоречия русского бытия всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли. Творчество русского духа так же двоится, как и русское историческое бытие. Это яснее всего видно на самой характерной нашей национальной идеологии — славянофильстве и на величайшем нашем национальном гении — Достоевском — русском из русских. Вся парадоксальность и антиномичность русской истории отпечатлелась на славянофилах и Достоевском. Лик Достоевского так же двоится, как и лик самой России, и вызывает чувства противоположные. Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великий Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова ли сама Россия? Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа, он поразному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, невместимой ни в какую государственность. Наше народничество,— явление характерно-русское, незнакомое Западной Европе,— есть явление безгосударственного духа. И русские либерал.ььвсегда были скорее гуманистами, чем государственниками. Никто не хотел власти, все боялись власти, как нечистоты. Наша православная идеология самодержавия — такое же явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь. Славянофилы сознавали, что их учение о самодержавии было своеобразной формой отрицания государства. Всякая государственность представлялась позитивистической и рационалистической. Русская душа хочет священной общественности, богоизбранной власти. Природа русского народа сознается, как аскетическая, отрекающаяся от земных дел и земных благ. Наши левые и революционные направления не так уже глубоко отличаются в своем отношении к государству от направлений правых и славянофильских,— в них есть значительная доза славянофильского и аскетического духа. Такие идеологи государственности, как Катков или Чичерин, всегда казались не русскими, какими-то иностранцами на русской почве, как иностранной, не русской всегда казалась бюрократия, занимавшаяся государственными делами — не русским занятием. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варягиностранцев для управления русской землей, так как «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Как характерно это для роковой неспособности и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле! Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия — земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти — так характерна для русского народа и для русской истории. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила 27 впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Русские радикалы и русские консерваторы одинаково думали, что государство — это «они», а не «мы». Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал личности. Этого личного закала не создавала русская история. В русском человеке есть мягкотелость, в русском лице нет вырезанного и выточенного профиля. Платон Каратаев у Толстого — круглый. Русский анархизм — женственный, а не мужественный, пассивный, а не активный. И бунт Бакунина есть погружение в хаотическую русскую стихию. Русская безгосударственность — не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа. Все эти свойства России были положены в основу славянофильской философии истории и славянофильских общественных идеалов. Но славянофильская философия истории не хочет знать антиномичности России, она считается только с одним тезисом русской жизни. В ней есть антитезис. И Россия не была бы так таинственна, если бы в ней было только то, о чем мы сейчас говорили. Славянофильская философия русской истории не объясняет загадки превращения России в величайшую империю в мире или объясняет слишком упрощенно. И самым коренным грехом славянофильства было то, что природно-исторические черты русской стихии они приняли за христианские добродетели. Россия — самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; всё в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему всё в свое орудие. Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия развилась до размеров чудовищных. Русская государственность занимала положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпоху, в иноземные нашествия. И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функцией народной жизни. Эта,особенность русской истории наложила на русскую жизнь печать безрадостности и придавленности. Невозможна была свободная игра творческих сил человека. Власть бюрократии в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Неметчина как-то органически вошла в русскую государственность и владела женственной и пассивной русской стихией. Земля русская не того приняла за своего суженого, ошиблась в женихе. Великие жертвы понес русский народ для создания русского государства, много крови пролил, но сам остался безвластным в своем необъятном государстве. Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномичность проходит через все русское бытие. Таинственное противоречие есть в отношении России и русского сознания к нацио28 нальности. Это — вторая антиномия, не меньшая по значению, чем отношение к государству. Россия — самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины. Немцы, англичане, французы — шовинисты и националисты в массе, они полны национальной самоуверенности и самодовольства. Русские почти стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже — увы! — чуждо национальное достоинство. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам. Русская интеллигенция всегда с отвращением относилась к национализму и гнушалась им, как нечистью. Она исповедовала исключительно сверхнациональные идеалы. И как ни поверхностны, как ни банальны были космополитические доктрины интеллигенции, в них все-таки хоть искаженно, но отражался сверхнациональный, всечеловеческий дух русского народа. Интеллигенты-отщепенцы в известном смысле были более национальны, чем наши буржуазные националисты, по выражению лица своего похожие на буржуазных националистов всех стран. Человек иного, не интеллигентского духа — национальный гений Лев Толстой — был поистине русским в своей религиозной жажде преодолеть всякую национальную ограниченность, всякую тяжесть национальной плоти. И славянофилы не были националистами в обычном смысле этого слова. Они хотели верить, что в русском народе живет всечеловеческий христианский дух, и они возносили русский народ за его смирение. Достоевский прямо провозгласил, что русский человек — всечеловек, что дух России — вселенский дух, и миссию России он понимал не так, как ее понимают националисты. Национализм новейшей формации есть несомненная европеизация России, консервативное западничество на русской почве. И Катков, идеолог национализма, был западником, никогда не был выразителем русского народного духа. Катков был апологетом и рабом какой-то чуждой государственности, какого-то «отвлеченного начала». Сверхнационализм, универсализм — такое же существенное свойство русского национального духа, как и безгосударственность, анархизм. Национален в России именно ее сверхнационализм, ее свобода от национализма; в этом самобытна Россия и не похожа ни на одну страну мира. Россия призвана быть освободительницей народов. Эта миссия заложена в ее особенном духе. И справедливость мировых задач России предопределена уже духовными силами истории. Эта миссия России выявляется в нынешнюю войну. Россия не имеет корыстных стремлений. Таков один тезис о России, который с правом можно было высказать. Но есть и антитезис, который не менее обоснован. Россия — самая националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обреченное на гибель. Обратной стороной русского смирения является необычайное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, самый могущественный, единственный призванный. «Русское» и есть праведное, доброе, истинное, божественное. Россия — «святая Русь». Россия грешна, но и в грехе своем она остается святой страной — страной святых, живущей идеалами святости. Вл. Соловьев смеялся над уверенностью русского национального самомнения в том, что все святые говорили по-русски. Тот же Достоевский, который проповедовал всечеловека и призывал к вселенскому духу, проповедовал и самый изуверский национализм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякие права быть христианским миром. Русское национальное самомнение всегда выражается в том, что Россия почитает себя не только самой христианской, но и единственной христианской страной в мире. Католичество совсем не признается христианством. И в этом всегда был один из духовных источников ложного отношения к польскому вопросу. Россия, по духу своему призванная быть освободительницей народов, слишком часто бывала угнетательницей, и потому она вызывает к себе вражду и подозрительность, которые мы теперь должны еще победить. Русская история явила совер29 шенно исключительное зрелище — полнейшую национализацию церкви Христовой, которая определяет себя, как вселенскую. Церковный национализм — характерное русское явление. Им насквозь пропитано наше старообрядчество. Но тот же национализм царит и в господствующей церкви. Тот же национализм проникает и в славянофильскую идеологию, которая всегда подменяла вселенское русским. Вселенский дух Христов, мужественный вселенский логос пленен женственной национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности. Так образовалась религия растворения в матери-земле, в коллективной национальной стихии, в животной теплоте. Русская религиозность — женственная религиозность,— религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как теплота мистическая. В ней слабо развито личное религиозное начало; она боится выхода из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. Такая религиозность отказывается от мужественного, активного духовного пути. Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освещающего плотский быт. В. В. Розанов в своем роде гениальный выразитель этой русской религии родовой плоти, религии размножения и уюта. Мать-земля для русского народа есть Россия. Россия превращается в Богородицу. Россия — страна богоносная. Такая женственная, национально-стихийная религиозность должна возлагаться на мужей, которые берут на себя бремя духовной активности, несут крест, духовно водительствуют. И русский народ в своей религиозной жизни возлагается на святых, на старцев, на мужей, в отношении к которым подобает лишь преклонение, как перед иконой. Русский народ не дерзает даже думать, что святым можно подражать, что святость есть внутренний путь духа,— это было бы слишком мужественно-дерзновенно. Русский народ хочет не столько святости, сколько преклонения и благоговения перед святостью, подобно тому как он хочет не власти, а отдания себя власти, перенесения на власть всего бремени. Русский народ в массе своей ленив в религиозном восхождении, его религиозность равнинная, а не горная; коллективное смирение дается ему легче, чем религиозный закал личности, чем жертва теплом и уютом национальной стихийной жизни. За смирение свое получает русский народ в награду этот уют и тепло коллективной жизни. Такова народная почва национализации церкви в России. В этом есть огромная примесь религиозного натурализма, предшествующего христианской религии духа, религии личности и свободы. Сама христианская любовь, которая существенно духовна и противоположна связям по плоти и крови, натурализировалась в этой религиозности, обратилась в любовь к «своему» человеку. Так крепнет религия плоти, а не духа, так охраняется твердыня религиозного материализма. На необъятной русской равнине возвышаются церкви, подымаются святые и старцы, но почва равнины еще натуралистическая, быт еще языческий. Большое дело, совершенное Владимиром Соловьевым для русского сознания, нужно видеть прежде всего в его беспощадной критике церковного национализма, в его вечном призыве к вселенскому духу Христову, к освобождению Христова духа из плена у национальной стихии, стихии натуралистической. В реакции против церковного национализма Вл. Соловьев слишком склонялся к католичеству, но великая правда его основных стремлений и мотивов несомненна и будет еще признана Россией. Вл. Соловьев есть истинное противоядие против националистического антитезиса русского бытия. Его христианская правда в решении вопроса польского и еврейского всегда должна быть противопоставляема неправде Достоевского. Церковный национализм приводил к государственному порабощению церкви. Церковь, которая есть духовный, мистический организм, пассивно отдавалась синодальной власти немецкого образца. Загадочная антиномичность России в отношении к национальности связана все с тем же неверным соотношением мужественного и женственного начала, с неразвитостью и нераскрытостью личности, во Христе рожденной и призванной быть женихом своей земли, светоносным мужем женственной национальной стихии, а не рабом ее. Ту же загадочную антиномичность можно проследить в России во всем. Можно установить неисчислимое количество тезисов и антитезисов о русском национальном характере, вскрыть много противоречий в русской душе. Россия — страна безграничной свободы духа, страна странничества и искания Божьей правды. Россия — самая не буржуазная страна в ми30 ре; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе. Достоевский, по которому можно изучать душу России, в своей потрясающей легенде о Великом Инквизиторе был провозвестником такой дерзновенной и бесконечной свободы во Христе, какой никто еще в мире не решался утверждать. Утверждение свободы духа, как чего-то характерно-русского, всегда было существенной особенностью славянофильства. Славянофилы и Достоевский всегда противополагали внутреннюю свободу русского народа, его органическую, религиозную свободу, которую он не уступит ни за какие блага мира, внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. Россия — страна бытовой свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей, нет деспотизма мещанской семьи. Русский человек с большой легкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник — свободен от «мира», и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно прочесть в великой русской литературе. Странников в культурной, интеллигентной жизни называют то скитальцами русской земли, то отщепенцами. Есть они уже у Пушкина и Лермонтова, потом у Толстого и Достоевского. Духовные странники все эти Раскольниковы, Мышкины, Ставрогины, Версиловы и князь Андрей и Пьер Безухов. Странники града своего не имеют, они града грядущего ищут. Вл. Соловьев всегда чувствовал себя не обывателем и мещанином этой земли, а лишь пришельцем и странником, не имеющим своего дома. Таков был Сковорода — странник-мудрец из народа в XVIII веке. Духовное странствование есть в Лермонтове, в Гоголе, есть в Л. Толстом и Достоевском, а на другом конце — у русских анархистов и революционеров, стремящихся по-своему к абсолютному, выходящему за грани всякой позитивной и зримой жизни. То же есть и в русском сектантстве, в мистической народной жажде, в этом исступленном желании, чтобы «накатил Дух». Россия — фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосожигателей, духоборов, страна Кондратия Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины. Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными ее очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании народа и всего мира, и мука ее не знает утоления. Душа эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлетворимость ничем временным, относительным и условным. Все дальше и дальше должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого «мира», из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного. Не раз уже указывали на то, что сам русский атеизм религиозен. Героически настроенная интеллигенция шла на смерть во имя материалистических идей. Это странное противоречие будет понято, если увидеть, что под материалистическим обличием она стремилась к абсолютному. Славянский бунт - пламенная, огненная стихия, неведомая другим расам. И Бакунин в своей пламенной жажде мирового пожара, в котором все старое должно сгореть, был русским, славянином, был мессианистом. Таков один из тезисов о душе России. Русская народная жизнь с ее мистическими сектами, и русская литература, и русская мысль, и жуткая судьба русских писателей, и судьба русской интеллигенции, оторвавшейся от почвы и в то же время 31 столь характерно национальной, всё, всё дает нам право утверждать тот тезис, что Россия страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы. А вот и антитезис. Россия — страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством, страна крепкого быта и тяжелой плоти. Россия — страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных до неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства, страна крестьян, ничего не желающих, кроме земли, и принимающих христианство совершенно внешне и корыстно, страна духовенства, погруженного в материальный быт, страна обрядоверия, страна интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли, зараженной самыми поверхностными материалистическими идеями. Россия не любит красоты, боится красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности. Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела, так инертна, так ленива, так погружена в материю, так покорно мирится со своей жизнью. Все наши сословия, наши почвенные слои: дворянство, купечество, крестьянство, духовенство, чиновничество, все не хотят и не любят восхождения; все предпочитают оставаться в низинах, на равнине, быть «как все». Везде личность подавлена в органическом коллективе. Почвенные слои наши лишены правосознания и даже достоинства, не хотят самодеятельности и активности, всегда полагаются на то, что другие все за них сделают. И наш политический революционизм как-то несвободен, бесплоден и инертен мыслью. Русская радикальнодемократическая интеллигенция, как слой кристаллизованный, духовно консервативна и чужда истинной свободе; она захвачена скорее идеей механического равенства, чем свободы. Иным кажется, что Россия обречена на рабство и что нет выхода для нее к свободной жизни. Можно подумать, что личность не проснулась еще не только в России консервативной, но и в России революционной, что Россия все еще остается страной безличного коллектива. Но необходимо понять, что исконный русский коллективизм есть лишь преходящее явление первоначальной стадии натуральной эволюции, а не вечное явление духа. Как понять эту загадочную противоречивость России, эту одинаковую верность взаимоисключающих о ней тезисов? И здесь, как и везде, в вопросе о свободе и рабстве души России, о ее странничестве и ее неподвижности, мы сталкиваемся с тайной соотношения мужественного и женственного. Корень этих глубоких противоречий — в несоединенности мужественного и женственного в русском духе и русском характере. Безграничная свобода оборачивается безграничным рабством, вечное странничество — вечным застоем, потому что мужественная свобода не овладевает женственной национальной стихией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда вечная зависимость от инородного. В терминах философских это значит, что Россия всегда чувствует мужественное начало себе трансцендентным, а не имманентным, привходящим извне. С этим связано то, что все мужественное, освобождающее и оформляющее было в России как бы не русским, заграничным, западноевропейским, французским или немецким или греческим в старину. Россия как бы бессильна сама себя оформить в бытие свободное, бессильна образовать из себя личность. Возвращение к собственной почве, к своей национальной стихии так легко принимает в России характер порабощенности, приводит к бездвижности, обращается в реакцию. Россия невестится, ждет жениха, который должен прийти из какой-то выси, но приходит не суженый, а немецчиновник и владеет ею. В жизни духа владеют ею: то Маркс, то Кант, то Штейнер, то иной какой-нибудь иностранный муж. Россия, столь своеобразная, столь необычайного духа страна, постоянно находилась в сервилистическом отношении к Западной Европе. Она не училась у Европы, что нужно и хорошо, не приобщалась к европейской культуре, что для нее спасительно, а рабски подчинялась Западу или в дикой националистической реакции громила Запад, отрицала культуру. Бог Аполлон, бог мужественной формы, все не сходил в диони32 сическую Россию. Русский дионисизм — варварский, а не эллинский. И в других странах можно найти все противоположности, но только в России тезис оборачивается антитезисом, бюрократическая государственность рождается из анархизма, рабство рождается из свободы, крайний национализм из сверхнационализма. Из этого безвыходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформляющего начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного, светоносного сознания. И я хочу верить, что нынешняя мировая война выведет Россию из этого безвыходного круга, пробудит в ней мужественный дух, покажет миру мужественный лик России, установит внутреннее должное отношение европейского востока и европейского запада. 33