Андрей Ильенков Чепэнапэхэдэ Вот именно! На эту цыганщину
advertisement
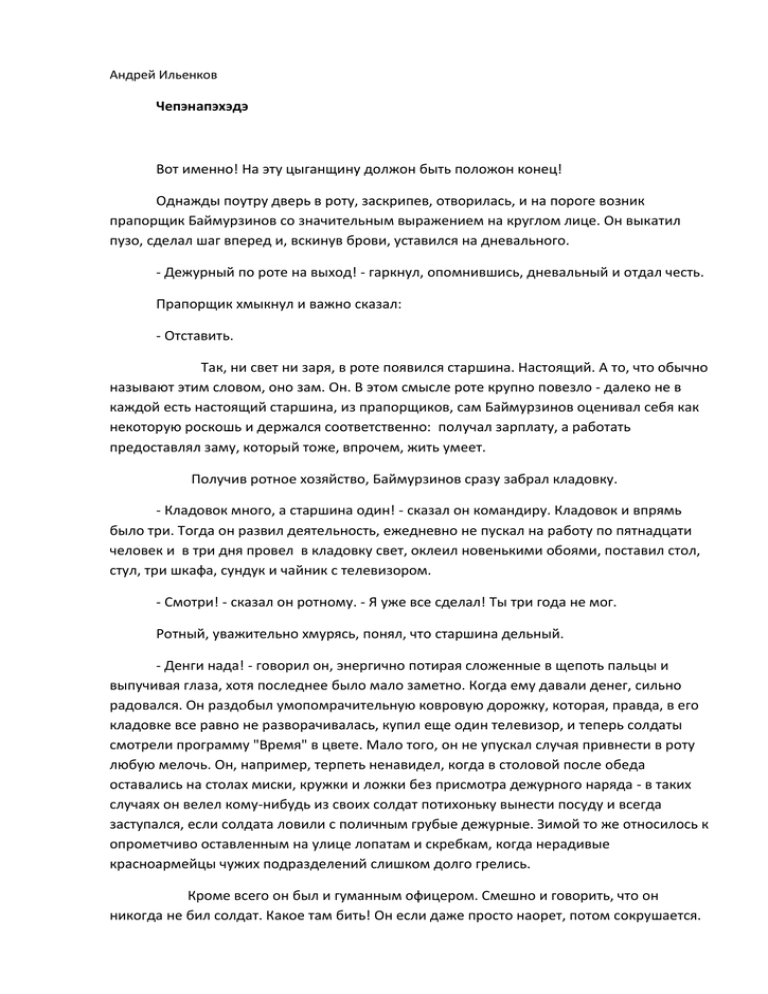
Андрей Ильенков Чепэнапэхэдэ Вот именно! На эту цыганщину должон быть положон конец! Однажды поутру дверь в роту, заскрипев, отворилась, и на пороге возник прапорщик Баймурзинов со значительным выражением на круглом лице. Он выкатил пузо, сделал шаг вперед и, вскинув брови, уставился на дневального. - Дежурный по роте на выход! - гаркнул, опомнившись, дневальный и отдал честь. Прапорщик хмыкнул и важно сказал: - Отставить. Так, ни свет ни заря, в роте появился старшина. Настоящий. А то, что обычно называют этим словом, оно зам. Он. В этом смысле роте крупно повезло - далеко не в каждой есть настоящий старшина, из прапорщиков, сам Баймурзинов оценивал себя как некоторую роскошь и держался соответственно: получал зарплату, а работать предоставлял заму, который тоже, впрочем, жить умеет. Получив ротное хозяйство, Баймурзинов сразу забрал кладовку. - Кладовок много, а старшина один! - сказал он командиру. Кладовок и впрямь было три. Тогда он развил деятельность, ежедневно не пускал на работу по пятнадцати человек и в три дня провел в кладовку свет, оклеил новенькими обоями, поставил стол, стул, три шкафа, сундук и чайник с телевизором. - Смотри! - сказал он ротному. - Я уже все сделал! Ты три года не мог. Ротный, уважительно хмурясь, понял, что старшина дельный. - Денги нада! - говорил он, энергично потирая сложенные в щепоть пальцы и выпучивая глаза, хотя последнее было мало заметно. Когда ему давали денег, сильно радовался. Он раздобыл умопомрачительную ковровую дорожку, которая, правда, в его кладовке все равно не разворачивалась, купил еще один телевизор, и теперь солдаты смотрели программу "Время" в цвете. Мало того, он не упускал случая привнести в роту любую мелочь. Он, например, терпеть ненавидел, когда в столовой после обеда оставались на столах миски, кружки и ложки без присмотра дежурного наряда - в таких случаях он велел кому-нибудь из своих солдат потихоньку вынести посуду и всегда заступался, если солдата ловили с поличным грубые дежурные. Зимой то же относилось к опрометчиво оставленным на улице лопатам и скребкам, когда нерадивые красноармейцы чужих подразделений слишком долго грелись. Кроме всего он был и гуманным офицером. Смешно и говорить, что он никогда не бил солдат. Какое там бить! Он если даже просто наорет, потом сокрушается. Говорит: "Ты видишь, сволочь, до чего старшину довел? Набери лучше чайник воды". Был, правда, один случай, когда он солдату набил морду, но то даже не исключение из правил, а как бы их обратная сторона, это он сделал совершенно ради гуманизма. Дело было так. Приводит он роту на завтрак. А как раз Сто Дней, и положено лучшую еду отдавать дедам, а масло - все им. Они из него делают дембельские бутерброды с хлебом. И деды в столовую не пошли, а велели все вкусное принести им в роту, и пусть они тут чайком побалуются. Дневальный, как столы накрыли, все это потихоньку в каптерку. Конечно, из-за этого на столах уже мало что осталось. Вот настало время идти. Вся рота строится, кроме дедов. А Баймурзинов чуть не забыл! - он вообще дедовщину не признавал. Абсолютно! Вот он и говорит: "Эй, считаю да трех: кто в строй не становился, вапще хавать не пойдет!" Подождал минут пять и говорит: "Рота, выходи строиться на улицу! Больше в столовую ни один блят не пущу!" И думает - посидите-ка, голубчики, голодные! А деды думают - вот и хорошо, как раз спокойно почикаем. Ладно. Вот он роту привел, за столы усадил, к приему пищи приступить. Ну, приступили. А только видит он, что мяса на каждом столе по два-три кусочка в жижице плавает. Это на десять-то рыл! А хлеба белого и вовсе нет, одна черняга. - Эй, дневальный, - кричит. - А гиде завтрак? А дневальный-то дух, перепугался весь - что ответить? Другой бы понимал, так сам бы не спрашивал. - Вот... - лепечет, - все на столах... - А-а! - кричит прапорщик, - Да ты, блят такой, гиде смотрел, когда наши столы накрывали? Что, рота у тебя голодный сидеть будет?! - и велит нарочно открыть тарелки с сахаром. Открывают красноармейцы, а на каждой - по нескольку завалященьких грязных кусочков, остальное - крошка. Совсем осерчал старшина, стал громко браниться, а эхо-то в столовой сильное! А красноармейцы знают, что Сто Дней, - и ничего, помалкивают, интересно все же, как дневальный выкручиваться будет. А те друг перед дружкой стоят, один красный, другой бледный. Старшина и так толстый, а тут еще раздулся, пыхтит, усы свои лаковые топорщит. - Беги, - орет, - урод, за маслом живо! Тут все и дыхание затаили. - Чего стоишь? - старшина уже еле сдерживается. - Нету масла, - прошевелил дневальный белыми губами. - Ш-што? - змеей прошипел Баймурзинов. - Нету масла... Вот тут и не сдержался прапорщик один раз в жизни, стал дневального по лицу бить руками. Бьет да бьет! А дневальный хилый такой, заморыш попался, на счастье, замстаршины подбежал - кой-как остановил прапорщика. А дневального уже как ветром сдуло. Ну, приходит рота обратно. Смотрит Баймурзинов - деды ходят хитрыепрехитрые. Он тогда все понял и кричит: "Дежурный по роте ко мне!" Подбегает. Старшина ему кулак в рыло: "Я тебя, блят такой, в дисбат, туда-сюда!" А дежурный озадачен и не понимает за что. Тогда старшина своим поднесенным кулаком стал вокруг дежурного махать: "А за что, ты сам знаешь! За что твой дневальный дедам завтрак украл!" А дежурный хитрый-прехитрый. Как, кричит, знать не знал! То-то, кричит, я смотрю, деды в каптерке сидят, на завтрак не идут! А я знать не знал! Это, товарищ прапорщик, они, наверное, дневального зашугали! То-то, я смотрю, он чего-то от меня скрывает. Ах он гад. Сейчас, кричит, я ему морду разобью! - Не надо, - говорит старшина, - Я уже ему разбил. Тем дело и кончилось. Итак, дневальный крикнул "Отставить!", и старшина вошел в расположение. Рота строилась. - Здравия желаю, товарищ прапорщик, - с нередкой в таких случаях иронией сказал заместитель. - Страстуй, - кивнул Баймурзинов. - А почему медленно строятся? - Может, потренировать? - Не ната, некогда, - ответил старшина и, подняв палец, громко сказал: - Пахэдэ будем делать! Красноармейцы разом обратили взоры на старшину. - Да! - важно сказал он. - Кровати не заправлять! Парково-хозяйственный день! Все в армии надо мыть, чистить, скоблить, драить песком, пидорасить с мылом. Взгляните, что это - пол грязный, лестница заплевана, очки засраны - все это должно гореть! Я прихожу после обеда и удивляюсь. Для начала собрали постельное белье и вместо зарядки роту выгнали на мороз с матрацами и одеялами - выбивать пыль. Тут-то все и началось. Красноармеец Зуйков, шатаясь под тяжестью неохватного тюка, подошел к тянущейся вдоль казармы трубе теплотрассы и прислонил к ней свою ношу. Так делали и другие - разворачивали матрацы на трубе и колотили их кулаками и ладонями, а одеяла трясли по двое. Но сначала, конечно, все бежали мочиться на стену родной казармы, так как старшина, по обыкновению, не дал красноармейцам пописать. Так делали и на зарядке, и с годами проходить мимо казармы, особенно вблизи, становилось все смешнее и смешнее в рассуждении дышать носом - густа и пахуча утренняя моча, "утренничок", как объясняла моей бабке моя прабабка по поводу молока, но, в сущности, невелика разница, и крепкий чай, а лучше пиво, кроме мочегонного действия, способствуют обилию молока у кормящей мамы, приятного аппетита. Мочился Зуйков долго: струя то слабела, то снова била как из шланга, то начинала вдруг разбрызгиваться веером, плюсуем порывы морозного ветра и одеяло в левой руке, и когда он завершил, красноармейцы уже вовсю хлопали. Конечно, не все - некоторые, наоборот, завернувшись в одеяла с головой, слонялись так в утренних потемках, временами сталкивались и ругались могильными из-под одеял голосами. Это было довольно дурацкое зрелище - не то монахи, не то привидения мертвецов, а самые бурые из них сообразили, что теплотрасса - она ведь теплая - и залегли на матрацы, отняв у новобранцев еще по паре одеял каждый и укутавшись, точь-в-точь американские бомжи, как их показывает программа "Время". Некоторые, пригревшись в теплом коконе, впадали в спячку. Заснувшие коконы иногда падали на землю, начиная извиваться и неразборчиво ругаться еще в полете. Зуйкова, которому по сроку службы было положено в поте лица вытряхивать, осенила соблазнительная своей наглостью мысль: зашарить, пользуясь темнотой и тем, что из-за долгого мочеиспускания он остался один. Черт нашептал Зуйкову, что под одеялом он вполне сойдет за монаха или привидение мертвеца, и как это будет блаженно - полчаса ничего не делая, согреваться дыханием, иронически поглядывая на вкалывающих сопризывников. Зуйков воровато оглянулся и набросил одеяло на голову. В коконе было темно и классно. Осторожно переступая ногами, он попробовал идти получилось. Через несколько шагов его смотровая щель сбилась, но он, глядя вниз, ориентировался по сапогам и двигался медленно, но верно. Его кокон, хотя и однослойный, стал согреваться. Под ногами поскрипывал реденький снежок и хрустели стекла. Инстинкт вел его к теплотрассе. Хорошо заныкаться в какую-нибудь занычку и там притаиться, эх, славно! Как в теплом уютном гробу или в матке! Лежишь себе! Или хоть идешь - тоже интересно. Главное, нету никого, и тебя на свете нет. Да и света нет. На душе музыка играет. Я тучка - тучка - тучка, я вовсе не медведь. Так идет Зуйков, бормочет что-то себе под нос и вдруг спотыкается. Ну, думает, сейчас рожу в кровь, и начинает извиваться еще в полете. А не, оно мягкое. Оно старшина. В пузо. Он что, на улице? - Э, ты кто? - доносится из-за одеяла перепуганный голос Баймурзинова. Зуйков падает, и одеяло с него падает, один Баймурзинов нет, он стоит крепко. И, не веря своим глазам, начинает орать. Он орет, что вот как вы постели выбиваете, что вот как вы на старшину падаете, и все такое прочее, какой-то бред. Перепуганный страшным криком, с трубы валится еще один кокон и, дергаясь, силится высвободиться из пелен. Красноармейцы прекращают работу и подходят любопытствовать. Зуйков смущенно встает на ноги. Все глаза устремлены на него. Уже светает, и он узнан всеми. - Еще час будете хлопать! - угрожает рассерженный прапорщик. - На старшину падаете! Он поправляет фуражку и идет к трубе: - А ну всем раздевать одеяло! Ты кто тут лежишь? - легонько тыкает он сапогом притаившуюся кучу, опасаясь попасть ей по уху. Куча шевелится, и из нее появляется смущенный Щегол. - А, Щеглов! - радуется старшина. - Вылезай, бизьдельник! Я вам покажу! Час будешь хлопать! Диды засраные! Все смеются. Зуйкову не смешно. Баймурзинов уходит. - Э, воин, ты че, а ну сюда иди! - лопаясь от злости, говорит Щеглов. Зуйков тяжело вздыхает и идет. - Бе-оом! - истошно кричит Щеглов, но, поперхнувшись от негодования слюной, начинает кашлять. Кашляет долго, натужно, утирает рукавом навернувшиеся слезы, а Зуйков обреченно стоит перед ним, затравленно поглядывая - не поперхнется ли насмерть? Наконец кашель успокаивается, Щегол вытирает заплеванный подбородок и, тяжело дыша, говорит осипшим голосом: - Ты че, воин, а? Вначале он собирался спросить так трижды, с нарастающей каждый раз громкостью и пронзительностью, а потом врезать Зуйкову по уху. Но он устал от кашля и не стал этого делать, а потом еще спрашивать: "Ты че, бурнул, что ли?!" - и врезать по второму. Он только из последних сил толкнул его в грудь и пообещал: - Ну, сегодня вешайся! Зуйков стыдливо опустил глаза. Щегол хотел подумать и еще чего-нибудь придумать, но тут прибежал дневальный и позвал всех в роту. Старшина не мог осуществить свою угрозу хлопать еще час - близился завтрак, потом ПХД, и время было дорого. Застревая матрацами в дверях, пыхтя и толкаясь, народ ломанулся в казарму. Сравниться с ПХД может только наряд на кухню, но там все сразу обожрутся дышать плохо, ходить того хуже, и уже трудовая страда не в радость. А трудовая - она страда, потому что на ПХД работают все без исключения. Ну, неодинаково, конечно. Одни перетаскивают кровати и моют пол, другие перетаскивают то же самое и носят первым воду, третьи подметают и крошат мыло, четвертые - тоже крошат мыло рядом с третьими, но с ними не подметают, пятые - всеми командуют и все показывают, как делать. Ну, шестые командуют пятыми. Ну, пускай седьмые дают общие указания шестым, сверху, так сказать. Но даже те, кто лишь пьет в каптерке чиф, помнят о ПХД. Пьют и помнят. Никто не остается совершенно в стороне. А сколько еще видов внутри каждого из указанных разрядов! Взять для смеха хоть первых: это ведь уму нерастяжимо, сколько есть градаций. Какой еще пол мыть пола много, он разный бывает. В туалете, например, пол очень плохой. Там даже простых новобранцев не заставляют, а только провинившихся, и вообще всяких козлов. Поэтому, видя красноармейца, моющего туалет, смело его пинай - он заслужил. Пол в коридоре чуть получше. Еще чуть-чуть - в спальном расположении. Лестница или там какие отдельные помещения - бытовка, ленинская комната, сушилка - уже на порядок выше. И предел мечтаний - канцелярия. Ее иному черпаку не зазорно мыть, красноармеец, моющий канцелярию, - человек с чувством собственного как бы достоинства. То же с кроватями. Ведь кровать можно перетаскивать бегом, а можно и шагом, а можно и вовсе не тащить, а постепенно переставлять: один конец - другой конец - один конец - другой конец. Вот попробуйте так нагло попереставлять, если вы - два новобранца в немилости. А вот уже и следующее сословие - вторые, переставлять кровати и подносить воду. Это совсем другой разговор: переставил не спеша пару кроватей, принес ведро воды и стоишь насвистываешь, пока первые моют. Зачморилась вода - поменял и опять стой. Живут же люди! Тем более на ПХД телевизор включен, смотришь какую-нибудь музычку, пока первые раком ползают. Ну все, вымыли? Опять переставил пару кроватей и смотри выше. Да и кровати бывают разные. То есть сами-то они одинакие, но одни - пустые, на других лежат дедушки, смотрят тоже музычку. Это большая разница, потому что дедушки старые, каждые пять минут прыгать внизвверх не станут, их переносят. Но, конечно, не вторые. Теперь третьи, что подметать и крошить мыло. Сюда уже новобранцы не попадают. Потому что надобно подмести пол и накрошить мыла. Ну, мести-то ни к чему. А потом крошишь мыло. Коричневый брусок в руке, в другой лезвие, а лучше стеклышко, и строгай, как Папа Карло. Если мыло подсохшее - стружки крошатся, рассыпаются в едкий порошок, от которого смешно чихать, а если свежее - залюбуешься, как осыпает пол, штаны и сапоги янтарными лепестками. Ну, покрошил, показал, что трудился, - и все, садись на табуретку посреди всей вакханалии и смотри телевизор, а если все же опасаешься - иди себе курить на улицу - никто тебе и слова не скажет. Те, что должны только крошить мыло, без подметания, как правило, его даже и не крошат, а, справедливо рассудив, что довольно будет крошки и от предыдущих, начинают командовать мойщиками-таскальщиками. Настоящие командующие за это только спасибо скажут, у них глотки тоже не луженые. Новоявленные командиры садятся на кровати нижнего яруса и администрируют - раздают приказы, пинки, советы, оплеухи, поминутно вскакивая и ругаясь до хрипоты. А лежащие в это время наверху изредка обращаются к ним со словами типа - смотри, бля, шоб усе було чотко и красиво, а то сам пахать пойдешь, а те им, типа, - не извольте беспокоиться, не впервой-с. Лежащие сверху - это, надо понимать, и есть, извиняюсь за выражение, шестые. Они, как валики, только покручиваются с боку на бок - "Эй, переключи на вторую! На третью! Че?! Айда обратно на первую!". Они только командуют, в отличие от своих непосредственных подчиненных - без пинков и подзатыльников. Их-то, шестых, как раз и носят на кроватях первые. Вот. А те, кто указуют шестым, - это уже совсем панство. Чтобы попасть в эту категорию, одной выслуги лет недостаточно - нужны личные качества. Там портной, парикмахер, грузчик универсама, хлеборез, кладовщик и тому подобные чеченцы. Они не смотрят наш телевизор - у них есть свой. У них в каптерке магнитофон с блатными эмигрантами, какие-то гражданские лица обоих полов, бухло, и не вонючая бражка на солидоле, а настоящее, покупное, про чай уже и речи нет. Максимум, на что они способны в ПХД - окинув взглядом страду, пробормотать что-то о чистоте плинтусов, а чаще - просто покрутить головой, выплюнуть в ведро окурок "Бонда" в полсигареты, запить бутылочкой "Пепси" и, весело-звонко рыгнув, вернуться к своим пенатам. Они редко снисходят до того, чтобы, отловив за шиворот новобранца с тряпкой, придать ему направление и ускорение в чайную за пирожными - нет, их обслуга в ПХД не участвует, она стоит там же, в каптерке, с подносами и ножными полотенцами через руку. Ну, последнее я, конечно, приврал, но ведь это святая ложь, натурально неразлучная со званием сочинителя. Они носят свое белье, предпочитают казенной форме спортивные фасоны, ездят с офицерами стрелять сайгаков, посещают единственный в городке ресторан, и так узок их круг, так далеки они от народа, что, по-настоящему, и упоминать о них и не следовало бы. Почему? Возьмем для смеха Пушкина. Есть книги - поэты пушкинского круга, поэты пушкинской поры, есть, кстати, люди, уверяющие, что это две огромные разницы - круг и пора, есть шоколад "Сказки Пушкина", Пушкин на лошади, на дереве, зеркальное отражение Пушкина и супруги его, Пушкиной, на балу, есть понятие о быте, нравах, культуре пушкинского времени, да, но никакого пушкинского времени не бывает. Бывает время зимнее и летнее, обеденное и рабочее, время жить и время умирать. Я не отрицаю существования Пушкина или каптерщика Вохи, но если прилетят марсиане и захотят узнать о нашей, земной жизни, а им расскажут про Пушкина, то это будет то же самое, как, претендуя на рассказ об армии, поведать об ужине каптерщика Вохи или подвиге Александра Матросова. Ладно. Лирическое отступление уже больше, чем мои ноги, а Щеглов и Зуйков, как в сказке, замерли на месте - один с полным ведром воды, другой с занесенной для подзатыльника рукой - и слушают этот бред. Простите, дорогие мои, я забыл про вас отомрите, двигайтесь! И вот они начинают двигаться. Рука Щеглова, сперва замедленно, так неуверенно хлопает по стриженому затылку Зуйкова, и тот, вздрогнув, выходит из вынужденного, по вине автора, оцепенения. Он еще немного неловок и, услышав одновременно с подзатыльником истошный крик своего недруга "Бе-о-ом!!", вздрагивает и, зацепившись нога на ногу, роняет ведро. Волна мыльной воды захлестывает коридор и весело журчит у тумбочки дневального. - Ты что, Зуйков, смерти моей хочешь?! - в отчаянии ревет Щеглов, отпрыгивая к стене. Неправильно, качаю я головой, не "моей" он должен был зареветь, а "своей", своей смерти-то, зуйковской значит, но попробуй не оговорись, летя спиной вперед, да на планшет. Планшет, говорю я, с "боевыми листками", он там висел, теперь не висит, теперь уже падает, противно скребя гвоздем штукатурку и оставляя дугу царапины, он, собственно, уже и не падает, жаль, что в лужу, а то легко было бы горю помочь: прибил, и все! Жаль. - Щеглов, что поломал?! - закричал Баймурзинов, выйдя из канцелярии на грохот упавшего ведра и видя, как сбит и распластан в луже планшет. Он, цокая языком, потрогал царапину на стене, рассмотрел намокший ватман и плавающие в луже "боевые листки" и свирепо уставился на вспотевшего от пережитого ужаса Щегла: - Вапще голова есть?! Зуйков, что глядишь, иди работай! Щеглов, что поломал? Что стены портишь, ремонт хочешь? - Я нечаянно... - Что скачешь? За нечаянно бьют отчаянно. Все прыгаете! Что на стены прыгать? Щеглов открыл рот. - Не спорь, не спорь! За молотком пошли, - и сердито повел Щегла в кладовку. Взяли молоток, гвоздя старшина не дал, заставил прямить старый, стоял над душой. - Что так молоток держишь? Как баба, держишь! Щеглов сидел на корточках и, кусая губы, пытался разогнуть мыльный гвоздь, который при каждом ударе поворачивался боком. - Как баба, держишь! - вскипел старшина после третьей попытки.- Что, боишься молоток за его конец взять?! Руки откуда приросли? Щеглов обозленно перехватил молоток за конец и врезал по пальцу, зашипел, сунул в рот и с отвращением выплюнул мыльную слюну. - Показывай! - обеспокоился старшина, насильно выдернул щегловскую руку изо рта, смотрел палец, ничего не увидел, качал головой: "Руки как приросли, лежебок!", ушел и вернулся с гвоздем. Он не дал его, а отобрал молоток и демонстративно собственноручно приколотил планшет, хотя и несколько криво. - Понял? - Фонял, - буркнул Щеглов с пальцем во рту. Ему было уже все равно. - То-то! - и старшина удалился. Щеглов с ненавистью смотрел на толстый зад цвета хаки. И глубоко дышал. Все видели все. В висках колотился пульс убийцы. Он видел себя со стороны - глазами Настоящего Деда. Настоящий Дед криво усмехался. Что, щегол, криво усмехался Настоящий Дед. Барбос оказался несколько сильнее, да, щегол? У него оказался больший запас прочности, не так ли? Щеглов пылал со стыда. МНЕ СЛЕДОВАЛО ЗАНЯТЬСЯ ИМ С САМОГО НАЧАЛА. Боюсь, что так, щегол. Боюсь, щегол, тебе придется его убить, если ты рассчитываешь стать Настоящим Дедом. Я ПОЗАБОЧУСЬ О НЕМ, КЛЯНУСЬ! У стены стоял молоток. Щеглов долго смотрел на него. Потом подошел, взялся за рукоятку молотка. И поднял его. Взмахнул. Молоток со злобным свистом рассек воздух. Щеглов заулыбался. Новобранцы шуршали, летали с ведрами, двигали кровати, утирали пот. Напевали песенки, грызли морковки. Зуйков весело елозил тряпкой в углу, и солнечные зайчики от луж прыгали по стенам. Деды лежали на кроватях, плевали в потолок, смотрели телевизор и ворочались с боку на бок. И тут из коридора донесся грохот. Тяжелые шаги нарастали и приближались. Телевизор выключился сам собой. В наступившей тишине был слышен только один угрожающий звук. Красноармейцы оборачивались и замирали. Зуйков оглянулся - ОН приближался. Это был Щегол и не Щегол. ОН приволакивал ногу, а глаза его теплились отвратительным огнем, знакомый рот кривила странная усмешка. В руках ОН держал молоток. - Думаешь, ушел от меня? Ушел, так, по-твоему? Молоток просвистел в воздухе. Зуйков попятился, наступил на мыльную стружку и упал в лужу. Он закрыл голову руками, а молоток снова со свистом взлетел в воздух и сорвался с рукояти. Глаза всей роты проводили кусок железа до потолка, точнее, до белого матового плафона на потолке. Раздался звон, веером разлетевшиеся осколки осыпали пол, кровати и пораженных красноармейцев, а молоток, булькнув, утонул в одном из ведер. Два осколка поразили Щеглова - один в грудь, другой в глаз. Он закрыл лицо рукой, швырнул рукоять в угол и, скользя и спотыкаясь, побежал в бытовку, к зеркалу. За ним, соскочив с кровати, рванул санинструктор Перекрестович. Другие переглянулись и тоже поспешили поглазеть. Туда же потянулись было и духи. - А вы еще куда? - возмутился, оглянувшись, последний, самый ленивый из дедов, Чуб. - А осколки я буду убирать? Новобранцы вздохнули и стали собирать осколки. Из бытовки доносились выкрики. - Уй-ю-юй! - Че, совсем, да, напрочь?! - Уй-ю-юй! - Да убери ты руки на хрен, дай посмотреть! - Скорую, мужики, скорую вызывай! -У-у-у!! - Будешь Кутузов! - Руки, на хрен! Через десять минут Щеглов, зажмурив глаз и зажав в руке осколок показывать любопытствующим, твердым шагом вернулся в расположение и решительным жестом плюхнулся на кровать. Зуйков боялся смотреть в его сторону. О нем вспомнили, когда пришла пора перетаскивать кровати на место. - Зуйков таскает один! - заявил сверху Щеглов. - Зуйков, таскать кровати в одиночку бегом марш! Зуйков обреченно направился к первой койке. - Бегом! - заорал Щеглов. Зуйков потрусил, громыхая каблуками, и, взявшись за ножки, неловко дернул скрипящее двухэтажное сооружение. - Живей, скачками! - веселился Щегол. Зуйков дергал, обегал и дергал с противоположной стороны. Железо визжало, и ножки царапали пол. - Э, пусть с кем-нибудь, а! - поморщился Чуб и кивнул на экран. - Не слышно же! - Не хуй! - возопил Щегол. - Они тут растащились! Пусть, падла, землю роет! Мы, Чуб, как с тобой летали были молодые, а они пообнаглевали! - и, вне себя, он спрыгнул с койки и придал Зуйкову ускорение сапогом. - Вот так! Зуйков, пыхтя и заплетаясь сапогами, потащил кровать. - Вот так! - моргая глазом, неистовствовал Щегол. - Ты у меня сегодня повесишься! - И, дал ему, торжествуя, еще один поджопник. Зуйков только вздрогнул и, втянув голову в плечи, побежал за второй кроватью. - Отставить! - возмутился Щегол. - А выравнивать я буду?! Зуйков, скользя, вернулся и, плюхнувшись на колени в лужу, передвинул ножки точно в прежние, продавленные в краске, кружочки. - Поставил? Бегом за второй, - удовлетворенно приказал Щегол и снова полез на полати. Зуйков переволок вторую и, тяжело дыша, направился к третьей. - Ты че, сука? - страшно понизив голос, свесился сверху Щегол. - Ты опять пешком ходишь?! Я же сказал раз и навсегда - бегом, бля, бегом! Ну, удав... - и он в изнеможении откинулся на подушки и, глядя вверх, на разбитый плафон, воззвал: - Рядовой Зуйков! - Я! - Третью кровать бегом марш! Зуйков икнул. На третьей кровати лежал его мучитель. - Не понял, бля! Приказ ясен? - Так точно! - Выполняйте. Зуйков рухнул на колени и стал дергать ножки. Дед иронически поглядывал на него сверху и подбадривал: - Ну, живей рожай! Зуйков выпучил глаза и дернул. Ножки сдвинулись. - Ну, еще один рывок! Зуйков напрягся, застонал и громко пукнул. Наблюдавшие за воспитательной сценой разразились дружным смехом. Щегол самодовольно улыбнулся и крикнул вниз: - Ты че, в натуре, вонючка голливудская, давай, рой землю! Мокрый насквозь Зуйков тупо дергал ножки, но они не двигались. - Эй, Зуйков, та ты сегодня снидал чи шо? - веселился Чуб. Щегол снял ремень и, сев на кровать по-турецки, довольно удачно хлестнул барбоса по спине. Зуйков вздрогнул и бросил ополоумевший взгляд наверх. - Хрена ль ты смотришь?! - закричал Щегол. - Ща буду тебя погонять! - и снова ударил, и опять попал. Зуйков охнул. - Ты думал, шутки?! Переставляй живей, а то ваще будешь меня на кровати, как конь, катать по всему расположению! Зуйков встал раком, взялся за самый низ ножек, поднатужился и дернул. Сооружение зашаталось. - Мочи, братан, мочи! - покрикивал сверху Щегол и крутил ремнем замысловатые восьмерки в воздухе. - В другой раз будешь знать... Зуйков опять дернул, и опять слабо. Щегол перегнулся вниз и влепил ему бляхой. Тот взвизгнул и, упершись ногами в соседнюю кровать, рванул. Ножки попали на мыльное место и резко ушли вбок, верхняя кровать накренилась, Щегол отчаянно замахал крылышками, но было поздно - он вниз головой слетел с верхотурья и тяжело обрушился на пол. Секунду побалансировав, на него грохнулась кровать. Ахнули и бросились на помощь. Щеглов лежал в мыльной луже. Глаза его горел непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступила на краях его губ. - Не давите меня, - сказал он шепотом. - Я сломал себе ногу.