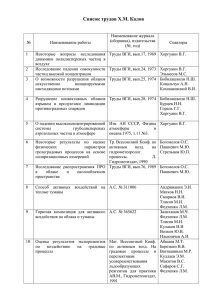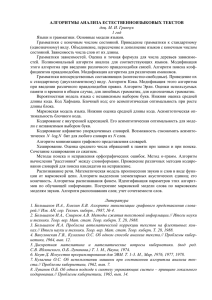Глава 1. Образ мира
advertisement
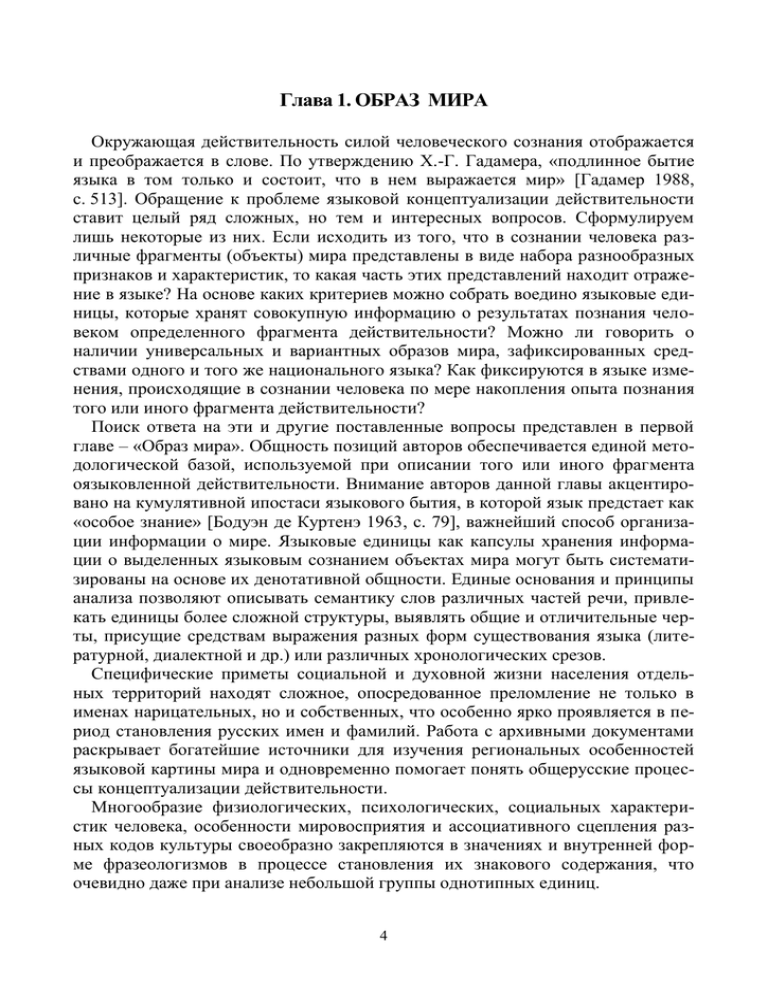
Глава 1. ОБРАЗ МИРА Окружающая действительность силой человеческого сознания отображается и преображается в слове. По утверждению Х.-Г. Гадамера, «подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем выражается мир» [Гадамер 1988, с. 513]. Обращение к проблеме языковой концептуализации действительности ставит целый ряд сложных, но тем и интересных вопросов. Сформулируем лишь некоторые из них. Если исходить из того, что в сознании человека различные фрагменты (объекты) мира представлены в виде набора разнообразных признаков и характеристик, то какая часть этих представлений находит отражение в языке? На основе каких критериев можно собрать воедино языковые единицы, которые хранят совокупную информацию о результатах познания человеком определенного фрагмента действительности? Можно ли говорить о наличии универсальных и вариантных образов мира, зафиксированных средствами одного и того же национального языка? Как фиксируются в языке изменения, происходящие в сознании человека по мере накопления опыта познания того или иного фрагмента действительности? Поиск ответа на эти и другие поставленные вопросы представлен в первой главе – «Образ мира». Общность позиций авторов обеспечивается единой методологической базой, используемой при описании того или иного фрагмента оязыковленной действительности. Внимание авторов данной главы акцентировано на кумулятивной ипостаси языкового бытия, в которой язык предстает как «особое знание» [Бодуэн де Куртенэ 1963, с. 79], важнейший способ организации информации о мире. Языковые единицы как капсулы хранения информации о выделенных языковым сознанием объектах мира могут быть систематизированы на основе их денотативной общности. Единые основания и принципы анализа позволяют описывать семантику слов различных частей речи, привлекать единицы более сложной структуры, выявлять общие и отличительные черты, присущие средствам выражения разных форм существования языка (литературной, диалектной и др.) или различных хронологических срезов. Специфические приметы социальной и духовной жизни населения отдельных территорий находят сложное, опосредованное преломление не только в именах нарицательных, но и собственных, что особенно ярко проявляется в период становления русских имен и фамилий. Работа с архивными документами раскрывает богатейшие источники для изучения региональных особенностей языковой картины мира и одновременно помогает понять общерусские процессы концептуализации действительности. Многообразие физиологических, психологических, социальных характеристик человека, особенности мировосприятия и ассоциативного сцепления разных кодов культуры своеобразно закрепляются в значениях и внутренней форме фразеологизмов в процессе становления их знакового содержания, что очевидно даже при анализе небольшой группы однотипных единиц. 4 1.1. Образ времени в литературной и диалектной подсистемах русского языка Проблема наивно-языковой концептуализации времени привлекает внимание целого ряда исследователей (Ю.С. Степанов [1981], Е.С. Яковлева [1994], Д.Г. Ищук [1995], Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев [1997], Н.И. Толстой [1997] и др.). Интерес к указанному объекту языковой картины мира отчасти может быть объяснен парадоксальностью его природы. Так, обладая нематериальным, «непроявленным» характером, время не дано человеку как непосредственно воспринимаемая сущность. Тем не менее, люди достаточно свободно ориентируются во временных периодах, в том числе и в суточном круговороте времени. Важнейшим способом экспликации интуитивно используемых нами знаний о принципах ориентации во временном потоке является анализ семантических единиц языка. При отборе единиц для подобного анализа возникает следующая проблема: поскольку время – это та среда, в которую погружено все человеческое существование, постольку представления о времени получили закрепление в семантике самых разнообразных, на первый взгляд не связанных между собой слов и фразеологических единиц. Для воссоздания целостной картины суточного хода времени, запечатленной в языке, необходимо собрать эти единицы воедино. При решении этой задачи мы использовали разработанный Т.В. Симашко метод группировки номинативных единиц на основе учета денотативной направленности их значений [Симашко 1999, 2006]. В соответствии с этим методом, в один класс объединяются разноструктурные семантические единицы, в значениях которых содержится повторяющийся денотативный компонент, отсылающий к одному и тому же объекту мира. Такой подход позволяет выделять стихийно сложившиеся в языке совокупности единиц, хранящих информацию об одном и том же объекте окружающей действительности, фиксирующих разнообразными способами его свойства, отношения с другими объектами мира, степень и формы его включенности в жизнедеятельность человека. В свою очередь анализ и описание подобных совокупностей единиц, жестко ориентированных на определенные объекты мира, дает твердую основу для выявления особенностей концептуализации этих объектов. Источниками для отбора материала в нашем исследовании послужили национальные словари русского языка: «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля [Даль], «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова [СУ], «Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой [МАС] и имеющиеся выпуски «Словаря русских народных говоров» [СРНГ]. Методом сплошной выборки из указанных словарей было извлечено около 3500 слов и фразеологических единиц, в значении которых содержится отсылка к интересующему нас явлению – суточному периоду времени. Приведем несколько примеров, выделяя идентифицирующие денотативные компоненты, послужившие основанием для отбора единиц: холодок – ‘нежаркое время суток’ [МАС, т. 4, с. 617]; смеркаться – ‘вечереть, наступать сумеркам, вечерней заре’ [Даль, т. 4, с. 284], косúться – ‘склоняться после полудня к западу (о 5 солнце)’ (Шенк. Арх.) [СРНГ, вып. 15, с. 52]; лучить – ‘охотиться на кого-либо ночью при помощи специального освещения’ [СУ, т. 2, с. 98]; длиннодневный – ‘требующий для нормального развития длительного суточного освещения’ [МАС, т. 1, с. 405]; от зари до зари – ‘всю ночь’ [МАС, т. 1, с. 568]. Отобранные единицы составили кумулятивное поле «Суточный круговорот времени». Решая задачу моделирования фрагмента национальной языковой картины мира, мы исходим из убеждения, что указанная задача может быть выполнена только на основе совокупного фонда знаний об исследуемом объекте, закрепленного средствами различных подсистем национального языка [Симашко 2006, с. 15–16]. Не отрицая принципиального единства «картин мира», запечатленных средствами различных подсистем русского национального языка, считаем целесообразным обратиться к изучению тех очевидных различий, которые демонстрируют модели отражения одного и того же фрагмента действительности, выработанные на базе литературной и диалектной форм языка. В современной когнитивной диалектологии утверждается мысль о нетождественности результатов сегментации действительности в говорах и литературном языке, о существовании особой диалектной (региональной) картины мира, которая в значительной степени сохраняет «наивный», эмпирический образ действительности. Количественное сопоставление единиц, репрезентирующих языковое понятие «суточный цикл» в литературном и диалектном вариантах национальной картины мира, свидетельствует о разной степени детализации этого понятия: количество территориально закрепленных единиц в четыре раза превосходит число литературных слов и выражений, вошедших в кумулятивное поле «Суточный круговорот времени». Выявленное расхождение предсказуемо, так как сам механизм формирования литературной формы русского языка на основе концентрации диалектов предполагал отбор единиц, несущих общезначимую для данного этноса информацию, что с неизбежностью вело к потере части сведений, к нивелировке «оттенков» концептуализации одного и того же явления, воспринятого жителями разных территорий нашей страны. В нашем исследовании в центре внимания находятся «отсеянные» литературным языком, но актуальные для диалектного сознания принципы осмысления и характеристики суточных отрезков и связанных с ними явлений природного мира, человеческого быта. При этом объем и характер информации о суточном времени, зафиксированный в семантике литературных единиц, выступает своеобразной точкой отсчета при воссоздании более многомерного и дифференцированного диалектного варианта концептуализации того же объекта. Суточные отрезки времени – специфические объекты, обладающие двойной природой. Н.И. Толстой писал об этом так: «Если замкнутый годовой круг и круг суточный – исключительно природное явление, то деление этих кругов на отрезки времени, на периоды – дело ума, восприятия и опыта человека» [Толстой 1997, с. 17]. Природные характеристики, лежащие в основе членения суток, отражены в семантике 350 единиц исследуемого поля, которые соотносятся с денотатом параметрического типа. Структура денотата параметрического типа представляет собой совокупность таких признаков объекта, на основе кото6 рых осуществляется его вычленение из континуальной действительности и противопоставление другим объектам. Самым частотным признаком, фиксируемым в значениях анализируемой группы единиц кумулятивного поля «Суточный круговорот времени», выступает освещенность, характерная для того или иного периода суток. Количество единиц, в значении которых актуализирован признак освещенности, составляет около 350 слов и устойчивых словосочетаний. О приоритетности признака ‘изменение характера и интенсивности освещения’ для языкового сознания при ориентации в суточном течении времени свидетельствует его включенность во внутреннюю форму слов утро, день, вечер, ночь. Так, в качестве мотивирующей основы слова день авторы различных этимологических словарей указывают признак наличия солнечного освещения в этот период суток [Трубачев, т. 5, с. 213; Черных, т. 1, с. 241; Цыганенко, с. 105; ЭСРЯ, т. 1, вып. 5, с. 72]. По отношению к «этимологически трудным» наименованиям утреннего и вечернего отрезка также высказываются предположения, что в их основе лежит фиксация признака ‘степень освещенности в данное время суток’ [Фасмер, т. 1, с. 309; т. 4, с. 176; Цыганенко, с. 57, 455; Черных, т. 1, с. 86–87, 148]. Любопытной, хотя и маловероятной, представляется версия происхождения слова ночь, которая приведена в «Полном церковно-славянском словаре» Г. Дьяченко: «Ночь образовалась из не+ок+о. Русские называют ночь временем «не видущим» (А. Хомяков в Матер. для сравнит. словаря изд. Ак. н. т. II)» [ПЦСЛ, с. 357]. Потребность в детальной фиксации изменения освещенности в течение суток обусловлена прежде всего возможностью / невозможностью человека видеть, различать предметы, и следовательно, осуществлять хозяйственную деятельность. Это подтверждается наличием в составе поля единиц, в значении и / или во внутренней форме которых степень освещенности представлена как признак, воспринимаемый человеческим глазом: повидну;´шки – ‘рассвет, утренняя заря’ (Тул.) [Даль, т. 3, с. 362]; невиду;´щее время – ‘сумерки’ [СРНГ, вып. 20, с. 344]; непрогля;´дь – ‘время, когда плохо различимы окружающие предметы’ [СРНГ, вып. 21, с. 130]; развиднеть, развиднеться, прост. – ‘рассвести’; завиднеться, безл., разг. – ‘|| о наступлении рассвета, о возможности различать, видеть’ [МАС, т. 3, с. 593; т. 1, с. 502]; развиднева;´ть – ‘рассветать’ (Смол., Краснояр.) [СРНГ, вып. 33, с. 287]; довидна;´ – ‘до света’ (Новг.); за;´ви;´дно – ‘засветло, пока видно’ (Ворон.); доусле;´пу – ‘до поздней поры, до сумерек’ (Вят., Киров.); c видного до видного – ‘от рассвета до рассвета’ (Пск.) [СРНГ, вып. 8, с. 84; вып. 31, с. 139; вып. 8, с. 158; вып. 36, с. 6] и др. Недостаточная освещенность в вечернее и ночное время получила косвенное отражение в значениях таких единиц, как здыма;´ть огни – ‘зажигать огонь (вечером)’ (Новг.); при огня;´х – ‘поздно, во время, когда зажигают огни’ (Новосиб.) [СРНГ, вып. 11, с. 239; вып. 22, с. 340]; обогни;´лося, обогне;´ло – ‘после сумерек зажгли огни (в домах), и село вдруг выступает из потемок’ [Даль, т. 2, с. 1561]. Анализ единиц, в значениях которых реализован признак освещенности, позволяет воссоздать запечатленную в языке схему членения суточного круга, которая основана исключительно на учете изменений в характере и интенсив7 ности освещения в разные периоды суток. Это схема предполагает выделение следующих периодов. Время до появления солнечного света (27 единиц). Во внутренней форме единиц данной подгруппы закреплены антонимичные признаки ‘темный – светлый’. Благодаря их актуализации указанный период получает двоякое осмысление – как ‘еще темный’ (относящийся скорее к периоду ночной темноты) и как ‘еще не светлый’ (относящийся к утру, предваряющий его), ср.: за;´ темно – ‘пока еще темно, пока не рассвело’ [СУ, т. 1, с. 1049]; стемна, простор. – ‘со времени, когда еще не рассвело’ [МАС, т. 4, с. 260]; до;´светки – ‘утренние сумерки’ [Даль, т. 4, с. 634]; досветла – ‘до рассвета’ [СУ, т. 4, с. 85]; предрассветный – ‘предшествующий рассвету’ [МАС, т. 3, с. 370] и др. Время появления и усиления интенсивности солнечного освещения (148 единиц). Указанная ситуация концептуализируется посредством наибольшего числа единиц, реализующих в значении параметр ‘степень освещенности’. Объяснение этому видится в актуальности данного периода времени в связи с приуроченным к нему началом жизнедеятельности человека. Приведем лишь некоторые примеры слов и устойчивых сочетаний, включенных в эту группу: рассвет – ‘время суток, когда начинает светать’ [МАС, т. 3, с. 661]; про;´брезг – ‘начало рассвета’ (Сарат.) [СРНГ, вып. 32, с. 86]; наосве;´те – ‘при первом солнечном луче’ [Даль, т. 2, с. 1162]; светать – ‘становиться светлее, ярче с рассветом’ [МАС, т. 4, с. 45]; разобу;´триться – ‘рассвести’ (Том.) [СРНГ, вып. 34, с. 48]; дни;´ться – ‘рассветать, светать’ (Иркут.) [СРНГ, вып. 8, с. 72]. Период дневного освещения, до наступления темноты (30 единиц). В эту подгруппу входят такие единицы, как: световой день – ‘часть суток, в продолжение которой светит солнце’ [МАС, т. 4, с. 47]; белый день, разг., устн. – ‘светлое время дня’ [СУ, т. 1, с. 121]; днеть – ‘длиться свету, не смеркаться’ (Сев.); невече;´рний – ‘не вечереющий, светлый, дневной’ [Даль, т. 1, с. 1094; т. 2, с. 1312]; светло – ‘о наличии дневного света (в противоположность ночной темноте)’ [МАС, т. 4, с. 46]; посветки;´ – ‘засветло, до того, как смеркалось’ (Пск., Твер.) [СРНГ, вып. 30, с. 141]; дово;´льно доехать – ‘успеть доехать засветло’ [Даль, т. 1, с. 1112] и др. Период уменьшения интенсивности солнечного освещения, наступления темноты (40 единиц). Данная подгруппа представлена такими единицами, как: смерка;´нье – ‘сост. по глаголу’; сутемё;´нки, су;´темки, сутёмки, су;´темь, су;´темень, су;´ти;´ски – ‘полусвет, когда заря угасает, до темноты’ [Даль, т. 4, с. 284, 646]; поту;´х – ‘|| время, когда угасает заря, предвечерние сумерки’; посмугле;´ть – ‘смеркнуться’ (Волог.) [СРНГ, вып. 30, с. 317, 188]; свечереть, безл. – ‘1. О наступлении вечера, темноты’ [МАС, т. 4, с. 48]; отсвети;´ло солнце – ‘померкло, не светит более’ [Даль, т. 2, с. 1957] и др. Период ночного освещения (48 единиц). В семантическом содержании слов и устойчивых словосочетаний, включенных в эту подгруппу, отражен факт отсутствия солнечного света во время ночного периода, например: ночь – ‘1. || Темнота, мрак во время этой части суток’ [МАС, т. 2, с. 512]; потеме;´ньки и потёмыши – ‘поздние сумерки, темнота’ (Псков., Твер.); на;´темне – ‘в поздние сумерки, когда уже почти вовсе смерклось’ [Даль, т. 3, с. 923; т. 2, с. 1254]; за;´темно – 8 ‘2. Когда стемнеет’ [МАС, т. 1, с. 582]; свет повесился – ‘о наступлении сумерек, темноты’ [СРНГ, вып. 27, с. 230] и др. В значениях некоторых единиц зафиксирован признак ‘наличие / отсутствие лунного (месячного) освещения’, например: светё;´лка – ‘4. Светлая лунная ночь’ [СРНГ, вып. 36, с. 257]; светлынь – ‘о ночи: лунный свет’; безлунный – ‘не освещаемый луной’ [Даль, т. 4, с. 86; т. 1, с. 162]; облуне;´ть, безл. – ‘1. Осветиться луной, посветлеть от луны’ [СРНГ, вып. 22, с. 111]; месячно – ‘светло от сияния месяца’ [МАС, т. 2, с. 258]. Для языкового сознания переходы от ночного освещения к дневному и обратно представляются явлениями симметричными, подобными. Единицы, закрепившие эту особенность концептуализации суточного круга в своей семантике, были выделены в особую подгруппу (48 единиц). Приведем несколько примеров: полумгла, книжн. – ‘непрозрачный, сумрачный воздух, бывающий перед рассветом или перед наступлением сумерек’ [СУ, т. 3, с. 546]; па;´зори – ‘свет на горизонте после заката или перед восходом солнца’ (Арх.) [СРНГ, вып. 25, с. 148]; пы;´хать – ‘1. || Ярко светиться (о заре, закате)’ [МАС, т. 3, с. 569]; обмерка;´ть, безл. – ‘1. || Потемнеть, наступать потемкам (утром и вечером)’ (Тамб., Ряз., Тул., Южн., Урал.) [СРНГ, вып. 22, с. 125]; светко;´м – ‘вечером засветло и рано утром чуть свет’ (Южн., Зап., Твер.) [Даль, т. 2, с. 1162]; по;´темну – ‘в темноте (вечером или ранним утром)’ (Уральск., Арх., Краснояр.) [СРНГ, вып. 30, с. 273]; небо живым огнем загорелось – ‘зарделось при восходе или при закате солнца’ [Даль, т. 1, с. 1337] и др. Любопытно отметить, что зафиксированный языковым сознанием факт зеркального подобия утреннего и вечернего периода лежит в основе научного понятия «сумерки» – ‘период плавного перехода от дневного света к ночной темноте и обратно’ [СЭС, с. 1301; ГЭС, с. 297]. Вторую представительную группу в составе единиц, соотносящихся с денотатом параметрического типа, образовали слова и устойчивые словосочетания, в значениях (а иногда и во внутренней форме) которых содержатся указания на местонахождение Солнца / Луны в разные периоды суток. В данную группу было включено 116 единиц. Для языкового сознания представляется существенным момент появления на небосклоне как дневного, так и ночного светил. Об этом свидетельствует наличие в языке таких единиц, как: выла;´зить – ‘3. Показываться, появляться (о луне)’ (Том.); обходи;´ть, фольк. – ‘3. Взойти (о солнце, луне)’ (Арх.); повы;´ катиться – ‘2. Появиться над горизонтом, взойти (о солнце, месяце)’ (Олон.) [СРНГ, вып. 5, с. 30; вып. 22, с. 260; вып. 27, с. 271] и др. Однако подавляющее количество единиц рассматриваемой группы (84%) отразили в своих значениях процесс перемещения солнца по «дневной дуге» [Даль, т. 1, с. 1093]. Концептуализации подверглись следующие этапы этого пути. Период, предшествующий появлению солнца (5 единиц): обра;´нок– ‘время перед восходом солнца’ (Пск., Твер.) [СРНГ, вып. 22, с. 195]; до солнца – ‘до восхода солнца’ [МАС, т. 4, с. 191; СУ, т. 4, с. 372]; на пора;´нки – ‘до восхода солнца’ [СРНГ, вып. 20, с. 90]. Появление солнца на небосклоне (40 единиц): восход – ‘2. || Время появления солнца над горизонтом’ [МАС, т. 1, с. 218]; зая;´вье, фольк. – ‘появление 9 солнца, восход’ (Арх.); всхожий (Арх., Смол.), восхо;´жий, фольк. (Арх., Волог., Калуж., Курск., Орл., Перм.), восходи;´мый, фольк. (Амур.) в значении ‘восходящий, поднимающийся над горизонтом (о солнце)’; выката;´ться, фольк. (Курск.) и взъеры;´каться (Волог.) – ‘восходить (взойти), подняться (о солнце)’ [СРНГ, вып. 11, с. 201; вып. 5, с. 221, 152, 152, 288; вып. 4, с. 270]; солнце заговорило на востоке – ‘солнце восходит’ (Арх.) [Даль, т. 1, с. 896]; взодра;´ ло солнце – ‘солнце взошло’ (Тобол., Сиб.) [СРНГ, вып. 4, с. 259] и др. Увеличение степени подъема солнца (7 единиц): повы(и)соче;´ть – ‘стать выше, подняться’: Солнце повисочело (Смол.); солнце на завтраках – ‘об утренних часах, в которые обычно завтракают’ (Орл.); солнце на по;´лдень сверну;´ло – ‘о времени перед полднем’ (Омск.); солнце на ели / выше ели – ‘солнце высоко взошло’ (Орл.) [СРНГ, вып. 27, с. 279; вып. 9, с. 343; вып. 36, с. 243; вып. 8, с. 352]; солнце с избы своротило – ‘то есть с лица избы; перешло на полдень, угол божницы’ [Даль, т. 4, с. 378] и т.д. Период высшего подъема солнца (11 единиц): полу;´денник – ‘мысленная черта, на эту черту солнце приходит в полдень каждого места’; солнце стало над головою – ‘взошло на полуденник’ [Даль, т. 3, с. 678; т. 4, с. 517]; крутое солнце – ‘солнце в зените’ (Яросл.) [СРНГ, вып. 15, с. 332]; вершина солнца – ‘высшее, полуденное стояние его’; меридиональная высота солнца – ‘полуденная, наибольшая’ [Даль, т. 1, с. 451; т. 2, с. 836] и т.п. Уменьшение степени подъема солнца (26 единиц). Для большинства единиц данной подгруппы при закреплении указанной ситуации в их семантике в качестве точки отсчета выступает полдень: солнце косится – ‘сворачивает с полудня на закат’ (Арх.) [Даль, т. 2, с. 445]; солнце с полдён своротило (Том.), с полдня свороти;´ло (Пск.) – ‘о времени после полудня’; с обеда солнышко сверне;´т – ‘о времени после полудня’ (Новосиб.) [СРНГ, вып. 36, с. 324, 243] и др. Заход солнца (31 единица). Литературным вариантом именования этой ситуации является слово закат в значениях: ‘1. Заход за линию горизонта (о солнце)’ и ‘1. || Время захода солнца’ [МАС, т. 1, с. 525]. В диалектах ему соответствуют наименования закло;´н, солнося;´д, пока;´т (Арх.) [Даль, т. 1, с. 1464; т. 4, с. 376; т. 3, с. 616]; зале;´сье (солнца) (Петерб., Новг.) [СРНГ, вып. 10, с. 203] и некоторые др. Рассматриваемая ситуация получила процессуальное выражение посредством целого ряда глагольных единиц с общим значением ‘опускаться (опуститься) за горизонт’: закатиться, зайти, сесть [МАС, т. 1, с. 526, 524; т. 4, с. 85]; посяжа;´ть (Арх.), зва;´ливать (Том.), залеза;´ть (Смол.) [СРНГ, вып. 30, с. 260; вып. 11, с. 209; вып. 10, с. 199]; солнце западает [Даль, т. 1, с. 1526]. После захода солнца за горизонт непосредственное наблюдение за ним невозможно. Тем не менее было выявлено несколько диалектных единиц, в значениях которых фиксируется положение солнца на «ночной дуге», например: сверну;´ло с полночи – ‘о времени после полуночи’ (Дон.); заморо;´зник – ‘положение солнца на пятом румбе в три часа ночи’ (Арх.) [СРНГ, вып. 36, с. 243; вып. 10, с. 257] и некоторые др. 10 Два рассмотренных параметра – ‘изменение интенсивности освещения естественными источниками света’ и ‘местонахождение Солнца или Луны на небосклоне’ – являются основными, поскольку они реализованы в значениях всех единиц, соотносящихся с денотатом параметрического типа. Это позволяет утверждать, что для адекватного лексикографического отражения значений единиц, обозначающих временные точки или отрезки в пределах суток, в дефиниции должно быть раскрыто содержание названных параметров. Прежде всего это относится к словам утро, день, вечер, ночь. Как отмечает Т.В. Симашко, в значении слов, задающих имена денотативных классов, представлены наиболее общие признаки, характеризующие соответствующие природные явления [Симашко 1999, с. 256]. В используемых толковых словарях описание значения слов утро, день, вечер, ночь осуществляется преимущественно за счет указания такого параметра, как ‘местонахождение светил (Солнца или Луны) на небосклоне’. Так, день в словаре В.И. Даля определяется как ‘время от восхода до заката солнца, от утренней до вечерней зари’, ночь как ‘время, когда солнце бывает под закроем (горизонтом)’ [Даль, т. 1, с. 1059; т. 2, с. 1446]; в МАС день определяется как ‘часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера’; ночь как ‘часть суток от восхода до захода солнца, от вечера до утра’ [МАС, т. 1, с. 387; т. 2, с. 512]. В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова при определении значения слов день и ночь указанный параметр оказался не актуализированным, вследствие чего дефиниции данных слов содержат в себе «порочный круг»: день определяется как ‘промежуток времени от утра до вечера’, ночь – ‘промежуток времени от вечера до утра’, утро – ‘начало дня’, вечер – ‘часть суток от конца дня до начала ночи’ [СУ, т. 1, с. 688; т. 2, с. 599; т. 4, с. 1023; т. 1, с. 266]. Толкования, в которых не отражены объективные критерии выделения отрезков времени в пределах суток, не дают представления о реальных границах суточных отрезков, обозначенных указанными словами. Анализ единиц, соотнесенных с денотатом параметрического типа, позволил наряду с основными признаками выделить ряд дополнительных, более низких по частотности реализации признаков, которые связываются в русском языковом сознании с определенными суточными периодами. В результате анализа дефиниций нами было выявлено семь дополнительных признаков, зафиксированных в семантике единиц исследуемого поля. Цветовые характеристики содержатся в семантике 16 единиц, значения которых связаны с описанием ситуации «восход / заход солнца», например: авро;´ -ра – ‘алый и золотистый свет по горизонту до восхода солнца’; бусова;´ – ‘темная синева неба, до восхода и по закате солнца’ (Арх.) [Даль, т. 1, с. 9, 355]; погора;´ть – ‘1. Краснеть, быть огненного цвета, мерцать красным светом (о солнце на восходе)’ (Моск.); морока;´ перегоре;´ли – ‘облака стали цвета заката, что предвещает ясную погоду’ (Амур.) [СРНГ, вып. 27, с. 307; вып. 26, с. 70] и др. Отметим, что в значениях единиц данной подгруппы фиксируются цветовые характеристики не самих суточных отрезков, а природных объектов и явлений (неба, облаков, солнца), которые изменяются в зависимости от суточного отрезка времени. Интересно, что цвет может выступать мотивирующим признаком при наименовании собственно суточного периода. Например, наре11 чие ржаве;´нько, бытующее на территории Архангельской области в значении ‘рано на рассвете’, является метонимическим обозначением суточного отрезка на основе фиксации цветового признака: ‘цвет неба’ – ‘время, для которого характерен такой цвет неба’. Ср. комментарий авторов словаря: ржаве;´нько – «от ржаво-красного цвета неба на утренней заре» (Арх.) [СРНГ, вып. 35, с. 93]. Звуковые характеристики отражены в семантике 6 единиц, в числе которых: похо;´жая пора – ‘о времени суток, когда еще продолжается движение, не смолк дневной шум’ (Арх.) [СРНГ, вып. 30, с. 361]; глухая пора – ‘когда все тихо, нет движения, работы и пр.’ [Даль, т. 2, с. 1316]; не;´уголос – ‘полночь, время, когда еще не слышно пения петухов’ (Калуж.) [СРНГ, вып. 21, с. 186]; весёлая ночь – ‘ночь, под которую с вечера поют петухи’ (Ворон., Орл.) [Даль, т. 2, с. 1568; СРНГ, вып. 4, с. 181] и др. Спорный случай представляет собой дефиниция слова прибуйный, в которой зафиксированы два признака – ‘буйный, темный’ – без указания на объект (объекты), которым могут быть приписаны эти признаки. По всей видимости, единственным объектом, способным обладать одновременно двумя указанными признаками, может выступать лишь ночной период времени. Это предположение подтверждается единственной приведенной в дефиниции иллюстрацией употребления слова прибуйный: Прибуйная ночь (Алт.) [СРНГ, вып. 31, с. 123]. Температурные характеристики закреплены в семантическом содержании относительно небольшого количества слов и устойчивых словосочетаний (17 единиц), которые тем не менее позволяют восстановить картину суточного изменения температурного режима: утренько;´м – ‘по утреннему холодку, морозу’ (Пск., Твер.) [Даль, т. 4, с. 1100]; обу;´треневеть – ‘2. Потеплеть после ночи’ (Пск., Твер.); надне;´ть – ‘согреться после холодного зимнего утра, стать теплым (о воздухе, погоде)’ (Пск., Твер.) [СРНГ, вып. 22, с. 255; вып. 19, с. 239]; ‘нагреться от солнца к полудню’ [Даль, т. 2, с. 1053]; обогре;´в – ‘3. Полдень, время, когда солнце согреет землю’; осту;´да – ‘2. Понижение температуры, похолодание’: Днём жарко, а ввечеру всё равно остуда буде (Азерб. ССР) [СРНГ, вып. 22, с. 152; вып. 24, с. 91]; холодок – ‘нежаркое время суток, когда еще не наступила или уже спала жара’ [МАС, т. 4, с. 17] и некоторые др. Особую группу составили слова и устойчивые сочетания, в значениях которых суточное время представлено с точки зрения погодных характеристик (63 единицы). Поскольку наиболее актуальным указанный признак является для дневного времени, в течение которого осуществляется хозяйственная деятельность человека, постольку более 60% единиц данной подгруппы входят в денотативный класс <день>. Несколько единиц данной подгруппы соотносятся с утренним периодом: зно;´бкий утренник – ‘морозный, сырой и холодный’ [Даль, т. 1, с. 1719]; обу;´триться – ‘1. || Настать ясному утру после ненастья’ (Тамб.) [СРНГ, вып. 22, с. 256]. Иллюстративный материал свидетельствует о денотативной направленности на утренний период времени значений глагола разгораться – ‘1. || Стать ясным, солнечным’: Яркое разгорелось утро (Ливеровский) [МАС, т. 3, с. 599] и прилагательного гожий – ‘ясный’: Нонешнее утро гоже (Урал.) [СРНГ, вып. 6, с. 278]. Большинство слов и устойчивых словосочетаний данной подгруппы связано с описанием двух ситуаций. 12 1. День с благоприятными погодными условиями: а;´бодье – ‘1. Ясный, солнечный день’ (Арх.); пого;´ды, мн. – ‘2. || Теплые солнечные дни’ (Арх.); израи;´тельный – ‘погожий, прекрасный (о дне)’ (Курск.) [СРНГ, вып. 1, с. 190; вып. 27, с. 299; вып. 12, с. 167]; погожий день – ‘погодистый, ведряный’; красный день (денёк) – ‘ведряный’, ‘жаркий, солнечный, сухой’ [Даль, т. 2, с. 397, 480; т. 1, с. 1060]; растворится день – ‘разведрится, разгуляется (о погоде)’ (Новг.); день перекача;´ л – ‘день простоял с хорошей погодой’ (Костром.) [СРНГ, вып. 34, с. 250; вып. 26, с. 120] и др. 2. День с неблагоприятными погодными условиями: салгу;´н – ‘1. Прохладная пасмурная погода’: Если солнца нет, морок, то это салгун – пасмурный день (Новосиб., Ср. Прииртышье); бухма;´нный – ‘облачный, пасмурный (о дне, погоде)’ (Арх., Костром., Тамб., Ворон.); невё;´шний день – ‘несолнечный, пасмурный день’ [СРНГ, вып. 36, с. 60; вып. 3, с. 323; вып. 20, с. 336]; знобкий денёк – ‘морозный, сырой и холодный’; серенький денёк – ‘пасмурный, неясный’ [Даль, т. 1, с. 1719, 1060] и др. Следует отметить, что целый ряд слов, включенных в данную подгруппу, содержит в дефинициях отсылку не только к объекту «день», но и к объекту «погода». Данное обстоятельство требует специальных комментариев. Как отмечает В.Г. Гак, «время может быть кадром… для окружения обстановки. Абсолютной обстановкой в определенный момент времени являются атмосферные условия, погода. В русском языке слово время может окказионально обозначать погоду, а в романских языках это является одним из важнейших значений слова “время”» [Гак 1997, с. 128]. Историческое обоснование этому факту представлено в исследовании Н.В. Ивашиной: «В древности сопоставление времени и погоды было более очевидным, восприятие времени базировалось на наблюдениях за природными явлениями. Во многих языках мира эти понятия передаются одной лексемой. <…> Для древнего сознания эти понятия не были расчленены» [Ивашина 1977, с. 14]. Специальные названия получили суточные отрезки, погодные характеристики которых определяются сопутствующими природными явлениями: капё;´ж – ‘2. Теплый весенний день, когда капает с крыш; оттепель’ (Южн.-Сиб., Сиб.); грозный день – ‘день с грозами’ (Урал., Пск.); ряби;´новая ночь – ‘ночь с зарницами’ (Арх., Печор., Брян.) [СРНГ, вып. 13, с. 50; вып. 7, с. 149; вып. 35, с. 333]; воробьиная ночь – ‘ночь с непрерывной грозой и зарницами’ [МАС, т. 1, с. 212]. В особую группу были выделены единицы, в значениях которых зафиксирован факт изменения продолжительности дня и ночи в зависимости от времени года (37 единиц). Приведем несколько примеров: просто;´рный день – ‘долгий, длинный день’ (Курск., Калуж.); прива;´льные ночи – ‘длинные ночи’ (Иркут.); некорыстный – ‘8. Короткий (о зимнем дне)’ (Перм.) [СРНГ, вып. 32, с. 250; вып. 31, с. 130; вып. 21, с. 62]; день-меже;´нь – ‘самый долгий летний день’ [Даль, т. 1, с. 1060]; воробьиная ночь – ‘о самых коротких летних ночах’ (Курск.) [СРНГ, вып. 5, с. 105]; обездня;´ть – ‘о северных зимних коротких днях’ [Даль, т. 2, с. 1488]; остолбе;´ть – ‘4. Стать одинаковым по продолжительности (о днях, о времени равноденствия)’ (Перм.); зажив дней, ночей – ‘время, с которого начинают увеличиваться день, ночь’ (Арх.) [СРНГ, вып. 24, с. 72; 13 вып. 10, с. 83] и др. Слова и устойчивые словосочетания, включенные в состав этой группы, входят в зону пересечения кумулятивных полей «Суточный круговорот времени» и «Годовой круг времени». Довольно многочисленна группа единиц, в значениях которых представлен оценочно-эмоциональный компонент, отражающий отношение человека к суточным отрезкам времени (40 единиц). Наряду со словами зоренька – ‘ласк. к заря’ [МАС, т. 1, с. 621; СУ, т. 1, с. 1116]; утречко – ‘ласк. к утро’; денёк – ‘разг. ласк. к день’ [МАС, т. 4, с. 536 ; т. 1, с. 386] и т.п. в эту подгруппу вошли такие устойчивые словосочетания, как благой день – ‘удачный, хороший для кого-, чего-либо’ (Олон.); добры;´дни – ‘добрые дни, благополучное житье’ (Волог.) [СРНГ, вып. 2, с. 306; вып. 8, с. 80]; чёрный день – ‘несчастный день, тяжелый’ [Даль, т. 1, с. 1060], а также этикетные выражения-пожелания: с добрым утром; доброй / покойной / спокойной ночи [МАС, т. 4, с. 536; т. 2, с. 512]; добры;´день (Смол., Пск., Калуж., Южн., Зап.); добры;´вечер (Смол., Южн., Зап.); добра;´ночь (Смол.); здоро;´вы ночевали / дневали / вечеряли (Терск.) [СРНГ, вып. 8, с. 80, 75; вып. 11, с. 235] и т.д. Представительную группу образовали единицы, в значениях которых реализован параметр, обозначенный нами как ‘социально значимые характеристики суточного отрезка’ (75 единиц). Данный признак отражен в одном из значений слова день – ‘3. Промежуток времени (в пределах суток), занятый какой-либо социальной деятельностью’ [СУ, т. 1, с. 688]. Значения слов и устойчивых словосочетаний анализируемой группы по преимуществу содержат в себе уточнение того, какой именно деятельности посвящена эта единица времени. Ключевую оппозицию для таких единиц составляют признаки ‘рабочий – праздничный, выходной’. Значение ‘рабочий, непраздничный день’ фиксируется словарями для следующих единиц: будни [МАС, т. 1, с. 120], обихо;´д (Моск.), негуля;´щий день (Пск., Смол.), неде;´льный день (Олон.), рядово;´й день (Олон., Ленингр.) [СРНГ, вып. 22, с. 68; вып. 21, с. 7, 11; вып. 35, с. 345], рабо;´тный день [Даль, т. 1, с. 1060] и др. В значении ряда единиц содержится уточнение рода деятельности, которую предписывается или запрещается осуществлять в указанный временной период, например: политдень, нов. – ‘единый день, отводившийся для занятий политическими предметами и для работы кружков, изучающих эти предметы’ [СУ, т. 3, с. 521]; пряду;´щий день – ‘день, в который можно прясть’ (Орл., Смол.); непряду;´щий день – ‘день, в который не прядут’ (Орл.); неда;´нный день – ‘день, когда не разрешается делать ту или иную работу’ (По нижн. и ср. теч. р. Урал) [СРНГ, вып. 33, с. 79; вып. 21, с. 135, 8] и др. Значение ‘праздничный, нерабочий день’ также присуще целому ряду единиц, например: пра;´здник, праздничный день [Даль, т. 3, с. 994]; отгу;´л (Иван.Вознес.); гулё;´ва (Ново-Лялин.); отдыхно;´й (Перм.); ильго;´тный день – ‘свободный от работы день’ (Пск., Твер., Тул.); праздницкое, в знач. сущ. – ‘день церковного праздника’ (Новг.) [СРНГ, вып. 24, с. 156; вып. 7, с. 213; вып. 24, с. 172; вып. 12, с. 185; вып. 31, с. 64]. Оппозиция ‘будничный / праздничный день’ проецируется на именования некоторых артефактов: так, не праздничные (не обрядовые) песни в говорах получили название ежеденные песни (Вят.); еда, приготовляемая каждый день, 14 именуется завсегда;´шником (Терск.) или простодне;´вной пищей (Том.); праздничную одежду называют овбыдё;´нкой (Свердл.), одежду, предназначенную для повседневной носки, – бу;´дником, бу;´дничником (Твер.), простодё;´ нной (Арх.) [СРНГ, вып. 8, с. 327; вып. 9, с. 343; вып. 32, с. 245; вып. 3, с. 245; вып. 32, с. 245] и т.п. Ситуации несоответствия действий человека образцу поведения, установленному для праздничных, выходных и будничных дней, представлены в значениях таких единиц, как: бу;´дничать – ‘работать во время праздников, не праздновать’ (Волог., Арх.); овыдённый – ‘нарядный в будний день’ (Свердл.) [СРНГ, вып. 3, с. 245; вып. 22, с. 292]. Подобные случаи в народном сознании получают негативную оценку, что, по-видимому, должно найти отражение в дефинициях указанных слов, например, в виде пометы неодобрительно. Выявленные параметры по преимуществу находят отражение в семантике диалектных единиц. В литературном языке не зафиксированы такие параметры суточных отрезков, как ‘цветовые характеристики’, ‘звуковые характеристики’, ‘погодные характеристики’. Это объясняется значимостью наблюдений над природными изменениями, сопровождающими суточный круговорот времени, для жителей сельской местности (прежде всего в связи с хозяйственной деятельностью). Для горожан, являющихся основными носителями литературного языка, детализация данного природного явления не столь существенна в связи с приоритетностью искусственных систем членения времени. Эмпирической базой для осмысления времени на самых ранних ступенях развития человеческого сознания являлись биоритмы человеческого организма (микрокосмоса) и окружающего мира (макрокосмоса): движение Солнца, смена времен года, изменение положения и фаз Луны, разливы рек, рождение и смерть людей, флоры и фауны. Циклический характер протекания этих жизненно важных для человека явлений послужил для наивного сознания толчком к выделению временных периодов разной протяженности (в том числе суток), а также сформировал первоначальные представления человека о природе времени. В связи с этим время предстает не само по себе, а как «время чего-либо, какого-либо явления; событий, повторяющихся, происходящих в определенные моменты жизни природы и человека» [Подюков 1990, с. 31]. Результаты событийного осмысления времени получили закрепление в семантике единиц, соотносящихся с денотатом коррелятивного типа. Анализ значений этих единиц позволил выявить круг тех явлений, действий и состояний, которые учитываются языковым сознанием при ориентации в суточном ходе времени, выступая в качестве материальных примет незримого течения времени. Классификация этих объектов и процессов представлена на схеме. Суточный отрезок Объекты бытийность Состояния и виды деятельности человека сон природные питание 15 досуг артефакты труд мифологические обрядовость 16 Природные объекты и явления. В результате наблюдений над окружающим миром человек выявил ряд природных явлений и объектов, приуроченных к определенному времени суток. К их числу относятся некоторые представители мира флоры и фауны, активность которых приходится на определенное время суток. Например, слово полуно;´чник и полуно;´шник в различных диалектах обозначает зверя, который охотится только ночью (Забайкал.), птицу козодоя (Новг., Яросл., Волог., Смол.) и летучую мышь (Свердл.), которые летают по ночам [СРНГ, вып. 29, с. 156]. В зависимости от времени активности получили свое название некоторые виды мотыльков: денни;´к, полу;´денник, вече;´рник, су;´меречники, ночни;´к, ночня;´нка [Даль, т. 1, с. 1060, 463; т. 4, с. 634; т. 2, с. 1445–1446]. В темное время суток раскрываются цветки таких растений, как вече;´рница [Даль, т. 1, с. 463], ночная краса;´вица (Том.) и полуночный цвет (Олон.) [СРНГ, вып. 15, с. 172; вып. 29, с. 157]. Как видно из примеров, преимущественную фиксацию в языке получает активность природного мира в ночное (сумеречное) время. По всей видимости, это связано с тем, что бодрствование в темное время суток расценивается языковым сознанием как отступление от общей нормы, а потому требует специальной регистрации. В диалектах функционирует ряд обозначений ветров, дующих в определенный суточный период: жава;´р – ‘ветерок, дующий перед рассветом’ (Бурят.) [СРНГ, вып. 9, с. 54]; зорька, обл. – ‘2. Легкий ветер, бывающий на утренней заре’ [МАС, т. 1, с. 622]; зарни;´к – ‘вечерний или утренний ветер’ (Енис.); бухо;´-ня – ‘дневной, полуденный ветер’ (Моск.); горня;´к – ‘бриз на озере Иссык-Куль, дующий летом по ночам с гор’ (Мурзаевы) [СРНГ, вып. 10, с. 384; вып. 3, с. 325; вып. 7, с. 54] и др. Специальные наименования получили утренние (ночные) морозы, повреждающие растения: у;´тренник [Даль, т. 4, с. 1100; МАС, т. 4, с. 536]; па;´морозок; га;´лога (Олон.); желе;´зная роса (Арх.) [СРНГ, вып. 25, с. 185; вып. 6, с. 104; вып. 9, с. 105] и др. Особую подгруппу составляют единицы, бытующие на территории Беломорья, в значении которых зафиксировано изменение уровня воды на море в зависимости от времени суток. Так, различают утреннюю, денную (дневную), вечернюю и ночную воду, а также полу;´ношницу – ‘уровень воды в полночь’ [СРНГ, вып. 4, с. 331–332; вып. 29, с. 156]. Некоторые из природных объектов стали выступать в качестве своеобразных примет наступления того или иного периода суточного времени. Одним из таких важнейших ориентиров являются звезды. Так, например, установленная связь между планетой Венерой и временем ее появления на небосклоне была отражена во внутренней форме ее многочисленных наименований (всего 17 единиц): зо;´ри [Даль, т. 1, с. 1567]; зорни;´ца (Казан., Волог.), зари;´ца (Краснояр.), зарени;´ца (Арх.), зори;´нка (Пск.) [СРНГ, вып. 11, с. 342, 384; вып. 10, с. 382; вып. 11, с. 339]; у;´тренница [Даль, т. 4, с. 1100]; утренняя заря;´ (Курск.) [СРНГ, вып. 11, с. 15]; вече;´рница [Даль, т. 1, с. 463]; вечерняя заря;´ (Пенз., Курск.); полуно;´чница, полуно;´чная (заря) (Хабар.) [СРНГ, вып. 11, с. 15; вып. 29, с. 156, 157] и др. Возможность наблюдать планету Венеру в разное время суток послужила основанием для осмысления ее как нескольких разных 17 звезд: Венера утренняя – зорница, вечерняя же – другая звезда (Волог.); Утрена заря (то есть звезда. – С.Ц.) – полуночна зашла (Хабар.) [СРНГ, вып. 11, с. 342; вып. 29, с. 157]. В работе А.А. Коринфского приводится интересное объяснение внутренней формы двух широко распространенных в диалектах наименований звезд: «Не все звезды для русского хлебороба одинаковы. Так, знает он “Вечерницу” – первую вспыхивающую вечером звезду, назовет и “Денницу” – позднее всех своих сестер погасающую на небе, только-только не встречающуюся с утренней ранней зорькой» [Коринфский 1995, с. 56]. В «Словаре русских народных говоров» зафиксирован уникальный пример именования звезды в соответствии с действием, осуществляемым в период ее появления на небосклоне, – это слово бли;´нница, бытующее в Псковской области в значении ‘утренняя звезда, появление которой указывало рыбакам время, когда хозяйки начинают печь пироги’ [СРНГ, вып. 3, с. 25]. При определении времени суток по звездам важным ориентиром для жителей разных территорий выступали определенные созвездия, подтверждение чему находим в иллюстративном материале к их диалектным наименованиям: Гру;´ ки-те (Стожары) и показывают время (Верхне-Салд.); В старину рыбаки… по решётке (Стожары) время определяли (Эстон. ССР); Оржаные промёжки (?) … перед утром-то они на север идут (Перм.); Сабанья нога (Большая медведица) стоит ниже – значит скоро свет (Р. Урал) [СРНГ, вып. 7, с. 161; вып. 35, с. 88; вып. 32, с. 183; вып. 36, с. 10]. В семантике рассмотренных диалектных единиц сохраняются отголоски того времени, когда ночное звездное небо являлось для сельских жителей «безошибочно верными часами», «грамоткой, написанной по синему бархату», благодаря которой сельские жители «с поразительной для оторванного от природы горожанина точностью угадывали по расположению звезд время ночи» [Коринфский 1995, с. 56]. Еще одно природное явление, прочно связанное в языковом сознании с суточным временем, – выпадение росы. Неслучайно в Сибирских и Терских говорах оно именуется по времени своего протекания – заря;´ [СРНГ, вып. 11, с. 15]. С другой стороны, наименование указанного природного явления стало использоваться для обозначения временных отрезков: роса – ‘единица измерения длительности отдельных процессов’: Про сено так говорят: три дня пролежало – три росы;´ (Ряз.) [СРНГ, вып. 35, с. 182]; до росы – ‘очень рано’ [СУ, т. 3, с. 1385]; по росе – ‘рано утром’ (Новосиб.); погнать, выгнать (скот) на росу – ‘погнать (скот) рано утром’ [СРНГ, вып. 35, с. 181] и др. Хотя роса обычно выпадает дважды в сутки, преимущественное значение для языкового сознания имеет ее появление в утреннее время. Это подтверждается тем обстоятельством, что большинство единиц с семантическим компонентом ‘роса’ содержит в значении отсылку к суточному отрезку утро. Отметим также, что слова утро, утренняя являются наиболее частотными реакциями на стимул роса, в то время как слово вечер вообще не фиксируется в числе типичных реакций [РАС, кн. 3, с. 152]. Наконец укажем такой важный «индикатор» времени суток, как поведение домашних животных. В качестве живых часов в быту русского крестьянина из18 давна использовались петухи. Как отмечает В. Белов, «не иметь петуха означало то же, что в нынешние времена вставать по соседскому будильнику» [Белов 2000, с. 181]. Действительно, строгая соотнесенность сна, пробуждения и пения петухов с одними и теми же суточными периодами позволила выступить этим птицам в качестве своеобразных живых часов, с показаниями которых крестьянин соотносил собственную деятельность. Так, в диалектах широко распространены выражения с петухами (кочетами) ложиться / вставать / выезжать в значении ‘очень рано’ (Ряз.) [СРНГ, вып. 15, с. 129] и т.п. Слова петух, кочет, куры и словосочетания, включающие в свой состав эти слова, стали выступать для обозначения временных отрезков. Так, период от полуночи до рассвета, на протяжении которого трижды раздается петушиное пение, в старожильческих прииртышских говорах носит название петушиный рёв [Пыхтеева 1987, с. 4]. В национальном русском языке широко распространены выражения первые петухи – ‘полночь’ [Даль, т. 3, с. 1446], ‘самое раннее после полуночи пение петухов’ [МАС, т. 3, с. 44]; вторые петухи – ‘время до зари’ и третьи петухи – ‘заря’ [Даль, т. 3, с. 1446]; первые, вторые, третьи кочета;´ (кочеты;´) – ‘пение петухов ночью, по которому определяют время’ (Самар., Казан.); двое петухи пропели – ‘о времени с 3 до 4 часов утра в зимнюю пору’ (Казан.); дольше кочетов – ‘за полночь’ (Влад.); на кочетах – ‘рано утром’ (Дон.) [СРНГ, вып. 15, с. 128; вып. 7, с. 285; вып. 15, с. 128, 129] и т.п. Большинство рассмотренных единиц иллюстрируют мысль Н.И. Сукаленко о том, что время способно отражаться в названии природных реалий [Сукаленко 1992, с. 24]. Однако далеко не всегда установленная языковым сознанием связь между природными реалиями и временем суток фиксируется посредством внутренней формы. В этих случаях для выявления корреляций, скрытых в лексическом значении единицы, необходима кропотливая работа, связанная с анализом ее типичных контекстуальных окружений, ассоциативных связей. В дефинициях толковых словарей подобные «имплицитные» корреляции зачастую не находят отражения. Так, на фоне приведенных ранее примеров обнаруживается необоснованное нарушение коррелятивного принципа при определении в МАС и СУ значений таких единиц, как цикада и светляк. В дефиниции слова цикада, предлагаемой в МАС, содержится скорее биологическое описание: ‘хоботное прыгающее насекомое, самцы которого издают характерное стрекотание’ [МАС, т. 4, с. 654]. Однако в этом определении не нашла отражения информация о пении цикад как об одной из примет наступления темного времени суток. Частным подтверждением значимости этого представления для языкового сознания является приведенный в статье иллюстративный материал: Степь ночью непрерывно звенела песней степных сверчков, полевых цикад (НемировичДанченко). Сказанное относится и к словарным статьям слов светляк, светлячок – ‘небольшой жук, светящийся в темноте’: В темноте зажглись светляки… (А.Н. Толстой); День угасал, в лесу начало быстро темнеть. <…> Вокруг меня зажглось множество светлячков (Линьков) [МАС, т. 4, с. 47]. 19 Подобная недостаточность дефиниций, их отвлеченность от обыденного сознания обнаруживается и при определении единиц, обозначающих Солнце и Луну (месяц). В МАС соответствующие слова определяются следующим образом: солнце – ‘центральное тело Солнечной системы, звезда, представляющая собой гигантский раскаленный газовый шар, излучающий свет и тепло за счет протекающих в его недрах термоядерных реакций’; луна – ‘небесное тело, естественный спутник земли, светящийся отраженным солнечным светом’ [МАС, т. 4, с. 190; т. 2, с. 204]. Такие энциклопедизированные, громоздкие дефиниции, по выражению С.Д. Кацнельсона, «подавляют своей научностью», в малой степени отражая специфику восприятия обозначаемых объектов языковым сознанием. Как было продемонстрировано выше, именно Солнце и Луна, их суточное движение по небосклону, сопровождаемое сменой освещения, выступают для языкового сознания основой членения суточного круга. Представляется, что этот факт, многократно и разнообразно концептуализированный в языке, должен найти отражение в дефинициях тех единиц, которые именуют указанные небесные тела. С этой позиции следует признать более удачными дефиниции слов солнце и луна, предложенные в словарях В.И. Даля и Д.Н. Ушакова: солнце, солнышко – ‘наше дневное светило’ [Даль, т. 4, с. 377]; луна – ‘спутник земли, светящийся по ночам’ [СУ, т. 2, с. 96]; месяц – ‘ночное светило’ [Даль, т. 2, с. 968]. Любопытно, что в языке присутствуют единицы, внутренняя форма и значение которых зеркально отображают приведенные выше слова: так, в словаре В.И. Даля зафиксировано устойчивое выражение ночное светило в значении ‘луна, месяц’ [Даль, т. 4, с. 83]; в «Русском семантическом словаре» приводятся устаревшие варианты наименования солнца и луны – дневное светило и ночное светило [РСС, т. 1, с. 568]. Таким образом, в современном русском языке представлен круг единиц, характеризующих природные объекты и явления с точки зрения их приуроченности к суточному времени (183 единицы). Анализ их семантики позволил установить, что информация об архаических, «природных» способах измерения времени – по положению звезд, по поведению животных, птиц, насекомых – до сих пор сохраняется в языке, прежде всего в его диалектной ипостаси. Артефакты. В особую группу (94 единицы) выделены наименования разнообразных неприродных объектов (как материальных, так и интеллектуальных), которые изготовлены или приспособлены человеком для использования в определенное время суток, например: вечорка, разг., фам. – ‘вечерняя газета’ [СУ, т. 1, с. 267]; у;´тренник и вече;´рник – соответственно ‘утренний’ и ‘вечерний удой молока’ [Даль, т. 4, с. 1023; т. 1, с. 463]; иса;´ды– ‘2. Рынок, на котором торгуют только утром… вечерний всегда называют базаром’ (Архив РГО) [СРНГ, вып. 12, с. 212]; серенада – ‘1. Вечерняя приветственная песнь’ [СУ, т. 4, с. 160]. Целый ряд диалектных наименований служит для обозначения сооружений, предназначенных для размещения домашнего скота в разные суточные периоды: гумё;´шко – ‘3. Небольшая поляна, на которую во время ночевки в лесу пускают пастись лошадей’ (Арх.) [СРНГ, вып. 7, с. 229]; по;´лдни, обл. – ‘4. Место на выгоне, где останавливается стадо для дойки коров около 12 часов 20 дня’ [СУ, т. 3, с. 512]; денни;´к – ‘3. Участок, примыкающий к крестьянскому дому, где находится скот днем’ (Новосиб.) [СРНГ, вып. 7, с. 35], ‘крытая изгородь при дворе, для скота, во время дня’ (Кур.) [Даль, т. 1, с. 1060], ‘некрытая загородка для скота, в которой скот проводит день’ [Вялкина 1975а, с. 91]. Ср. с дефиницией слова денник, приведенной в МАС, в соответствии с которой внутренняя форма слова является деактуализированной: ‘отдельное закрытое стойло в конюшне, где лошадь стоит без привязи, или особое отгороженное теплое место в хлеве для животных, которым нужен особый уход’ [МАС, т. 1, с. 386]. В рассматриваемой группе единиц представлены наименования одежды, предназначенной для ношения в тот или иной суточный период, например: пеньюа;´р – ‘1. Утренний капот из легкой ткани’ [МАС, т. 3, с. 41]; матине;´ – ‘1. Женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани’ [СУ, т. 2, с. 161]; обы;´га – ‘все, что надевают или чем укрываются на ночь’; бло;´шница – ‘женская ночная сорочка’ (Курск., Ворон.) [СРНГ, вып. 22, с. 281; т. 3, с. 28] и др. Отметим тот факт, что в значении отдельных единиц рассмотренной группы своеобразно преломляются некоторые параметры, выявленные и описанные на основе анализа единиц, соотносящихся с денотатом параметрического типа. В данном случае эти параметры представлены как характеристики суточных отрезков, освоенные в хозяйственной деятельности человека. Например, в значении широко распространенного в диалектах слова но;´дья, нодья;´ – ‘костер, устраиваемый в лесу в холодные ночи’ (Арх., Сев.-Двин., Онеж., Волог., Новосиб., Сиб., Заурал. и др.) [СРНГ, вып. 21, с. 268] фиксируется два признака ночного времени суток: ‘низкая температура’ и ‘недостаточная освещенность’. Второй из указанных признаков представлен в значении слов, именующих светильники, которые используются в случае недостаточности ночного освещения: ночник [МАС, т. 2, с. 512], во;´лчий глаз (Калуж.), са;´льник (Арх., Сев., Горьк., Р. Урал., Новосиб., Том., Краснояр., Бурят. АССР), све;´шник (Арх.) [СРНГ, вып. 5, с. 80; вып. 36, с. 69, 273] и др. Мифологические объекты. Эту группу образуют слова и устойчивые выражения (56 единиц), в значениях которых закрепились представления о мифологических персонажах и предметах, проявляющих активность, магические свойства в определенные суточные периоды. Многочисленные этнолингвистические материалы свидетельствуют, что в славянском народном сознании сохраняются архаичные представления о сакрально маркированных суточных периодах и точках. Прежде всего к ним относятся переломные, пограничные моменты в суточном течении времени – полночь и полдень, утренняя и вечерняя заря, которые по отношению к человеку обычно расцениваются как «опасное и нечистое время или даже вообще “не время”» [Толстая 1997, с. 123]. Указанные суточные промежутки в русских диалектах имеют отрицательно маркированные наименования: не;´час – ‘время от полудня или полуночи до часу, когда оживает всякая нечисть’ (По нижн. и Средн. теч. р. Урал); вредное время – Шибко-то вредное время быват два раза в сутки: в полдни, в 12 часов, и в полночь (Иркут.) [СРНГ, вып. 21, с. 205; вып. 5, с. 190]; про21 клянутый час – Проклянутый час в 12 ночи и в 12 дня, шесть утра и шесть вечера. В эти часы опасаться надо, выходить благословясь (Новг.; Пест., 1976) [Черепанова 1993, с. 145]. На Печере в качестве наименования «неурочного» времени бытует сочетание пу;´хлый (пухло;´й) час – В каждых сутках есть пухлый час (Печ.; Усть-Цил., Трусово) [Там же]. Полдень и полночь считаются моментами таинственными и критическими: «в эти часы деятельность мифических существ достигает наивысшей активности, оказывается возможным их воплощение в зоо-, антропоморфном или гибридном облике и появление в “этом” мире» [Криничная 2001, с. 285]. С полуденным и полуночным временем соотнесено значение слова де;´коваться – ‘4. Дурачить, запутывать, сбивать с толку кого-либо (о нечистой силе: водяном, лешем): Некоторые строго определенные места в лесу и реке… в особенности в полдень, советуют решительно избегать, так как тут временами декуется, то есть обнаруживается присутствие нечистой силы (Тюмен., Тобол.); Заговор тот надо делать в полночь. И шибко тогда де;´куется: всяка нечисть лезет (Свердл., Волог., Яросл.) [СРНГ, вып. 7, с. 337]. Если полночь – это кульминационный момент на фоне общего ночного бесчинства нечистой силы, то полдень – это единственная временная точка дневного периода, когда враждебные по отношению к человеку силы проявляют себя. Так, например, в полдень опасно купаться и ловить рыбу, так как в это время «все бесы сходятся на берегах рек, озер» [Криничная 2001, с. 62; СРНГ, вып. 4, с. 352–353]; брань, произнесенная в полуденный час, незамедлительно наказывалась, а проклятие сбывалось [Криничная 2001, с. 190] и т.д. Временем совершения магических действий является заря: «на рассвете и закате предпочтительно колдовать и врачевать, заговаривать заговором» [Толстой 1997, с. 25]. Следует, однако, отметить различие в сакральной оценке утренней и вечерней зари: если утренняя заря в народном сознании маркируется преимущественно положительно, то образ вечерней зари имеет негативную окраску. Так, в фольклоре вечерняя заря обычно называется «темной», в то время как утренняя – «ясной». Персонифицированный образ утренней зари имеет целый ряд ласкательных наименований, например: зорька, зорюшка, заря-заряница, заряночка и т.д. Расхождение в оценке утренней и вечерней зари обусловлено местонахождением и характером движения солнца в соответствующие временные периоды. Так, при произнесении заговоров на утренней заре в соответствии с положением солнца обращались к востоку, который по представлениям русских был жилищем Бога, а вечером – к западу, где обитал сатана. Вечерняя заря предшествует времени захода солнца, которое считалось особенно ответственным и опасным. Утренняя же заря связана с появлением солнца, знаменующим возрождение жизни, прерванной на время ночного периода. К утреннему периоду приурочено прекращение действия нечистых сил, бесчинствующих ночью. Названные межевые моменты суток подверглись в народном сознании персонификации: в русском фольклоре присутствуют образы трех богатырей – Вечо;´рка, Зо;´рька и Полуно;´чка (варианты названий – Вечер, Вечерник; Заря-богатырь, Светозор, Световик; Иван Утренней Зари и Иван Полуночной 22 Зари; Полночь-богатырь, Полуночник и т.п.) [СМ, с. 88]; в заговорах к зорям обращались по имени, называя вечернюю Маремьяной, а утреннюю Марией, Марьей [Там же, с. 189; СРНГ, вып. 4, с. 214]. В полдень может произойти небезопасная для человека встреча с полуденником или полу;´дницей – ‘всклоченной старухой в лохмотьях с клюкой’ (Сиб.) [Даль, т. 3, с. 679], которая может сразить человека. В полночь активизируются злобные полуночные духи, насылающие на человека бессонницу, кашель и прочие болезни: полу;´но;´ чница, полуно;´шница – ‘нечистый дух, появляющийся по ночами, беспокоящий спящих людей’ (Новг., Сев.-Двин.); полуночная баба (тётка), полуночная (в знач. сущ.) – ‘продолжительный судорожный кашель, вызываемый ночью злым духом (полуночницей)’ (Арх.) [СРНГ, вып. 29, с. 157]. Высшая активность мифологических сил связана с периодом от восхода до захода солнца [Гура 1997, с. 72; СМ, с. 185]. В соответствии с этим большинство единиц описываемой группы относятся к денотативному классу <ночь>. Так, например, в указанный денотативный класс вошли выражения полуно;´ шная вода (Смол.), непитная вода (Арх.), невла;´данная вода (Дон.) [СРНГ, вып. 29, с. 157; вып. 21, с. 109; вып. 20, с. 346], в семантике которых отражены представления о целебных свойствах воды, взятой из реки в полночь или из колодца до восхода солнца, пока ее никто еще не пил. Однако большая часть сил, высвобождающихся в ночное время, враждебна по отношению к человеку. Неслучайно в русском языке бытует выражение не к ночи будет сказано (помянуто) – ‘о ком, чем-либо страшном, очень неприятном’ [МАС, т. 2, с. 512]. Особенно вольно бесовское отродье чувствует себя в период от полуночи до первых петухов. Н.И. Толстой указывает на наличие в славянских языках особой единицы, обозначающей этот наиболее опасный для человека период: в русском языке – глухая ночь, в сербском – глуво доба, в полесском – глупица [Толстой 1997, с. 24; см. также: СМ, с. 123]. К ночному периоду приурочено появление таких зловещих персонажей, как вампир – ‘1. Оборотень, мертвец, выходящий из могилы ночью, чтобы сосать кровь спящих людей’ [МАС, т. 1, с. 136]; гнё;´тка – ‘1. Дух, давящий по ночам спящих, вызывающий кошмары’ (Олон.) [СРНГ, вып. 6, с. 241] и др. Следствием воздействия нечистой силы на людей могли стать: перечё;´с ночной – ‘чесание детей ночью – наваждение злого духа’ (Сев.-Двин.); переполо;´х (ночные переполо;´хи) – ‘1. Испуг ночью во сне, обычно приписываемый действию недоброго глаза или нечистой силы; болезненное состояние от этого испуга’ (Арх.) [СРНГ, вып. 26, с. 273, 193] и т.п. Особым мифологическим значением наделяются ночи, отмеченные заметными погодными явлениями. Так, например, рябинные (воробьиные) ночи с грозой или зарницами – это бесовские ночи, во время которых черти играют свадьбы [см.: Агапкина, Топорков 1989; СМ, с. 115]. Завершая рассмотрение слов и устойчивых выражений, именующих мифологических персонажей, которые действуют в определенный суточный период, отметим, что типичным недостатком словарных дефиниций таких единиц является отсутствие указания на этот период. Так, например, диалектное слово ерети;´к в «Словаре русских народных говоров» определяется лаконично: 23 ‘2. Дух, тень умершего колдуна’ (Южн.-Сиб., Перм., Арх., Олон.) [СРНГ, вып. 9, с. 22]. Представляется, что в дефиницию данного слова должна быть включена также информация, содержащаяся в иллюстративном материале: Встающий из могилы в полночь и шатающийся до первых петухов [Там же]. Ср. с приведенной выше дефиницией слова вампир, содержащей сведения о соотнесении обозначаемого объекта с ночным периодом. Сказанное относится к дефинициям слов оборо;´тка – ‘6. Колдунья, которая превращается в разных животных’: Оборотка бегает ночью по дворам, выдаивает коров (Перм.); заря;´ло – ‘сказочное существо’: Когда детям не спится ночью и ждут не дождутся они утра – их утешают: скоро, детки, придет Заряла (Смол.) [СРНГ, вып. 22; с. 180; вып. 11, с. 16] и т.п. Необходимость включения в дефиниции слов, отсылающих к суточному отрезку, подтверждается тем обстоятельством, что период активности мифологических персонажей исследователи рассматривают в числе их неотъемлемых характеристик [Гура 1997, с. 72; Криничная 2001; Эфендиева 1989, с. 31]. Основу для ориентации человека в суточном ходе времени составляют не только наблюдения за изменениями в окружающем, внешнем по отношению к человеку мире, но и постижение собственного микромира – ритмов человеческого организма, чередований видов деятельности и т.д. Эти знания отражены в семантике единиц, анализируемых в следующих разделах. Бытийность. В значении слов, составивших указанную подгруппу (78 единиц), отразился факт «перемещения» человека по суточному кругу времени, проживания им того или иного суточного отрезка. При этом характер деятельности, осуществляемой человеком на протяжении этого периода, не столь важен, а потому фиксируется в значении в самом общем виде (‘занимаясь чемлибо’, ‘быть в пути’ и т.п.) или не указывается вовсе. Несмотря на немногочисленность данной группы (36 единиц), в ней представлены единицы всех рассматриваемых денотативных классов. Приведем несколько примеров: су;´товать, пересу;´товать – ‘пробыть где-либо сутки’ (Влад.); зау;´треничать – ‘пробыть где-либо на пути раннее утро’ [Даль, т. 4, с. 647; т. 1, с. 1639]; неу;´тровать – ‘не дожить до утра’ (Калуж.) [СРНГ, вып. 21, с. 199]; передневать, прост. – ‘провести где-либо день’ [МАС, т. 3, с. 60]; днё;´вщик – ‘дневщиками зовут людей, пришедших куда-либо передневать’ [Даль, т. 1, с. 1094]; отвечё;´рова;´ть – ‘1. Провести вечер, отдыхая или занимаясь чем-либо’ (Арх.) [СРНГ, вып. 24, с. 137]; заночевать – ‘задержавшись где-либо не дома, провести там ночь’ [СУ, т. 1, с. 992]; взя;´ть ночь (Волог.) / взять день (Олон.) – ‘пробыть где-либо ночь / день’ [СРНГ, вып. 4, с. 272] и др. Инвариантная часть значений приведенных единиц может быть сформулирована следующим образом: ‘прожить / провести каким-либо образом определенный суточный отрезок’. В данной подгруппе единиц обращает на себя внимание включенный в денотативный класс <день> фразеологизм, в значении которого содержится качественная оценка проживания дневного периода: пропихнуть день – ‘прожить, просуществовать день скучно, безрадостно’ (Смол.) [СРНГ, вып. 32, с. 208]. Наличие подобного наименования именно в денотативном классе 24 <день> можно объяснить тем, что день расценивается языковым сознанием как наиболее продуктивный для человека период. Для обозначения ситуации несоответствия этому представлению потребовалась специальная единица. Слова и устойчивые словосочетания данной подгруппы можно считать родовыми по отношению к описываемым ниже единицам, в значениях которых конкретизируются состояния и виды деятельности человека, соотносимые языковым сознанием с тем или иным суточным отрезком. Чередование периодов сна и бодрствования. Согласно научным представлениям, сон – это физиологическое состояние покоя, свойственное человеку и животным, которое наступает периодически, через равномерные промежутки времени в соответствии с внутрисуточным биоритмом активности – покоя [Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия]. Лингвистические словари при определении прямого (исходного) значения слова сон в целом следуют приведенному научному толкованию, ср.: сон – ‘1. Наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором полностью или частично прекращается работа сознания’ [МАС, т. 4, с. 194], ‘периодически наступающее физиологическое состояние покоя, противоположное бодрствованию’ [Цыганенко, с. 392]. Последующее изложение призвано показать, что такая абстрактная характеристика состояний сна и бодрствования, как «периодичность», наполняется в языке конкретным смыслом, поскольку в языковом сознании указанные состояния закреплены за определенными периодами суток. Представительность материала этой группы (340 единиц) свидетельствует о разнообразии их содержания. «Для носителя русского языка утро – это когда человек просыпается после ночного сна… когда просыпаются окружающие люди (или природа), и вокруг возобновляется жизнь» [Шмелев 2002, с. 57]. Это высказывание А.Д. Шмелева может быть подтверждено данными ассоциативных словарей русского языка, которые свидетельствуют о существовании устойчивой ассоциативной связи между утренним периодом и пробуждением. Так, в ассоциативное поле слова утро входит целый ряд единиц из семантической группы «сон – пробуждение», в их числе: вставать (14 ответов), будильник (5 ответов), подъем (3), хочется спать (2), пробуждение (1), рано вставать (1) и некоторые др. [САН РЯ, с. 181–182]. В свою очередь слова утро, утром выступают в качестве типичной реакции на стимулы будильник (10 ответов), проснуться (соответственно 9 и 30 ответов), а также входят в группу ассоциатов к словам будить (3 и 5 ответов), поспать (3), проспать (1 и 2 ответа), подниматься (1 ответ) [РАС, кн. 6, с. 292]. Представление об утре как о начале нового цикла жизнедеятельности человека воплощено во внутренней форме диалектных единиц: зажить – ‘просыпаться утром, вставать’ (Арх.); заживанье – ‘по глаголу заживать’ [Даль, т. 1, с. 1443] и т.п. Вследствие устойчивой взаимосвязи между утром и возобновлением жизненной активности именно утро в обыденном представлении является началом новых суток. Так, Т.Д. Рихтерман отмечает, что в представлении 25 детей последовательность частей суток имеет одну постоянную точку отсчета – утро [Рихтерман 1991, с. 4]. Корреляция между пробуждением от ночного сна и ранним (утренним) временем суток фиксируется в семантике целого ряда языковых единиц. По диалектным данным, утро концептуализируется как ‘время, когда встают, просыпаются, приступают к работе’: встань – ‘время, когда крестьяне встают и отправляются на работу’ (Костром.); встава;´льная (ставальная) пора – ‘время пробуждения ото сна’ (Сиб.), ‘время, когда крестьяне встают и отправляются на работу’ (Арх., Олон., Новг., Иркут.); до;´встани – ‘ранним утром, досвету’ (Волог., Вост., Олон.); во встава;´нье – ‘утром, вставая с постели’ (Киров.) [СРНГ, вып. 5, с. 213; вып. 30, с. 29; вып. 5, с. 212, 213] и др. Способность вставать вовремя является важной характеристикой труженика, концептуализированной в значениях таких единиц, как вставальщик, вставальщица – ‘встанливый работник’; встанливый – ‘не сонный, не ленивый, рано встающий, трудящийся’ [Даль, т. 1, с. 660] и т.п. В соответствии со сформулированным в пословицах принципом – Встань кормит, невстань бесхлебит – позднее пробуждение оценивается негативно: повали;´ться – ‘проспать дольше обычного’ (Арх.) [СРНГ, вып. 27, с. 217]; постельничать – ‘валяться, нежиться долго по утрам в постели’ (Пск., Твер.) [Даль, т. 3, с. 897] и др. Однако чрезмерно раннее пробуждение также оценивается как отклонение от нормы: взбунтова;´ться – ‘проснуться не вовремя, очень рано’ (Пск.); сбузы;´каться – ‘1. Проснуться раньше обычного’ (Р. Урал.) [СРНГ, вып. 4, с. 244; вып. 36, с. 192]. Не менее детально в языке концептуализирован момент отхода ко сну, приуроченный к вечернему (ночному) периоду. Установленное языковым сознанием соответствие между указанным процессом и временем его осуществления отразилось в семантике единиц русского языка. С одной стороны, во внутренней форме единиц, описывающих ситуацию отхода ко сну, обнаруживаются отсылки к вечерне-ночному времени суток, например: на ночь – ‘перед тем, как ложиться спать’ (Кемер.) [СРНГ, вып. 36, с. 272]; свечери;´ться – ‘улечься спать’ [МАС, т. 2, с. 512] и т.п. В свою очередь глагол лечь в значении ‘лечь спать’ стал производящей базой для слов с временным значением: полё;´г – ‘время, когда ложатся спать’ (Сарат.); доля;´гова – ‘до вечера’ (Влад.); до ле;´гома – ‘до ночи’ (Костром.); лежа;´н-пору – ‘ночью, в полночь’ (Байкал.) [СРНГ, вып. 29, с. 54; вып. 8, с. 116; вып. 16, с. 314, 329] и т.п. Интересно, что по одной из версий этимологии слова ночь, предложенной Э.Х. Стертевантом, семантической базой для появления и.-е. значения ‘ночь’ выступило хетт. nekuz – отглагольное имя от гл. neku – ‘раздеваться, идти спать’, развившее значение ‘время сна, вечер’ [Трубачев, вып. 25, с. 177]. Нормативность ночного сна с позиций языкового сознания подтверждается, в частности, значением глагола ночевать: в ряду одноструктурных слов дневать, сутовать, вечеровать и т.п. только значение слова ночевать наряду с инвариантным компонентом ‘прожить, провести данный суточный отрезок’ содержит указание на то, как именно его до;´лжно провести – ‘проспать (спать) ночь где-либо; расположиться где-либо для сна’ [МАС, т. 2, с. 511]. 26 Итак, в традиционной (обыденной) картине мира прочно зафиксирован тот факт, что естественным состоянием человека ночью является сон: Куда ночь – туда и сон [Даль, т. 2, с. 1446]. Нарушение соответствия между ночным периодом и состоянием сна представляется для обыденного сознания столь существенным, что фиксируется в значении целого ряда единиц: неусы;´па – ‘человек, страдающий бессонницей’ (Волог.); куре;´пать – ‘4. Долго не засыпать ночью’ (Пск., Твер.); ночная па;´полза – ‘страдающий бессонницей, бродящий по ночам человек’ (Олон.); бессо;´нна кулига – ‘о ребенке, который плохо спит по ночам’; рябиновая ночь – ‘г) бессонная ночь’ (Арх.) [СРНГ, вып. 21, с. 198; вып. 16, с. 122; вып. 25, с. 206; вып. 16, с. 64; вып. 33, с. 35]. В этой связи интересно отметить, что вопреки ожиданиям самой частотной реакцией на стимул бодрствование является не день – период, для которого бодрствование норма, а ночь, по отношению к которой бодрствование составляет нарушение нормы [РАС, кн. 4, с. 176; кн. 6, с. 177]. Отдельного рассмотрения требуют единицы, выступающие в качестве наименований бессонницы. Определение данного явления в СУ представляется недостаточным: бессонница – ‘мучительное отсутствие сна, состояние, когда не спится’ [СУ, т. 1, с. 134]. Из двух коррелирующих компонентов значения (‘время суток’ – ‘состояние человека’) представлен только второй – ‘отсутствие сна’. Опора на имеющееся у носителя языка знание о закрепленности сна за ночным периодом времени помогает автоматически восстановить недостающий компонент дефиниции. Благодаря этому обстоятельству ее неполнота, на первый взгляд, неощутима. Интересно, что информация, упущенная авторами словарных статей, в силу ее очевидности для языкового сознания находит выражение во внутренней форме некоторых диалектных названий болезненного ночного бодрствования: изно;´чница (Пск., Твер.) [Даль, т. 2, с. 64; СРНГ, вып. 12, с. 160]; полуно;´чница, полуно;´шница (Свердл., Тюмен., Пск., Твер., Новг., Арх.) [СРНГ, вып. 29, с. 157] и т.п. Отмеченный недостаток типичен для дефиниций целого ряда единиц, которые описывают отклоняющееся от установленной нормы поведение человека ночью. Например, негативная коннотация, заложенная во внутренней форме глагола прошариться в значении ‘провести время без сна, не сомкнув глаз’ (Том.) [СРНГ, вып. 33, с. 45], получает свое объяснение только при восстановлении утраченного в дефиниции указания на ночное время. Наличие данного компонента подтверждается и иллюстративным материалом статьи: Приедут ночью, всю ночь прошарются, а утром с етими глазами опять на покос. Отмечаемая авторами словарей экспрессивность выражений глаз с глазом не было (не сошелся) – ‘не спать’, не смыкать глаз – ‘не засыпать даже на короткое время; совсем не спать’ [ФСРЛЯ, т. 2, с. 257] может быть обоснована лишь при соотнесении отмеченного бессонного состояния с ночным периодом, так как по отношению к другим суточным отрезкам бодрствование является для человека естественным состоянием. Описанные противоречия могут быть устранены путем выделения у слов сон, спать наряду с основным значением особого оттенка, фиксирующего свойственную языковому сознанию тенденцию соотносить данное состояние 27 прежде всего с ночным периодом: сон – ‘ночной сон’ и спать – ‘находиться в состоянии ночного сна’. Отметим, что в СУ словарная статья слова спать выстроена именно таким образом: ‘1. Находиться в состоянии сна. || То же о ночном сне’ [СУ, т. 4, с. 426]. По существу, авторы словарей, формулируя значения слов бессонница – ‘болезненное отсутствие сна’ [МАС, т. 1, с. 86]; обессо;´неть – ‘плохо спать’ (Моск., Азерб. ССР) [СРНГ, вып. 22, с. 26] и т.п., апеллируют именно к этим оттенкам значения, неэксплицированным в других толковых словарях. Состояние сна, конечно же, не является привилегией исключительно ночного отрезка суток. Другим суточным отрезком, по отношению к которому сон рассматривается как естественное состояние, являются сумерки. Объяснение этому кроется в переходном, пограничном характере данного временного отрезка: дневного света уже недостаточно для каких-либо занятий, а искусственный зажигать еще рано; трудовой день закончился, время вечерних увеселений еще не наступило – остается спать, а точнее куня;´ть, то есть дремать: В сумерки куня;´ется (Южн., Зап.) [СРНГ, вып. 16, с. 95]. В качестве подтверждения к сделанному выводу приведем статью из словаря В.И. Даля, посвященную слову суте;´мничать – ‘спать перед вечером в сутемки’ (то есть в вечерние сумерки. – С.Ц.): А лягте, девки, посу;´теменичайте до вечеринкито (Сев.) [Даль, т. 4, с. 647]. О сохранении данного представления в сельской местности на протяжении XX в. свидетельствуют зафиксированные в «Словаре русских народных говоров» формы этого же слова: посуме;´рить – ‘поспать в сумерки’ (Волог., 1905) и посу;´мерничать – ‘поспать в сумерки’ (Костром., 1975): Сумерки, перед этим-то временем посумерничать надо… они сумерничают, поспят, потом телевизор смотрят [СРНГ, вып. 30, с. 251]. Состояние бодрствования в традиционном сознании связывается прежде всего с дневным периодом, который воспринимается как время наивысшей активности человека, наполненное разнообразной деятельностью. Однако анализ языковых единиц вносит коррективы в подобное представление: в светлую часть суток происходит чередование периодов бодрствования и сна. Для мира животных и птиц наряду с ночным отдыхом и сном – ночёвкой выделяется время днёвки – ‘дневного отдыха и сна’ [МАС, т. 2, с. 512; т. 1, с. 406]. В.Б. Гольдберг, сопоставляя английские и русские литературные единицы, входящие в лексико-семантическое поле «сна – бодрствования», утверждает, что значение английского словосочетания have / take a nap – ‘недолгий сон в дневное время’ не представлено отдельной лексемой в русском языке [Гольдберг 1980, с. 75]. Однако привлечение материала всего национального русского языка опровергает это утверждение. Традиция отдыхать, спать в дневное время (особенно после обеда) фиксируется с помощью целого ряда диалектных единиц русского языка, например: опочи;´вок – ‘отдых, послеобеденный сон’ (Смол.); разднева;´mь – ‘отдыхать днем’ (Твер.) [СРНГ, вып. 23, с. 286; вып. 33, с. 328]; отдыха;´ть – ‘спать, особенно днем после обеда’; полудё;´нничать – ‘спать, отдыхать, по обычаю, после обеда’ [Даль, т. 22, с. 1874; т. 3, с. 678]; одре;´фить – ‘ослабеть от излишнего сна во время дневного жара’ (Твер.) [СРНГ, вып. 23, с. 64]. 28 Обычай отдыхать днем уходит в далекую древность: по преданию, разоблачение москвичами одного из самозванцев было ускорено тем обстоятельством, что он не спал после обеда [Белов 2000, с. 184]. Сон днем не был обязателен, но, как отмечает В. Белов, «в большинстве семей работники не отказывались от короткого послеобеденного сна, возвращающего силы и бодрость» [Там же]. Любопытно, что хранимое в языке представление о желательности дневного сна (отдыха) имеет научное обоснование: в соответствии с природными биоритмами взрослому человеку требуются 1–2 периода дневного сна, о чем свидетельствуют приступы дневной сонливости, рассеянности и расслабленности. В жаркие летние дни, когда палящее солнце лишает возможности работать в поле, дневной сон становился необходимостью. Возможно, этим обстоятельством объясняется отсутствие в числе приведенных примеров единиц, бытующих на северных территориях, где лето редко бывает знойным. В заключение отметим ту деталь, что если по данным диалектных единиц послеобеденный отдых после работы предстает как факт естественной жизни, то в значении соответствующей им единицы литературного языка дневной сон (отдых) представлен как принудительно-дисциплинарная мера: мертвый час – ‘время отдыха после обеда (в больницах, санаториях)’ [СУ, т. 2, с. 189]. Питание. Данная группа включает 224 единицы, анализ которых позволяет представить разные схемы распределения приемов пищи в зависимости от принадлежности слов и устойчивых сочетаний литературному или диалектному языку. На основе анализа семантики литературных единиц можно воссоздать предельно простую схему распределения приемов пищи в течение суток, в соответствии с которой выделяются: 1) утренний прием пищи: компоненты этой ситуации представлены в значении таких слов, как завтрак – ‘утренняя еда’ и ‘|| пища, предназначенная для утренней еды’; завтракать – ‘есть завтрак’ [МАС, т. 1, с. 505] и в производных от этого глагола словах: отзавтракать, позавтракать и т.д.; 2) дневные приемы пищи: обед – ‘основное принятие пищи, обычно приуроченное к середине дня’, ‘|| пища, кушания, приготовленные для такой цели’, ‘|| перерыв в работе, на время такого принятия пищи’; обеденный – ‘предназначенный, служащий для обеда’ [МАС, т. 2, с. 525]; обедать, обедывать – ‘есть за обедом, в урочную пору среди дня’ [Даль, т. 2, с. 1638]; адмиральский час – ‘время выпить и закусить (от времен Петра I, когда заседания в адмиралтейств-коллегии заканчивались в 11 часов утра, и наступало время обеда)’ [СУ, т. 4, с. 1237]; полдник – ‘принятие пищи между завтраком и обедом или между обедом и ужином’ [МАС, т. 3, с. 256]; ‘легкая еда между обедом и ужином, а также время такого приема пищи’ [Вялкина 1975б, с. 36] и др. 3) вечерний прием пищи: ужин – ‘вечерняя еда, последний прием пищи перед сном’, ‘пища, предназначенная для вечерней еды’; ужинный – ‘разг. предназначенный для ужина’; ужинать – ‘есть вечером’ [МАС, т. 4, с. 474]; отужинать, проужинать и т.д. Картина распределения приемов пищи в течение суток, запечатленная в семантике диалектных единиц, организована более сложно за счет нескольких 29 обстоятельств. Во-первых, помимо основных приемов пищи, которые в целом соответствуют описанным на материале литературных единиц, схема суточного принятия пищи в диалектах предполагает выделение нескольких промежуточных, например: перехва;´ток – ‘5. Еда между основными приемами пищи’ (Влад., Волог., Костром., Сев.-Двин., Новг., Петрогр., Пск., Калин.) [СРНГ, вып. 26, с. 258]. Во-вторых, число приемов пищи, их распределение в течение суток варьируются в зависимости от географических и сезонных характеристик, которые влияют на продолжительность рабочего дня. Таким образом, описываемая диалектная модель суточных трапез объединяет в себе несколько подмоделей. Кроме того, в основу номинации различных суточных приемов пищи в разных диалектах положены одни и те же признаки, что порой, в силу неполноты или неточности дефиниций, затрудняет решение вопроса о том, с каким отрезком времени соотносится называемый диалектной единицей прием пищи. По данным «Словаря русских народных говоров», самый ранний прием пищи имеет следующие диалектные наименования: перехва;´тка – ‘6. || Еда до завтрака’ (Пск.), ‘6. Ранний завтрак’ (Пск., Твер., Калин., Петерб.); ры;´щик – ‘ранний завтрак’ (КАССР) [СРНГ, вып. 26, с. 259; вып. 35, с. 324]. Утренняя еда не должна чрезмерно обременить человека перед началом рабочего дня – «неосновательность» утреннего приема пищи подчеркивается внутренней формой таких слов, как переку;´ска – ‘2. || Завтрак’ (Пск., Твер., Костром.); зае;´дка – ‘3. Завтрак’; перехва;´тывать – ‘3. Завтракать’ (Пск., Твер., Смол., Костром., Петерб., Новг.) [СРНГ, вып. 26, с. 138; вып. 10, с. 75; вып. 26, с. 260]; подкуси;´ть – ‘позавтракать’ (Пск., Твер.) [Даль, т. 3, с. 461]; почайпить – ‘|| позавтракать’ [СРНГ, вып. 30, с. 371]. Этимологической основой литературного наименования утреннего приема пищи – завтрака – выступает признак ‘утро’. Этот же признак реализован во внутренней форме диалектного слова у;´тренничать – ‘завтракать рано утром, есть натощак’ [Даль, т. 4, с. 1100]. В этой связи интересно привести утверждение Л.В. Вялкиной о том, что «ни в одном современном славянском языке, кроме русского, слова, обозначающие утреннее принятие пищи, не связаны этимологически со значением ‘утро’» [Вялкина 1975б, с. 32]. Как отмечает исследователь, в ряде северо-восточных говоров за словом завтрак закрепилось значение ‘полудновать’, ‘есть полдник’ [Там же, с. 33]. Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет утверждать, что имеет место и обратное явление: в словаре под ред. Д.Н. Ушакова областные слова полдник и полдничать зафиксированы соответственно в значениях ‘завтрак, еда в полдень’ и ‘завтракать, закусывать в полдень’ [СУ, т. 3, с. 512]. Для ряда диалектных слов, значения которых связаны с ситуацией утреннего приема пищи, слова полдень, полдник выступают в качестве мотивирующей базы, например: дополу;´дник, дополу;´денки, допла;´дник, допола;´дни (Яросл.) [Даль, т. 1, с. 1170, 1168]; допла;´дни (Яросл.) [СРНГ, вып. 8, с. 127] в значении ‘завтрак’; допла;´дничать [Даль, т. 1, с. 1168]; поу;´дновать (Олон.) [СРНГ, вып. 3, с. 947] – ‘завтракать’. 30 Особого рассмотрения заслуживает уникальное наименование, в основе которого лежит признак ‘заря’: зоревать – ‘3. Ужинать или завтракать’ (Дон.) [СРНГ, вып. 11, с. 338]. Это слово интересно в том отношении, что в его значении ситуации утреннего и вечернего приема пищи рассмотрены как симметричные, связанные с одним и тем же природным явлением, повторяющимся в течение суток. На первый взгляд, аналогичным семантическим содержанием наделено диалектное слово размо;´вка – ‘легкий ужин или завтрак’ [СРНГ, вып. 34, с. 22], однако в данном случае в основе отождествления утреннего и вечернего приемов пищи лежит признак ‘насыщенность трапезы’, не имеющий отношения к осмыслению суточного хода времени. По утверждению Л.В. Вялкиной, в некоторых русских говорах слово обед имеет значение ‘первый прием пищи’ [Вялкина 1975б, с. 33, 35]. Однако это вовсе не означает упразднения завтрака: дело в том, что обед на некоторых территориях имеет место в значительно более раннее время по сравнению с традиционными представлениями. В.И. Даль поясняет эту ситуацию следующим образом: «В Архангельской, Олонецкой, Пермской и Новгородской губерниях крестьяне завтракают со светом, в девять часов обедают, в два часа паужинают, в восемь ужинают» [Даль, т. 3, с. 57]. В этой ситуации схема суточных трапез по существу не меняется, только время первого и второго приема пищи сдвигается на более ранние сроки. В ряде диалектов в схеме суточных трапез присутствует понятие «второй завтрак», которое реализуется в значении таких слов, как па;´обедье – ‘1. Второй завтрак’ (Новг., Олон., Твер.); до;´бедье – ‘закуска до обеда’ (Олон.) [СРНГ, вып. 25, с. 203; вып. 8, с. 73]; пабедок – ‘второй завтрак’ [Вялкина 1975б, с. 40]; полдник – ‘второй завтрак’ [Там же, с. 37] и др. Для обозначения еды в дневное время служат такие диалектные единицы, как полови;´ндень – ‘2. Обед в середине дня’; па;´вод – ‘обед’ (Новг.); объед – ‘обед’; посне;´дать – ‘|| пообедать’ (Твер.) [СРНГ, вып. 29, с. 89; вып. 25, с. 111; вып. 22, с. 274; вып. 30, с. 188]. Особо отметим слова по;´у;´жинать (Краснояр., Свердл.) и па;´вжнать (Арх., Костром.) в значении ‘обедать’ [СРНГ, вып. 25, с. 109]: в их семантике реализован исконный смысл рефлекса *jug- – ‘юг, полдень’ [Черных, т. 2, с. 285–286]. Центральное положение в диалектной системе суточного принятия пищи занимает обед, приуроченный к середине дня. Мысль о преимущественной значимости обеда среди суточных приемов пищи выражена в пословице Павжина – не важна, ужин – не нужен, дорог обед. В Вологодской области обеденный стол ласково называют божья благодать, божья ладонь – «садиться на него, хотя бы и по рассеянности ни под каким видом нельзя» [СРНГ, вып. 3, с. 45, 48]. В диалектах широко представлены наименования приема пищи, промежуточного между обедом и ужином: пообе;´дки – ‘еда по обеде’; полу;´дник, по;´ лдник – ‘у рабочих, крестьян в поле: закуска, еда между обеда и ужина; полудну;´ют, полу;´дничают, по;´лдничают в 12’; полу;´поводничать – закусывать после полдника, часа в четыре’ (Ниж.-Сем.); по;´лдничанье, полу;´дничанье, полу;´днование, полу;´дновка – ‘пища в полдень’; па;´ужин, па;´ужина, па;´ужна, па;´уженье, па;´уженки – ‘перекуска промеж обеда и ужина, 31 например за чаем’ [Даль, т. 3, с. 757, 679, 683, 57] и многие др. В.И. Даль указывает четкие временные границы па;´ужинной поры: в Архангельской, Олонецкой, Пермской и Новгородской губерниях па;´ужинают в два часа [Даль, т. 3, с. 57]. По данным «Словаря русских народных говоров», в Вологодской области время па;´вжны соответствует 3–4 часам дня, в Петербуржской области па;´лужнуют около 4-х часов дня [СРНГ, вып. 25, с. 109]. Признак ‘вечер’ лежит в основе внутренней формы нескольких глаголов, обозначающих процесс перекуски до ужина: навечеря;´ть, навечери;´ть, надвечо;´ркать – ‘поесть до ужина’ (Пск., Твер.); па;´вечерничать – ‘закусывать около заката солнца’ [Даль, т. 2, с. 1039; т. 3, с. 2]. Этот же признак является мотивирующим для диалектных единиц, связанных с обозначением основного приема пищи в вечернее время: вече;´ря – ‘ужин’ (Новг., Новорос.); вече;´рянье – ‘ужин’ (Новорос.); вечерять – ‘ужинать’ (Новг., Новорос., Ворон.); перевечо;´рки – ‘окончание ужина’ [Даль, т. 1, с. 463; т. 3, с. 92] и др. В словаре В.И. Даля фиксируется также две единицы с корнем -вечер-, означающие принятие пищи, совершаемое в еще более позднее время: повечо;´рки, мн. – ‘еда после ужина, второе вече;´(о;´)ркование’ (Пск., Твер.) и переве;´черки, мн. – ‘переужинанье’ (Пск., Твер.) [Даль, т. 3, с. 361, 92]. Веками установленная закрепленность процессов питания за одними и теми же суточными периодами привела к выработке особых систем ориентации в суточном ходе времени. Точками отсчета в этих системах выступает время принятия пищи. Так, у В.И. Даля: выть – ‘пора или час еды; у крестьян в рабочую пору 3, 4 или 5 вытей’ [Даль, т. 1, с. 790]. В «Словаре русских народных говоров» зафиксированы слова: е;´жка – ‘2. Время еды’ (Пск.); впря;´жка – ‘промежуток времени от завтрака до обеда или от обеда до ужина’; с выти до выти – ‘от еды до еды’ (Том.) [СРНГ, вып. 7, с. 327; вып. 5, с. 181; вып. 36, с. 6] и т.п. В книге В. Белова «Повседневная жизнь русского Севера» подчеркивается строгость соблюдения повытного питания: «Отменить обед или завтрак было никому не под силу. Даже во время бесхлебицы… семья соблюдала время между завтраком, обедом, паужной и ужином» [Белов 2000, с. 183]. О человеке, питающемся в соответствии с установленным распорядком, то есть повытно (Калин., Волог., Перм.), скажут: вытью ест (Волог.), держит выть (Том., Олон.) [СРНГ, вып. 27, с. 280; вып. 6, с. 44; вып. 8, с. 22]. Поскольку упорядоченность вытей связывалась с порядком, трудолюбием в целом, постольку определение вытный, помимо прямого значения ‘правильно питающийся человек’, приобрело расширительно позитивный смысл – ‘положительный, самостоятельный, требовательный’; ‘умный, деловой, старательный, добропорядочный’, ‘дельный, работящий’ [СРНГ, вып. 6, с. 40]. Человека, который не может выдержать до положенного времени приема пищи, таскает куски, то есть ест в неурочное время (Краснояр., Вост.-Казах.), окрестят кусо;´ вником (Пск., Твер.) [СРНГ, вып. 16, с. 158, 157], безвременьем, безвытным [Березович 2004, с. 11]. По наблюдению Е.Л. Березовича, однозначно отрицательное отношение к нарушению режима питания проявилось во внутренней логике развития пере32 носных значений у указанных слов: безвытный – ‘не соблюдающий очереди в еде’ → ‘неряшливый, не умеющий поддерживать порядок’ → ‘такой, который пакостничает, приносит вред’ или кусоломить – ‘есть на ходу’ → ‘хулиганить’. На этой основе исследователь делает любопытный вывод: «Нарушение порядка в еде становится важным сигналом асоциального поведения и рассматривается как вызов, который человек бросает обществу» [Там же]. Для ряда диалектных слов, называющих прием пищи, приуроченный к определенному времени суток, словари фиксируют также переносное значение – ‘соответствующий период времени’. В качестве показательного примера приведем слово едь, первоначально служившее для именования приема пищи, а позднее развившего на основе метонимического переноса значение ‘время еды’ (Арх.) [СРНГ, вып. 8, с. 325]. Такой же логике следовало развитие семантической структуры слов обед – ‘(1) обеденный стол, пища, блюда, выть’ → ‘(2) пора, время, когда обедают’ → ‘(3) полдень, полдни’; па;´обед, паобе;´дье – ‘(1) второй завтрак, полдник’ → ‘(2) время близко полудня’ (Новг., Олон., Твер.) [Даль, т. 2, с. 1639; т. 3, с. 32]; па;´вжна – ‘1. Еда между обедом и ужином’ (Волог., Сев.-Двин., Арх.) → ‘2. Время еды между обедом и ужином (обычно в 3–4 часа дня)’ (Волог.) [СРНГ, вып. 25, с. 109] и др. В литературном языке среди единиц, обозначающих прием пищи, временное значение отмечено у слов обед, разг. – ‘|| время приема пищи’ [МАС, т. 2, с. 525] и полдник – ‘время такого приема пищи’ [МАС, т. 3, с. 256]. Такие единицы, как завтрак, вечеря (церк.-книж. устар.) в значении ‘ужин’ [СУ, т. 1, с. 266], полови;´н день – ‘обед в середине дня’ (Иркут.) [СРНГ, вып. 29, с. 89] и т.п., не развив временного значения, хранят информацию об исконной связи обозначаемых ими приемов пищи с определенными суточными отрезками посредством внутренней формы. Труд – досуг. Статья Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелева «Время суток и виды деятельности» основана на мысли о том, что «языковое обозначение времени суток в значительной степени определяется деятельностью, которая его наполняет» [Зализняк, Шмелев 1997, с. 229]. На материале литературного языка исследователи восстанавливают соответствующий фрагмент языковой картины мира: «день заполнен деятельностью; утро начинает дневную деятельность, а вечер кончает; ночь – это как бы “провал”, перерыв в деятельности» [Там же]. Привлечение материала различных идиом национального русского языка (в нашей картотеке – 338 единиц) позволяет обогатить представление об организации человеческой деятельности в пределах суток. Сельские жители с момента пробуждения начинают утренева;´ти – ‘проводить раннее утро в деле, на ногах’ [Даль, т. 4, с. 1100]. В. Белов так описывает начало трудового дня в крестьянской семье: «Вторые петухи заставляли хозяек вставать и глядеть квашню, третьи – окончательно поднимали большуху на ноги» [Белов 2000, с. 181]. Хозяйка открывала трубу и затопляла печь, начинала дообе;´дничать – ‘стряпать, доспевать, хозяйничать утром, готовя обед и вообще ухаживая за домашним обиходом’ (Олон.) [Даль, т. 1, с. 1108; СРНГ, вып. 8, с. 73; вып. 24, с. 166]. «Пока пылает печь, мужчина успевает запрячь лошадь и съездить за сеном… Летом задолго до завтрака начинали косить, па33 хать паренину. <…> Плотники в светлое время также работали до завтрака» [Белов 2000, с. 182]. В литературном языке не представлены единицы, в значении которых была бы зафиксирована корреляция между действиями человека и утренним периодом. В наборе ассоциаций носителей литературного языка на стимул утро, утренний присутствуют единичные реакции, связанные с определенными трудовыми действиями или подготовкой к ним: бег (1), гимнастика (1), клев (1), макияж (1), осмотр (1) [РАС, кн. 3, с. 5, 181]; зарядка (2), пора в институт (1), прогулка (1), рыболовы (1) [САН РЯ, с. 182] и некоторые др. Однако ни для одного из указанных действий соотнесенность с утренним отрезком не является жестко детерминированной, а потому эта информация не фиксируется в концептуальном ядре значений соответствующих единиц, составляя их фоновое окружение. В семантике литературных единиц утренний период (равно как и вечерний) концептуализирован как время, посвященное досугу, развлечениям: утро, устар. – ‘концерт, представление и т.п. в утренние часы, до обеда’ [МАС, т. 4, с. 536]; матине, устар. – ‘в буржуазно-дворянской среде – утренний прием гостей’; ‘утренний спектакль’ [СУ, т. 2, с. 161]; утренник – ‘утреннее представление, утренний спектакль (преимущ. для детей)’ [МАС, т. 4, с. 536] и т.п. День представляет собой кульминацию трудовой деятельности: неслучайно количество рабочих часов в сутках называется рабочий день [Даль, т. 1, с. 1060; МАС, т. 1, с. 387], несмотря на то, что рабочее время может приходиться и на другие суточные отрезки: зарабо;´тка – ‘время работы в утреннюю смену’ (Моск.) [СРНГ, вып. 10, с. 376]; вечерник – ‘занимающийся, работающий в вечернюю смену’ [СУ, т. 1, с. 266]; ночник – ‘2. || Летчикспециалист по ночным полетам’ [МАС, т. 2, с. 512]. Для крестьянина будний день после завтрака красен трудом, делом. Ритм трудового процесса, перемежаемого приемами пищи и периодами отдыха, является основой членения дневного времени для сельского жителя, что запечатлено в семантике целого ряда единиц: опруг – ‘рабочее время от еды до еды’ (Новорос.); пряжка – ‘время работы без отдыха с утра до обеда или с обеда до конца рабочего дня’ (Калин., Сарат., Ряз., Тамб.); полпря;´жка – ‘работа в течение половины пряжки’ (Р. Урал); первая запря;´жка (Краснояр.), первая пряжка (Р. Урал) – ‘время работы на пашне до полудня’, ‘с утра до (раннего) обеда’ (Р. Урал.); вторая запряжка – ‘время работы на пашне после полудня’ (Яросл.) [СРНГ, вып. 23, с. 303; вып. 33, с. 83; вып. 29; с. 131; вып. 10, с. 363; вып. 33, с. 83; вып. 10, с. 363] и т.д. В словаре В.И. Даля одно из значений слова у;´повод – ‘время работы в один прием, от выти до выти, до еды и роздыху’ – включает следующие комментарии: «Зимний рабочий день делится на два уповода, летний на три, иногда на четыре. Первый уповод, от восхода и завтрака до обеда (8 или 9 часов)» [Даль, т. 4, с. 1041]. Как отмечает В. Белов, «дообеденный уповод (упряжка) раззадоривает и самых последних лентяев» [Белов 2000, с. 183]. Второй уповод длится от обеда до паужина (2–3 часа); третий до заката; или первый от восхода до завтрака; второй от завтрака до обеда; третий до паужины; четвертый до заката и ужина’ [Даль, т. 4, с. 1041]. 34 Вечернее время в зависимости от сезона могло быть посвящено как труду, так и досугу: «Летом перед ужином люди только идут с поля, зимой по вечерам даже старики уходили гулять на беседы» [Белов 2000, с. 184]. Однако в языке вечер концептуализируется преимущественно как период, посвященный отдыху, увеселениям. Так, виды трудовой деятельности, приуроченной к вечеру, нашли отражение в значениях единичных диалектных слов и выражений: вечё;´рка, обычно мн. – ‘5. Коллективная работа в помощь кому-либо при трепке льна, производимая вечерами’ (Перм.); вечеро;´вка – ‘2. Сверхурочная вечерняя работа’ (Урал.); росы вечерние – ‘косьба вечером’ (Калин.) [СРНГ, вып. 4, с. 214, 216; вып. 35, с. 182]. В семантике подавляющего большинства единиц денотативного класса <вечер>, представляющих рассматриваемую подгруппу, детально фиксируется ситуация вечерних гуляний. Представлено более сотни вариантов диалектных наименований вечерних увеселений, которые различаются в зависимости от места их проведения, ср.: доро;´жка – ‘вечернее собрание молодежи на улице для развлечений’ (Свердл.) и бесе;´да – ‘2. Вечернее собрание молодежи в доме’ (Твер., Калуж., Ленингр., Новгор., Волог., Арх., Олон., Енис.) [СРНГ, вып. 8, с. 135; вып. 2, с. 262]; от состава участников, например: отвечёрка – ‘молодежная вечеринка’ (Смол.); сида;´к – ‘1. Вечернее собрание стариков для совместного развлечения’ (Орл.) [СРНГ, вып. 24, с. 137; вып. 37, с. 279]; от способа совместного проведения вечернего времеи, напрмимер: сижа;´чая (сидя;´чая) вечеринка – ‘вечеринка, на которой проводили время без танцев, пляски’ (Мурман.); игри;´мая беседа – ‘посиделки с играми и танцами’ (Олон.); весёлая, в знач. сущ. – ‘вечеринка, на которую девушки приходят с работой’ (Волог.); прядовы;´е вечерки (Кемер.) [СРНГ, вып. 37, с. 299; вып. 12, с. 71; вып. 4, с. 181; вып. 33, с. 79]. Вспомним утверждение Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелева: «ночь – это как бы “провал”, перерыв в деятельности» [Зализняк, Шмелев 1997, с. 229]. Действительно, в языковом сознании ночь осмысляется в первую очередь как период, отведенный для сна, подготавливающего к дневной трудовой деятельности. Тем не менее как в диалектном, так и в литературном языке присутствует значительное количество единиц, в семантике которых закреплено представление о ночном труде, например: ночнина, ночевая – ‘ночной промысел’ (Сиб.?) [СРНГ, вып. 21, с. 298, 303]; ночник – ‘2. Тот, кто работает в ночное время’ [МАС, т. 2, с. 512]; засиживать ночи – ‘сидеть за работою после сумерек’ [Даль, т. 1, с. 1578]; дергу;´зить – ‘прясть ночью’ (Казан.) [СРНГ, вып. 8, с. 9] и некоторые др. К числу видов деятельности, для которых ночь выступает нормативным временем осуществления, относятся: пастьба лошадей: ночное [МАС, т. 2, с. 512; СУ, т. 2, с. 599]; ночлег (Яросл.) [СРНГ, вып. 21, с. 298]; ловля рыбы, раков: но;´чев (Сиб.) [СРНГ, вып. 21, с. 297]; луче;´нье (Арх., Волог., Влад., Калин., Пск., Смол., Перм., Урал., Новосиб., Енис.) [СРНГ, вып. 21, с. 297; вып. 17, с. 210]; дежурство, охрана: патруль – ‘ночной обход’ [Даль, т. 3, с. 57]; нощнича;´ть – ‘дежурить ночью’ (Урал.); пасту;´шить – ‘3. Стеречь, сторожить ночью’ (Костром., Свердл.); ночничать – ‘1. Приглядывать по просьбе родственников или соседей за домом в ночное 35 время’ (Влад.); изно- ча;´ться – ‘сидеть по ночам у постели больного’ (Твер., Пск.) [СРНГ, вып. 21, с. 307; вып. 25, с. 266; вып. 21, с. 303; вып. 12, с. 160] и др. Бодрствование в ночное время может быть связано с участием в таких ночных увеселениях, как ночна;´, ж. – ‘ночное летнее гуляние с играми, хороводами и песнями’ (Онеж. КАССР); ночной круг – ‘ночное игрище на улице’ (Арх.); нано;´чно, ср. – ‘ночная пирушка’ (Арх.) [СРНГ, вып. 21, с. 302, 304; вып. 20, с. 52] и т.п. Обрядовость. Данный фрагмент работы посвящен анализу группы слов и устойчивых сочетаний, связанных с церковной обрядовостью (74 единицы). Суточный круг богослужений, выделяемый наряду с недельным и годовым, является основным. В соответствии с этим церковные обряды вписаны в детально разработанную модель суточного времени. В ее основе лежит коррелятивный принцип, который проявляется следующим образом: согласно церковному уставу, каждое из девяти суточных богослужений совершается в строго определенное время. Установленные корреляции имеют свой смысл, свою историю, свою символику, все же вместе они духовно образуют единое целое, называемое суточным кругом. Обратимся к выяснению объема и характера информации о суточном круге богослужения, которая получила закрепление в языковых единицах исследуемого поля. Отголоски древней традиции начинать каждую новую часть суток молитвой сохраняются в значениях таких единиц, как утренева;´ти – ‘совершать утреннюю молитву’ [Даль, т. 4, с. 1100]; нача;´л – ‘2. Утренняя молитва у семейских старообрядцев’ (Прибайкал., 1925); кресты;´ – ‘4. Послеобеденная молитва с крестным знамением (шутл. – после ответа на вопрос: какое будет последнее кушание за обедом)’ [СРНГ, вып. 20, с. 278; вып. 15, с. 236]. Высшей молитвой издавна считалась молитва беспрестанная. В знак этого огонь на жертвеннике не должен был гаснуть никогда. В словаре В.И. Даля мы находим словосочетания, значения которых связаны с данным представлением: неусыпаемая обитель – ‘монастырь с непрерывною службой или молитвой, денно и нощно’; неугасимая лампада, свеча – ‘либо на всю ночь, либо содержащаяся за вклад день и ночь’ [Даль, т. 2, с. 1509, 1400]. В словарях зафиксированы единицы, обозначающие пять из девяти церковных суточных служб. Значение слова часы, принятое в церковной практике, приведено только в словаре В.И. Даля: часы – ‘первый, третий, шестой и девятый часы, от восхода солнца, в кои древние христиане сходились на молитву’ [Даль, т. 4, с. 1291]. Выделение названных временных отрезков основано на аналогии с евангельскими событиями, имевшими место в это же время суток: первый час посвящен вспоминанию о пребывании Иисуса Христа на суде, третий час соотносится с вынесением приговора Пилатом и сошествием Святого Духа на апостолов; шестой час соответствует времени распятия, девятый час – времени крестной смерти Христа. Этот специфический принцип членения суток осознается лишь в рамках религиозного сознания. Выделенные таким образом отрезки не могли быть «вписаны» в традиционную схему суточного членения, основанную на учете природных изменений, происходящих в 36 течение суток. Поэтому в обыденном языке закрепились названия лишь тех служб суточного цикла, которые соотносятся с суточными отрезками, традиционно выделяемыми русским языковым сознанием. Так, все анализируемые словари фиксируют слово вечерня в значении ‘церковная служба’. Однако корреляция между видом службы и временем ее осуществления эксплицирована только в толковании В.И. Даля: вече;´рня, или вече;´рни, мн. – ‘церковная служба, совершаемая повечеру’ [Даль, т. 1, с. 463]. В СУ дефиниция данного слова ограничивается указанием только родового признака (‘служба’): вечерня – ‘одна из церковных служб у православных христиан’ [СУ, т. 1, с. 266]. Определение слова вечерня, данное в МАС в виде ‘одна из церковных служб у христиан, совершаемая после полудня’ [МАС, т. 1, с. 159], также представляется неудачным, поскольку отчасти дезориентирует читателя: вечерня совершается около шести часов вечера, что значительно отстоит от полудня, к тому же одна из целей этой службы – благодарение Богу за уже прожитый, завершившийся день. Следующее за вечерней павечерие по сути представляет собой коллективную молитву на сон грядущий. Ср. с определением слова повече;´рие, которое дает В.И. Даль: ‘вечерняя церковная служба ко сну, обычно соединяется с вечернею’ [Даль, т. 3, с. 361]. В «Словаре русских народных говоров» зафиксировано слово па;´вечера в значении ‘вечернее богослужение’ (Твер. 1897 г.) [СРНГ, вып. 25, с. 109]. Дефиниция лексемы повече;´рие, представленная в словаре под ред. Д.Н. Ушакова, опять же характеризуется явной неполнотой: ‘одна из церковных служб у православных христиан’ [СУ, т. 3, с. 334]. Словарями фиксируется ряд диалектных однокоренных слов со значением ‘краткое вечернее богослужение’: па;´вечерня (1847 г.); павече;´рница (СА 1822 г., Сиб. 1968 г.) [Даль, т. 3, с. 2; СРНГ, вып. 25, с. 109]; па;´вечерня, па;´ вечерь (Сиб. 1968 г.) [СРНГ, вып. 25, с. 109]. Название службы, совершаемой в полночь, представлено только в словаре В.И. Даля и в «Словаре русских народных говоров»: полуно;´чница, полуно;´щница – ‘особая церковная служба в полночь, до утрени’ [Даль, т. 3, с. 682]; полу;´ночник – ‘7. Полуночная служба у старообрядцев, которая бывает в полночь накануне больших религиозных праздников’ (Лит. ССР, 1960) [СРНГ, вып. 29, с. 156]. Отсутствие в МАС единиц, обозначающих павечернюю и полуночную службу, отчасти может быть объяснено меньшей распространенностью этих служб в церковной практике: в соответствие с изменениями, внесенными современной богослужебной практикой в предписания Устава, в приходских храмах повечерье совершается только в Великом Посту, а полунощница – один раз в год, накануне Пасхи. Для службы, совершаемой перед восходом солнца, словари фиксируют несколько вариантов наименований: зау;´треня [Даль, т. 1, с. 1638; СУ, т. 1, с. 1062; МАС, т. 1, с. 589]; утреня [Даль, т. 4, с. 1100; СУ, т. 4, с. 1023; МАС, т. 4, с. 536]; у;´треняя [Даль, т. 4, с. 1100]; за;´втреня (Костр.) [Даль, т. 1, с. 1408; СРНГ, вып. 9, с. 342]; у;´тренница [Даль, т. 4, с. 1100]; поу;´тренница (Р. Урал.) [СРНГ, вып. 30, с. 336]. В словаре В.И. Даля представлены также два 37 слова, производных от названия утренней службы: зау;´тренник – ‘посетитель заутрени’ и зау;´тренний – ‘относящийся к заутрене’ [Даль, т. 1, с. 1638]. Кульминацией суточного богослужения является литургия, или обедня. Наименование обедня происходит от слова обhдъ в старшем значении ‘полуденная еда’ [Черных, т. 1, с. 584]. В соответствии с этим слово обедня определяется как ‘церковное богослужение (литургия) у христиан, совершаемая утром, до полуденной еды (обеда)’ [Там же]. В храмах, где много прихожан, по воскресеньям и праздникам служат две обедни: раннюю, именуемую рáнницей, и позднюю – поздáю, полýденницу [Даль, т. 3, с. 1589, 594, 678]. Отмечая наличие в языке таких выражений, как отстоять обедню, прослушать обедню, А. Мень связывает их появление с утратой христианским сознанием изначального смысла общественного священнодействия, совершающегося во время этой службы. Этот смысл выражен во внутренней форме греческого варианта ее наименования: литургия в переводе с греческого означает ‘общее дело’, ‘общественная служба’ [ПЦСС, т. 1, с. 284]. Все привлекаемые словари фиксируют также названия всенощной службы: всенощная [МАС, т. 1, с. 230; СУ, т. 1, с. 401]; всенощное бдение [СУ, т. 1, с. 98–99]; всенощница, все;´ночная [Даль, т. 1, с. 645]; всю;´ношная, всю;´ношня (Влад., 1905–1921. Сарат.); вся;´ношна (Новг., 1896. Арх., Яросл., Твер., Тамб., Тул., Ворон., Астрах., Перм.), овсе;´ношная (Задон., Ворон., 1914) [СРНГ, вып. 5, с. 222, 224; вып. 22, с. 302] и др. Однако сопоставление дефиниций, сопровождающих данные слова, вызывает недоумение. В дефиниции, приведенной в словаре В.И. Даля, всенощная служба соотносится с ночным периодом суток: всено;´чная – ‘церковная служба накануне праздников в ночи’ [Даль, т. 1, с. 645]. В других дефинициях указанная служба определяется как вечерняя: всенощная – ‘вечерняя церковная служба’ [МАС, т. 1, с. 230; СУ, т. 1, с. 401]; всенощное бдение – ‘церковная служба, совершаемая вечером’ [СУ, т. 1, с. 98–99]; ксю;´ншина – ‘вечерняя церковная служба’ (Пенз.) [СРНГ, вып. 15, с. 374]. Казалось бы, информация, хранящаяся во внутренней форме приведенных слов, свидетельствует о правильности соотнесения обозначаемой службы с ночным, а не вечерним периодом. Подтверждение этому содержится в «Полном церковно-славянском словаре» Г. Дьяченко: «Всенощное бдение – служба церковная, начинающаяся после захождения солнечного и всю ночь продолжающаяся, от чего и имеет свое название» [ПЦСС, т. 1, с. 103]. И лишь обращение к специальным источникам проясняет ситуацию: «Из ночных служб в канун Рождества и Пасхи родилось всенощное бдение, продолжавшееся до утра. В современной практике бдение… перенесено на вечер, объем его сокращен» (современные всенощные бдения длятся 2–4 часа на приходах и 3–6 часов в монастырях) [Мень 1991, с. 18]. Представляется, что для устранения отмеченного несоответствия необходимо включить в словарное определение всенощной (и синонимичных ему единиц) информацию как об устаревшем, так и об актуальном значении слова. В силу строго соблюдаемой временной закрепленности суточных служб удары колокола, оповещающего о начале службы, выступали в качестве своеобразных часов, воспринимались как знак наступления или окончания опреде38 ленного времени суток, как указание на начало или завершение той или иной деятельности. Например, колокольный звон перед заутреней являлся сигналом к пробуждению, что зафиксировано посредством соотношения внутренней формы и значения слов побу;´дная – ‘колокольный звон перед заутреней’ (Костром. 1852) [Даль, т. 3, с. 350; СРНГ, вып. 27, с. 208]; напробу;´д – ‘о первом ударе колокола, звонящего к заутрене’ (Вят.) [СРНГ, вып. 20, с. 100]. Приведем также зафиксированное в словаре выражение как колокол ударит (выйти из дому, отправиться в путь) – ‘очень рано, с утренним благовестом’ (Олон., 1885– 1898) [СРНГ, вып. 14, с. 163]. Ситуации обеденного и вечернего звона концептуализированы в значениях таких диалектных единиц, как ка;´льгать – ‘звонить к обедне’ (Новг., Даль, Сл. Акад. 1906–1907) и звя;´кнуть к вечерне – ‘зазвонить к вечерне’ (Дон., 1911–1912) [СРНГ, вып. 13, с. 7; вып. 11, с. 226]. Приведем показательные примеры из художественной литературы: Дрема и тишина ползут из чащи. Скоро доползут и до собора, служка ударит в колокол, и день закончится (Шмелев), …зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел (Чехов). Как отмечает М.М. Покровский, во временном значении могут быть употреблены такие слова, как Евангелие, Апостол, поскольку чтение этих священных книг происходит во время строго определенного момента обедни, например: Я вышел из церкви до Апостола, я пришел к Евангелию [Покровский 1959, с. 43]. В заключение отметим, что содержащиеся в словарях сведения о территории и времени распространения анализируемых слов свидетельствует о том, что большая их часть входит в пассивный фонд лексики. Однако представляется, что в связи с активным возрождением православной веры в нашей стране, со стремлением реанимировать религиозную составляющую общественного сознания происходит актуализация той информации, которая хранится в проанализированных единицах, а следовательно, необходимо пересмотреть объем и способ подачи сведений, включаемых современными лингвистическими словарями в дефиниции рассмотренной группы единиц. Исследуемое кумулятивное поле представляет собой непрерывное информационное пространство, концентрирующее национально значимую информацию о суточном круге времени. Задача исследования заключалась в выявлении объема информации, вносимого в общенациональный фонд литературной и диалектной подсистемами, а также в сопоставительном описании характеристик суточных отрезков, значимых для сознания носителей русского литературного языка и диалектов. Был установлен набор из семи признаков, в соответствии с которыми членится суточный круг и оцениваются выделенные суточные отрезки. В семантике единиц поля закрепились представления о тех объектах действительности, которые воспринимаются в неразрывной связи (корреляции) с определенным суточным периодом и потому выступают в качестве основы при ориентации человека в суточном ходе времени. В число этих объектов включены циклические природные явления, некоторые артефакты, а также регулярно чередующиеся в течение суток состояния и виды деятельности человека. Результаты проведенного исследования позволяют, с одной стороны, подтвердить, что литературная и диалектная форма русского языка репрезентиру39 ют единую общенациональную картину мира, так как выявленные направления концептуалиации объекта «суточный цикл» совпадают в рамках обеих подсистем. С другой стороны, результаты сопоставления количества единиц и качественного разнообразия тех вариантов, в которых реализуются общие направления концептуализации, убедительно свидетельствуют о том, что в диалектной подсистеме представлен более дифференцированный образ суточного времени. 40 1.2. Динамика освоения мира природы диалектным языковым сознанием (на материале архангельских говоров XIX–XXI веков) Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: проект № 08–04–18033е «Динамика освоения сферы «человек – природа» диалектным языковым сознанием (на материале архангельских говоров XIX–XXI веков)» Как показывают наблюдения, процесс познания мира природы диалектоносителями может быть адекватно представлен только в его становлении (утратах и пополнениях), то есть в его развитии в тех хронологических пределах, достоверность которых менее всего вызывает сомнения благодаря фиксированию языковых фактов в словарях и картотеках. Поэтому считаем, что сопоставительный анализ диалектного материала, извлеченного из лексикографических источников и картотек XIX–XX вв., и материала, записанного в XXI в. в ходе экспедиционных исследований архангельских говоров, позволит проследить развитие семантического пространства «человек – природа» в северных говорах, выявить области расхождения между тем запасом сведений о природных объектах и явлениях, который зафиксирован в значениях словарных единиц, и тем объемом информации, которая актуальна для современных носителей архангельских говоров. Рассмотрение материала исследования в аспекте его исторического формирования определяется вниманием к кумулятивной функции языка и соответствует антропоцентрической парадигме лингвистических исследований. Антропоцентрический принцип изучения языковых единиц является одним из ведущих в современной лингвистике. Наиболее последовательно он реализуется в различных направлениях когнитивных исследований семантики. К ним относятся: изучение грамматической семантики [Арутюнова 1976; Бондарко 1978; Золотова 1998; Булыгина, Шмелев 1997; Шмелев 2002]; исследование дискурсивных и текстовых данных [Кибрик 1994; Арутюнова 1999]; описание семантических типов предикатов [Степанов 1981; Камалова 1998; Циммерлинг 1999]; выявление и разработка как отдельных концептов [Чернейко, Долинский 1996; Пименова 1999; Вежбицкая 2001; Воркачев 2001; Шмелев 2002; Ашхарава 2002; Урысон 2003], так и различных совокупностей семантических единиц [Яковлева 1994; Кравченко 1996; Симашко 1998] и др. В самом общем виде задачи разных лингвокогнитивных исследований сводятся к определению роли языка «в получении, обработке, фиксации, хранении, организации, накоплении, использовании и росте информации о мире» [Камалова 1998, с. 68]. С точки зрения подавляющего большинства когнитивистов цель таких исследований – выделение и описание отдельных фрагментов языковой картины мира (Ю.Д. Апресян, Т.И. Вендина, К.И. Демидова, О.А. Корнилов, Е.С. Кубрякова, С.Е. Никитина, М.В. Пименова, Е.В. Урысон, С.В. Хлыбова, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева и многие др.). На материале словарей литературного языка и произведений литературы реконструкция фрагментов картины мира осуществляется путем применения раз41 ных конкретных методик, однако в разработке актуальной проблемы особенностей концептуализации окружающей действительности в диалектном языковом сознании сделаны лишь первые шаги. Представляется необходимым подчеркнуть, что сама идея отражения в диалектном языке уклада жизни и мироощущения сельских жителей не нова. Так, еще в 1914 г. А.А. Чарушин начинает свой очерк «Народный языкъ» следующим рассуждением: «Внутренній обликъ крестьянина сложился подъ вліяніемъ трудовой, чисто практической обстановки всего домашняго быта. Придавая своеобразный отпечатокъ духовному міру крестьянина, эта обстановка отражается и на самомъ языкѣ народномъ» [Чарушинъ 1914, с. 3]. Несмотря на это до конца XX в. приоритетными для русской диалектологии оставались несколько задач: 1) лингвогеографическое описание русских говоров – как в целом, так и отдельных местностей; для решения этой задачи 21 января 1904 г. была учреждена Комиссия по составлению диалектологической карты русского языка, самым значительным достижением деятельности которой стал «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии», составленный и опубликованный в 1915 г. Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаковым, Н.Н. Соколовым. Однако и сегодня работу по диалектному членению русского языка нельзя признать полностью завершенной: многие вопросы лингвистической географии разными исследователями трактуются неодинаково. Это относится прежде всего к определению предмета картографирования, способов картографирования; спорным остается понятие диалект, а также способы выделения диалекта и др. Подробнее см.: [Аванесов 1949; Захарова, Орлова 2004; Пшеничнова 2008 и др.]; 2) изучение, систематизация, описание диалектных единиц всех языковых уровней; при этом фонетические и морфологические особенности говоров активно описываются начиная с XIX в., в то время как диалектный синтаксис и лексика долгое время остаются на периферии научных интересов, что не раз отмечалось в различных публикациях: «…справедливо утверждение о том, что диалектная лексикология вплоть до 30-х годов XX века развивалась сравнительно слабо, была по существу в зачаточном состоянии. <…> Русские диалектологи традиционно сосредоточивали свое основное внимание на изучении фонетики и морфологии; наблюдения по лексике ограничивались большей частью собиранием материалов и исследованиями этимологии, а иногда и истории отдельных диалектных слов (или небольших групп слов). Чаще же всего диалектные слова привлекались в исследования в качестве примеров, иллюстрирующих проявления фонетических и морфологических закономерностей» [Сороколетов 1978, с. 4–5]; см. также: [Аванесов 1949; Кузнецов 1949 и др.]; 3) этимологическое описание лексики русских говоров и связанная с этим задача определения степени иноязычного влияния на формирование и состав диалектного словаря; эта задача успешно решается в исследованиях: [Варбот 2000, Горячева 1986, Кожеватова 1997, Матвеев 1997, Мызников 2003 и др.]. В настоящее время внимание все большего числа диалектологов привлекает проблема отражения окружающего мира диалектным языковым сознанием. 42 Отмечается насущная необходимость описания современных говоров как «хранителей своеобразия национально-языковых картин мира», фиксирующих крестьянское видение и понимание действительности [Гольдин 1997, с. 3]. Справедливо подчеркивается, что «говор… способен в полной мере аккумулировать и экстраполировать в вербальном коде выработанную сотнями поколений членов крестьянской общины картину мира» [Серебренникова 2005, с. 9]. Более исследованной в указанном направлении является этнографическая лексика, анализ и описание которой осуществляется, как правило, с точки зрения семантических и словообразовательных моделей и принципов наименования реалий [Чернетских 2000; Журавская 2002; Демидова 2003; Ростов 2006]. Немногие работы последних лет посвящены изучению особенностей фрагментации внеязыкового универсума диалектным языковым сознанием на основе анализа как отдельных концептов, так и разных лексико-фразеологических совокупностей [Вендина 2002; Демидова 2003; Смолякова 2006; Яговцева 2006]. Активизируются исследования, направленные на изучение структуры диалектной языковой личности [Никитина 1993; Пауфошима 1989; Лютикова 2000; Ростова 2000; Иванцова 2002; Нефедова 2003; Волкова 2004 и др.]. На наш взгляд, особый интерес представляет проблема динамики освоения окружающего мира диалектным языковым сознанием, остающаяся практически неисследованной. Своевременность и актуальность изучения диалектной лексики в указанном аспекте несомненны, поскольку под влиянием различных факторов социального развития (всеобщая грамотность, миграция населения, постоянные контакты с городом, исчезновение населенных пунктов, переселение и физическое уничтожение носителей диалекта в истории нашей страны) происходят существенные изменения русских народных говоров, несомненна их внутренняя эволюция, результаты которой не ясны. Диалектологи достаточно давно обратили внимание на необходимость изучения динамики говоров на разных уровнях. Одним из первых о проблеме сохранности русских говоров писал А.А. Чарушин: «...въ наше время происходитъ уже процессъ выравниванія, сглаживанія всѣхъ этихъ вѣками развивавшихся особенностей народнаго языка… Теряется чистота мѣстныхъ говоровъ, въ нихъ внедряются чуждые элементы; литературная рѣчь также прививается въ разныхъ концахъ страны…» [Чарушинъ 1914, с. 10]. Однако, по справедливому замечанию П.С. Кузнецова, долгое время исследователи «…наблюдали лишь традиционный слой говора и не ставили перед собой вопроса о развитии русских диалектов… о качественных сдвигах в них, обусловленных коренным переустройством русской деревни» [Кузнецов 1949, с. 3]. В научной литературе конца XX в. обсуждаются результаты эволюции русских народных говоров. По мнению ряда лингвистов, для современной языковой ситуации характерно сближение сельских говоров с городским просторечием, выполнение диалектами функций сельского просторечия [Колесов 1995, с. 17], появление полудиалектной речи как переходного состояния от архаических говоров к литературному языку [Герд 2000, с. 47]. Другие лингвисты придерживаются более радикальной точки зрения: «современные говоры в тради43 ционном понимании разрушены» [Попов 1984, с. 121], русские диалекты «как цельные речевые единицы со своей особой системной организацией… теперь уже почти не существуют» [Филин 1980, с. 140]. Высказывается и противоположное мнение: «...русские диалекты проявили большую устойчивость и сохраняются как нормально функционирующие системы» [Калнынь 1997, с. 120]. Это объясняется наличием «психолингвистических факторов, сдерживающих наступление литературного языка на говоры» [Коготкова 1979, с. 8], а также причинами социолингвистического характера: говоры как нельзя лучше «приспособлены к функционированию в коммуникативной среде традиционного русского деревенского общения», поэтому «диалектами… продолжает пользоваться значительное количество русскоязычных говорящих» [Гольдин 1997, с. 4]. Однако больший интерес, на наш взгляд, представляют более дифференцированные подходы к обсуждаемой проблеме, основанные на учете следующих групп факторов: 1) экономическое и культурно-историческое развитие территорий распространения русских говоров; 2) степень устойчивости к разрушению разных уровней диалектного языка; 3) социальная стратификация населения русской деревни. Как известно, интенсивность процессов разрушения русских говоров на разных территориях их распространения неодинакова: особенно активно их «размывание» протекает в тех районах, которые имеют тесные экономические и историкокультурные связи с административными, экономическими и культурными центрами. Это говоры центральных и южных районов нашей страны, расположенные на исконных для носителей русского языка землях. По мнению большинства диалектологов, говоры названных территорий в настоящее время не обладают структурной целостностью. Вместе с тем имеются такие районы, на территориях которых разрушение диалектных черт происходит значительно медленнее: «...в ряде мест на севере и востоке нашей страны до сих пор бытуют народные говоры, достаточно устойчиво сохраняющие… структурную целостность, внутреннюю соотносительность языковых элементов» [Яговцева 2006, с. 39]. При этом архангельские говоры характеризуют как «совершенно уникальные языковые явления, хорошо сохранившие… древнейшие диалектные черты» [Кобелева 1988, с. 6]. С другой стороны, лингвисты отмечают неодинаковую степень устойчивости единиц разных уровней диалектного языка; мнения по этому вопросу не совпадают. Изучение архангельских говоров, расположенных по берегам р. Пинеги и р. Верхней Тоймы, приводит П.С. Кузнецова к убеждению, что «звуковой и грамматический (в особенности морфологический) строй на протяжении весьма длительного времени обладает достаточной устойчивостью» [Кузнецов 1949, с. 9]. Другие исследователи выдвигают мнение о меньшей устойчивости именно фонетических и морфологических норм. В. Мансикка указывает, что в первую очередь влияние литературного языка заметно в фонетике и морфологии, в то время как словарь более устойчив [Мансикка 1912, с. 89]. По наблюдениям О.А. Яговцевой, «относительную устойчивость демонстрирует лексико-фразеологический 44 уровень говоров, что объясняется его теснейшей связью с народной культурой и ментальностью» [Яговцева 2006, с. 45]. Кроме того, сохранность говоров определяется возрастными и гендерными характеристиками их носителей, а также их образованностью. В оценке этих факторов диалектологи единодушны: «чистый народный языкъ… можно встрѣтить сейчас въ устахъ стариковъ; женщины, какъ домосѣдки по преимуществу, также придерживаются своей родной рѣчи; молодежь же… старается приблизиться къ “образованной” рѣчи» [Чарушинъ 1914, с. 11]; «часто в деревняхъ старики цокаютъ, а молодежь нѣтъ, или цокаютъ только бабы, какъ болѣе консервативная часть насѣленія» [Дурново 1914, с. 13]; «процесс разрушения старой системы говора в большей части захватывает мужское население… у женщин прочнее и отчетливее сохраняются языковые черты, характеризующие старую систему говора. Достаточно ярки эти черты и у детей, остающихся дома, с женщинами… Впрочем… говор женской молодежи уже значительно приближается к мужскому… молодые женщины уже в большинстве грамотны» [Кузнецов 1949, с. 10]. Думается, однако, что особенности современной языковой ситуации требуют учитывать не только перечисленные социолингвистические факторы, но и ряд дополнительных. Это серьезный малоизученный вопрос, требующий отдельного исследования. Поэтому в настоящей работе поделимся лишь некоторыми наблюдениями, имевшими место во время диалектологических экспедиций в населенные пункты Архангельской области в период с 2000 по 2008 гг. В процессе работы с информантами неоднократно приходилось убеждаться: длительное проживание диалектоносителя совместно с родственниками старших поколений способствует сохранности в его речи фонетических, морфологических, синтаксических особенностей говора, а также предопределяет активное использование диалектных слов. Высказанное мнение подтверждается наличием среди опрошенных сельских жителей 1960-х гг. рождения, оказавшихся ценными информантами еще и благодаря психобиологическим особенностям (хорошая память): Обросков В.А., 1965 г.р., д. Целегора Мезенского рна Архангельской обл., образование средне-специальное техническое (до 16 лет воспитывался бабушкой, до сих пор живет со своей мамой, Обросковой Ф.Я., 1929 г.р.); Океанов С.А., 1964 г.р., д. Красная горка (на карте – д. Данковская) Шенкурского р-на Архангельской обл., образование средне-специальное техническое (до 17 лет воспитывался своей прабабушкой, о которой сохранил самые теплые воспоминания) и др. И наоборот: нередко встречались «идеальные» по всем социолингвистическим характеристикам диалектоносители (неграмотные одинокие женщины старше 80 лет, никуда не выезжавшие дальше районного центра, а иногда и соседних деревень), которые не помнят и не употребляют местных слов и выражений. Речь таких информантов практически лишена диалектных особенностей; они не способны рассказать о местных обычаях, деревенских праздниках и т.п. Сами информанты объясняют это, как правило, тем, что рано потеряли родителей, надо было растить младших братьев и сестер, или рано появились собственные дети; 45 приходилось много работать, нередко – вдали от дома, на сено- или лесозаготовках, не было ни сил, ни времени, ни желания перенимать опыт старшего поколения. Такие информанты – иллюстрация того, как рвутся связи поколений, уходит в небытие богатейшая народная культура Русского Севера. Другой дополнительный фактор, который приходится учитывать, – личная жизненная позиция носителя говора. Более ценными информантами неизменно оказываются те из них, кто характеризуется ярко выраженной привязанностью к родной деревне, стремится следовать традиционному укладу семейного и общественного быта, ориентирован на сохранение народных обрядов, обычаев, этико-эстетических и морально-нравственных ценностей. Такие «хранители древностей», независимо от их возраста и наличия образования, не только прекрасно помнят и охотно используют диалектную лексику в собственной речи, но и нередко составляют словарики местных слов и выражений. Так, при обследовании говора с. Пурнема Онежского р-на Архангельской обл. источником бесценной информации оказалась супружеская пара, учителя местной школы – Ипатовы Николай Иванович (1946 г.р.) и Вера Петровна (1944 г.р.) – люди, искренне заинтересованные в сохранении и передаче традиционной культуры Поморского Севера. Таким образом, сохранность говора определяется факторами как лингвистическими (разная степень устойчивости к разрушению единиц разных уровней диалектного языка), так и экстралингвистическими (экономическое и культурно-историческое развитие населенных пунктов, на территории которых бытует говор, степень их удаленности от административных центров и дорог федерального значения; социолингвистические и личностные характеристики носителей говора). В последние годы предпринимаются единичные исследования с целью установить сохранность диалектного словарного фонда. Интересное наблюдение отражено в статье А.С. Герда: «...не раз, проверяя словники старых словарей Г. Куликовского, А. Подвысоцкого, многих чисто диалектных слов мы уже не услышали, что само по себе свидетельствует о временнóй неустойчивости многих диалектных, в особенности непредметных слов» [Герд 2004, с. 47]. Сопоставительное изучение тверских суффиксальных субстантивов со значением лица периода XIX в. и современного периода приводит другого исследователя к выводу о сокращении количества этих производных наименований на современном этапе за счет снижения продуктивности словообразовательных типов [Щербакова 2006, с. 6]. Имеющиеся немногочисленные исследования позволяют судить о некоторых закономерностях происходящих изменений, однако требуются все новые и новые факты, почерпнутые путем непосредственного наблюдения над живой народной речью для всестороннего описания этой динамики, особенно в сфере чрезвычайно обширного и пока еще недостаточно изученного словарного состава. Вместе с тем думается, что главным в решении этой задачи является сегодня не только накопление новых материалов, но и поиск новых методов и подходов к ее исследованию. 46 Изложенные выше размышления свидетельствуют, что современные русские народные говоры представляют собой сложное динамическое образование, а характер их изменений в отечественной науке однозначно не определен. Каждое десятилетие существенно меняет языковую ситуацию, и многое, к сожалению, безвозвратно утрачивается. В связи с этим безусловная актуальность предпринятого исследования связана с необходимостью описать современное состояние территориальных диалектов, определить степень их сохранности, динамику и направление их развития. Методологической основой настоящего исследования служит концепция систематизации и описания семантических единиц на основе понятия «денотативный класс», предложенная профессором Т.В. Симашко [Симашко 1999]. Изучение денотативного класса позволяет эксплицировать тот запас знаний человека об определенных объектах природы, который получил объективацию средствами языка. В денотативный класс включаются разнообразные по структуре и семантике языковые единицы. В каждой из них отражаются в различных комбинациях увиденные и оцененные человеком отдельные свойства природного явления, закрепляются разные способы приспособления к данному объекту или способы борьбы с ним. Так, например, денотативный класс <дождь> содержит разнообразные наименования дождя (бус, бýсенец – ‘мелкий дождь’; веснá – ‘первый весенний дождь’; грибник – ‘теплый дождь, после которого начинают расти грибы’; Ивáновские (ивáньские, ивáнские) дожди – ‘дождь, идущий 7 июля, в день Рождества Иоанна Крестителя (Ивана Купалы)’). Кроме того, в данный денотативный класс включены единицы, обозначающие дождевые тучи различной формы (волосáн, бýка, бурачóк); сено, испорченное дождем (верхотúна, вершéнье); деревянный желоб на крыше дома для стока воды (водопýсок, потóк); а также устойчивые выражения, приметы, заклички (об очень сильном дожде говорят: жёлоб не дёржит; закликают радугу: Рáдуга-дугá, не давáй Бог дожжá, дай Бог сóлнышка, высокóлнышка; примечают: Ивáнски дожжú золоты, Петрóвски дожжú серéбряны). Обобщение разнообразных сведений об объекте приводит к моделированию совокупного знания о нем. Изложенная концепция денотативного описания языковой семантики послужила основой разработки методики, по которой собирался, а затем анализировался материал исследования. На первом этапе диалектный материал, снабженный географическими пометами «арх.», «помор.», «северн.», «беломор.», «шенк.», «мез.», «леш.», «онеж.», «холм.» и др., извлекался из источников различного характера: словарей XIX– XX вв., картотек, монографических исследований лексической системы архангельских говоров: 1) Опыт областного великорусского словаря / под ред. А.Х. Востокова [Опыт], а также Дополнения к нему [Доп.]; 2) Словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении А.О. Подвысоцкого [Подвысоцкий]; 3) Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля [Даль]; 4) Грандилевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор [Грандилевский]; 5) Архангельский областной словарь / под ред. О.Г. Гецовой [АОС]; 6) Словарь русских народных говоров [СРНГ]; 7) Словарь поморских речений К.П. Гемп [Гемп]; 8) Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка И.И. Мосеева 47 [ПГ]; 9) Картотека Архангельского областного словаря Диалектологического кабинета Московского государственного университета (КАОС); 10) Картотека «Лексического атласа Архангельской области» Л.П. Комягиной (КЛАК); 11) Картотека Кабинета истории и диалектологии Поморского государственного университета (КПГУ); 12) Кораблев С.П. Этнографический и географический очерк г. Каргополя Олонецкой губернии, с словарем особенностей тамошнего наречия [Кораблев]; 13) Очерк нравоописательной этнографии г. Онеги Архангельской губернии, с собранием онежских песен и реестром слов, отличающих тамошнее наречие / сост. С.П. Кораблев [Очерк]; 14) Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов [Мурзаев]; 15) Кожеватова О.А. Заимствования в лексике говоров Русского Севера и проблема общего регионального лексического фонда [Кожеватова]; 16) Профессиональная лексика рыболовства: словарь / сост. Ф.А. Пономарев [Пономарев]. Перечисленные источники неоднородны и неравноценны во всех отношениях. Они составлялись на основе записей, сделанных в разное время разными лицами, характеризующимися различным уровнем филологической подготовки, разным культурным уровнем, неодинаковым знанием ими местной лексики и т.д. Все это не могло не сказаться на качестве семантического описания слов. Считаем, однако, что в обилии привлеченных к исследованию источников – наиболее надежная в данном случае гарантия, во-первых, представления в максимальном объеме словарного состава исследуемых денотативных классов в архангельских говорах; во-вторых, правильности и полноты описания семантического содержания слов (последнее обеспечивается возможностью сопоставления аналогичных материалов). Для получения информации о функционировании единиц исследуемых денотативных классов в сознании современных диалектоносителей были предприняты экспедиции в Ленский, Пинежский, Верхнетоемский, Виноградовский, Котласский, Красноборский, Плесецкий, Приморский, Устьянский районы Архангельской области; экспедиционные исследования в Мезенском, Лешуконском, Онежском, Шенкурском и Холмогорском районах Архангельской области осуществлены при финансовой поддержке РГНФ в форме гранта (2007 г. – № 07-04-18037е «Концептуализация мира природы в семантике диалектных единиц (на материале архангельских говоров XIX–XXI веков)»; 2008 г. – № 08-04-18033е «Динамика освоения сферы «человек – природа» диалектным языковым сознанием (на материале архангельских говоров XIX–XXI веков)»). По итогам экспедиционных исследований опрошено 529 информантов старшей возрастной группы в 79 населенных пунктах 14 районов Архангельской области; создана картотека, включающая более 6900 разноструктурных диалектных единиц архангельских говоров и их употреблений. Подчеркнем, что использование источников материала разной временной отнесенности обусловлено задачами настоящего исследования: выявить и описать особенностях языкового отражения тех изменений, которые происходят на протяжении XIX–XXI вв. в укладе жизни и в системе представлений о мире в диалектном языковом сознании. 48 Затем собранный материал распределялся по денотативным классам (<дождь>, <снег>, <град>, <туман>, <роса>, <иней>, <лед>, <домашнее животноводство>). На этом этапе обнаружилась существенная разница в количественном составе денотативных классов, выявленных на материале архангельских говоров: <снег> – 1248 единиц, <дождь> – 1224 единицы, <иней> – 22 единицы, <роса> – 19 единиц, <туман> – 12 единиц, <град> – 9 единиц; <домашнее животноводство> – 475 единиц. В связи с существенным количественным преобладанием единиц денотативных классов <снег>, <дождь>, <домашнее животноводство> очевидна значимость для диалектного языкового сознания объектов, концептуализируемых единицами этих классов. Наиболее детально исследовалось два денотативных класса: <дождь> и <снег>; единицы других денотативных классов кумулятивого поля «Атмосферные осадки» фиксировались, но подробно не описывались. В рамках данной работы рассматрваются особенности освоения диалектным языковым сознанием объектов дождь и снег. На следующем этапе на основе единиц каждого из денотативных классов формировались анкеты для опроса информантов, проживающих в разных районах Архангельской области. Общий объем анкет, составленных на материале денотативных классов <дождь> и <снег> для обследования онежского, мезенского, лешуконского, шенкурского и холмогорского говоров, – 2472 единицы. При разработке анкет соблюдался ряд принципов. Во-первых, для удобства работы и получения верифицируемых результатов все единицы распределены по группам на основании лингвогеографических характеристик. Использованные источники материала обусловили ряд особенностей: 1) большинство единиц, извлеченных из диалектных словарей XIX в., не имеют строгой географической отнесенности и снабжены пометой «арх.» (как правило, такие единицы извлечены из словаря В.И. Даля, Словаря русских народных говоров со ссылкой на словарь В.И. Даля); 2) более строгой территориальной локализацией отличаются единицы, извлеченные из Опыта областного великорусского языка и Дополнений к нему, словаря А.О. Подвысоцкого, словаря А. Грандилевского, однако в этих словарях, как правило, единицы отмечаются как бытующие лишь в одном районе (в нашем случае – Онежском, Мезенском, Лешуконском, Шенкурском или Холмогорском); 3) большинство географических помет в словарях XX в. отражают распространение слова в двух и более районах, что связано с более детальной изученностью лингвогеографических характеристик лексики архангельских говоров по сравнению с XIX в. Таким образом, отдельные группы составили: 1) единицы, отмеченные на территории только одного района и снабженные в словарях и картотеках соответствующей пометой «мез.», «леш.», «шенк.», «холм.», «онеж.»; 2) единицы, встречающиеся на территории не только обследуемых, но и других районов Архангельской области; 3) единицы без точной географии, снабженные в словарях пометами «арх.», «помор.», «северн.», «беломор.». Во-вторых, характер источников материала обусловил следующую особенность анкет: они включают единицы разной хронологической отнесенности, из49 влеченные из толковых словарей и картотек XIX и XX вв. Так, в анкетахопросниках, составленных для обследования Мезенского и Лешуконского районов, содержатся следующие группы единиц, выделенные с учетом их хронологических особенностей: 1) 94 единицы денотативного класса <снег> (21,5%) и 58 единиц денотативного класса <дождь> (17%), зафиксированных только в словарях XIX в. и не отмеченные в словарях и картотеках XX в.; 2) 61 единица денотативного класса <снег> (14%) и 13 единиц денотативного класса <дождь> (4%), отмеченных как в словарях XIX в., так и в словарях и картотеках XX в.; 3) 281 единица денотативного класса <снег> (64,5%) и 277 единиц денотативного класса <дождь> (79%), зафиксированных только в словарях и картотеках XX в. В-третьих, все единицы классифицированы в соответствии с семантической доминантой, в результате чего выделены группы слов, связанных с одним и тем же направлением опроса. Например, единицы анкеты, посвященной объекту <дождь>, распределены по двум большим группам: 1) физические характеристики дождя; 2) взаимодействие дождя с другими объектами. Каждая из групп содержит несколько подгрупп: «мелкий дождь», «крупный дождь», «интенсивность выпадения дождя»; «характеристика погоды по наличию / отсутствию дождя», «смоченное дождем сено» и др. Разработанные анкеты-опросники включают разное количество единиц, что обусловлено рядом объективных факторов: 1) «наполняемость» денотативного класса (а значит и анкет, включающих единицы данного класса) зависит от степени детализации языкового понятия о природном объекте в диалектном сознании; 2) «глубина» языковой концептуализации объекта предопределяется его актуальностью, востребованностью, практической значимостью для носителей архангельских говоров; 3) избирательный характер языковой концептуализации объектов природы выражается, например, в более детальной фиксации негативных свойств и качеств по сравнению с положительно оцениваемыми признаками объектов; последние воспринимаются языковым сознанием как норма. Общий объем материала, включенного в анкеты, является репрезентативным и дает объективное представление о традиционном фонде знаний носителей архангельских говоров об изучаемых природных явлениях. Как показала практика общения с диалектоносителями, денотативный принцип классификации языковых единиц органичен для языкового сознания, так как соответствует способу хранения в нем информации об окружающем мире. Имена денотативных классов актуализируют в сознании диалектоносителя целый блок сведений об интересующем нас объекте мира, смысловые группы и подгруппы, выделенные в составе денотативного класса, задают схему целенаправленного ведения опроса путем уточнения запаса знаний информанта об отдельных признаках объекта. Это создает атмосферу непринужденной беседы, одновременно не позволяя информанту переключаться на другие темы. Кроме того, в процессе беседы с информантом использовался прием непосредственного наблюдения и прием прямого опроса, активизирующий языковое чутье диалектоносителя. Для получения необходимых сведений предлагались 50 вопросы типа: Что означает это слово? Как говорили раньше, как говорят теперь? Все ли употребляют это слово? Почему так говорят? Какое из слов употребляется чаще? (Возможности использования показаний метаязыкового сознания носителей говоров с целью получения необходимых собирателю сведений подробно описаны в [Ростова 2000].) При анализе данных основополагающим принципом выступает учет соотнесенности материала с различными временными периодами. Это позволяет обращаться к проблеме описания процесса освоения окружающего мира языковым сознанием, выявлять те изменения образа мира в сознании диалектоносителей, которые происходят под влиянием факторов социального, культурного, технического, экономического развития. Первый хронологический срез представлен единицами, извлеченными из словарей А.Х. Востокова, В.И. Даля, А.О. Подвысоцкого, А. Грандилевского (XIX в.). XX в., прежде всего его вторая половина, характеризуется появлением особенно большого количества работ по диалектологии, в том числе работ, посвященных исследованию диалектной лексики. Материалы многочисленных исследований состояния лексической системы архангельских говоров фиксируются в целом ряде словарей и картотек: Словарь русских народных говоров, Архангельский областной словарь, Картотека АОС Диалектологического кабинета Московского государственного университета, Картотеки Кабинета истории и диалектологии Поморского государственного университета и др. Данные источники позволяют судить об изменениях, произошедших в составе денотативных классов на протяжении XX в. Те лексические и фразеологические материалы, которые получены в ходе диалектологических экспедиций рубежа XX– XXI вв., дают информацию о состоянии современных архангельских говоров. Обратимся к характеристике наиболее значимых результатов обработки анкет, заполненных на основании обследования говора Шенкурского района (июнь–июль 2008 г.). Общий объем анкет составил 358 единиц; анкеты, сформированные на основе единиц денотативного класса <дождь>, включают 154 единицы, денотативного класса <снег> – 204. Из 358 единиц современным носителям шенкурского говора не известно 60 слов (16,8%). Анализ полученных результатов с учетом лингвогеографических и хронологических характеристик слов, а также в соответствии с основными направлениями опроса позволяет выявить существенные различия в стратификации как утраченных говором, так и функционирующих в составе его лексико-фразеологической системы семантических единиц. Во-первых, установлено, что чаще подтверждаются единицы, имеющие точную географическую закрепленность. 76 единиц (49,3%) включены в анкету денотативного класса <дождь> на том основании, что в обследованных словарях они приводятся с пометой Шенк. Из них не получили подтверждение 4 слова (2,6% общего объема анкеты): кáпочка – ‘капля дождя’ (КАОС); чингá – ‘мелкий дождь’ (КЛАК), одóньё – ‘испорченное дождем сено внизу стога’ (КЛАК), [Опыт, с. 138]; од¸нок – ‘подстилка под стог сена, чтобы дождь не мочил его’ (КЛАК). Обращает на себя внимание тот факт, что все слова извлечены из картотек (Картотеки Архангельского областного словаря и Картотеки Лексического 51 атласа Архангельской области Л.П. Комягиной), существительное одóньё, кроме того, фиксируется в Опыте областного великорусского языка. Анкеты обсуждаемого денотативного класса содержат 78 слов (50,7%), отмеченных в словарях с неточной географией их распространения (Арх., Беломор., Север.). Объем не подтвердившейся лексики в этой группе существенно больше: информантам не известны 26 слов (17%): жмучь – ‘мелкий дождик’ [СРНГ, вып. 9, с. 207]; цынега – ‘мелкий осенний, моросящий дождик в тихую погоду’ [Мурзаев, с. 603]; чит – ‘мелкий с изморозью дождь при тумане’ [Даль, т. 4, с. 589]; налúвка – ‘ливень, проливной дождь’ [Подвысоцкий, с. 97; Даль, т. 2, с. 434; Опыт, с. 122] и др. Сходные данные получены и в результате анализа анкет денотативного класса <снег>. 90 (44%) из включенных в анкету единиц приводятся в словарях с пометой Шенк. Из них в современном говоре не отмечено 5 слов (2,5%): комýля – ‘ком, кусок (снегу, глины)’ [СРНГ, вып. 14, с. 239]; корёха – ‘снегоочиститель’ [Фасмер, т. 2, с. 325]; слúще – ‘место, покрытое снегом, куда в апреле и мае расстилается холст для беления’ [Опыт, с. 207]; пýрго – ‘убитая зверем в пургу скотина’, пýрго – ‘охота на зверя в пургу’ [СРНГ, вып. 33, с. 136]. В анкеты анализируемого денотативного класса вошло также 114 слов (56%), география распространения которых в словарях отмечена пометой Арх. Из них 25 слов (12,6%) носителям шенкурского говора не знакомы: вóрозь – ‘мелкая снежная пыль’ [СРНГ, вып. 5, с. 100]; чамрá – ‘мокрый снег, иногда с туманом’ [Даль, т. 4, с. 581; Опыт, с. 254]; колтýжник – ‘мелкий плавучий лед и обмерзшие комья снега’ [Даль, т. 2, с. 143; СРНГ, вып. 15, с. 196; Подвысоцкий, с. 69; Опыт, с. 88; Мурзаев, с. 286] и др. Обработка анкет, заполненных в результате обследования говоров других районов Архангельской области, также показывает зависимость полученных результатов от точности фиксации в словарях территории распространения слов. Подтверждение носителями разных говоров слов, приводимых в словарях с широкой географией, ведет к уточнению ареала их бытования. Во-вторых, полученные данные в значительной степени зависят от хронологической отнесенности слов. Обратимся к характеристике результатов анализа анкеты денотативного класса <дождь>. Учет хронологического признака показывает, что из 56 слов (36,4%), отмечаемых в словарях XIX в., не подтвердилось 28 слов (18,2%), например: полúва – ‘ливень, проливной дождь’ [СРНГ, вып. 29, с. 68; Опыт, с. 167; Даль, т. 3, с. 260]; намитусúть – ‘о мелком дожде, наморосить’; бéздожь – ‘сорная трава при плохих всходах, от засухи’ [Даль, т. 2, с. 440; т. 1, с. 61]; устрóйный – ‘о погоде: хороший, теплый, солнечный, без дождя’ [Опыт, с. 241] и др. Из 28 знакомых носителям шенкурского говора слов 20 единиц (13%) подтверждает не более 5 информантов. Следовательно, только 8 слов (3,9%), бытующих в говоре с XIX в., имеют достаточно широкое распространение: толкунцû – ‘появляющаяся после дождя мошка и другие насекомые’ [Опыт, с. 229; Подвысоцкий, с. 173]: Толкунцû-то / говорÿт / комарû ов¸с толкýт // Когдá толкунцû толкýтся / дак к в¸дру (22 информанта в 8 деревнях); пробрûзгивать – ‘начинать идти или идти непостоянно, время от времени (о дожде)’ [Опыт, с. 179] 52 (25 информантов в 7 деревнях); бусúть – ‘идти (о мелком дожде)’ [Подвысоцкий, с. 132; Опыт, с. 18]: Мéлконькой дожж идёт / бусúт (21 информант в 7 деревнях); пéнус / п¸нус – ‘болото, с которого собирают сено во время засухи’ [Опыт, с. 154]: В сухостóй косúли на пенусáх (10 информантов в 3 деревнях) и др. Дальнейшие наблюдения показывают, что из 98 слов (63,6%) анкеты денотативного класса <дождь>, отмечаемых словарями и картотеками не ранее XX в., не подтвердилось 2 слова (1,3%): оклáдник – ‘обложной дождь, дождь при сплошной облачности’ [СРНГ, вып. 23, с. 121]; од¸нок – ‘подстилка под стог сена, чтобы дождь не мочил его’ (КЛАК). 45 слов (29%) известно 5 и менее информантам, как правило, проживающим в одной или соседних деревнях. Следовательно, 51 слово (33%) имеет достаточно широкое распространение в Шенкурском районе. Например: вéдряной – ‘солнечный, ясный и сухой, без дождя’ [АОС, вып. 3, с. 78]: Сегóдня день вéдряной / хорóшой / пéрво слóво ýтром (22 информанта в 6 деревнях); ни дожжúнки – ‘об отсутствии дождя’ [АОС, вып. 11, с. 265]: Ведь ни дожжúнки не упад¸т (23 информанта в 6 деревнях); залéвной дождь – ‘очень сильный, продолжительный дождь’ (КАОС): На недéлю зарядúло нам дожжá / вот залéвной дожж (30 информантов в 9 деревнях); сéять – ‘идти (о мелком дожде)’ (КАОС): Дóжжик идёт / сéит как из решетá (16 информантов в 8 деревнях). Несколько иные результаты показывает анализ анкет денотативного класса <снег>. Из 97 слов (47,5%), отмечаемых в словарях с XIX в., не подтвердилось 26 слов (12,7%): чит – ‘подмерзший снег’ [Подвысоцкий, с. 189]; почúр – ‘заледеневшая корка снега’ [СРНГ, вып. 31, с. 15; Даль, т. 3, с. 371; Доп., с. 208]; гýзно – ‘площадка на снежных горах, с которой спускаются катающиеся’ [Доп., с. 319]; гýстега – ‘плотный (густой), в виде снега, иней на деревьях’ [СРНГ, вып. 7, с. 246; Подвысоцкий, с. 35] и др. Объем подтвердившихся семантических единиц этого денотативного класса выше: 47 слов (23%) известно не более чем 5 информантам. Следовательно, 24 слова (11,8%) имеют достаточно широкое распространение: затрусúть – ‘засыпать, припорошить снегом’: О верховóм снéге говорÿт затрусúл (19 человек в 8 деревнях); сумёт – ‘сугроб’ [Подвысоцкий, с. 54, 168]: На чúстом мéсте сумётов нéту (29 информантов в 8 деревнях); пúхало – ‘инструмент для разгребания снега (доска, в середине которой палка в виде рукоятки)’ [Подвысоцкий, с. 122; Опыт, с. 158]: И сейчáс есть пúхало // срóют в однó мéсто / потóм лопáтами скúдывают (25 информантов в 8 деревнях); куревá – ‘метель с падающим снегом’ [Опыт, с. 97]: О, какáя куревá! (19 человек в 9 деревнях) и др. Из 107 слов (52,5%), отмечаемых словарями и картотеками не ранее XX в., не подтвердилось 1 слово (0,5%) – кóлоть – ‘бугристая обледеневшая поверхность дороги, покрытой снегом и замерзшей после сильной оттепели’ [СРНГ, вып. 14, с. 189; Пономарев, с. 22]; 43 слова (21%) известно не более чем 5 информантам. Следовательно, 63 слова (31%) имеют достаточно широкое распространение в Шенкурском районе: крупá – ‘мелкий зернистый сухой снег’ (КАОС): Снег несёт врóде такúма зёрнышкама / вот крупá (23 человека в 7 деревнях); слÿкоть – ‘мокрый снег’ (КАОС): Осенью или веснóй сырóй снег идёт / вот слÿкоть (31 человек в 9 деревнях); брóдно – ‘труднопроходимо (о снежной до53 роге)’ [АОС, вып. 2, с. 129]: Снéгу навалúт мнóго на дорóгу / брóдно // иттú брóдно (28 человек в 9 деревнях); нáсто – ‘ледяная корка на снегу’ [СРНГ, вып. 20, с. 192]: Нáсто крéпкое // нáсто просяжáет веснóй / мнóго лосéй гúбнет / нáсто проступáется / нóги рéжут (27 человек в 8 деревнях) и др. Интересно отметить, что часть слов в современном шенкурском говоре бытует с другим по сравнению с зафиксированным в словарях и картотеках значением, например: слово пáдера – ‘густой мягкий снег, падающий большими хлопьями’ [Опыт, с. 151] теперь известно в значении ‘метель, сильный ветер со снегом’: Пáдера началáсь / ни нéба / ни землú не вúдно // Вéтер со снéгом / пáдера поднялáсь (11 человек в 6 деревнях). Слово снежнúца – ‘мелкие рыхлые льдинки и обмерзлые комья снега на водоеме перед ледоставом’ (КАОС) известно в трех значениях, не тождественных указанному: 1) ‘большая вода в половодье’: Снежнúца бежúт веснóй / когда рекá располúтся (1 информант: Питьева Р.С., 1935 г.р., д. Марковская); 2) ‘снег, пропитавшийся водой во время оттепели’: В снежнúцу стýпишь / пóлны сапогú зачерпн¸шь (3 информанта в 2 деревнях); 3) ‘талая вода, собираемая c крыш’: Набрáть снежнúцы водû // Снежнúца / водá от растáявшего снéга (3 информанта в 2 деревнях); слово лûва – ‘дождевая лужа’ (КЛАК) помимо отмеченного известно также в значении ‘колодец с водой на болоте’ (3 информанта в 2 деревнях) и др. Итак, семантические единицы, фиксируемые словарями и картотеками XX в., получают наибольший процент подтверждения: из 153 единиц денотативных классов <снег> и <дождь>, содержащихся в словарях XIX в., информантам известно 99 единиц (28%), не знакомы 54 единицы (15,2%); из 205 семантических единиц, отмечаемых в словарях и картотеках не ранее XX в., информантами подтверждаются 202 единицы (57%), не подтверждаются 3 единицы (0,8%). В-третьих, отметим выявленные закономерности динамики исследуемых денотативных классов по данным шенкурских говоров. Важные данные об актуальной для диалектоносителей информации об объектах <снег> и <дождь> были получены при сравнении количественной представленности единиц в разных тематических группах соответствующих денотативных классов. Денотативный класс <снег> включает четыре подгруппы, наиболее многочисленную из которых образуют единицы (содержащиеся в анкете и вновь записанные в ходе беседы с информантами), обозначающие снег и процесс его выпадения. Для языкового сознания диалектоносителей актуально различение выпадения снега в безветренную погоду и сопровождающегося ветром (ср.: Неважная погóдушка; Погóдушка плохая; Пáдера поднялáсь / ни нéба / ни землú не вúдно // Вéтер со снéгом / пáдера // и многие др.); размера дискретных частиц падающего снега (ср.: Сéет как из решета; Сéет мелкий снег ли / дождь ли; Колючий мелкий снег морозгá; Морозгá ведь сёдня на улице! Мерюзгá мéлка пойдет; Лúпками такúма большúма летит снег); особенностей движения падающего снега в воздухе (ср.: завивáть – ‘падать, кружась, крутясь (о снеге)’); отмечается количество выпавшего снега (ср.: Говорят, когда очень много снега / Вûнесло снегу много / Вûнесло снегу сколько). Интересно отметить, что функционирование в исследуемых говорах слов куревá, куревúть, куревýшка и од54 нокоренных им поддерживается тем, что эти слова есть в хорошо известной диалектоносителям песне (ср.: Песня есть такая «Куревýха-куревá закутúла, замелá», вот и знаем эти слова). В шенкурских говорах сохраняются приметы, связанные с кýхтой – ‘снег на ветках деревьев’: Деревья без кýхты стоят / плохой год будет (М.П. Польникова, 1935, с. Уколок); ср. также устойчивое выражение: кýхта спала – ‘затаяло, началась оттепель’ (Л.И. Попова, 1932, с. Уколок); приметы, в которых содержатся сведения о тáйке – ‘оттепель’: Сосýльки маленькие – быстрая тáйка будет, а долгие – дак проволóчная весна (С.Н. Котлова, 1926, д. Данковская) и др. Достаточно разнообразно представлена группа единиц, обозначающих таяние снега и различные ситуации, связанные с этим процессом: весеннее половодье, паводок от таяния снега (Какóе сéйгод водопóлье; В этом году большое водопóлье; Разлúвы / вода большая / дак разливает / вот и топит луга); подтаявший, пропитавшийся водой снег (Осенью или весной сырой снег идёт вот слÿкоть; Зата¸т дак / слÿкоть и бывает; Наводопéл снег уж так дак); участок почвы, освободившийся от снега (Видно уж притáлинку); процесс таяния снега (Обталéло уже; Такима кругами затаёт / дак говорят лёд пятнает); время таяния снега (Потáйка это первая оттепель / только началась). С процессом таяния снега связаны и такие приметы, записанные в ходе экспедиции: Митрóвска талá и Покрóвска голá; Сколько в Благовещенье снегу на крыше / столько на земле будет весной. Третью по представительности подгруппу, сопоставимую с предыдущей, составляют единицы, называющие снежный покров и различные его виды: наименования различных по форме и по способу образования сугробов (На чистом месте сумётов нету; Забóй это снежный занос), обледеневшей поверхности снега (Нáсто просяжáет весной); актуальны наблюдения о наличии либо отсутствии следов на снегу, дороги по снегу (ср.: Полозовúна сегодня / снегу нанесёт / дак по ей худо сани идут; Человек прошёл / след на снегý оставил / вот пятнúк). Самая малочисленная группа включает обозначения различных приспособлений (сани, лыжи) и обуви для передвижения по снегу. Единицы этой подгруппы оказались наименее устойчивы к изменениям: из 21 включенной в анкеты единицы с указанным значением треть не нашла подтверждения у информантов, например: кéрéжа, керёжа – ‘сани в виде узкой лодочки на одном полозе, иногда крытые’; кóнда – ‘лыжа, не обитая камасом (шкурой с голени оленя, лося)’ и др. С другой стороны, записаны новые слова этой группы, например: фúнки – ‘лыжи финского производства’: Фúнки / лыжи / в школу ходили / всё по лыжнице дак (С.Н. Котлова, 1926, д. Данковская). По всей видимости, приведенные факты свидетельствуют о том, что слова, обозначающие конкретные предметы быта, выходят из употребления в силу смены уклада жизни, утраты обозначаемых ими объектов материальной культуры крестьян. Денотативный класс <дождь> также включает четыре подгруппы, самая многочисленная из которых представлена единицами, именующими дождь, его виды, процесс его выпадения. Виды дождя различаются по размеру составляющих его дискретных частиц (ср.: Мéлконькой дожж идёт / бусúт; Худóй 55 дожж / мазгарá; Дóжжик идёт / сéит как из решета), по интенсивности проявления (ср.: Паркóй / большóй / хорóший дожж // Паркúе дожжú пошли), по характеристикам продолжительности выпадения (ср.: Закончился быстро и быстро начался / побрызгáл значит; Дожж идёт обтяжнóй / сёдня идёт и завтре идёт), по количеству осадков (ср.: Дожжá много пойдёт / дак вся картошка замóкла), по соотнесенности с определенным временем выпадения (Если на Трóицу дожж / вода вспûхивать будет). В этой подгруппе отметим утрату наименований дождя, отражающих древние мифологические представления о природе дождя, согласно которым небо воспринималось как сито, через которое просеиваются семена (капли дождя), посылаемые на землю, чтобы оплодотворить ее, дать ей жизнь. Например: ситугá, сúтуха, сúтник, ситóвник и под.; ср. также: Сéит / сéит / а на дороге не растёт. Вторая группа представлена гораздо меньшим количеством единиц, характеризующих погоду по наличию / отсутствию дождя: В засýху попы по полям ходили / дожжá вымáливали; Погода будет сейчас такая сухостóйная; Сýхо было / сýхо было / а потом дожж / вот / погода разбúлась. Третья подгруппа включает единицы, в значениях которых отражается информация о воздействии дождя либо его отсутствия на окружающий мир. Выделяются разные объекты воздействия: человек (Вся перемóкла под дожжом / до нúтки); сено (Сено гниёт / вот уж погноéнье; Погнóй сена / дожжú / да дожжú / вот погнóй); почва (Всё промочúло / круговая помóчка; Сколько дожж больших ляг наделал // Пьяный в лÿге искупался) и др. Самую малочисленную группу образуют единицы, отражающие представления диалектоносителей о причинах выпадения дождя. Сюда относятся: дождевые облака (Морокá низко / к дождю, За реку морокá заходили / дождь будет), радуга (ср.: Ой радуга / дай дожжá / дай сóлнышка / дай в¸дрышка). В приведенной закличке, записанной нами от разных информантов в нескольких вариантах, различающихся компонентным составом, отражается осмысляемая диалектоносителями тесная взаимосвязь дождя и радуги, ср. также: Есть радуга / будет дождь (Е.И. Табанина, 1924, д. Данковская); Радуга в реку упирается / значит / дождь будет (А.А. Плюснина, 1930, д. Одинцовская); Радуга пьёт воду из речки / к залéвному дождю (Т.П. Птицына, 1937, д. Данковская); Дожжевáя радуга / она к дожжý / это хоть где спроси дак (Г.И. Клепикова, 1911, д. Уколок); Рáдуга-дугá пьёт / ещё дожж будет / на этом не остановится (Л.Ф. Хабарова, 1928, д. Одинцовская) и многие др. В современных архангельских говорах отсутствует целый ряд единиц, зафиксированных словарями XIX в. и отражающих мифологические и религиозные воззрения крестьян на дождь и причины дождя: бáба – ‘мифологическое существо, инициирующее выпадение дождя’; бóжье знáмя, бóжья дугá, знáменье госпóдне – ‘радуга’, вóдка святáя – ‘дождевая вода’. Единичную фиксацию имеет следующее выражение, отсутствующее в материалах анкет: богодáнный дождь – ‘сильный дождь, вымоленный у Бога’: Богодáнные дожжú были, настоÿшшие большúе дожжú, во врéмя были. Вызывáют крестовáнье, попóв, ходят по полÿм, дожжá мóлят. Вûмолят, тажнó и пойдёт, настоÿшшой уж это дожж (Г.И. Клепикова, 1911, д. Уколок). 56 Итак, анализ результатов опроса информантов позволил распределить все проверяемые слова по трем группам. Первую из них составили единицы, не названные ни одним из 80 опрошенных информантов старшей возрастной группы: слúще – ‘место, покрытое снегом, куда в апреле и мае расстилается холст для беления’, гýдега и гýстега – ‘плотный (густой), в виде снега, иней на деревьях’; почúр – ‘заледеневшая корка снега’ и др. Думается, что единицы, которые вышли из употребления и отмечаются словарями не позднее начала XX в., следует соотносить с архаическим компонентом тезауруса диалектной личности. Эти слова уже не являются средством общения для широкого круга говорящих. Они представляют собой осколки старой исчезающей диалектной системы. Как таковые, они не все могли бы стать предметом описания, если бы их выявлению в современном говоре не способствовали ранее созданные источники диалектной лексики этого говора. Во вторую группу включены слова, относящиеся к редко употребляемой жителями Шенкурского района лексике. Эти единицы можно распределить по двум группам с точки зрения их употребительности: 1) слова, которые встречаются в рассказах о прошлом, в воспоминаниях. В рассказах на современные обыденные темы их можно не встретить. Как правило, эти слова известны одному-двум информантам. Например, единичными употреблениями представлены существительные рубежú – ‘ступеньки, вырубленные в обледенелом снегу, по скату берега’: Ступéньки зимóй дéлали / штóбы не кáтко было / рубежú звали / их зарубáли // (А.В. Давыдова, 1928, д. Осиевская); бéльник – ‘место, покрытое снегом, куда в апреле и мае расстилается холст для беления’: Отбéливали холст / пóртно / на бéльник слáли (А.П. Шошина, 1921, д. Часовенская) и др.; 2) слова, которые вспоминаются информантами, если их назвать. Вне этой ситуации рассчитывать на их появление в речи сейчас невозможно: они вытеснены литературными синонимами. При этом употребление слова в речи, его семантика не оставляют сомнения в том, что воспроизводится старое диалектное слово. Такие слова постепенно забываются, поэтому часто приходится слышать: Вот если бы вы приехали пораньше / вам старопрежних слов наговорили бы старики / мы не знаем. Приведем примеры: Большой ветер / со снегом / долго / дак рям ранешни-то люди звали // Да / было тако слово (Г.И. Клепикова, 1911, д. Уколок); В кýндах пó снегу / на охóту ходили / штобы взад тормозили / От деда слыхала (С.Н. Котлова, 1926, д. Данковская); Кûча / дорога неходкая / как тормозит сани-то // Не едут ни туда / ни сюда // Вот бабушка бывало скажёт / ну и кûча сёдни (С.Н. Котлова, 1926, д. Данковская) Вероятно, подобные слова относятся к периферии тезауруса диалектоносителя, образуют самую подвижную его часть, близки к исчезновению. Третью группу образуют слова, распространенные в современных архангельских говорах, употребляемые большинством опрошенных информантов. Например: шугá – ‘мелкий плавучий лед и обмерзшие комья снега’: Шугá идёт по реке. Такá шугá / бельё не выполоскать. Шугý несёт, шугá по реке идёт, зашугýет (28 информантов в 8 деревнях); пúхало – ‘инструмент для разгребания снега’: И сейчас есть пúхало. Пúхалом пихать не забирает, дак я лопатой, в ту да в другу 57 сторону (25 информантов в 8 деревнях); cумёт – ‘сугроб’: Ветер со снегом нанесёт сумёт. На чистом месте сумётов нету (29 информантов в 8 деревнях) и др. Такие единицы, которые получают регулярную фиксацию в различных по времени создания словарях, в картотеках и в записях диалектологических экспедиций последних десятилетий, относятся к традиционному компоненту тезауруса диалектной личности. Это пласт активно функционирующей лексики в современном говоре, являющейся средством коммуникации в повседневной жизни. Такие слова можно услышать во время разговоров сельских жителей между собой, записать во время свободных непринужденных бесед. Небольшая часть единиц фиксируется в материалах экспедиционных исследований последних десятилетий, что позволяет выделить их в особую группу и отнести к инновационному компоненту тезауруса диалектоносителя. Например, отражением новой и неблагоприятной экологической обстановки можно считать появление устойчивых сочетаний кúслой дождь, красный снег и др.; изменения социокультурных условий жизни в русской деревне – появление слова фúнки – ‘узкие лыжи финского производства’ и др. Итак, проанализированный материал свидетельствует, что 1) современные архангельские говоры включают незначительное количество единиц, отмеченных словарями XIX в.; 2) утрата архангельскими говорами традиционной лексики, фиксируемой словарями с XIX в., обусловлена рядом экстралингвистических и собственно лингвистических причин, среди которых отметим следующие: а) утрата слов, обозначающих исчезнувшие из быта сельского жителя реалии, в том числе в связи с социальными изменениями в жизни деревни; б) утрата видовых названий и замена их родовыми наименованиями; 3) сохранению единиц способствуют следующие факторы: а) высокая частота употребления слова; б) наличие эмоциональной окрашенности; в) сохранение связанного с диалектным словом традиционного культурноисторического контекста. Сделанные выводы позволяют утверждать, что сопоставление состава изучаемых денотативных классов, зафиксированного в картотеках и в словарях разной хронологической отнесенности, дает возможность проследить динамику освоения объектов природы, выявить области расхождения между тем запасом сведений о них, который зафиксирован в значениях словарных единиц, и тем объемом информации, которая актуальна для современных носителей архангельских говоров. Выделение и описание архаического и инновационного компонентов приводит к выводам о наличии особенностей языкового отражения тех изменений, которые происходят на протяжении XIX–XXI вв. в укладе жизни и в системе представлений о мире в диалектном языковом сознании. 58 1.3. Образный компонент как основа некалендарных имен жителей Архангельской губернии XVII века Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: РК 2009 «Русский Север: Архангельская область» проект № 09–04–48407 а/С «Антропонимия как источник изучения фрагмента региональной языковой картины мира» Антропонимы представляют собой довольно обширный пласт лексики, в котором, как и в других группах слов, отражается жизнь народа, его культура и история. Нередко эти сведения закрепляются в виде образного компонента (внутренней формы). Обратимся к именованиям жителей Архангельской губернии XVII в. и рассмотрим, как отразились в личных именах и фамильных прозваниях северян исторические и социокультурные особенности изучаемого региона. Выявление некалендарных имен и прозвищ, бытовавших на территории губернии в исследуемый временной период, позволяет определить наиболее продуктивные группы нарицательных имен, лежащих в основе имен собственных, и тем самым судить о наиболее типичных семантических признаках, используемых при именовании людей и, следовательно, о наиболее существенных для данного периода реалиях. Анализ внутренней формы личных имен, фамилий и прозваний дает возможность установить, какие черты и свойства осознавались как отличительные и способные выполнять идентифицирующую функцию, какие основы антропонимов являлись общерусскими, то есть характерными для разных территорий Российского государства, а какие были специфичными для исследуемого региона. Данный анализ позволяет получить информацию о социальном положении, быте и жизненном укладе жителей губернии, их занятиях и профессиях, религиозных и ценностных представлениях, эталонах межличностных и внутрисемейных отношений. Зафиксированные в памятниках деловой письменности Архангельского Севера XVII в. некалендарные антропонимы, в зависимости от мотивирующего признака, положенного в их основу, были распределены по следующим 10 группам: 1) территориальная и этническая принадлежность, 2) качественные характеристики человека, 3) внешний вид человека, 4) род деятельности лица, 5) наименования природных объектов, 6) обстоятельства, связанные с появлением ребенка в семье, 7) предметы быта, 8) социальное положение именуемых, 9) религиозная сфера, 10) семейные ценности и связанные с ними обрядовые традиции. В отдельную группу определены имена с двойной и множественной мотивацией. Эта группа включает антропонимы с признаками, представленными в указанных десяти, однако имеющими разные сочетания, что не позволяет однозначно установить преобладающий мотивирующий признак. В первую выделенную группу входят 23 антропонима, внутренняя форма которых указывает на территориальную и этническую принадлежность человека. От топонимов образовывались именования, в основе которых лежит признак, связанный с разными регионами Российского государства и местными географическими объектами, входящими в состав Архангельской губернии. Два антропонима обнаруживают связь с топонимами, называющими территории, от59 носящиеся к Вологодской губернии. Это именования Вологженин и Тотьмин, употребленные в следующих контекстах: Майя в… день купил воску 25 гривенок у Степана Вологженина Казакова дал два рубли 25 алтын (КЦСМ, л. 33 об.); Продал сто восмь кож ворваних сухих и удирки с той же числи да се удирков старых кожных Фомы Тот(ь)мину взят пять рублев 13 алтын (КЦСМ, л. 4). Прозвание Вологженин принадлежало человеку, приехавшему из Вологды [СПФ, с. 84]. А обладатель фамилии Тотьмин прибыл из города Тотьма Вологодской губернии [СРФ, с. 136]. Фамилии Волынский и Москвин принадлежали людям, приехавшим из более отдаленных мест. Именованием Волынский, происходящим от топонима Волынь, обладал выходец из Малороссии [Фасмер, т. 1, с. 187]: Купил железа белого кресты обивати двести полиц у воеводы Федора Василевича Волынского дал 6 рублев (КЦСМ, л. 23 об.). Столичный житель мог иметь фамилию Москвин [ТПФ, с. 333]: Роман Москвин дал по братье своей … денги (КЦСМ, л. 7). Более многочисленны антропонимы, указывающие на места рождения или проживания, находящиеся на территории Архангельской губернии. В этом ряду мы отметили следующие именования: Глинчанин, Кандалашеский, Княжестровец, Колмогорец, Куростровец, Мезенец, Матигорский, Матигорец, Мехрежан(ин), Ненокшанин, Поморец, Ракулец, Ровдогорец, Чюхчене(ме)ц, Юженин. Именование Глинчанин: Октября в … день купил два безмена меду у Бориса Глинчанина дал девять алтын четыре денги да купил два локти портна у Овдотьи Василевой на починку на запону что образы от трапезы закрывают дал пять денег (КРБЦК, л. 2 об.) по происхождению связано с селением Глинки, находящимся на территории Архангельской губернии. Антропоним Кандалашеский, происходящий от названия залива в северо-западной части Белого моря – Кандалакша [Фасмер, т. 2, с. 178], употреблен в следующем тексте: Соли пуд купил просвирни просвиры класть у Кандалашеского старца дал 2 алтна … денги (КЦСМ, л. 22 об.). Прозвание Княжестровец, зафиксированное в записи: Генваря в … день продал сена на Княжестрове на … 50 пол трети кучи Третеку Княжестровцу по восьми денег кучю всех денег взял два рубли з гривною (КЦСМ, л. 10 об.), происходит от местного топонима Княжестров. Колмогорец – это выходец из селения Холмогоры, название которого могло произноситься и как Колмогоры: Ноября в … день купил темьяну гривенку у Луки Колмогорца дал 3 алтна (КЦСМ, л. 25 об.). Именование Куростровец принадлежало человеку из населенного пункта Куростров: У Матфея Тряблого Куростровца с товарищи взял от котла провару к празднику к Екатеринину дни дарил 9 алтын 2 денги (КЦСМ, л. 7). Прозвание Мезенец, данное человеку, родившемуся или живущему в Мезени или в каком-либо другом селении, расположенном на реке с одноименным названием, употреблено в записи: Да он же Василей дал котелних денег 5 рублев 6 алтын что сам Василей сало грел и людем отдавал Максиму Мал(ь)гину да Первому Ружныкову Мезенцу (КПБК, л. 4). Именования Матигорский и Матигорец образованы от названия местного населенного пункта Матигоры: Спасскому попу Тимофею да Матигорскому Ансифору в почесть издержал 4 алтна 2 денги (КЦСМ, л. 38); Ивану Матигорцу дал 60 … алтын чтобы торг свел житом (КЦСМ, л. 38 об.). Мехрежанами называли выходцев с реки Мехреньги: Декабря в … день нанял Абрама Малтемянова да Карпа Гаврилова Мехрежан на богоявленской лес (КПБК, л. 24). Именование Ненокшанин давали человеку, местом рождения или проживания которого был населенный пункт Ненокса или другое селение на реке Неноксе: Купил сотню скал у Ненокшан у Моховых дал 26 алтын 4 денги отборных а тут был Фатей Анкидинов (КЦСМ, л. 39). В XV–XVII вв. Поморьем назывался обширный экономический и административный район по берегам Белого моря, Онежского озера, рек Онега, Северная Двина, Мезень, Пинега, Печора, Кама и Вятка, вплоть до Урала [ПГ, с. 5]. Поморцами именовали всех жителей этой территории: У Семена Поморца взял … денги (КЦСМ, л. 19 об.). В настоящее время название «поморцы» вышло из употребления, а этноним «поморы» существует для обозначения немногочисленной общности жителей Архангельского Севера. Ракулец – выходец из селения Ракула: У Степана Ракул(ь)ца взял от котла 4 алтна (КЦСМ, л. 9 об.). Прозвание Ровдогорец, по происхождению связанное с населенным пунктом Ровдогора(ы), зафиксировано в контексте: У Григоря Ондреева Ровдогорца взял от котла … денги (КПБК, л. 9). Именование Чюхченемец происходит от топонима Чухченема: У Онани Иванова Чюхчене(м)ца взял от котла провару 2 алтны (КЦСМ, л. 7). Антропоним Юженин принадлежал человеку с реки или селения Юг, находящихся в бассейне Северной Двины: Купил сотню скал у Ефима Юженина дал семь гривен (КЦСМ, л. 37). В рассматриваемую группу имен были включены антропонимы, происходящие от этнонимов. Этот ряд именований составляют следующие имена: Болдырь, Калмаков и Немчин. Прозвание Болдырь восходит к слову болдырь, обозначающему в архангельских диалектах ‘смесь русского и самоедки, лопарки, бурятки или калмычки’ [СРНГ, вып. 3, с. 72]. В словаре Даля отмечается, что словом болдырь могли называть общее смешение племен [Даль, т. 1, с. 110]. Это имя встретилось в записи: Семен Болдырь с товарищи возили жито на посад дал найму … алтын (КЦСМ, л. 38 об.). Именование Калмаков произошло от прозвища Калмак. Этноним калмак, от которого образовано прозвище, является древним названием одного из башкирских родов [СПФ, с. 155]. Приведем контекст: Козма Калмаков привез жита семь мер с полудеревни (КЦСМ, л. 48 об.). И, наконец, прозвание Немчин, образованное из слова немчин – ‘иноземец западно-европейского происхождения’ [СПФ, с. 260], употреблено в записи: Продал жита триста три меры Немчину Елесею дал нову по 4 алтна по 4 денги меру всех денег взял 42 рубли … алтын (КЦСМ, л. 17 об.). Называние людей по географическому или этническому признакам являлось эффективным способом идентификации лица. Во-первых, потому что к XVII в. большинство жителей страны имели календарные личные имена, которые являлись наиболее частотными и служили причиной тезоименности. А во-вторых, в условиях массовых переселений, установления экономических, торговых связей и, как следствие, передвижений населения внутри региона и за его пределы, указанные признаки воспринимались как отличительные. 61 Актуальной чертой является оценка именуемого по его психическим и физическим данным. Данная группа включает 20 антропонимов, мотивированных разными частными признаками, отражающими качественные характеристики человека: интеллектуальные способности, физические данные, поведение, черты характера и свойства личности, отношение к труду и профессиональные качества. Фиксация в именах качественных характеристик людей позволяет отметить положительные и отрицательные оценки свойств личности, связанные с отношением к тем или иным качествам человека. Так, жители Архангельской земли выделяли именуемых по наиболее ярко проявляющимся чертам, характеристикам, которые в народном сознании воспринимались как одобряемые или неодобряемые. Именованием, в котором фиксируются интеллектуальные способности, можно считать прозвище Мудрой. Это прозвание происходит от слова мудрой, которое в разных русских говорах используется для обозначения ‘разумного, хитроумного, находчивого или чересчур мудрящего человека’ [СРНГ, вып. 18, с. 331]. Оно встретилось в такой записи: Чеп ковал к напилнику из богоявленского железа Шестой Мудро(й) взял от дела алтын (КПБК, л. 27 об.). Этот оним, как свидетельствует значение исходного слова, содержит в себе положительную оценку умственных способностей человека. На физические данные именуемого указывает антропоним Могут. Это прозвище восходит к слову могут, которое в псковских и сибирских говорах имеет значения ‘силач, богатырь; великан, сильный и рослый человек’ [Даль, т. 2, с. 337]. В памятнике письменности 1639 г. оно встретилось в контексте: У Ивана Могута взял от котла провару гривну (КЦСМ, л. 12 об.). Данное прозвание содержит в себе указание на силу и мощь именуемого, что, на наш взгляд, можно отнести к положительным качествам человека. Безсон, Булгаков, Гуляй, Дружина, Дудин, Зав(ь)ял, Замятня, Коряка, Круткой, Лиходеев, Неверов, Скрипов, Суета, Шумило, Шильников и Шиш – антропонимы, в которых отразились поведенческие особенности и черты характера человека, раскрывающие его отношение к людям и / или образ жизни. Распространенное на многих территориях Российского государства некалендарное личное имя Безсон могли дать ребенку или, возможно, и взрослому человеку, который плохо спит [СРЛИ, с. 132]: Того же дни купил воску четырнатцет гривенок у Безсона Гоголева дал рубль 12 алтын 2 денги (КПБК, л. 28–28 об.). Отметим также, что имя Безсон нередко признается одним из ряда русских «охранительных имен», в которые намеренно вкладывали отрицательные оценки, считая, что такое имя будет служить «оберегом» и «передаст» именуемому противоположные качества. Например, указанное имя могли дать ребенку с тем, чтобы у него был крепкий, здоровый сон, и его не беспокоила нечистая сила. Фамилия Булгаков восходит к прозвищу Булгак, происходящему из слова булгак, которое в тверских, пензенских и владимирских диалектах имеет значения ‘мятеж, смятение’. Однокоренные слова: булга, обозначающее ‘склоку, тревогу, суету, беспокойство’, булгатить, булгачить – ‘тревожить, беспокоить, будоражить, полошить, баламутить’ [Даль, т. 1, с. 140] указывают на то, что прозвище могло принадлежать беспокойному, суетливому, тревожному человеку. Это прозвище, как показывает анализ внутренней формы, содержит в себе отрицатель62 ную оценку указанных черт характера человека (беспокойность, тревожность, суетливость). Фамилия Булгаков употреблена в записи: У Булгаковых прикащика у Якова Курочки купил 2 пуды конопли на седальные веревки дал 30 алтын (КЦСМ, л. 36). Имя Гуляй, происходящее от общерусского слова гуляй, могли дать ‘человеку праздному, шатуну, гулящему; охочему до гостьбы, пирушки, попоек; пьянице’ [Даль, т. 1, с. 407]. Указанные качества человека – праздность и пьянство – в русском народном сознании воспринимались как порицаемые. Это личное имя зафиксировано в тексте книги 1628 г.: Гуляй Подшивалов ездил по скалы на посад что купил на новую попову клеть дал две денги (КРБЦК, л. 16 об.). Фамилия Дудин: Майя в … день купил темьяну гривенку у Богдана Дудина дал пять алтын 4 денги (КЦСМ, л. 33) происходит от прозвища Дуда, восходящему к слову дуда, распространенному на многих русских территориях и обозначающему ‘дурной человек; человек, пьющий много браги’ [Даль, т. 1, с. 499]. Исходное слово имеет и другое значение – ‘музыкальный инструмент’ [Там же], однако, полагаем, что первое значение с большей долей вероятности могло быть положено в основу исследуемого имени, указывающего на отрицательные качества человека. Имя Замятня могли дать человеку беспокойному, шумному, подвижному, часто спорящему. В разных русских говорах слово замятня обозначает ‘спор, шум, сумятица, беспорядок; смута, волнение, беспокойство’ [СРНГ, вып. 10, с. 272]. Приведем контекст: Майя в … день купил меду 2 безмена у Замятни Малафеева дал 6 алтын (КПБК, л. 34). Это имя в своей основе содержит указание на негативные качества человека (беспокойность, шумность, крикливость). Личное имя Коряка происходит от слова коряка, употреблявшегося в северно-русских говорах в разных значениях: ‘кривое, суковатое дерево; несговорчивый, упрямый человек’ [СРНГ, вып. 15, с. 42; Даль, т. 2, с. 161]: Коряку Максимова с товарищи нанял сарай поставити из богоявленского лесу (КЦСМ, л. 26). Упрямство и несговорчивость – те отрицательные качества человека, которые заключены в основе рассматриваемого имени. Именование Скрипов восходит к прозвищу Скрип. Скрипом, в соответствии со значением распространенного на разных русских территориях исходного слова скрип – ‘скрипение; резкий звук, визг от взаимного трения чего-либо’ [СРНГ, вып. 38, с. 137], могли назвать хилого, писклявого ребенка или взрослого, обладающего резким, «скрипящим» голосом. Как видно, исходное слово содержит в себе негативную оценку свойств человека. Фамилия Скрипов встретилась в записи: Иван Могут принес 16 алтын от Василя Скрипова веснованских (КПБК, л. 9 об.). Человек с общерусским именем Шумило, вероятнее всего, был крикуном, много и громко говорил [СРФ, с. 178]. В этом имени заключено указание на такие неодобряемые в народе черты, как крикливость и болтливость. Приведем текст источника, в котором зафиксировано названное имя: Шумило Пузанов дал проварных денег 2 алтна 2 денги (КПБК, л. 5). Антропонимы Шильников и Шиш указывают на такие негативные свойства личности, которые сопряжены с их статусом, положением в обществе. Фамилия Шильников образована от прозвища Шильник: Того же дни продал сена … 20 куч Ивану Шильникову зеленого по 7 денег кучю всех денег взял 7 гривен (КЦСМ, л. 5). Значениями слова шильник, от которого происходит 63 прозвище и которое зафиксировано в разных русских регионах, являются следующие: ‘мошенник’, ‘обманщик’, ‘плут’ [Фасмер, т. 4, с. 438]. Прозвание Шиш: Юрей Кирилов Шиш дал богоявленю Христову мурманских рыбных денег 5 алтын (КПБК, л. 18 об.) восходит к слову шиш, в архангельских говорах имеющему значения ‘вор; шатун, бродяга, шеромыга’ [Шилов, с. 25]; ‘жулик’ [ПГ, с. 341]. Наличие во внутренней форме приведенных имен признаков ‘вор’, ‘бродяга’, ‘мошенник’ отражает, на наш взгляд, характеристику именуемых по их принадлежности к определенному социальному слою населения. Фамилия Лиходеев произошла от прозвища Лиходей из распространенного во многих регионах страны слова лиходей – ‘враг, неприятель, злодей, зложелатель, злорад’ [Даль, т. 2, с. 257], в котором, как показывает значение исходного слова, содержится указание на негативные черты характера человека. Именование отмечено в тексте: Того же дни продал сена на Княжестрове на сенном 18 куч черного Третяку Лиходееву по девяти денег кучю всех 27 алтын (КПБК, л. 8 об.). Фамилия Неверов происходит от общерусского некалендарного имени или прозвища Невер, которое давали недоверчивому человеку или неверующему, безбожнику [СПФ, с. 257–258]. Безбожник, неверующий был особенно порицаем в народе, поскольку в древности слыл человеком опасным [Федосюк, с. 140]. Приведем контекст употребления этого имени: У Михала Неверова да у Кирила Третякова взял от котла провару 2 алтына 2 денги (КПБК, л. 20). Общерусским именем Дружина могли назвать дружелюбного человека, так как исходное слово дружина является однокоренным слову друг [СРЛИ, с. 100]. Это имя давалось на основе положительной характеристики данной черты именуемого. Приведем запись, в которой зафиксировано рассматриваемое имя: Коряку Максимова с товарищи нанял сарай поставити из богоявленского лесу поповском дворе где поп Дружина живет дал 2 рубли … алтын денги (КЦСМ, л. 26). Прозвание Круткой произошло от прилагательного круткий (круткой), которое в своем значении фиксирует такие положительные качества личности, как проворность и расторопность [СРНГ, вып. 15, с. 330]. Исходное слово круткой отмечено в разных русских говорах. В тексте документа рассматриваемое прозвание употреблено в записи: Иван Осипов Круткой с товарищи привез жита с Хаторской с Кабановской деревни (КЦСМ, л. 47). Личное имя Завьял происходит от слова завьял, во владимирских и нижегородских говорах имеющего значение ‘мешкотный, вялый человек’ [Даль, т. 1, с. 564]. Имя зафиксировано в следующем контексте: Генваря в … день продал сена на Княжестрове на сенном Ивану Савелеву 21 кучю да Зав(ь)ялу Петрову 21 кучю (КПБК, л. 10). Медлительность как качество, зафиксированное в значении исходного слова, можно отнести к нейтральным, не содержащим положительных или отрицательных оценок, поскольку указанное свойство личности не означало нелюбовь именуемого к труду или лень, а лишь характеризовало степень интенсивности движений и действий человека. Общерусское некалендарное имя Суета происходящее от слова суета – ‘хлопоты, заботы, торопливая беготня’, давали суетливому, торопливому человеку [Даль, т. 4, с. 624]. Это имя встретилось в контексте: Того же дни продал сена на Княжестрове на перелогах 75 куч зеленого по восми денег кучю всех денег взял три рубли Суеты Варламову 64 (КЦСМ, л. 13). Данное имя, как и антропоним Завьял, содержит в себе характеристику степени интенсивности движений именуемого и может быть отнесено к онимам с нейтральной основой. К рассматриваемой группе антропонимов, мотивированных признаком ‘качественные характеристики человека’, мы отнесли именования, характеризующие отношение к труду и профессиональные качества личности: Варакса и Мастер. Прозвание Варакса восходит к слову варакса, которое имеет следующие общерусские значения ‘плохой писец’, ‘не мастер дела, чья работа никуда не годна’ [Даль, т. 1, с. 164]. Следовательно, Вараксой могли назвать человека, который плохо работает. В архангельских говорах слова варакоса, варакоша означают ‘болтун, пустомеля’ [ПГ, с. 101]. Именование отражает неодобряемые в народном сознании качества (непрофессионализм и болтливость, которая мешает труду), оно зафиксировано в записи: Розрубу заплатил соцкому Михалу Вараксе (КЦСМ, л. 27 об.). Прозвание же Мастер, восходящее к общерусскому слову мастер, могло принадлежать ремесленнику, особенно сведущему или искусному в своем деле, человеку, занимающемуся каким-либо мастерством или рукоделием [Даль, т. 2, с. 303]. Это прозвание, в противовес именованию Варакса, содержит указание на положительные качества работника. Приведем контекст: Ноября в … день с кукшина свечных денег два рубли 25 алтын с полушкою а тут был Олексей Семой, Юрей Кирилов, Давыд Мастер (КЦСМ, л. 6). Итак, как показывают значения исходных слов, большинство исследованных именований группы с признаком ‘качественные характеристики человека’ содержат в своих основах оценки. К антропонимам, имеющим нейтральные основы, мы отнесли лишь два: Завьял и Суета. Антропонимы Дружина, Круткой, Мастер, Могут, Мудрой фиксируют положительные качества людей. Втрое больше именований, содержащих в основе указание на негативные черты личности: Безсон, Булгаков, Варакса, Гуляй, Дудин, Замятня, Коряка, Лиходеев, Неверов, Скрипов, Шильников, Шиш, Шумило. Среди положительных свойств человека отмечаются, например, дружелюбие, ум и расторопность, а среди отрицательных – злорадство, крикливость и пьянство. К третьей группе было отнесено 20 единиц личных имен и прозваний, указывающих на внешний вид человека. В именах этой группы нашли отражение разные признаки внешности человека: отличительные черты фигуры, лица, походки, цвета волос и общее впечатление, которое производил именуемый на окружающих. Характеристика особенностей фигуры человека отражена в антропонимах Вакора и Сухан. Имя Вакора зафиксировано в следующем контексте: У Вакоры Чюхчене(м)ца взял от котла провару 5 алтын 2 денги (КЦСМ, л. 15 об.). Слово вакора в архангельских говорах означало ‘кривое малорослое дерево, суковатый обрубок дерева, корягу’ [ПГ, с. 100; Даль, т. 1, с. 161]. Признаки, имеющиеся в этом слове, могли быть обобщены, переосмыслены и стать основой для имени собственного. На базе возникающей ассоциативной оценки, образного представления Вакорой могли называть невысокого, нестройного, неуклюжего человека. Общерусское некалендарное имя или прозвище Сухан, которым могли назвать худого, сухого человека [СПФ, с. 365], употреблено в следующей записи: Сухану Кирпичнику дал за кирпичи за пятсот рубль (КЦСМ, л. 31). 65 Было выявлено лишь одно прозвание, указывающее на отличительные черты лица именуемого: Остроносов. Этот антропоним, распространенный на многих территориях Российского государства, образован из сочетания слов острый и нос. В нашем материале он зафиксирован в следующей записи: К новым колоколам ковал языки из старого языка Иля Остроносов (КЦСМ, л. 31 об.). Особенности походки человека нашли отражение в антропонимах Хромой и Шавреев. Общерусское прозвание Хромой могло принадлежать хромающему человеку, имеющему указанную особенность, возможно, в связи с врожденным или приобретенным физическим дефектом: Иван Хромой да Тимофей Вага на посад ездил по гвоздье (КЦСМ, л. 39). Собственное имя Шавреев – у Агафана Шавреева купил десять … на подставкы … дал … денги (КРБЦК, л. 13) – восходит к прозвищу Шаврей, Шавра, связанному с отмеченными в разных диалектах глаголами шаврать – ‘ходить с трудом’, шаврить – ‘ходить вяло, медленно, волочить ноги; шаркать’ [СПФ, с. 429]. Антропонимы Беляев и Буланов в семантике исходных апеллятивов содержат указание на цвет волос именуемых. Фамилия Беляев – У Семена Беляева взял верхонского сено треть 30 алтын (КЦСМ, л. 14) – образована от прозвища Беляй, восходящего к общерусскому слову беляй – ‘человек со светлыми волосами’ [СлРЯ, вып. 1, с. 137]. Именование Буланов восходит к архангельскому слову буланой – ‘темнорыжий’ [АОС, вып. 2, с. 171]: У Ивана Буланова взял от котла … денги (КЦСМ, л. 20). В изучаемых источниках также зафиксированы имена, дающие общую характеристику внешности человека: Грязной, Коровкин, Некрасов, Рудаков. Некалендарное личное имя Грязной происходит от прилагательного грязной, обозначающего в северно-русских говорах объект «с темным налетом». Имя давали неопрятному, нечистоплотному человеку [Даль, т. 1, с. 403]. Приведем контекст, в котором употреблен этот антропоним: От Шестодневца книги от переплету Грязному Ермолину дал 10 алтын 4 денги (КПБК, л. 38 об.). Фамилия Коровкин происходит от прозвища Коровка. Апеллятив коровка в разных русских говорах обозначает ‘черный груздь; чурбан, обрубок дерева’ [СРНГ, вып. 14, с. 353]. Вероятно, внешний вид именуемого имел сходство в чем-то с реалией, обозначаемой исходным словом. Предположим, человек внешне неказистый, невысокого роста [СПФ, с. 185]. Это именование зафиксировано в следующей записи: Меду купил два безмена у Бориса Коровкина (КЦСМ, л. 41). Фамилия Некрасов восходит к общерусскому некалендарному имени или прозвищу Некрас, которое могли дать ребенку в качестве оберега или назвать уже взрослого некрасивого человека [СРФ, с. 81]. В изучаемых памятниках письменности эта фамилия употреблена в контексте: Павел Некрасов привез празгового жита … мер (КЦСМ, л. 48). Именование Рудаков, происходящее от некалендарного имени или прозвища Рудак, употреблено в следующей записи: По скалы да по гвоздье ездил на посад Первой Рудаков с товарищи дал 3 алтна (КЦСМ, л. 38). Прозвище Рудак в одном из значений исходного апеллятива могло указывать на то, что именуемый был нечистоплотным человеком. Слово руда в архангельских говорах обозначает ‘грязь, чернота, пятно на одежде’, а рудак – ‘грязный, выпачканный’ [СРНГ, вып. 35: 232–233). Однако слово рудый – ‘рыжий, рыже-бурый’ 66 [СРФ, с. 104], свидетельствует о том, что указанное прозвище могло быть дано человеку с рыжим цветом волос. Анализ некалендарных имен рассмотренной группы свидетельствует о том, что часть антропонимов восходит к словам, прямо характеризующим внешность человека, например, Грязной, Некрасов, Хромой, а часть – к лексемам, обозначающим различные реалии. Именования типа Вакора, Коровкин создавались на основе образных представлений и ассоциативных оценок, возникающих у людей в связи с особенностями внешнего вида именуемого. В 14 антропонимах, мотивированных признаком ‘род деятельности лица’ и составляющих четвертую по частотности группу, находят отражение распространенные в регионе виды занятий населения, промыслы и ремесла. В первую очередь отметим, что основными занятиями северян издавна были охота и рыболовство. Меха соболей, песцов, бобров, куниц, белок высоко ценились и были важным продуктом обмена и торговли. Особым спросом пользовались сало морских зверей и ценные породы рыб. Север снабжал внутренние области государства продуктами своей местной промышленности, среди которых наиболее важное место принадлежало рыбе (особенно семге), салу и кожам морских зверей, мехам [Булатов 1997, с. 109]. Об указанных занятиях жителей Архангельской губернии могут свидетельствовать именования Мешина, Путиков и Печеркин. Прозвание Мешина происходит от слова мешина – ‘мех, меховая шкурка’ [СРНГ, вып. 18, с. 149]: Генваря в … день купил меду 3 гривенки у Мешины дал 3 алтны (КЦСМ, л. 26 об.). Выскажем предположение, что человек с таким прозвищем мог заниматься добычей или обработкой звериных шкурок, либо пошивом или продажей меховых изделий. Именование Путиков восходит к некалендарному личному имени или прозвищу Путик. Путиком в архангельских диалектах называли либо охотничью тропу, на которой ставят силки, ловушки, либо звериный след, либо ряд поставленных в лесу силков и капканов [СРНГ, вып. 33, с. 150]. Именование Путик, возможно, принадлежало охотнику. Этот антропоним зафиксирован в следующем контексте: У Федора Путикова взял от котла гривну (КЦСМ, л. 17 об.). Фамилия Печеркин происходит от прозвища Печерка из слова печерка, имеющего значение ‘самодельный рыболовный крючок из иголки’ [СРНГ, вып. 26, с. 350]. Полагаем, Печеркой могли назвать рыбака, который изготавливал рыболовные снасти (крючки). Именование встретилось в записи: Того же дни купил темьяну 2 гривенкы у Михала Печеркина (КПБК, л. 22). На Архангельском Севере значительное развитие получило кузнечное дело [Булатов 1997, с. 179]. О распространении этого вида деятельности свидетельствует именование Кузнец, впрочем, широко распространенное на всей территории России. Это прозвание образовано из названия человека по профессии [Даль, т. 2, с. 212]: Майя в … день продал жита 10 мер Окулу Кузнецу (КЦСМ, л. 16). Важным промыслом было солеварение, которым занимались крестьяне Поморья. Необходимость большого количества соли для удовлетворения потребностей населения региона и слабость торговых связей стимулировали в древние и средние века поиск и разработки местных источников соли. Соляное производство было делом государственной важности и являлось одной из доходных от67 раслей. Все солеварни находились во владении компаний складчиков и монастырей, поскольку бурение скважин и организация солеварения требовали большого начального капитала. «Развитое на Руси строительство водоводов и кузнечное дело способствовали тому, что уже с конца 13 века соляные скважины стали разрабатывать при помощи ручного бура с железным наконечником и укреплять деревянными трубами» [Галашевский, Рубцов 1993, с. 109]. На соляных варницах рабочими высшей квалификации являлись трубные мастера и повара. В изучаемых источниках мы находим подтверждение существования профессии трубного мастера. В «Книге церковного старосты...» в записи: у Филипа Трубникова взял верхонка от степанцова и от головных перелогов 2 алтна (КЦСМ, л. 17) употреблена фамилия Трубников. Она образована от прозвища Трубник, восходящего к слову трубник – ‘рабочий, устанавливающий соляные трубы для добычи соляного раствора из-под земли’ [СПФ, с. 381]. О развитии в регионе кирпичного дела может свидетельствовать зафиксированное в исследуемых документах прозвание Кирпичник: Сухану Кирпичнику дал за кирпичи за пятсот рубль (КЦСМ, л. 31). Кирпичник – ‘изготовитель кирпичей, кирпичный мастер, работник или торговец’ [Даль, т. 2, с. 110]. К XVII в. Холмогоры стали самой заселенной областью Двинской земли. Здесь были распространены прядильные и ткацкие предприятия, развито ремесленное изготовление предметов одежды. Шитье было необходимым занятием, и потому такая профессия, как портной, получила широкое распространение. В анализируемых документах нами зафиксирована фамилия Швецов: Того же дни продал сена … луг … 23 кучи Зотику Швецову (КЦСМ, л. 6 об.). Это именование образовано от прозвища Швец, восходящему к слову швец – ‘портной’ [Фасмер, т. 4, с. 419]. Прядение шерсти и изготовление валенок издавна были распространенными ремеслами на севере. Это подтверждают изучаемые источники, в которых встретилось прозвание Шерстобой: Взял празги у Костантина Шерстобоя гривну (КЦСМ, л. 17). Оно восходит к слову шерстобой, шерстобит – ‘человек, особым смычком бьющий шерсть, готовя ее для пряжи или валки; человек, изготавливающий валенки’ [СРФ, с. 166–167]. Велико было значение военных профессий. Жителям Архангельской земли не раз приходилось защищать свою территорию, отражать нападения шведов, поляков, англичан [Булатов 1997, с. 304]. В исследуемых памятниках письменности зафиксировано прозвание Пушкарь: Декабря в … день продал сена на Княжестрове на дворишной трети 30 куч зеленого Пушкарю Кирилу (КЦСМ, л. 8). Это именование происходит от слова пушкарь, имеющего значение ‘человек, обслуживающий пушки, артиллерист’ [СлРЯ, вып. 21, с. 73]. В.Н. Булатов отмечает, что с 1621 г. в Холмогорах появились стрельцы, гарнизон которых во много раз превосходил вооруженные силы Новохолмогор (Архангельска) [Булатов 1997, с. 183]. Действительно, в документе XVII в. Холмогорского уезда зафиксировано прозвание Стрелец: Кирилу Стрел(ь)цу продал жита сто мер (КЦСМ, л. 9 об.). Стрелец – в России XVI – начала XVIII вв. – военнослужащий особого постоянного войска [БТС, с. 1278]. О распределении обязанностей в церковной сфере свидетельствуют именования Иконников, Просвирнин, Проскурнин, Трапезник. Фамилия Иконников восхо68 дит к прозванию Иконник: Еремею Иванову Иконникову дал задатку от подзорных досок от писма рубль (КЦСМ, л. 33 об.). Слово иконник имеет значение ‘иконописец’ [ПЦСС, с. 219]. Именования Просвирнин и Проскурнин образовались от прозвищ Просвирня и Проскурня, восходящих к словам проскурня, просвирня – ‘женщина, выпекающая просфоры (просвиры, проскуры, проскурки) – церковные обрядовые хлебцы’. Просвирней / проскурней могла стать добродетельная старица, вдова или девица. В Древней Руси просфоры пекли частные лица и продавали их на рынках. «Назначение на это особых лиц началось со Стоглавого собора» [ПЦСС, с. 517]. Приведем контексты, в которых употреблены указанные фамилии: От переставки от просвирнины избы дал Михалу да Ивану Просвирниным полтину (КРБЦК, л. 2 об.); Нанял двух человек ехати встречать плот Чешуино Якова Клементьева да Ивана Проскурнина (КРБЦК, л. 11 об.). Прозвище Трапезник образовано из слова трапезник – ‘сторож при сельской церкви; он же и звонарь’ [СРФ, с. 137]. Это именование зафиксировано в записи: У Первого Трапезника купил … дров полторы сажени (КРБЦК, л. 11 об.). Рассмотренные именования позволяют получить сведения о бытовавших в XVII в. на территории Архангельской губернии занятиях, ремеслах, профессиях, названия которых в большинстве случаев восходят к диалектным или архаичным словам, многие из этих занятий в настоящее время не существуют. Таким образом, антропонимы являются ценным источником, в котором хранится информация об исчезнувших видах деятельности населения региона. Следующая группа имен, мотивированных признаком ‘наименования природных объектов’, состоит из 13 антропонимов. Внутри группы мы отметили антропонимы, восходящие к названиям животных, рыб, насекомых, птиц и растений. Рассматриваемые именования являлись тотемическими, то есть связанными с древнейшими религиозными представлениями. Животные, птицы и растения становились у родовых общин объектами поклонения, считались родственными определенной общности людей. Указанные антропонимы имели сакральный смысл и отражали мироощущения и мировосприятия древнего человека. Для жителей Архангельского Севера взгляд на взаимоотношение человека с природой являлся особенным. В регионе широко были распространены культы животных, птиц и растений [Жукова 1999, с. 373]. К названиям зверей восходят два общерусских антропонима: Бобров и Волк. Личные имена или прозвища Бобр и Волк могли даваться детям при рождении в качестве охранительных (животное-тотем оберегало ребенка от невзгод и болезней), а могли и принадлежать уже взрослым людям, получившим прозвания на основе ассоциаций с внешним видом или поведением данных животных. Так, именование Бобров, происходящее от прозвища Бобр, могло принадлежать человеку с черным цветом волос, по сходству с шерстью этого зверька [СРНГ, вып. 3, с. 38]. Приведем контекст, в котором употреблено это имя: Купил скал сотню сорок у Михала Боброва дал … алтын (КЦСМ, л. 39 об.). Апеллятив волк, лежащий в основе прозвания Волк, имеет такое значение, как ‘человек угрюмый, нелюдим’ [Даль, т. 1, с. 233]. Именование зафиксировано в записи: Нанял новую веревку шеиму делати Семена Волка Колмогорца с товарищи (КРБЦК, л. 13 об.). 69 Именование Рыба, происходящее от общерусского слова рыба, употреблено в записи: У Василя Рыбы взял … денги (КЦСМ, л. 19). В основе указанного имени лежит общее название, что не позволяет точно обозначить образное содержание, поскольку может быть сравнение по разным признакам, приписываемым этой реалии. В частности, человек, названной Рыбой, мог быть неразговорчивым, молчуном, мог любить ловить или есть рыбу, мог иметь внешность, сходную в чем-то с рыбой. Анализ внутренней формы общерусской фамилии Комаров, восходящей к названию насекомого, в отличие от именования Рыба, позволяет с достаточной полнотой определить мотивирующий признак, который представляет образный компонент, положенный в основу имени собственного. Так, Е.Н. Полякова отмечает, что прозвище Комар, от которого образовалась фамилия, могли дать надоедливой или имеющей высокий голос личности, в связи с переносом свойств насекомого на человека [СПФ, с. 177]: Попи Дружина дал на церковной ход по Иване Комарове да по черной попе Феодосии полтину (КЦСМ, л. 15). К именам, данным по названиям птиц, относятся: Гоголев, Кочет, Кочетов, Круков, Курочка, Лебедев, Пелепелкин, Сорокин. Фамилия Гоголев восходит к распространенному на разных русских территориях слову гоголь, которое имеет значения ‘дикая утка’ или ‘франт, щеголь’ [Даль, т. 1, с. 364]: Того же дни купил меду 2 безмена у Безсона Гоголева дал 4 алтына 4 денги (КПБК, л. 29). Возможно, второе значение слова появилось в результате метафорического переноса особенностей поведения или внешнего вида птицы на человека. Антропоним Круков образован от прозвища Крук из слова крук – ‘ворон’ [Даль, т. 2, с. 202]: У Третека Крукова взял от котла 4 алтна (КЦСМ, л. 15 об.). Указанное прозвище мог получить человек по сходству с птицей вороном. Именование Курочка образовано из слова курочка, которым в различных северно-русских говорах называли разных птиц: курицу, тетерку, самку рябчика, кукушку [СРНГ, вып. 16, с. 142]. Приведем контекст, в котором зафиксировано это прозвание: У Булгаковых прикащика у Якова Курочки купил 2 пуды конопли на седалные веревки дал 30 алтын (КЦСМ, л. 36). Фамилия Лебедев происходит от некалендарного имени или прозвища Лебедь из названия птицы лебедь [ТПФ, с. 436]: богоявленю Христову по серебряни по Ондреи Лебедеве жена его Федора дала образы складни (КЦСМ, л. 20 об.). Фамилия Пелепелкин, образованная от прозвища Пелепелка, восходящего к слову пелепелка – ‘перепел’, ‘птица’ [Даль, т. 3, с. 28], употреблена в записи: от котла взял у Родиона Пелепелкина 4 алтны (КЦСМ, л. 18). И наконец, именование Сорокин, происходит от некалендарного имени или прозвища Сорока, образованного от слова сорока – ‘птица’ [ТПФ, с. 411]. Прозвание Сорока могло быть дано болтливому человеку по сходству с птицей сорокой [СРФ, с. 119]: Того же дни купил 2 безмена меду у Первого Сорокина дал 6 алтын (КРБЦК, л. 6). В ряд антропонимов, восходящих к названиям растений, мы включили именования Мохов, Орехов и Соснин. Культ деревьев и объектов флоры в прошлом был характерной чертой религии северян. Растениям поклонялись, наделяли их душой и способностью влиять на человеческую судьбу, относились к ним очень бережно [Жукова 1999, с. 372]. Однако с течением времени культовые традиции уходили в прошлое, и имена, возможно, давались людям на основе признаков, 70 сближающих людей с объектами растительного мира. Так, фамилия Мохов, зафиксированная в тексте: Купил сотню скал у Ненокшан у Моховых (КЦСМ, л. 39), происходит от прозвища Мох, образованного из слова мох [СРНГ, вып. 18, с. 308]. Такое прозвище могли дать человеку по сходству в чем-либо с указанным растением или работнику, использующему мох в своем повседневном ремесле, например, плотничестве. Именование Орехов образовано от некалендарного имени или прозвища Орех из названия растения орех [ТПФ, с. 383]: У Василя Орехова взял от котла провару 2 алтна 2 денги (КЦСМ, л. 7 об.). Фамилия Соснин, происходящая от некалендарного имени или прозвища Сосна из слова сосна – ‘хвойное дерево’ [ТПФ, с. 409], употреблена в записи: Ондрей Соснин дал Козмины Маркова пожных денег 19 алтын (КПБК, л. 4 об.). Указанные прозвища Орех и Сосна, от которых образовались рассматриваемые фамилии, вероятнее всего, возникли на основе внешнего сходства с растениями. В частности, Сосной могли назвать человека высокого, рослого, сильного. Итак, имена, в основе которых лежат названия животных, насекомых, птиц и растений могут отражать древние религиозные представления, являться тотемами-оберегами или указывать на черты, приписываемые объектам фауны и флоры или наблюдаемые у них, затем путем обобщения такие черты переносятся на человека по метафорическому принципу. К универсальным факторам имянаречения относятся обстоятельства, связанные с появлением ребенка в семье. В эту группу антропонимов (13 единиц), распространенных во многих русских регионах, входят зафиксированные в изучаемых рукописных документах XVII в. имена Богдан, Ждан, Поздей и фамилии Майков и Томилов, отражающие ситуационные условия появления детей в семье. В словарях приводятся различные значения апеллятива богдан: Богдан – либо ‘неродной, приемный сын (богоданный)’ [Фасмер, т. 1, с. 183], либо ‘внебрачный ребенок’ [СРГК, т. 1, с. 83]; это имя давали еще некрещеному ребенку [Даль, т. 1, с. 102]. Некалендарное личное имя Богдан может являться калькой с заимствованного Феодот (греч. theodotos – ‘данный богом’) [СПФ, с. 53]. Имя употреблено в записи: купил темьяну гривенку у Богдана Дудина дал пять алтын 4 денги (КЦСМ, л. 33). Имя Ждан давали ожидаемому ребенку [СРЛИ, с. 114]. Приведем контекст, в котором зафиксировано это имя: Ждан Емелянов привез празгового жита … мер (КЦСМ, л. 47 об.). Частотным является оним Поздей: У Поздея Дорофеева взял от котла 2 алтына (КЦСМ, л. 11). Этим некалендарным личным именем или прозвищем называли позднего ребенка [ССРФ, с. 375]. Фамилия Майков образована от некалендарного мужского личного имени Майко: У Степана Майкова взял от котла 2 алтна (КЦСМ, л. 21). Словарь русских народных говоров дает такое значение слова майко, как ‘горемыка’ [СРНГ, вып. 17, с. 304]. Мы полагаем, что имя Майко, в соответствии с этим значением исходного апеллятива, могло быть дано ребенку в связи с обстоятельствами, определяющими в будущем его несчастливую судьбу. Фамилия Томилов возникла от некалендарного имени Томило. Оно связано по происхождению со словом томить – ‘изнурять, истощать’ [ССРФ, с. 474] и могло быть дано ребенку, утомившему мать в родах. Указанная фамилия встретилась в таком контексте: Купил на богоявленской поповской двор на новой семдесят пять скал у Федора Томилова дал 12 алтын (КЦСМ, л. 15 об.). 71 В рассматриваемую группу были включены именования, фиксирующие порядок рождения ребенка. В изучаемых источниках выявлены следующие некалендарные антропонимы: Первой, Третьяк, Третьяков, Пятой, Шестой, Семой и Меньшиков. Имя Первой – кабалу на прошлого соцкого Первого Савелева и на волостных крестьян с пятинадцети рублех (КЦСМ, л. 2 об.) – могло быть дано первому сыну в семье [ТПФ, с. 154]. Некалендарным именем Третьяк называли третьего ребенка в семье [ССРФ, с. 476]. В изучаемых документах есть записи, в которых употреблено не только имя Третьяк, но и образованная от него фамилия Третьяков: У Третьяка Юженина купил двести скал дал рубль 10 алтын (КЦСМ, л. 37); У Михала Неверова да у Кирила Третьякова взял от котла провару 2 алтына 2 денги (КПБК, л. 20). Пятой – пятый сын в семье: кабалу на соцкого Пятого Степанова о пяти рублех а недоплаты по нем два рубли (КЦСМ, л. 3). Имена Шестой и Шестак могли принадлежать шестому сыну в семье [СРФ, с. 167]. Отметим, что в памятниках имя Шестой встретилось как в позиции первого личного имени, так и второго: Веревку купил Шестой Обухов (КЦСМ, л. 27 об.); у Гаврила Шестого купил на подмосткы сто жердья мастером в церкви дал 4 гривны (КРБЦК, л. 12). Во втором примере Гаврил – крестильное календарное имя, а Шестой – некалендарное, данное при рождении. Антропоним Шестак зафиксирован в контексте: у Шестака Фомина взял по … денги (КЦСМ, л. 19 об.). Личное имя Семой – седьмой [СРНГ, вып. 37, с. 157], принадлежащее седьмому сыну, так же, как и Шестой, употреблено в двух позициях: кабалу на Семого Омосова с товарищи с двадцати с десяти рублех а недоплаты по нем пол одиннадцата рубли (КЦСМ, л. 2 об.); Ноября в … день с кукшина свечных денег два рубли 25 алтын с полушкою а тут был Олексей Семой, Юрей Кирилов, Давыд Мастер (КЦСМ, л. 6). К этой же группе мы отнесли и фамилию Меньшиков, поскольку прозвище Меньшик могло принадлежать младшему сыну в семье [Даль, т. 2, с. 318]: Февраля в … день купил воску пять гривенок у Меньшикова Леонтьева дал 19 алтын без двух денег (КРБЦК, л. 6 об.). К исследуемой группе относятся два антропонима, указывающих на время рождения ребенка в семье: Посник и Майков. Первое имя давали ребенку, родившемуся во время поста [СПФ, с. 307]. Имя встретилось в записи: у Посника Василева взял от котла провару гривну (КЦСМ, л. 15 об.). Именование Майко, от которого, как было указано, произошла фамилия Майков, могло принадлежать не только «горемыке», но и ребенку, рожденному в мае [СРФ, с. 68]. Проанализированная шестая группа антропонимов указывает на то, что при именовании людей были актуальны различные условия, связанные с появлением ребенка в семье. Исследованные ряды имен отражают чувства и отношение родителей к своим детям (Ждан), свидетельствуют о важности для матери и отца времени рождения ребенка (Посник), указывают на многодетность семей (Первой – Семой). Седьмая группа антропонимов, которые мотивированы признаком ‘предметы быта’, включает 6 именований: Катманов, Коробкин, Мал(ь)гин, Палицин, Скобылинский и Шеляпин. Данные антропонимы появились на основе возникающих у именующих ассоциативных и образных представлений, связанных с существовавшими в рассматриваемый период реалиями. Именование Катманов, образо72 ванное от прозвания Катман (Котман) из слова котман, отмеченного в разных русских говорах и обозначающего ‘обнову’ [СРНГ, вып. 15, с. 108]. Это имя зафиксировано в приходно-расходной книге 1639 г.: Того же дни продал жита 3 меры зеленого недоходного Козмы Катманову по 2 алтна меру взял 6 алтын (КЦСМ, л. 11). Возможно, прозвищем Катман наделили человека, часто меняющего наряды. Все другие антропонимы связаны с предметами, используемыми в домашнем обиходе, а возможно, и являющимися объектами ремесленного производства. Не исключено внешнее сходство человека с рассматриваемыми предметами быта, однако мы склоняемся к версии, что именуемые, скорее всего, занимались изготовлением указанных вещей или часто использовали их в быту. Фамилия Коробкин происходит от прозвища Коробка, восходящего к слову коробка, зафиксированному на разных территориях Российского государства и имеющему значение ‘сосуд, корзина из липового лыка’ [Фасмер, т. 2, с. 330]. Указанная фамилия употреблена в записи: Десть бумаги купил на книги и на росписи у Борисова сына Коробкина дал … денги (КЦСМ, л. 22). Антропоним Мальгин, образованный от прозвища Мальга, по происхождению связан с диалектным словом мальга, которое в архангельских говорах имело значение ‘деревянное топорище’ [СРНГ, вып. 17, с. 343]. Приведем контекст: Да он же Василей дал котелних денег 5 рублев 6 алтын что сам Василей сало грел и людем отдавал Максиму Мал(ь)гину да Первому Ружныкову Мезенцу (КПБК, л. 4). Фамилия Палицин образована от прозвания Палица, восходящего к слову палица, обозначающему палку, посох, полено [Фасмер, т. 3, с. 193] на разных территориях страны или валик (в архангельских говорах) для выколачивания белья [СРНГ, вып. 25, с. 171]: Яков Палицин от переносу клетного что из старого двора вынес в новой поповской двор где поп Дружина живет дал … алтын 2 денги (КЦСМ, л. 32 об.). Можно предположить, что именование Скобылинский происходит от слова скобыль, скобыля (скобель) – ‘инструмент в виде изогнутого ножа с двумя поперечными ручками, служащий преимущественно для снимания коры, первичного обстругивания бревен, досок и т.п.’ [СлРЯ, вып. 24, с. 214]. В архангельских говорах скобель – это ‘нож для срезания с дороги травы с корнем или щетка для чистки шкуры животного’ [СРНГ, вып. 38, с. 38]. Этот антропоним употреблен в записи: У Юря Скобылинского взял верхонской земской земли 2 гривны (КЦСМ, л. 19). Именование Шеляпин, образованное от прозвища Шеляпа, возможно, восходит к отмеченным в разных русских регионах словам шеляпа – ‘железный увесистый кружок – битка при игре в бабки’ или шелеп – ‘палка, хворостина, ощепок’ [ЭРФ, с. 465]. Приведем контекст: Того же дни купил темьяну гривенку с третью у Семого сына Шеляпина дал три алтна (КЦСМ, л. 23 об.). Рассмотренные антропонимы, как показывает анализ апеллятивов, лежащих в их основе, содержат сведения о предметах быта, домашнего обихода, инструментах, которыми пользовались жители региона. Эти именования включают информацию и о хозяйственных занятиях, таких, например, как обработка белья, плотнические работы. Восьмая по частотности группа включает 4 антропонима, фиксирующих социальное положение именуемых: Дьяконов (Диаконов, Диеконов), Казаков, Карамзин, Попов. Указанная мотивирующая основа не является однозначной, по73 скольку в народном языковом сознании мог складываться определенный образ, связанный с той или иной профессией или родом занятий. Например, прозвания Дьякон и Поп могли ассоциироваться не только с принадлежностью называемых людей к сословию священнослужителей, но и с деятельностью, осуществляемой именуемыми. Фамилия Дьяконов, имеющая зафиксированные в изучаемых источниках варианты Диаконов и Диеконов, образовалась от прозвания Дьякон, восходящего к слову дьякон – ‘священнослужитель низшей (первой) степени церковной иерархии, помощник священника при богослужении и совершении таинств’ [СПЦК, с. 79]. Приведем контексты, в которых употреблены все варианты фамилии: Купил минею книгу месяц июнь из горды казны привез пристав Савин дал рубль 4 алтны пристав Савин взял … денги а тут был Соцкой Пятой Степанов да Семой Дьяконов (КРБЦК, л. 8 об.); Продал жита меру морозом бити … Семому Диаконову взял … денги (КЦСМ, л. 10 об.); Генваря в … день вынял ис кукшина свечных денег два рубли … алтын 3 денги а тут был Тимофей Фалелеев, Семой Диеконов (КЦСМ, л. 8 об.). Именование Казаков происходит от прозвища Казак из слова казак, используемого в значении ‘вольный человек, кочующий с места на место’ либо ‘наемный работник, батрак’ [Даль, т. 2, с. 73]: Июня в … день купил меду 12 гривенок у Степана Казакова дал 12 алтын (КЦСМ, л. 35 об.). Фамилия Карамзин восходит к прозвищу, имеющему тюркскую основу: qara – ‘черный’ и mirza – ‘титул человека знатного происхождения’ [ТПФ, с. 14], и отмечена в записи: Купил у Карамзиных детей пятьсот гвоздья чем дуги маковины сколачивати дал рубль (КЦСМ, л. 24). Антропоним Попов образован от некалендарного имени Поп или от прозвища, которое могли получить потомки священника [Фасмер, т. 3, с. 327]: Ждан Федоров Попов дал … денег сорок алтын (КЦСМ, л. 3 об.). Проанализированные именования содержат информацию о социальной структуре общества. Исследуемый антропонимический материал включает три слоя населения: священнослужители, наемные работники и знать. Прозвища, указывающие на социальное положение их обладателей, позволяют судить о значимости этого признака, который осознавался как идентифицирующий. Следующая группа имен, мотивированных признаком ‘религиозная сфера’, немногочисленна и представлена антропонимами: Пустыня, Спасский и Троецкий. Однако отметим, что имена Дьяконов, Попов и Иконников, Просвирнин, Проскурнин, Трапезник, отнесенные к той группе, которая мотивирована признаками ‘социальное положение’ и ‘род деятельности’, могут быть также отнесены и к этой группе. На Архангельском Севере к исходу XVII в. насчитывалось свыше ста семидесяти монастырей и пустынь [Булатов 1997, с. 290]. Значение религиозных центров (монастырей, церквей и пустынь) было очень велико, и потому, на наш взгляд, слова из указанной сферы иногда переходили в разряд имен собственных. В рассматриваемых памятниках деловой письменности зафиксирован антропоним Пустыня, употребленный в качестве личного имени: Нанял двух человек ехати встречать плот Чешуино Якова Клементьева да Ивана Проскурнина дал … денги от Мекентьева Пустыни а волостные крестьяне не поехали (КРБЦК, л. 11 об.). Это имя образовано от слова пустынь, имею74 щего значение ‘уединенная обитель, одинокое жилье, келья, лачуга отшельника, одинокого богомольца, уклонившегося от сует, или нештатный монастырь’ [Даль, т. 3, с. 542]. Именования в форме прилагательных – Спасский, Троецкий и подобные – давались священникам или церковным мастерам по принадлежности их к определенной церкви. Спасский относится к церкви во имя Спаса [Даль, т. 4, с. 288]: Колесо купил болшее в Шелгу з железом и с укладом у церковного Спасского мастера у Спасского Петра дал 4 алтына (КРБЦК, л. 12), Троецкий – к Троицкой церкви, монастырю или храму: У Троецкого попа у Ивана взял от котла провару 10 денег (КПБК, л. 13 об.). И последнюю группу составляют имена собственные, мотивирующий признак которых мы обозначили как ‘семейные ценности и связанные с ними обрядовые традиции’. В эту группу включены именования Кустов, Родня и Ружныков. Именование Кустов восходит к прозвищу Куст, образованному от общерусского слова куст – ‘большое потомство’ [СПФ, с. 205]. Приведем запись, в которой отмечен этот антропоним: Семен Кустов дал по отцы своем на церковной обиход … алтын (КЦСМ, л. 18 об.). Рассматривая имена группы, связанной с обстоятельствами появления ребенка в семье, мы отметили, что семьи были большими. Человек, имеющий много детей, получал прозвище Куст, то есть факт многодетности родителя воспринимался как его отличительный признак. Следующее прозвание – Родня – восходит к общерусскому слову родня, имеющему значение ‘очень близкие, дружно живущие родственники’ [СРНГ, вып. 35, с. 142], оно зафиксировано в записи: По скалы ездил на посад Федор Романов да Михало Родня (КЦСМ, л. 35 об.). Фамилия Ружныков, употребленная в контексте: Да он же Василей дал котелних денег 5 рублев 6 алтын что сам Василей сало грел и людем отдавал Максиму Мал(ь)гину да Первому Ружныкову Мезенцу (КПБК, л. 4), образована от прозвища Ружнык (Ружник). Это прозвище происходит от слова ружник, которое в архангельских говорах имеет значение ‘шафер, дружка невесты, обычно ее брат’. В свою очередь слово ружник образовалось от существительного руга – ‘приданое’, это мотивировано тем, что именно дружка должен был нести приданое невесты в дом молодоженов [Фасмер, т. 3, с. 514]. Как видно из описанного примера, рассматриваемая фамилия содержит информацию об обряде, связанном со вступлением в брак. Таким образом, именования этой группы свидетельствуют о ценности родственных отношений, значимости семьи, хранят сведения о старинных традициях и обрядах, связанных с началом семейной жизни. Как показывает анализ внутренней формы некалендарных имен, иногда их затруднительно однозначно отнести к той или иной группе, поскольку велико разнообразие мотивирующих признаков, положенных в основу именований. Наличие двойственной или множественной мотиваций в именах собственных отражает объективно сложный процесс именования и не должно рассматриваться как препятствие к анализу образного компонента. Неоднозначность семантики внутренней формы не означает, что нельзя получить сведения об особенностях культурных представлений жителей изучаемого региона, о наиболее актуальных чертах, находящих отражение в антропонимах. Исследуемый материал включает 15 таких именований, которые мотивированы различными семантическими признаками или сразу несколькими. Так, антропо75 нимы Добрыня, Добрынин и Обухов совмещают в себе признаки, указывающие на интеллектуальные особенности личности и ее черты характера. Именования Добрыня и Добрынин происходят от апеллятива добрыня, который имеет значения ‘умный, дельный’ [СПФ, с. 113] или ‘хороший, добрый человек’ [СРЛИ, с. 97]. Эти антропонимы употреблены в следующих записях: на судю Добрыню и на волостных крестьян кабалу с десяти рублех (КЦСМ, л. 2); Сухих малых кож ворваних продал Омеляну Щелинину тритцать четыре кожици да малых два удирка за одну кожу что удирки шли от Василя Павлова по алтыну кожицу всех денег взял тритцать пять алтын а те кожы малые Василевы дачи да Добрынины (КПБК, л. 11 об.). Фамилия Обухов образована от прозвища Обух, восходящего к слову обух, которое имело значения – ‘тупой, глупый человек’ и ‘упрямый человек, неслух, околотень’ [Даль, т. 2, с. 629]. Это именование отмечено нами в «Книге церковного старосты Давыда Максимова»: Купил темьяну пол трети гривенки у Обухова приказщика у Михала дал 13 алтын (КЦСМ, л. 23). Оним Дубов мог быть мотивирован двумя признаками, характеризующими интеллектуальные способности и физические данные человека. Фамилия Дубов восходит к прозвищу Дуб, образованному из слова дуб. В словаре Даля дается следующее значение этого слова: ‘бестолковый, малосообразительный человек’ [Даль, т. 1, с. 498]. Однако прозвище Дуб, возможно, имело и другой мотивационный признак, то есть могло быть дано человеку крупному, крепкому, здоровому [СРНГ, вып. 12, с. 329]. В.М. Богуславский отмечает, что в русской национальной культуре понятие физической крепости и здоровья связано с крупным телосложением и высоким ростом человека [Богуславский, с. 12]. Эта фамилия зафиксирована в следующем контексте: От спусканы от тое веревки Федосею Дубову дал 6 алтын (КЦСМ, л. 36). Наличие признаков, указывающих на физические данные человека и черты его характера, наблюдается в именованиях: Каменный – Продал Луки Каменному 2 меры жита морозом бити что конем на … взял 2 алтна 4 денги (КЦСМ, л. 12); Пузанов – У Панфила Пузанова взял от котла 2 алтна (КЦСМ, л. 12); Худяков – Игнатей да Ларион Худяковы привезли з Гач перелога пол … меры (КЦСМ, л. 47 об.) и Чалый – Верхонка взял у Осипа Чалого в Луготине от Степанцова да от головного перелога гривну отданы (КПБК, л. 14). Каменным, возможно, называли человека, крепкого физически или жесткого, твердого по характеру, в соответствии с общерусскими переносными значениями слова каменный или на основании ассоциаций (крепкий как камень), возникающих при оценке внешних физических свойств именуемого или особенностей его характера и поведения. В архангельских говорах слово камень имеет значения ‘гора; горная цепь, хребет’ [СРНГ, вып. 13, с. 22]. На основании указанных диалектных значений исходного слова можно высказать предположение о том, что прозвание Каменный возникло вследствие образного переноса свойств реалии на человека. Так, рассматриваемое именование могли дать человеку не только с твердым характером или крепким здоровьем, но и высоким ростом и крупным телосложением. Внешние признаки нередко переносились на внутренний мир человека. Фамилия Пузанов образована от некалендарного личного имени Пузан, восходящего к слову пузан. В архангельских говорах это слово употреблялось в значении ‘лен76 тяй’ [СРНГ, вып. 33, с. 113], хотя могло иметь и другое значение ‘пузатый человек (полный)’ [Даль, т. 3, с. 536]. Фамилия Худяков образована от некалендарного имени или прозвища Худяк. Это прозвище, восходящее к слову худой, могло быть дано либо плохому, либо худощавому человеку [СПФ, с. 407]. Прозвание Чалый мог получить рыжеватый с сединой [Фасмер, т. 4, с. 313] или настырный, прицепляющийся к людям человек, ухажер. Глагол чалить обозначает ‘ухаживать, приволакиваться; прикреплять, прицеплять’ [Там же]. Два антропонима Мельцов и Подшивалов могли быть мотивированы признаками ‘качественные характеристики человека’ и ‘род деятельности лица’. Прозвище Мелец, от которого произошла фамилия Мельцов: Марта в … день купил пол пуда воску у Федорова приказщика Мел(ь)цова дал 2 рубли денег (КПБК, л. 31 об.), мог получить либо человек, работающий на мельнице, либо пустомеля [Даль, т. 2, с. 318]. Фамилия Подшивалов образована от прозвища Подшивало, восходящего к слову подшивала, которое имело значения ‘ученик портного’, ‘человек, подшивающий постройку досками’, ‘остряк, подхалим, подлиза’ [СРНГ, вып. 28, с. 256]: Таляйко Подшивалов писал грамотку на Княжестров о сенах взяли четверть от грамоткы денгу (КЦСМ, л. 27). Имя Роспута могло быть мотивировано признаками, указывающим на черты характера и поведение человека или время рождения ребенка. Слово роспута обозначает ‘разврат, распущенность’ [СРНГ, вып. 34, с. 191] или ‘пора года, когда по дорогам не проедешь, и место, где сходятся и расходятся пути’ [Ведина, с. 369]. В соответствии со вторым значением исходного слова, имя Роспута могло быть дано ребенку, если он появлялся на свет ранней весной или поздней осенью в бездорожье, либо вообще в пути. Приведем контекст: Февраля в … день купил меду два безмена у Роспуты Спиридонова дал пять алтын (КЦСМ, л. 28). Антропонимы Бузунов, Кривцов, Кулик, Лытка, Лыткин имеют следующие мотивирующие признаки: ‘наименования природных объектов’, ‘внешний вид’, ‘качественные характеристики человека’. Слово бузун, к которому восходит антропоним Бузунов, в архангельских говорах имеет значение ‘окунь’ [СГРС, т. 1, с. 249]. Кроме того, это слово обозначает и ‘драчуна, буяна’ и связано с глаголами бузить, бузовать – ‘двигаться с шумом, энергично; громко спорить, ссориться’ [Даль, т. 1, с. 137]. Приведем контекст, в котором используется это имя: Юрей Бузунов дал по жене своей на церковной обыход 2 гривны (КЦСМ, л. 18 об.). Фамилия Кривцов происходит от прозвища Кривец, восходящего к слову кривец. Этим словом могли называть птицу кулика [СПФ, с. 196], оно имеет и другое значение – ‘кривой, одноглазый человека’ [СлРЯ, вып. 8, с. 54]. Рассматриваемое именование употреблено в следующем контексте: Марта в … день купил два безмена меду у Ивана Кривцова дал пять алтын (КЦСМ, Л. 29 об.). Прозвище Кулик происходит от слова кулик, которым называли голенастую болотную дичь; глупого, недогадливого человека; пьяницу, пропойцу или человека с длинным носом [Даль, т. 2, с. 216]: Ноября в … день продал сена на Княжестрове на дворищной трети стрельцу Федору да Кирилу Кулику 57 куч (КПБК, л. 7 об.). Именования Лытка и Лыткин восходят к слову лытка, которым в северно-русских говорах могли называть породу уток. В архангельских 77 говорах лытка – это ‘нога; бедро, голень ляжка’; лыды – ‘длинные ноги’ [СРНГ, вып. 17, с. 226]. От слова лыды образовалось именование Лыдъко, которое после падения редуцированных приобрело форму Лытко. Приведем запись, в которой встретились рассматриваемые антропонимы: Нанял на колмогорах у земского двора … бревна высекати Якова Лыткина (КРБЦК, л. 10); Нанял Чешуино лес и тес из воды выздымати Якова Лытку да Первого Рудакова (КРБЦК, л. 11 об.). Именования Кочет и Кочетов мотивированы признаками ‘наименования природных объектов’ и ‘предметы быта’. Эти антропонимы по происхождению связаны со словом кочет, в рязанских диалектах имеющего значение ‘петух’, а также используемого в разных регионах для обозначения флюгера или ключа, колышка, всаженного в борт лодки вместо уключины [Даль, т. 2, с. 181]. В значении ‘уключины’ в архангельских диалектах употреблялось слово кочетки [ПГ, с. 183]. Прозвище Кочет, возможно, получил человек боевой, смелый, задиристый, любящий носить одежду ярких цветов, либо внешне похожий на предметы, обозначаемые словом кочет, либо ремесленник, изготавливающий флюгеры, уключины. Приведем контексты, в которых зафиксированы эти антропонимы: Нанял жердья провадити з горки Дружину что у Кочетовых живет на погост дал 2 денги что у Ивана купил (КРБЦК, л. 11 об.); у Сергея Ларионова да Юря Кочета взял от котла провару … алтын 4 денги (КЦСМ, л. 13 об.). Прозвание Вага имеет множественную мотивацию. Оно могло быть образовано от слова вага и иметь такое значение, как ‘ивовый кустарник, растущий сплошной полосой по берегам рек, ивняк’ или ‘лентяй(ка), отлынивающий(ая) от работы’. Кроме того, это именование мог получить выходец с реки Ваги, левого притока Северной Двины [Фасмер, т. 1, с. 264; СРНГ, вып. 4, с. 63]. Прозвание употреблено в следующем контексте: Тимофей Вага … на трапезнику дал 2 денги на праздник на крещение (КЦСМ, л. 26 об.). Проведенное исследование некалендарных имен жителей Архангельской губернии XVII в. позволило выявить связь рассматриваемых антропонимов с общерусской и диалектной лексикой. Однако, несмотря на то, что в основе ряда именований лежат общерусские слова, наличие их в региональных записях свидетельствует об их значимости для данной территории. В изучаемых источниках отмечены некалендарные личные имена: Вакора, Коряка, а также фамилии и прозвания: Болдырь, Бузунов, Буланой, Варакса, Каменный, Лытка, Лыткин, Мальгин, Палицин, Пузанов, Путиков, Рудаков, Ружныков, Скобылинский, Шиш, которые происходят от слов, бытующих в архангельских говорах. Эти антропонимы, в зависимости от значений исходных диалектных слов, имеют следующие мотивирующие признаки: ‘качества человека’, ‘внешний вид’, ‘предметы быта’, ‘род деятельности’, ‘этническая принадлежность’, ‘наименования природных объектов’, ‘семейные ценности и обрядовые традиции’. Мотивированность архангельских антропонимов указанными признаками дает возможность судить о наиболее важных для жителей региона реалиях, наименования которые служили основой для образования имен собственных. Итак, для понимания образного компонента, лежащего в основе имени, значимым является изучение внутренней формы антропонимов. Данный образный компонент обусловлен реалиями жизни населения Архангельского края и позволяет проникнуть в систему ценностей, складывающуюся в языковом сознании людей. 78 1.4. Компонентный состав как основа образной мотивации фразеологизмов русского языка Близость семантических характеристик слов и фразеологизмов – одна из причин перенесения принципов систематизации лексики на описание фразеологии, преувеличения сходства слов и фразеологизмов, и как следствие недостаточная их дифференциация. С другой стороны, многокомпонентный состав фразеологизмов, их характеристика как раздельнооформленных, относительно устойчивых, образных единиц языка, обладающих целостным обобщеннопереносным значением, приводит к преувеличению их специфики. Тогда как эта специфика, проявляющаяся, в частности, «в постоянной актуализации диахронического момента, в совмещенности диахронии и синхронии» [Мокиенко 1982, с. 110], неразрывно связана с особенностями развития лексических единиц. Так, формирование переносных значений, приобретение лексическими единицами символического смысла (или смыслов) способствует их фразеобразовательной продуктивности. Семантика фразеологизма воспринимается в единстве чувственно-наглядного образа и сформировавшегося на его основе актуального значения, ментального смысла. И поэтому не случайно, что среди направлений, активно разрабатываемых во фразеологии, представлены исследования, посвященные изучению фразеологических единиц (ФЕ), объединенных общим компонентом [Власова 1988; Козлова 2003; Кононенко 1991; Мокиенко 1980а и др.]. Вопрос о статусе фразеологического компонента и его роли в формировании значения фразеологизма длительное время был предметом дискуссионного обсуждения [Гаврин 1974; Жуков 1975; 1978; 1986; Мелерович 1983; Мокиенко 1980б; Молотков 1977; Попов 1976; Шанский 1985; Шмелев 1973; Чепасова, Ивашко 1988 и др.]. Неоднозначные оценки касались семантического соотношения компонента фразеологизма со словом. Перспективным для изучения фразеологизмов в функциональном, коммуникативно-прагматическом, лингвокультурологическом аспектах стало признание большинством фразеологов словесной природы фразеологических компонентов. При этом не утратили своего значения теоретические положения, касающиеся характеристики идиом как единиц языковой системы, в том числе и в концепциях, согласно которым компоненты фразеологизма – это не слова. В частности, утверждение В.П. Жукова о том, что «у разных типов фразеологизмов наблюдается разная степень сближения (или удаления) их со словом» [Жуков 1978, с. 70]. Убедительны выводы ученых и о наличии языковых показателей, свидетельствующих о полной или частичной утрате компонентами лексического значения, а также грамматических и парадигматических характеристик слова [Там же, с. 71–78; Чепасова 1974]. Например, наблюдение относительно обязательной утраты словомкомпонентом связи с прежней тематической группой в составе ФЕ [Чепасова, Ивашко 1988, с. 23]. Так, действительно, компоненты-соматизмы не могут быть включены в группу «части тела»: голова – ‘1. Часть тела человека или животного, состоящая из черепной коробки и лица (или морды животного)’ и дубовая го79 лова – ‘тупой, бестолковый человек; тупица’; ломать голову – ‘усиленно думать, стараясь понять, разрешить что-нибудь трудное’; язык – ‘1. Подвижный, удлиненной формы мышечный орган в полости рта, являющийся органом вкуса, а у человека участвующий также в образовании звуков речи’ и язык заплетается – ‘кто-либо не может членораздельно, ясно сказать что-либо’; глаз – ‘1.Орган зрения, а также само зрение’ и глаза собачьи – ‘бессовестный, нахальный человек’; ухо – ‘1. Орган слуха, а также наружная часть его в форме раковины’ и уши вянут – ‘противно слушать что-либо, настолько это нелепо, глупо и т.п.’ [Лопатин, Лопатина, с. 124, 904, 119, 834]. Тем не менее связь компонентовсоматизмов со словами-названиями частей тела значима при определении исходной образности и, следовательно, актуализируется при употреблении соответствующего фразеологизма в речи. Поэтому неудивительно, что дальнейшее развитие получили идеи о назначении контекстуальных распространителей компонентов фразеологизма. По мнению А.И. Молоткова, они уточняют или оттеняют те или иные стороны значения фразеологизма. Причины этого исследователь объясняет тем, что компоненты ФЕ «хотя и утратили признаки слов, тем не менее, по своему звуковому облику всегда в речи ассоциируются с живыми словами языка: такая ассоциация поддерживается постоянным и активным употреблением слов параллельно с компонентами, генетически к ним восходящими» [Молотков 1977, с. 68]. Уточнение компонента В.М. Мокиенко рассматривает как результат семантического «перенапряжения» фразеологизма, как средство усиления его экспрессивности при сохранении целостного фразеологического значения, как особый тип актуализации внутренней формы. «Эта актуализация нередко заключается в предельной конкретизации компонента, собственное лексическое значение которого уже растворилось в целостной фразеологической семантике» [Мокиенко 1989, с. 117]. Признание словесной природы компонентов фразеологизма аргументируется систематизацией различных видов варьирования компонентов фразеологизма [Диброва 1981]. Например, из 886 ФЕ с компонентом-соматизмом разным типам варьирования подвергаются 123 единицы, что составляет примерно 14% от их общего количества. Такое варьирование получает различное выражение: – лексико-семантическое: бросать в лицо [в глаза]; воротить нос [рыло, морду]; гнуть спину [хребет, шею]; лизать пятки [ноги, руки] и т.д.; – словообразовательное: ушки [уши] на макушке; острый язык [язычок]; – морфонологическое: посыпать голову [главу] пеплом; – морфологическое: палец о палец не ударить [пальцем о палец не ударить]; чесать языки и чесать языками; – изменение количества лексических компонентов, не нарушающих тождества единицы: ни аза <в глаза>. Вопрос о вариантности фразеологизмов становится актуальным в исследованиях, посвященных изучению проблемы фразеологического употребления в речи, узуальных и окказиональных вариантов, актуализации семантических оттенков эврисемичных ФЕ [см.: Артемьева 1991; Бондаренко 1995; Макаров 1997 и др.]. В процессе функционирования фразеологизма в речи может происходить актуализация одного или более компонентов. Иначе говоря, в речи 80 «существенную роль может играть лексическое значение исходных слов-компонентов ФЕ, актуализируется либо его системное значение, либо его потенциальные семы, либо значение по ассоциации» [Глотова 1997, с. 122]. Таким образом, может показаться, «что несловность компонентов... является правилом в системе языка, в речи же довольно часто происходит восстановление прямого или переносного значения исходных слов; семантика компонента ФЕ оказывает влияние на ФЕ в речи, то есть словный характер компонентов сохраняется виртуально, что очевидно при актуализации в речи» [Там же]. Сохраняет свою актуальность и получает дальнейшее развитие разработка понятия внутренней формы фразеологизмов, которая, основанная на прямых значениях составляющих его слов, «не угасает бесследно, она участвует в формировании нового оценочно-эмоционального значения ФЕ» [Попов 1976, с. 38]. По мнению Р.Н. Попова, внутренняя форма в ФЕ обладает гораздо большей актуальностью, чем в слове, делает смысловую структуру устойчивого словосочетания более богатой и в то же время более сложной [Там же, с. 32]. Иными словами, компонент ФЕ представляет собой особое явление: он сосредотачивает в себе словные и не словные характеристики. Семантическая слитность приводит к утрате словности (В.П. Жуков, Р.Н. Попов и др.) и эта утрата не позволяет компоненту ФЕ приобретать в речи полную автономность. Однако раздельнооформленность в результате взаимодействия фразеологизма со «средой» позволяет актуализировать компонент, возвратить ему статус слова (А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко и др.). Исследование компонентного состава на современном этапе актуально в аспекте изучения фразеологии в контексте культуры. Понимание взаимодействия языка и культуры на материале фразеологии предполагает выявление через компонентный состав фразеологизмов экстралингвистических предпосылок их образования и языковых способов отображения в них черт культуры определенного языкового сообщества. Как отмечает В.Н. Телия, «при изучении фразеологии в контексте культуры необходимо учитывать интертекстуальные “линии смысловых сдвигов” от “культурем” (по терминологии Ю.А. Сорокина [Сорокин 1994]) до той значимости, которую фразеологизмы, соотносимые с ними, обнаруживают в синхронно рассматриваемом тексте» [Телия 1999, с. 20]. Изучение компонентного состава актуально также в плане определения сущности фразеологического значения и его соотношения с понятием употребление как «речевого феномена, закрепляющего актуальный смысл единицы в высказывании, не нарушающего тождества ее значения и имеющего способность к развитию у нее новых семантических оттенков и отдельных значений» [Макаров 1997, с. 75]. При определении специфики фразеологического значения выясняется роль компонентного состава в формировании фразеологического образа как структурирующей основы фразеологического значения, причем различаются аспекты его анализа. В диахроническом аспекте фразеологический образ – это та структурирующая основа, которая способствовала формированию фразеологического значения в единстве и взаимодействии его компонентов (сигнификативного, де81 нотативного, коннотативного, структурного, этнокультурного). В синхронном аспекте фразеологический образ – это активно действующий мотиватор обобщенно-переносного фразеологического значения, поддерживающий, прежде всего, коннотативные возможности фразеологизма [Солодуб 1997, с. 48]. Кроме того, компонентный состав участвует в порождении смыслового содержания фразеологизма в различных контекстах употребления: «Смысловое содержание мотивируется фразеологическим значением, внутренней формой, компонентным составом – и семантикой, грамматическим, лексическим, фразеологическим составом текста предложения и т.д.» [Мелерович, Мокиенко 1988, с. 5]. И в первом и во втором случае определение статуса и функций компонентов фразеологизма связано с понятием фразеологический образ [см.: Солодуб 1996]. Немаловажно, что именно своеобразие фразеологического образа, эксплицированного словесным комплексом-прототипом, позволяет выявить одну из особенностей фразеологического значения – его эврисемичность: «…по своей внутренней структуре фразеологический образ сложнее лексического образа, он более нагляден, в большей мере эксплицирован и детализирован, для его формирования актуальны семантические взаимоотношения компонентов. Большая эксплицированность фразеологического образа, сложность внутренних отношений между его лексическими компонентами чаще расширяет не только коннотативные, но и номинативные возможности фразеологизма, делает значение фразеологизма эврисемичным» [Солодуб 1997, с. 51]. Поэтому для разработки положения о специфике фразеологического значения как значения эврисемичного целесообразно исследовать роль компонентного состава в формировании его образной основы в диахронном и синхронном аспектах. Не случайно В.М. Мокиенко неоднократно подчеркивал, что «история языка… не только помогает точно измерить упрятанные в его недрах сокровища, но и ясно оценить все нюансы его современного употребления» [Мокиенко 1986, с. 57]. Рассмотрим в свете обозначенных теоретических установок фразеологические единицы с компонентом-соматизмом, называемые меронимическими [см.: Гак 1999]. Обращение к этому материалу объясняется рядом факторов. Во-первых, соматизмы относятся к «примарной лексике» [Филлмор 1983], которая «хранит в своих значениях знания первого этимона» и характеризуется способностью «обрастать» рядом ассоциативных производных, выступать в роли центра переосмысления и образования большого числа фразеологически связанных значений [см.: Уфимцева 1988, с. 122–123, 124, 129–130]. Во-вторых, соматизмы как часть картины мира, отображающей культурное самосознание, означивают установки культуры, которые «воспроизводятся и транслируются из поколения в поколение, создавая предпосылки для традиционной их преемственности в самосознании социума» [Телия 1999, с. 19]. В-третьих, соматизмы и меронимические фразеологизмы обнаруживают связи с мифологическими пластами культуры, с религиозным мировосприятием, с рефлексами научного познания мира и т.д., то есть с такими текстами культуры, как миф, ритуал, религия, фольклор и др. В-четвертых, соматизмы участвуют в отражении знакового содержания культуры в виде ее кодов и в сочетании с различными компонентами формируют 82 образную основу ряда фразеологизмов русского языка. «Кумулятивнопреемственная природа сознания хранит в своей окультуренной коллективной памяти эти коды и смысл образующих их таксонов» [Там же, с. 21]. Ср.: «…языковая картина мира, складывающаяся исторически на протяжении многих веков, обладает высокой степенью устойчивости, традиционности, и… лишь при накоплении значительного, возможно, критического объема нового в мировоззрении народа она может приобрести способность к заметному изменению» [Симашко 2006, с. 8]. В-пятых, соматизмы входят в симболарий культуры, то есть служат таксонами того или иного ее кода и обладают «культурной семантикой» [Толстой, Толстая 1993], функцией культурных знаков [Топоров 1995, с. 29]. Причем соматизмы могут не только обозначать типичное для них отождествление «части» и «целого», но и представлять собой ментофакты (типа душа, сердце, кровь). В-шестых, соматизмы являются элементами симболария, которые участвуют в тропеическом процессе формирования фразеологического значения (символы, эталоны, ритуалы и его части, мифологемы, архетипы, стереотипы). В-седьмых, названия «частей тела» входят в семантическое поле «Партонимия» [Филлмор 1983], что является системообразующей основой образования семантических полей, значимых для русской метафорической картины мира, основанной на ассоциативно-образных представлениях. Образное представление определяется «как абстрагированный от семантики конкретных образных слов и выражений стереотипный для определенной языковой культуры образ, воплощающий представления языкового коллектива о явлениях идеального мира сквозь призму впечатлений о мире реальном, чувственно воспринимаемом, а также совмещающий представления о предметах реального мира на основании ассоциативной общности их признаков» [Шенделева 1999, с. 75]. В.Н. Телия подчеркивает, что «по антропоцентрическому канону создается та “наивная картина мира”, которая находит выражение в самой возможности мыслить явления природы или абстрактные понятия как “опредмеченные” константы, как лица или живые существа, обладающие антропоморфными, зооморфными и т.д. качественными, динамическими и ценностными свойствами» [Телия 1999, с. 174]. Исследователь отмечает, что «в основе тропеических механизмов лежит и антропометрический принцип, согласно которому “человек – мера всех вещей”. Этот принцип проявляется в создании эталонов, или стереотипов, которые служат своего рода ориентирами в количественном или качественном восприятии действительности» [Там же]. Образ большей части меронимических фразеологизмов восходит к мифологической форме осознания мира – анимистической, то еть одушевляющей, олицетворяющей телесную часть, которая метонимически замещает самого человека. Приведем отдельные наиболее яркие примеры фразеологизмов с компонентом голова. Среди фразеологизмов с этим компонентом были выделены призначные, качественно-обстоятельственные [см. классификацию классов фразеологизмов на основе их категориального значения: Чепасова 1974] и процессуальные [см.: Лебединская, Усачева 1999]. Первые объединяют исходные смыслы кто и ка83 ков, вторые – кто, как и иметь место, третьи – кто и иметь место, а также кто, иметь место и каков (о понятиях «исходные смыслы» и «смысловые пространства дейктических глаголов» см.: [Шведова 1998, с. 12–16; 42–46]). Во фразеологизмах компонент голова соотносится с соматическим кодом культуры. ФЕ с этим компонентом могут быть объединены в две группы: 1) фразеологизмы, в которых голова олицетворяет человека в целом, – как <будто, словно, точно> снег на голову; на свою голову; валить <сваливать, свалить> с больной головы на здоровую; гладить <погладить> по головке <реже – по голове, по головке> кто кого <за что> и др.; 2) символизирует ум, разум, рассудок, умственные способности человека – без царя в голове; ломать голову; держать в голове; вылетать/вылететь из головы и многие др. Обратимся к анализу первой группы фразеологизмов. ФЕ как <будто, словно, точно> снег на голову употребляется в ситуациях, когда лицо или группа лиц появляется где-либо внезапно, неожиданно, незапланированно. Положительная или отрицательная оценка такого появления конкретного лица или группы лиц варьируется и определяется в зависимости от контекста. Так, в следующих примерах внезапное появление лица не одобряется: В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс (В. Распутин «Уроки французского»); Явился голубчик. И опять как снег на голову… Сколь же времени его не было?.. Да, два месяца. Как всегда. Исчез неизвестно куда, два месяца никаких сведений, и вот, пожалуйста, как чертик из коробки…(А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров»); В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И всетаки приезд старухи был для меня как снег на голову (Ф. Абрамов «Деревянные кони»); – Ну, вы, как всегда, в своем репертуаре – являетесь словно снег на голову (Речь). Положительное отношение обычно мотивируется какой-либо объективной причиной: – С Галей Барановой мы учились в одной школе. – <…> Ты ей звонила? – продолжила я беседу. – Гальке? Зачем? Чтоб она предупредила своего бизнесмена и он насторожился? Нет, мы с тобой свалимся как снег на голову, и парень махом расколется, если у него рыльце в пушку (Т. Полякова «На дело со своим ментом»); Несколько раз порывался домой. Но это не так просто… Поезда-то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности… В любой день могу нагрянуть как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму (Б. Пастернак «Доктор Живаго»); После окончания института Анна не видела Игоря лет пятнадцать, ничего о нем не знала, и вдруг его звонок – будто снег на голову (Речь) и т.д. Употребляется данный фразеологизм и в ситуациях, когда какое-либо событие, известие, чувство застает человека врасплох. Говорится с неодобрением о торжественных датах: Сколько ни готовься к торжественным датам, в конце концов они сваливаются как снег на голову (А. Крон «Дом и корабль»); о первом дне войны: Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей <…>, она обрушилась как снег на голову (К. Симонов 84 «Живые и мертвые»); о войне 1914 г.: – Для меня эта война [1914 г.] как снег на голову, хотя я давно слышала о ее неизбежности (В. Каверин «Перед зеркалом»). Говорится с одобрением о любви: Пускай бы все зависело не от нее: как снег на голову – любовь! И ничего тут не сделаешь – судьба (С. Залыгин «Южноамериканский вариант»); о поддержке: Вам большое спасибо: ваша поддержка и сильна, и как снег на голову (А. Эртель «Гарденины»); об успехе дела: Шабель взял фольварк без единого выстрела. Их [партизан] налет был как снег на голову (Н. Островский «Рожденные бурей»); К выступлению она готовилась кое-как, и поэтому неожиданный успех был для нее точно снег на голову (Речь) и т.д. Проясняет значение и употребление фразеологизма культурологический комментарий – своеобразный «ключ» [Вежбицкая 1997] к толкованию, культурные смыслы, лежащие в основе мотивированности его значения. Так, в мифологических представлениях голова символически связывается с верхом, с главенством и рассматривается как средоточие жизненной силы и вместилище ума [СМ, с. 106]. В анализируемом фразеологизме голова «предстает как верхняя, “открытая”, незащищенная, наиболее уязвимая точка в вертикальном положении человеческого тела, “принимающая на себя” нападки и несчастья, обрушившиеся на человека» [БФСРЯ, с. 301]. Ср. ФЕ на свою голову, свалиться на голову, валить с больной головы на здоровую. Образ фразеологизма «отображает также стереотипное для русских представление о снеге как о стихийном бедствии, которое, как правило, всегда оказывается неожиданным и застает врасплох, несмотря на реальную предсказуемость времени наступления этого природного явления и на возможность предотвращения его последствий» [Там же]. Таким образом, фразеологизм содержит метафору, в которой непредвиденное, неожиданное и, возможно, нежелательное для человека событие уподобляется внезапно выпавшему снегу, и в целом выступает в роли эталона внезапности, незапланированности происходящего. ФЕ на свою голову имеет значение ‘сделать что-л. себе во вред, в ущерб’ [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 148] и употребляется для характеристики необдуманных действий лица, которые приводят к неприятным, нежелательным последствиям, обычно говорится с досадой, с сожалением [БФСРЯ, с. 431]. Например: Дома она взяла книжку Кина и легла с ней на диван <…> Пал Палыч позвал Антонину пить чай – она не пошла… – Вот достал книгу на свою голову! – сердито подумал Пал Палыч (Ю. Герман «Наши знакомые»); – Ах я глупенькая! – сказала Пашенька. – Чего я наделала! Вот на свою голову послушалась боярыни! (А.К. Толстой «Князь Серебряный»); – Я тоже хочу в отпуск, – сердито заметил вслух Турецкий. – И еще спать хочу! А вот где, я сейчас пойду покурю – и решу. – Ты с кем там разговариваешь? – донеслось из спальни. – Ну, вот, – сокрушенно развел руками Турецкий, – разбудил-таки! На свою голову! (Ф. Незнанский «Ищите женщину»); – И что за человек! Так и ищет приключений себе на голову (Речь). В других контекстах могут, однако, актуализироваться и иные эмоционально-оценочные смыслы: возмущение – Стой, тебе говорят! – крикнул Иван. – Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. – Сейчас – остановился, держи 85 карман! – Наум нахлестывал коня. – Оглоед чертов… откуда ты взялся на нашу голову! <…> Тебя, дьявола, голого почесть в родню приняли, а ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету? (В. Шукшин «Волки»); насмешка – Товарищи кочегара посмеиваются: «Связался ты с лодырем на свою голову!» (Л. Кассиль «Далеко в море»); сомнение, опасение – Подписывай вот тут свою фамилию <…>. – Да как же можно подписывать, коли не знаешь суть. Может, мы на свою голову подписываем (Ф. Решетников «Глумовы»); ирония – На будущих же выборах в Америке, пока еще единственной в мире демократической супердержаве, победный лозунг должен звучать иначе: «Делись добром, дурачок, и не будет на твою голову никаких талибанов!» («Литературная газета», 2002, № 4). Относительно происхождения фразеологизма имеются различные версии [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 148]. По одной из них, фразеологизм восходит к тексту Библии: «Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на главу его, и Господь воздаст тебе» (Притч. 25: 22) [см.: Шанский, Зимин, Филиппов, с. 85; БФСРЯ, с. 431]. По мнению И.М. Снегирева, оборот калькирован с греческого и латинского языков [Снегирев 1832, с. 87]. Д.К. Зеленин связывает выражение с русской языческой мифологией – с обычаем направлять на кого-либо дурные последствия запретных слов или злых предвестий в раздражении. «Так поступали, например, охотники по отношению к “закудыкавшему” (то есть задавшему “запретный” вопрос “Куда?”), говоря при этом: “На твою голову!”. Обычно говорили это и о карканье вороны, предвещающем смерть: чтобы предотвратить свою смерть, присутствующий направляет ее на ворону с заклинанием: “На свою бы тебе голову!”. Говорят это и в случаях, когда собака воет, роя яму на дворе и предвещая тем самым смерть хозяина: “На свою голову!”» [Зеленин 1930, с. 13]. Ю.А. Гвоздарев, отметив, что голова символизирует объект, на который направлены несчастья, нападки на человека, предполагает, что первоначально речь шла о конкретно-физическом действии – например, камнях, обрушивающихся на головы кого-либо. Не исключает ученый и такое объяснение, согласно которому первоначально речь шла о колдовском действии – когда колдун обещает взять чью-либо вину на себя, на свою голову [Гвоздарев 1988, с. 120–121]. Образ фразеологизма соотносится также с практикой заговоров и примет. Например, в словаре В.И. Даля читаем: Прилетели на свою голову (о птице, залетевшей в избу, ее стараются поймать и сорвать ей голову); Кабы тебе на свою голову! (напророчить кому-л. злое) [Даль, т. 1, с. 367]. В книге А.К. Байбурина «Ритуал в традиционной культуре» находим информацию о поверьях, распространенных у восточных славян: «Новый дом всегда строится “на чью-нибудь голову”: при рубке первых бревен будущего дома строительплотник непременно кого-нибудь заклинает – членов семьи хозяина дома или домашних животных. Данное поверье связано с представлением о строительной жертве» [Байбурин 1993, с. 158]. Все эти древние поверья, обычаи, ритуалы, в том числе нашедшие отражение в библейском тексте и т.д., имеют глубокие корни в мифологической форме окультуренного осознания мира, для которого характерно олицетворение частей тела, а также метоническое их отождествление с человеком. Аналогичный вывод напрашивается и относительно фразеоло86 гизма валить <сваливать, свалить> с больной головы на здоровую, происхождение которого связывают с одним из приемов «магического» излечения болезней посредством «передачи» их кому-либо другому – человеку или животному и соответствующим заговором: У кошки боли, у собачки боли, а у дитятки пройди (заживи); Икотка, икотка, перейди на Федотку, с Федотки – на Якова, с Якова – на всякого [Шанский, Зимин, Филиппов, с. 130; Зимин, Спирин, с. 106, 206; Мелерович, Мокиенко, с. 171; Фелицына, Мокиенко, с. 69; Грушко, Медведев, с. 412; Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 150]. В свете всего сказанного выше отметим, что не случайно фразеологизм на свою голову передает стереотипное представление о неприятностях, которые человек обычно сам навлекает на себя. Анимистические представления отражены и в образе фразеологизма гладить <погладить> по головке (реже – по голове, по головкам) кто кого <за что> – семантического деривата русских жестов или жестового поведения. Данный фразеологизм имеет эврисемичное значение ‘хвалить, одобрять; относиться со снисхождением’. Системное значение конкретизируется в контекстах, обозначающих ситуации, когда лицо или группа лиц довольны действиями, поступками другого лица, другой группы лиц. Данный фразеологизм употребляется с одобрением или с иронией [БФСРЯ, с. 152], например: Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь (И. Бабель «Конармия»). Однако в контекстах могут актуализироваться и потенциальные семы, при этом изменяется эмоционально-оценочный компонент значения. Например, в контексте Что скрывать – тебя да Федьку по головке гладят. Вы оба надежда института (П. Николин «Новые дворики») говорящий с неодобрением оценивает отношение преподавателей к сокурсникам (поощряют, выделяют и т.п.). Или: – Как вы будете ее учить <…>? – спросила учительница. – Выдерем. – Тогда вы ничего больше от меня про Валю не услышите <…>. – Но неужели же за такое по головке гладить? (Ф. Вигдорова «Любимая улица») – в ответной реплике высказывается недоумение и реализуется потенциальная сема ‘оставить без последствий, не наказать за проступок’. Довольно часто актуализируется значение по ассоциации. Например: Даже Ленину иногда хотелось “гладить людей по головкам” (то есть ‘пожалеть’), хотя ведь знал, что этого нельзя, что по головам надо бить, бить безжалостно (Сегодня, 2000). Или: Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и – наутек… – Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут. – Как же, по головке погладят (то есть ‘сомнительно, что пощадят’) (А. Веселый «Россия кровью умытая»). Ср. также: – Ты лучше, Кушаверов, скажи, долго ли вы будете ваших богатеев по головке гладить? (то есть ‘не подвергать репрессиям’) (К. Седых «Даурия»); – Если я, например, захочу быть императором… Или… взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара… по головке погладите? (то есть ‘не привлечете к суду, не накажете’) (А. Терц «Суд идет»). Обратимся к рассмотрению второй группы фразеологизмов, в которых компонент голова символизирует умственные способности человека. Фразеологизм без царя в голове имеет языковое значение, эврисемичное по содержанию понятия, – ‘о взбалмошном, глупом, пустом, неосмотрительном 87 человеке, не умеющем управлять собой’ [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 738]. Заметим, что в словарях представлены и менее развернутые толкования понятийного компонента значения, ср.: ‘очень глуп, недалек’ [ФСРЯ, с. 507]; ‘глуповат, без соображения’ [БФСРЯ, с. 35]. О том, что фразеологизм имеет широкое значение, свидетельствует информация о типовых ситуациях употребления, описанных в «подзоне» толкования в БФСРЯ: «Имеется в виду, что лицо, группа лиц не имеет собственного мнения, не может управлять собой, своими поступками, ведет себя непредсказуемо, легкомысленно» [Там же]. Эврисемичность значения анализируемого фразеологизма подтверждается также и контекстами. Например: Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове – один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения (Н.В. Гоголь «Ревизор»). Или: – …Говоришь, ветреный человек? Без царя в голове? – Летун – подтвердил я (А. Безуглов «Следователь по особо важным делам»); – А есть, знаешь, и такие…, без царя в голове. Если его не укрепить на одном месте – сиди работай, как все, не рыпайся никуда и семью не мучай, – так он до веку сам своей жизни не устроит (В. Овечкин «Без роду, без племени»); Папа убежден, что все приехавшие – неудачники, бездомные, без даря в голове. Так и говорит: «Все они без царя в голове» (Б. Шустров «Заполярная сказка») и др. Оценочная характеристика лица как взбалмошного, легкомысленного, глуповатого, пустого и т.д. основывается на впечатлении о поведении, поступках, образе жизни конкретного человека. Поэтому в значении анализируемого фразеологизма содержится потенциальный смысл иметь место. Это, в свою очередь, способствует развитию фразеологизма в соответствии с возможностями языковой системы: во-первых, образуются варианты ФЕ (нет царя в голове, не иметь царя в голове); во-вторых, формируются антонимы без царя в голове – не без царя в голове: – В боевой обстановке он не нужен. Там показатель работы всех: сбил цель или нет. – А вы не без царя в голове, – улыбнулся Незнамов (Н. Грибачев «Ракеты и подснежники»); – Для этого, между прочим, в колхозах есть и ученые – агрономы, зоотехники, да и мы, председатели, вместе с правлением тоже не без царя в голове (И. Стаднюк «Люди не ангелы»); в-третьих, появляются оттенки значения, которые актуализируются благодаря сочетанию ФЕ с разными глаголами (*без царя в голове делать что-л.; делаться, то есть ‘без соображения, необдуманно’ [БФСРЯ, с. 35]). Ср.: Русский человек без двух вещей обойтись не сможет – без водки и без царя… Насколько я мог заметить, многие на Руси живут без царя в голове и прекрасно обходятся, – улыбнулся Циолковский (Е. Евтушенко «Ягодные места»). Отмеченные особенности семантики рассматриваемого примера объясняются спецификой формирования образа фразеологизма. Происхождение идиомы связывают с имплицированием пословицы: либо У каждого свой царь в голове [Федоров 1973, с. 162–163], либо Свой ум – царь в голове [Гвоздарев 1977, с. 99, 103–104; Мокиенко 1980б, с. 93; Зимин, Спирин, с. 243; Фелицына, Мокиенко, с. 337–338; Грушко, Медведев, с. 25; Жуков, с. 66]. На базе пословиц в XIX в. формируются фразеологизмы с царем в голове и без царя в голове. «Постепенно 88 отрицательная форма фразеологизма стала более употребительной и в современном языке окончательно вытеснила положительную» [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 738–739]. Заметим, что ФЕ с царем в голове (‘очень умен, смышлен, сообразителен’ [ФСРЯ, с. 506]) фиксируется во «Фразеологическом словаре русского языка» без пометы устар.; ср. также употребление в контексте: В делах он (русский народ. – Т.Ш.) смекалист, потому что – с царем в голове (А.Н. Толстой «Разгневанная Россия»). Образ пословиц и сформировавшихся на их основе фразеологизмов связан не только с анимизмом, но и с архетипическим представлением о «верхе» и соотносится через компонентный состав с социально-иерархическим, соматическим и пространственным кодами культуры. При этом голова символизирует внутреннее пространство человека, в котором осуществляется мыслительная деятельность. С одной стороны, образ фразеологизма «создается антропной метафорой, уподобляющей ум как интеллектуальный “верх” царю как верховному правителю, наличие которого символизирует высшую, абсолютную власть в государстве» [БФСРЯ, с. 35]. С другой стороны, «отсутствие ума уподобляется пустоте в голове, что противоречит представлению о наличии у человека ума» [Там же]. Данное представление, а также оценка ума как главного руководящего свойства человека находит отображение во фразеологии и фольклоре: пустая голова; голова два уха; голова без мозгов; винтиков (шурупов) в голове не хватает; голова садовая (баранья, дубовая, еловая, куриная); дырявая голова; каша в голове; голова <котелок, мозги> варит <варят> у кого и др.; Голова как лукошко, а мозгу ни крошки и Ум над телом воспаряет; Ум под небеса уходит и до Бога доходит; Голова приросла, а уму воля дана; Ум сам по себе, голова сама по себе; Нету царя – нету ума; Голова без ума, что фонарь без свечи; Нет в голове, нет и в мошне [см.: БФСРЯ, с. 35; Химик, с. 116–117]. В свете сказанного выше фразеологизм без царя в голове в целом выступает в роли эталона глупости, неспособности человека отвечать за свои поступки. При этом эврисемичность его системного значения, обязанная своим развитием отмеченным особенностям образа фразеологизма, проявляется в его идеографической диффузности [см.: Телия 1994, с. 92–94], то есть ФЕ входит более чем в одно поле, так как используется для характеристики не только интеллектуальных способностей человека, но и его черт характера, поведения, поступков, образа жизни, социального статуса, взаимоотношений в социуме. По характеру образной основы ряд фразеологизмов с компонентом голова образует единое смысловое пространство, связанное с оценочной номинацией различных ситуаций мыслительной деятельности человека. Причем по денотативной соотнесенности эти фразеологизмы являются эврисемичными, чему способствуют следы древнего синкретизма в обыденном общении, которое «сплошь и рядом опирается на ассоциативный характер человеческого мышления» [Подюков 1990, с. 9]. Проиллюстрируем данное положение, объединив фразеологизмы в три группы с учетом эмоционально-оценочного отношения говорящего к тому, о чем говорится. Основанием для распределения ФЕ послужили соответствующие пометы в лексикографических источниках. Заметим, что в речи рассматриваемые фразеологизмы проявляют свойство оценочной эв89 рисемичности, которая выражается в подвижности, неоднозначности их оценочного созначения [см.: СОВРЯ; Телия 1999]. Большая часть примеров входит в группу фразеологизмов с отрицательной оценкой. Так, с неодобрением говорится взбредать <взбрести> в голову <на ум> что <кому>; лезть в голову что кому; забивать <забить, набивать, набить> себе голову (1) кто чем; забивать < забить> голову (2) кто кому, чью чем; вбивать <вбить, вколачивать, вколотить, вдалбливать, вдолбить, втемяшивать, втемяшить> <реже – себе в голову или в головы> кто что <кому, чью>; вылетать <вылететь, выскакивать, выскочить, улетучиваться, улетучиться, выветриваться, выветриться>, вон <из головы> что <у кого, чьей>. Группа фразеологических единиц с положительной оценкой немногочисленна: держать в голове <уме> 2. кто что; выбросить <выкинуть> из головы <реже – памяти> кто кого, что; голова <котелок, мозги> варит <варят> у кого. Часть фразеологизмов характеризуются эврисемичностью коннотативного компонента значения, при этом в словаре либо отсутствуют эмоционально-оценочные пометы, либо оговаривается, что оценка может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости от отношения говорящего к обозначаемой ситуации: на уме <реже – в голове> что <у кого>; приходить <прийти> в голову <на ум> что <кому>; держать <иметь> в голове <уме, мыслях> 1. кто что; перебирать <перебрать> в уме <памяти, мыслях> кто что; из головы <из ума, с ума> не идет <не выходит> что, кто у кого, чьей; ломать <реже – поломать, изломать> <себе, всю> голову <реже – головы> кто <над чем>. Остановимся на особенностях семантики отдельных фразеологизмов из числа перечисленных выше. ФЕ взбредать <взбрести> в голову <на ум> что [кому], передавая в целом стереотипное представление о неконтролируемости мыслительного процесса, может характеризовать мысли, идеи, решения, догадки, которые появляются в сознании лица или группы лиц внезапно, случайно, неосознанно, а также результаты речевой деятельности (фразы, пение и др.), высказываемые или исполняемые совершенно неконтролируемо, и поэтому обычно оцениваются говорящим как нелепые, вздорные, странные. По данным словарей, фразеологизм имеет неодобрительную эмоционально-экспрессивную окраску [см.: Ожегов, с. 83; БФСРЯ, с. 438]. Действительно, отрицательное отношение актуализируется в контекстах, в которых описываются ситуации, когда говорящий противопоставляет себя кому-либо или ожидает непредсказуемого и неприятного поступка кого-либо. Например: Кому-то взбрело в голову, что я должен все бросить и куда-то нестись. А мне кажется, что я никому ничего не должен, не должен даже и отвечать. У меня своих дел по горло (В. Войнович «Москва 2042»). Или: Впрочем, мне до вас нет ни малейшего дела, а записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды (Б. Акунин «Азазель»). Ср. также: – У Маши свободный диплом, неизвестно, что ей взбредет в голову (А. Вампилов «Прощание в июне»); Поверьте мне, я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбредает в голову без указания свыше (В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»). 90 Однако, по нашим наблюдениям, данный фразеологизм может выразить и неодобрительную оценку. В этих случаях обозначаются ситуации, характеризующие взволнованное состояние лица или беспечное, радостное восприятие жизни группой лиц: – А наст хороший сегодня, правда? – поспешно спросил он первое, что взбрело ему в голову (Б. Бедный «Девчата»); Помню прекрасно его лицо… но никак не могу вспомнить его имени, отчества и фамилии, – мы с ним каждое воскресенье распевали все, что нам взбредало на ум (А. Куприн «Запечатанные младенцы»). Расширению смысловых возможностей анализируемого фразеологизма способствует формирование на его основе варианта что <когда> в голову <на ум> взбредет. В этой форме фразеологизм употребляется в контекстах, обозначающих ситуации, когда лицо или группа лиц делает что хочется, когда вздумается, действует легкомысленно или независимо, подчиняясь какому-либо настроению, впечатлению, сиюминутному порыву и т.п. При этом эврисемичность проявляется и в коннотативном компоненте значения. В зависимости от содержания контекста выражается возмущение поведением конкретного лица, недоумение относительно бездействия государственной власти, эмоционально подчеркнутое желание делать что-либо запретное и т.д. Например: И как это Лирка может? Подходит к ней запросто, говорит, что взбредет в голову, хохочет вовсю (Ф. Вигдорова «Черниговка»). Или: Самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная – государственная власть могла допустить, что люди… вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову (Е. Замятин «Мы»). Ср. также: Я говорю вообще о свободе. В том числе о свободе не ходить на эти митинги и собрания, говорить что хочешь, писать что на ум взбредет … (В. Войнович «Антисоветский Советский Союз»). Фразеологизм выбросить <выкинуть> из головы <реже – памяти> кто кого, что, передавая стереотипное представление о волевом решении забыть то, что длительное время тревожило человека, может обозначать отказ лица или группы лиц от мыслей, воспоминаний, переживаний по поводу другого лица, события, ситуации. В «Большом фразеологическом словаре русского языка» отмечается «Говорится с одобрением» [БФСРЯ, с. 442]. Употребление же этого фразеологизма свидетельствует о более сложной, неоднозначной актуализации эмоционально-оценочного компонента его значения. Причем наблюдается также подвижность денотативно-сигнификативной соотнесенности рассматриваемого фразеологизма. Так, в высказываниях о третьем лице может актуализироваться системное значение фразеологизма с положительной оценкой говорящего своего или чужого решения: И только с позапрошлой осени, с того самого времени, как она уехала в город, выбросил ее из головы (Ф. Абрамов «Алька»). Или: …она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику (А. Фадеев «Разгром»). Однако имеются также контексты, в которых действие конкретного лица или определенной группы лиц, обозначенное вариантом фразеологизма выкинуть из памяти, отрицательно оценивается говорящим: Она забыла, что когда-то боронила, пахала… Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памя91 ти… (В. Распутин «Последний срок»); Наша альма матер! Даже… Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет из памяти школу! (В. Тендряков «Ночь после выпуска»); Конечно, ни она, ни отец, никто из них не могли выкинуть Леву из памяти (А. Рыбаков «Тяжелый песок»). В высказываниях о втором лице, участнике общения, фразеологизм обычно употребляется в форме повелительного наклонения и также может отражать различное эмоционально-оценочное отношение говорящего к обозначаемой ситуации. Например, фразеологизм в форме выбрось из головы обозначает требование перестать говорить о чем-либо, связанное с беспокойством конкретного лица о близком человеке: – Запомни, Сара, – сказала мама, – никаких партизан тут нет, не было и быть не может. Выбрось из головы и не повторяй этих глупостей (А. Рыбаков «Тяжелый песок»). При помощи фразеологизма в форме выкинь из головы говорящий выражает крайне негативное отношение к собеседнику, в частности, к его профессиональным стремлениям: Выкинь из головы всякие надежды, никакой ты не ученый (Д. Гранин «Иду на грозу»). В высказываниях о самом себе может актуализироваться оттенок значения ‘перестать думать о чем-либо значимом для говорящего на некоторое время’: Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться (В. Войнович «Москва 2042»). Или – ‘вынужденно обещать комулибо перестать думать о том, что очень интересует, увлекает, чем говорящий страстно желает заниматься ’: Почему-то я продолжала заниматься геологией Севера, хотя дала Сане слово навсегда выкинуть Север из головы (В. Каверин «Два капитана»). В высказываниях обо всех, например, в инфинитивных конструкциях, выражается требование отказаться от всего (мыслей, переживаний, желаний и пр.), что может помешать достижению цели, результата в деле, оцениваемом как самое важное. Причем сверхположительная оценка этого отказа говорящим может и не разделяться теми, к кому обращено высказанное требование. Например: Ведь предстоят такие соревнования, что нам надо с вами все решительно выкинуть из головы (Л. Кассиль «Ход белой королевы»). Фразеологизм на уме <реже – в голове> что <у кого> (то есть ‘в помыслах’), передавая стереотипное представление о происходящем в голове человека мыслительном процессе, используется для характеристики ситуаций, когда говорящий подчеркивает, что сознание лица, группы лиц всецело занято какой-либо мыслью, желанием, стремлением к чему-либо; работой, учебой, делом; глупостями, забавами и др. [БФСРЯ, с. 436]. В словарях ФЕ фиксируется без эмоционально-оценочных помет. Тем не менее в контекстах не только конкретизируется тот или иной семантический оттенок его значения, но и актуализируется эмоционально-оценочное отношение говорящего к обозначаемой ситуации. Приведем примеры различных контекстов употребления рассматриваемого фразеологизма. В контексте конкретизируется один из семантических оттенков исхода что (в помыслах) и актуализируется эмоциональное отношение: ‘работа’ и ‘сожаление’: И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа (В. Шукшин «Думы»); 92 ‘учеба’ и ‘обида’: Не лезь! Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уже разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме (В. Шукшин «Ваня, ты как здесь?!»); ‘неизвестно что’, ‘марксистско-ленинская философия’ и ‘сомнение’: – Откуда мы с тобой знаем, что у него на уме; может быть, у него как раз марксистско-ленинская философия на уме? (В. Пьецух «Новая московская философия»); ‘копейка’ и ‘насмешка, ирония’: – А на что тебе копейка-то? Слыхал, что Сталин говорит? Готовьтесь, говорит, к коммунизму… А у тебя на уме копейка… (Ф. Абрамов «Две зимы и три лета»); ‘ерунда’ и ‘осуждение’: – Сукин ты сын – сказал Михаил. – И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем (Ф. Абрамов «Две зимы и три лета»); ‘неизвестно что’ и ‘интересно’: Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме (В. Распутин «Живи и помни»); ‘мальчики’, ‘лак для ногтей’, ‘губная помада морковного цвета’ и ‘возмущение’: На уме мальчики, лак для ногтей, губная помада морковного цвета, разбирается (А. Рыбаков «Дети Арбата»); ‘улица’ и ‘осуждение’, ‘досада’, ‘озабоченность’: – С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица?.. А время пропустишь… (В. Шукшин «Забуксовал»); ‘войти в историю’ и ‘презрение’: У тебя одно на уме – войти в историю (А. Терц «Графоманы»); ‘глупости’, ‘пустые мысли’ и ‘возмущение’: – О чем вы сейчас думаете? Что у вас в голове? Одни глупости, пустые мысли… Начинайте выполнять задание, а то урок закончится, и вы получите двойку (Речь). Фактически возможна актуализация бесконечного множества семантических оттенков в рамках смыслового пространства исхода что. Еще более широкими возможностями обладают фразеологизмы, именующие действия или состояния, способные охватить смысловые пространства исходов кто и что. Например, ФЕ из головы <из ума, с ума> не идет <не выходит> что, кто у кого, чьей употребляется для характеристики состояния лица, когда человек находится в тревожном, взволнованном, влюбленном и т.п. состоянии, когда какоелибо лицо, событие, ситуация, проблема, воспоминание о чем-либо или о комлибо непрерывно присутствует в сознании, постоянно тревожит, никак не забывается. При этом при употреблении актуализируется то или иное эмоциональное отношение к обозначаемой ситуации. В контекстах Она разговаривала с продавщицей, смотрела на полки… а из головы не выходил Сережа: что он делает сейчас? <…> Алька стала выспрашивать ее про Сережу (никак с ума не шел!) (Ф. Абрамов «Алька») при помощи фразеологизма автор передает состояние влюбленной девушки, которая постоянно думает о любимом человеке. Причем положительная оценка автора воспринимается через описание типичного для влюбленных поведения героини, что вносит в контекст элементы понимания и сопереживания. 93 В высказываниях о некоем неодушевленном предмете может конкретизироваться бесчисленное множество номинаций, заполняющих смысловое пространство исхода что (предмет, вещь, единичная материальная реалия, совокупность предметов или предметов и лиц, свойство, состояние, чувство, непосредственное восприятие, мысль, речь, поступок, событие, случай, целостная ситуация, срез бытия). Причем та или иная эмоциональная оценка актуализируется в зависимости от контекста. Приведем несколько примеров, выделив неодушевленный предмет, постоянно присутствующий в сознании, и обозначив эмоционально-оценочный компонент смысла фразеологизма: ‘след от ветки на ноге девочки’ и ‘тревожно, неприятно’: Не по себе ей было, все не шел у ней из головы этот проклятый след от папоротниковой ветки на нежной ноге ее девочки, повыше колена (Ф. Искандер «Сандро из Чегема»); ‘строчка из стихотворения’ и ‘восхищение’: Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы (А. Куприн «Прапорщик армейский»); ‘разговор’ и ‘взволнованность’: Разговор с Дмитрием Алексеевичем не выходил у него из головы (Д. Гранин «Искатели»). Отмеченные особенности значения и употребления группы фразеологизмов с компонентом голова объясняются спецификой их образа, который восходит к анимистической форме мироосознания, одушевляющей в данном образе мысли, желания и др. и приписывающей им способность к самостоятельным действиям [см.: БФСРЯ, с. 437]. Компонент голова в образе фразеологизмов выполняет роль символа – замещает человека в его интеллектуальной деятельности. Глагольные компоненты соотносятся с различными кодами культуры. Так, приходить <прийти, взбредать, взбрести, ломать, поломать, изломать> – с антропным; лезть – с зооморфным, дополняя метафорический образ фразеологизма уподоблением мыслей живому существу, тем самым в образе подчеркивается зависимое положение человека. Глаголы забивать <забить>, вбивать <вбить>, вколачивать <вколотить>, вдалбливать <вдолбить> соотносятся с акционально-трудовыми действиями: образное основание метафоры уподобляет интеллектуальный процесс производственному, а интеллектуальное пространство человека – части машины, механизма. Слова перебирать <перебрать> соотносятся с вещным кодом: то, что содержится в сознании, уподобляется вещам, которые можно разбирать, сортировать, складывать в том или ином порядке. Глаголы выветриваться <выветриться>, улетучиваться <улетучиться> – свидетельствуют о наличии природного кода, вылетать вылететь, выскакивать <выскочить> – зооморфного: образ фразеологизма обогащен олицетворенным уподоблением мыслей живым существам, что символизирует их свободное существование, не зависящее от человека. Компонент варит является носителем антропного и гастрономического кодов: образ фразеологизма создается совокупностью соматической, вещной и пространственной метафор, при этом голова ‘верхняя часть тела человека, во внутреннем пространстве которой содержится мозг’ уподобляется круглому сосуду (котелку), то есть соотносится с вещным и пространственными кодами культуры, а процесс обдумывания, понимания – варению в данном сосуде пищи. 94 Образ фразеологизмов в целом создается пространственной метафорой, уподобляющей голову пространству, в котором располагаются мысли. Благодаря исходной образности фразеологизмы этой группы передают разнообразные стереотипные представления о происходящих в человеке мыслительных процессах: – начало: приходить <прийти> в голову <на ум> что <кому>; – неконтролируемость: взбредать <взбрести> в голову <на ум> что <кому>; – навязчивая повторяемость размышлений о чем-либо неприятном, пустом, неважном: лезть в голову что кому; – убежденность в чем-либо: забивать <забить, набивать, набить> себе голову 1. кто чем); – воздействие на сознание человека, попытка внушить что-либо: забивать <забить> голову 2. кто кому, чью чем); – излишне настойчивое, грубое воздействие на сознание человека с целью внушить что-либо: вбивать <вбить, вколачивать, вколотить, вдалбливать, вдолбить, втемяшивать, втемяшить> <реже – себе> в голову <реже – в головы> кто что <кому, чью>; – постоянное обдумывание какой-либо ситуации: держать <иметь> в голове <уме, мыслях> 1. кто что; – постоянное сохранение и воспроизведение в сознании мыслей, впечатлений, знаний и т.п.: держать в голове <уме> 2. кто что; – активная реализация мыслительного процесса: перебирать <перебрать> в уме <памяти, мыслях> кто что; – длительность протекания мыслительного процесса: из головы <из ума, с ума> не идет <не выходит> что, кто у кого, чьей; – волевое решение забыть то, что длительное время тревожило человека: выбросить <выкинуть> из головы <реже – памяти> кто кого, что; – процесс забывания чего-либо: вылетать <вылететь, выскакивать, выскочить, улетучиваться, улетучиться, выветриваться, выветриться, вон> из головы что <у кого, чьей>; – сообразительность, смышленость человека: голова <котелок, мозги> варит <варят> у кого; – напряженное обдумывание какой-либо сложной ситуации, усиленный поиск ее разрешения: ломать <реже – поломать, изломать> <себе, всю> голову <реже – головы> кто <над чем>. Мотивированные ФЕ с компонентом голова являются результатом различных видов переосмысления: метафорического – класть <положить> голову, то есть ‘погибать, умирать, жертвовать собой’ [ФСРЯ, с. 195], где голова – символ жизни, а ее лишение означает смерть; метонимического – голова бедовая, то есть ‘отчаянный, бесшабашно смелый человек’ [ФСРЛЯ, т. 1, с. 148]; удалая голова, то есть ‘удалой, лихой человек, которому все нипочем’ [ФСРЛЯ, т. 1, с. 151]; сравнения – как снег на голову, то есть ‘совершенно неожиданно, внезапно появиться где-либо’ [ФСРЛЯ, т. 1, с. 368]. Немотивированные фразеологизмы с компонентом голова утратили синхронную деривационную связь с буквальными значениями компонентов [Кунин 1996, с. 147]. Затемнение внутренней формы может объясняться различными 95 причинами. В частности, наличием архаических элементов (не иметь где главу приклонить, засточертело в голове). Или отрывом фразеологизма от первоисточника, ситуации, в которой исходное словосочетание употреблялось в прямом значении. Например: посыпать главу <голову> пеплом – ‘предаваться скорби по поводу несчастья, тяжелой утраты’ [ФСРЛЯ, т. 2, с. 150]; ср.: ‘1. Книжн. Предаваться скорби по поводу несчастья, тяжелой утраты’. ‘2. Ирон. Покаянно признавая свою вину, ошибки, обещать исправиться’ [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 136–137]. Оборот связан с описанным в Библии ритуальным обычаем посыпать себе голову пеплом или землей, скорбя о несчастье или гибели близких [Там же]. Демотивации может способствовать утрата тех или иных социальных реалий, забвение обычаев, породивших обороты с буквальными значениями, на основе которых позднее возникли фразеологизмы. Например: выдавать <выдать> головой – ‘предавать, отдавать кого-либо на расправу кому-либо’ [ФСРЛЯ, т. 1, с. 151]; ср.: ‘1. Разглашать чью-л. тайну’. ‘2. Предавать, отдавать кого-л. на расправу кому-л.’ [Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 146]. «Выдача головой» была одной из самых тяжелых мер наказания в Древней Руси. Отданный головой за долг или другую вину поступал к заимодавцу с женой и детьми в личное подчинение до окончательной выплаты долга. Виновный должен был упасть в ноги, униженно просить прощения и не вставать, пока хозяин не поднимет его со словами Повинную голову и меч не сечет. Выражение прежде значило «отдать себя полностью в чьи-л. руки» и лишь впоследствии стало связываться с разглашением чьей-либо тайны [Снегирев 1832, с. 219–222; Михельсон, т. 1, с. 165; Зимин, Спирин, с. 281–282; Грушко, Медведев, с. 93; Бирих, Мокиенко, Степанова, с. 146]. В процессе различных речемыслительных операций внутренняя форма ФЕ, основанная на различных видах тропеического переосмысления, «всплывает на поверхность наивно-языкового сознания и становится источником типичных системно-нерелеватных ассоциаций, лингвокреативным стимулом оживления целой цепи социально значимых связей, коннотаций и представлений – всей смысловой гаммы образной палитры фраземы» [Алефиренко 1998, с. 27]. Известно, что в ряде случаев компоненты ФЕ являются элементами фразеологической символики [Бидерманн]. Такие компоненты называются словамисимволами. Слова-символы – это «слова, устойчиво символизирующие те или иные явления или понятия и имеющие в ряде единиц одинаковое значение» [Гвоздарев 1977, с. 56]. Символическое значение имеют и компоненты-соматизмы. В русской фразеологии в составе ФЕ с живой внутренней формой соматический компонент голова – ассоциируется с умом, рассудком, здравомыслием, памятью, какимилибо мыслительными операциями, здоровьем, жизнью; сердце – с эмоциями, чувствами; ноги – с ходьбой, передвижением; язык – с речью; глаза – со зрительным восприятием; руки – с выполнением какой-либо деятельности; уши – со слуховым восприятием и т.д. Приводимые ниже ФЕ иллюстрируют эту символику: дурная голова – ‘о глупом, бестолковом человеке’; сердце горит – ‘ктолибо горячо переживает какое-либо чувство, глубоко взволнован’; валиться с ног – ‘приходя в полное изнеможение, не быть в состоянии держаться на но96 гах’; едва ноги волочить – ‘очень медленно ходить, двигаться, обычно от усталости, слабости, болезни’; смотреть во все глаза – ‘очень внимательно, пристально, проявляя особый интерес’; приложить руки – ‘основательно, серьезно заняться кем-либо или чем-либо’; жужжать в уши – ‘надоедливо, настойчиво повторять что-либо’; прикусить язык – ‘замолчать, воздержаться от высказывания’ и т.д. Ранее уже отмечалось, что ФЕ носят антропоцентрический характер. Они отображают многообразие жизни людей. В.М. Мокиенко подчеркивает, что «опираясь на истинную мотивировку идиом, добытую либо путем глубинных этимологических разысканий, либо “открытым способом” можно реконструировать в итоге целую картину “русского мира”, отраженную зеркалом фразеологии» [Мокиенко 1986, с. 55]. С помощью фразеологизмов с компонентом голова можно описать: 1) положение человека в обществе – головы летят (‘2. О тех, кого освобождают от должности, снимают с руководящего поста за какую-нибудь провинность’); 2) физическое состояние человека – голова разламывается (‘о сильной головной боли’); голова идет <ходит> кругом (‘1. Кто-либо испытывает головокружение от усталости, переутомления’); сломать <себе> голову (‘1. Искалечиться или разбиться насмерть; убиться ’); 3) действия человека – качать головой (‘1. Делать движения головой из стороны в сторону, отрицать что-либо, сомневаться в чем-либо’; ‘2. Кивая головой, выражать согласие с кем-либо или чем-либо’); совать голову в петлю (‘1. Вешаться’); 4) чувства-состояния человека – не идет в голову (‘1. Нет желания или возможности делать что-либо, думать о чем-либо, кому-либо не до этого, чтобы заниматься чем-либо’); вертеться в голове (‘постоянно возникает в сознании’); терять голову (‘1. Попав в затруднительное, тяжелое положение, приходить в растерянность, не знать, что делать от волнения, как поступить’; ‘3. Безрассудно влюбиться’); 5) деятельность человека – уходить с головой (‘целиком, полностью, безраздельно отдаваться чему-либо’); с головой – (‘2. Сознательно, обдуманно делать что-либо’); без головы (‘2. Не обдумав, безрассудно делать что-либо’); 6) интеллектуальные способности человека – каша в голове (‘кто-либо путано мыслит, у кого-либо нет ясности в понимании, в осознании чего-либо’); свихнуть <себе> голову (‘утратить способность мыслить, понимать’); голова <котелок> варит (‘кто-либо сообразителен, догадлив, понятлив’); светлая голова (‘1. Очень умный, ясно, логично мыслящий человек’, ‘2. Кто-либо ясно, логично мыслит’); дырявая голова (‘1. Человек с очень плохой памятью, рассеянный, забывчивый’, ‘2. Кто-либо имеет плохую память, забывчив’); без головы (‘1. Неумный, туповатый, несообразительный’), с головой (‘1. Очень умный, толковый, способный’); 7) интеллектуальной деятельности – ломать голову (‘усиленно думать, стараясь понять, разрешить что-либо трудное’); приложить голову (‘основательно подумать, поразмыслить’); не брать <себе> в голову (‘не пытаться ду97 мать о чем-либо’); не идет в голову (‘2. Не усваивается, не запоминается, не воспринимается что-либо’); вертеться в голове (‘1. Никак не вспоминается. О тщательном усилии вспомнить что-либо хорошо известное, но забытое в данный момент’); голова идет <ходит> кругом (‘2. Кто-либо теряет способность ясно соображать от множества дел, забот, переживаний’); втемяшить в голову (‘1. Прочно, упрямо захотеть, усвоить что-либо’); 8) речевую деятельность – вбивать <вколачивать> в голову (‘1. Частыми повторениями заставлять усвоить, запомнить что-либо’); втемяшить в голову (‘2. Втолковать кому-либо, заставлять понять что-либо’); 9) поведение – рисковать головой (‘подвергать свою жизнь опасности’); крутить голову (‘1. Увлекать, влюблять в себя’; ‘2. Сбивать с толку кого-либо, запутывать’); морочить <дурачить > голову (‘1. Дурачить, намеренно вводить в заблуждение кого-либо’; ‘2. Приставать с глупостями, с пустяками’); совать голову в петлю (‘2. Предпринимать что-либо заведомо рискованное, опасное для жизни, карьеры и т.п.’); терять голову (‘2. Зазнаваться, много мнить о себе, о своих возможностях, обычно от успехов, славы и т.п.’); 10) события, явления – приклонить голову – (‘приютиться, найти пристанище, кров’); сломать <себе> голову (‘2. Потерпеть неудачу в чем-либо’); висеть над головой – (‘2. Нуждаться в незамедлительном, неотложном выполнении, исполнении и т.п.’); 11) время – висеть над головой (‘1. Ожидается в самое ближайшее время’); 12) меру – с ног до головы (‘1. Целиком, полностью’; ‘2. Вооруженный с ног до головы). Таким образом, сведения об образной мотивированности позволяют определить роль компонентов в языковом значении идиом как символов, эталонов, стереотипов и в актуализации их речевого смысла. В речи постоянно наблюдаются спонтанные преобразования значения и формы фразеологизмов, обусловленные их функционально-семантическими свойствами как особых экспрессивных единиц языка, способных отражать в своей смысловой структуре специфику единичных предметов и ситуаций. Все контекстуальные преобразования фразеологических единиц опираются на их системные свойства и выявляют закономерные связи между ними как элементами фразеологической системы и их речевыми реализациями. Однако очевидно, что «формирование и употребление фразеологизмов протекает в более широком контексте, чем внутренние законы развития языка, а именно – в контексте антропологической парадигмы, рассматривающей, в частности, включенность языковой личности в культуру как ее субъекта» [Телия 2006, с. 778]. Эта «включенность», в конечном счете, и объясняет специфику фразеологического значения как значения подвижного, эврисемичного. 98 Библиографический список к главе 1 Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. – М., 1949. – Ч. 1. Агапкина Т.А., Топорков А.Л. Воробьиная (рябиновая) ночь в языке и поверьях восточных славян // Славянский и балканский фольклор: реконструкция духовной культуры: источники и методы / отв. ред. Н.И. Толстой. – М., 1989. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и культура (на материале фразеологизмов мифопоэтического происхождения // Фразеология в аспекте науки, культуры и образования. – Челябинск, 1998. Артемьева А.Ф. Значение фразеологических единиц и их прагматический потенциал: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – СПб., 1991. Арутюнова Н.Д. Введение // Логический анализ языка: образ человека в культуре и языке. – М., 1999. Арутюнова Н.Д. Логические теории значения // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. Ашхарава А.Т. Концепт ‘дитя’ в русской языковой картине мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Архангельск, 2002. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993. Белов В.И. Повседневная жизнь русского Севера. – М., 2000. Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей // Вопросы языкознания. – 2004. – № 6. Бондаренко В.Т. Варьирование устойчивых фраз в русской речи: дис. … д-ра филол. наук. – Тула, 1995. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. – Л., 1978. Булатов В.Н. Русский Север. – Архангельск, 1997. – Кн. 1. Заволочье (IX – XVI вв.). Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М., 1997. Варбот Ж.Ж. К этимологии праславянского названия инея // Этимология 1997– 1999. – М., 2000. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М., 2001. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1997. Вендина Т.И. Диалектное слово в парадигме этнолингвистических исследований // Лексический атлас русских народных говоров. 1999. – СПб., 2002. Власова Н.А. Внутренняя форма как основа образной мотивации диалектных соматических фразем // Фразеология в аспекте науки, культуры и образования: материалы международной конференции. – Челябинск, 1988. Волкова Т.Ф. Сравнения в речи диалектной языковой личности: дис. … канд. филол. наук. – Томск, 2004. Воркачев С.Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты // Известия АН. Серия литературы и языка. – 2001. – Т. 60. – № 6. Вялкина Л.В. Из истории слов-терминов времени (из материала письменных памятников XI–XIV вв.) // Древнерусский язык: лексикология и словообразование / отв. ред. В.И. Борковский. – М., 1975а. Вялкина Л.В. Об одной лексико-семантической группе в славянских языках (слова, обозначающие временные отрезки, связанные с принятием пищи) // Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования. 1973. – М., 1975б. 99 Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка в аспекте теории отражения. – Пермь, 1974. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. Гак В.Г. Национально-культурная специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры / отв. ред. В.Н. Телия. – М., 1999. Гак В.Г. Пространство времени // Логический анализ языка: язык и время / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. – М., 1997. Галашевский Р., Рубцов В. Солеварение на Беломорье // Слово о людях и земле Поморской / ред. А.В. Репневский. – Архангельск, 1993. Гвоздарев Ю.А. Основы русского фразообразования. – Ростов н/Д, 1977. Гвоздарев Ю.А. Рассказы о русской фразеологии. – М., 1988. Герд А.С. Несколько замечаний касательно понятия «диалект» // Русский язык сегодня. – М., 2000. – Вып. 1. Герд А.С. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей // Проблемы диалектной лексикологии и лексикографии. – СПб., 2004. Глотова Е.А. Компонент фразеологической единицы в языке и речи // Гуманитарные исследования: ежегодник. – Омск, 1997. – Вып. 2. Гольдберг В.Б. Лексико-семантическое поле сна и бодрствования в русском и английском языках // Сопоставительно-семантические исследования русского языка / науч. ред. З.Д. Попова. – Воронеж, 1980. Гольдин В.Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: дис. … д-ра филол. наук. – Саратов, 1997. Горячева Т.В. К изучению славянской метеорологической терминологии // Этимология. 1984. – М., 1986. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М., 1997. Демидова К.И. О возможностях изучения языковой картины мира в региональном аспекте // Лексический атлас русских народных говоров. 2000. – СПб., 2003. Диброва Е.И. Семантические основы варьирования фразеологической единицы // Образование и функционирование фразеологических единиц. – Ростов н/Д, 1981. Дурново В.В. Краткий очерк русской диалектологии. – Харьков, 1914. Жуков В.П. О знаковости компонентов фразеологизма // Вопросы языкознания. – 1975. – № 6. Жуков В.П. Русская фразеология. – М., 1986. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М., 1978. Жукова М.В. Экологические и культурологические традиции Поморского Севера // Европейский Север России: прошлое, настоящее, будущее. – Архангельск, 1999. Журавская О.С. Отражение особенностей языковой картины мира жителей Урала в наименованиях построек и их частей // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира / отв. ред. Т.В. Симашко. – Архангельск, 2002. Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка: язык и время / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. – М., 1997. Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. – М., 2004. Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сб. музея антропологии и этнографии. – Л., 1930. – Т. 9. – Ч. 1, 2. Золотова Г.А, Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998. 100 Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности: дис. … д-ра филол. наук. – Томск, 2002. Ивашина Н.В. Семантическая микросистема обозначений времени в праславянском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Минск, 1977. Ищук Д.Г. Лексико-семантическое поле как выражение концептуальной модели времени в языке (на русско-славянском материале): дис. … канд. филол. наук. – СПб., 1995. Калнынь Л.Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3. Камалова А.А. Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах. – Архангельск, 1998. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. Кобелева И.А. Тенденции развития неличных форм глагола в говоре и просторечии (по материалам русских говоров и городского просторечия Коми АССР): дис. … канд. филол. наук. – Л., 1988. Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). – М., 1979. Кожеватова О.А. Заимствования в лексике говоров Русского Севера и проблема общего регионального лексического фонда: дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 1997. Козлова Т.В. Семантика фразеологизмов с названиями животных в современном русском языке. – М., 2003. Колесов В.В. Ментальные характеристики русского слова в языке // Язык и этнический менталитет. – Петрозаводск, 1995. Кононенко В.И. Символы во фразеологизмах // Русский язык в школе. – 1991. – № 6. Коринфский А.А. Народная Русь: круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. – Смоленск, 1995. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М., 1999. Кравченко А.В. Когнитивные структуры пространства и времени в естественном языке // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1996. – Т. 55. – № 3. Криничная Н.А. Русская мифологическая проза. – СПб., 2001. – Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». Кузнецов П.С. О говорах Верхней Пинеги и Верхней Тоймы // Материалы и исследования по русской диалектологии. – М.; Л., 1949. – Т. 1. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М., 1996. Лебединская В.А., Усачева Н.Б. Семантика процессуальных фразеологизмов. – Курган, 1999. Лютикова В.Д. Языковая личность: идиолект и диалект: дис. … д-ра филол. наук. – Екатеринбург, 2000. Макаров В.И. Фразеологическое значение и употребление в художественном тексте: дис. … канд. филол. наук. – Новгород, 1997. Мансикка В. О говоре Шенкурскаго уезда Архангельской губернiи. – СПб., 1912. Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в говорах Русского Севера // Этимология. 1994–1996. – М., 1997. Мелерович А.М. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современного русского языка. – Ярославль, 1983. 101 Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Коммуникативный и номинативный аспекты фразеологического значения в тексте и словаре // Фразеологическое значение в языке и речи. – Челябинск, 1988. Мень А. Православное богослужение. Таинство, слово и образ. – М., 1991. Мокиенко В.М. О собственном имени в составе фразеологии // Перспективы развития славянской ономастики. – М., 1980а. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1980б. Мокиенко В.М. О тематико-идеографической классификации фразеологизмов // Словари и лингвострановедение / под ред. Е.М. Верещагина. – М., 1982. Мокиенко В.М. Образы русской речи: историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. – Л., 1986. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1989. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л., 1977. Мызников С.А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. – СПб., 2003. Нефедова Е.А. Экспрессивная лексика языковой (диалектной) личности и аспекты ее лексикографического описания // Русский язык сегодня. – М., 2003. – Вып. 2. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. – М., 1993. Пауфошима Р.Ф. Житель современной деревни как языковая личность // Язык и личность. – М., 1989. Пименова М.В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. – Кемерово, 1999. Подюков И.А. Народная фразеология в зеркале народной культуры. – Пермь, 1990. Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию / отв. ред. Д.Е. Михальчик. – М., 1959. Попов И.С. О принципах разработки программы собирания сведений для областных словарей // Теория и практика областной лексикографии. – Л., 1984. Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. – М., 1976. Пшеничнова Н.Н. Лингвистическая география (по материалам русских говоров). – М., 2008. Пыхтеева А.А. Слова, обозначающие отрезки времени в пределах суток. – Омск, 1987. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М., 1991. Ростов О.Р. Антропоцентрическое описание номинаций одежды (на материале лексики говоров Ивановской области): дис. … канд. филол. наук. – Иваново, 2006. Ростова А.В. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания (на материале русских говоров Сибири): автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Томск, 2000. Серебренникова А.Н. Диалектное слово с семантикой «свойственности» – «чуждости» (лингвокультурологический аспект): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Томск, 2005. Симашко Т.В. Денотативный класс как основа описания фрагмента мира. – Архангельск, 1998. Симашко Т.В. Денотативный класс как основа описания фрагмента русской языковой картины мира: дис. … д-ра филол. наук. – Северодвинск, 1999. Симашко Т.В. Языковая картина мира и способы ее фрагментации // Языковая картина мира в кумулятивном аспекте. – Архангельск, 2006. 102 Смолякова Н.С. Пространственные лексические единицы в лингвокультурологическом аспекте: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Томск, 2006. Снегирев И.М. Русские в своих пословицах: рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. – М., 1832. – Кн. 3. Солодуб Ю.П. Роль словесного комплекса-прототипа в реализации коннотативных возможностей фразеологизма // Филологические науки. – 1996. – № 1. Солодуб Ю.П. Сопоставительный анализ структуры лексического и фразеологического значений // Филологические науки. – 1997. – № 5. Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология. – Самара, 1994. Сороколетов Ф.П. Из истории диалектной и исторической лексикологии русского языка // Диалектная лексика. 1975. – Л., 1978. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика). – М., 1981. Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. – Киев, 1992. Телия В.Н. Идеографический анализ фразеологизмов: предпосылки и процедуры // Идеографический и историко-этимологический анализ славянской фразеологии. – Псков, 1994. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры / отв. ред. В.Н. Телия. – М., 1999. Толстая С.М. Мифология и аксиология времени в славянской культуре // Культура и история: славянский мир / отв. ред. И.И. Свирида. – М., 1997. Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка: язык и время / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. – М., 1997. Толстой Н.И., Толстая С.М. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-) // Славянское языкознание. – М., 1993. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995. Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике. – М., 2003. Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: языки и картина мира / отв. ред. Б.А. Серебренников. – М., 1988. Федоров А.И. Развитие русской фразеологии в конце ХVIII – в начале ХIХ в. – Новосибирск, 1973. Филин Ф.П. Очерки по теории языкознания. – М., 1980. Филлмор Ч.Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике: проблемы и методы лексикографии. – М., 1983. – Вып. 14. Хлыбова С.В. Моделирование фрагмента региональной картины мира (на материале лексики русских говоров Алтая): дис. ... канд. филол. наук. – Барнаул, 1998. Циммерлинг А.В. Субъект состояния и субъект оценки (типы предикатов и эпистемическая шкала) // Логический анализ языка: образ человека в культуре и в языке. – М., 1999. Чарушин А.А. Народный язык. – Архангельск, 1914. Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства фразеологизмов. – Челябинск, 1974. 103 Чепасова А.М., Ивашко Л.А. Проблема структурности фразеологического значения // Фразеологическое значение в языке и речи. – Челябинск, 1988. Черепанова О.А. Народные представления о времени в языке (пухлый час) // Вопросы теории и истории языка / отв. ред. П.А. Дмитриев. – СПб., 1993. Чернейко Л.О., Долинский В.А. Имя СУДЬБА как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. – 1996. – № 6. Чернетских Т.И. ЛСГ «жилище» как репрезентант фрагмента региональной картины мира (на материале словаря русских говоров Алтая): дис. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2000. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Краткий этимологический словарь русской фразеологии // Русский язык в школе. – 1979. – № 5. Шанский Н.М. Фразеология русского языка. – Л., 1985. Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. – М., 1998. Шенделева Е.А. Полевая организация образной лексики и фразеологии // Фразеология в контексте культуры / отв. ред. В.Н. Телия. – М., 1999. Шмелев А.Д. Время в русской языковой картине мира // Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: материалы к словарю. – М., 2002. Шмелев Д.Н. О переносных значениях слов // Избранные труды по русскому языку. – М., 2002. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М., 1973. Щербакова М.Е. Суффиксальное словообразование имен существительных со значением лица в западных севернорусских говорах Тверской области: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2006. Эфендиева А.Г. Соотношение народного и книжного в сознании и языке (по материалам мифологической лексики и мифологических представлений на Архангельской языковой территории). – М., 1989. Яговцева О.А. Антропоцентрические метафоры в диалектной картине мира (на примере говора Исетского района Тюменской области): дис. … канд. филол. наук. – Сургут, 2006. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). – М., 1994. Словари и справочники Архангельский областной словарь / под ред. О.Г. Гецовой. – М., 1980–2001. – Вып. 1–11. (В тексте – АОС.) Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – М., 1996. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / под ред. В.М. Мокиенко. – М., 2005. Богуславский В.М. Словарь оценок внешности человека. – М., 1994. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 2001. (В тексте – БТС.) Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / отв. ред. В.Н. Телия. – М., 2006. (В тексте – БФСРЯ.) Ведина Т.Ф. Энциклопедия русских фамилий: тайны происхождения и значения. – М., 2008. 104 Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. – М., 2001. (В тексте – ССРФ.) Гемп К.П. Словарь поморских речений // Гемп К.П. Сказ о Беломорье / науч. ред. В.Н. Булатов. – М.; Архангельск, 2004. Географический энциклопедический словарь: понятия и термины / гл. ред. А.Ф. Трешников. – М., 1988. (В тексте – ГЭС.) Грандилевскiй А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянскiй говоръ // Сборникъ отделенiя русскаго языка и словесности императорской академiи наукъ. – СПб., 1858. Грушко Е.А. Энциклопедия русских фамилий. – М., 2001. (В тексте – ЭРФ.) Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Современные слова и выражения. – М., 2000. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М., 1994. Дополнение к Опыту областного великорусскаго словаря, изданный вторымъ отделенiемъ Императорской Академiи Наукъ. – СПб., 1858. (В тексте – Доп.) Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1993. (В тексте – ПЦСС.) Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского языка: проспект. – В. Новгород, 2002. Зимин В.И., Спирин А.С. Пословицы и поговорки русского народа. – М., 1996. Кораблев С.П. Этнографический и географический очерк г. Каргополя Олонецкой губернии, с словарем особенностей тамошнего наречия. – М., 1851. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов / под общей ред. Е.С. Кубряковой. – М., 1996. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М., 2007. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: словарь. – М., 2001. Михельсон М.И. Русская мысль и речь: свое и чужое: опыт русской фразеологии: сб. образных слов и иносказаний: в 2 т. – СПб., 1902–1903. Мосеев И.И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. – Архангельск, 2005. (В тексте – ПГ.) Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. – М., 1984. Никонов В.А. Словарь русских фамилий / сост. Е.Л. Крушельницкий. – М., 1993. (В тексте – СРФ). Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1991. Опытъ областнаго великорусскаго словаря, изданный вторымъ отделенiемъ Императорской Академiи Наукъ. – СПб., 1852. (В тексте – Опыт.) Очерк нравоописательной этнографии г. Онеги Архангельской губернии, с собранием онежских песен и реестром слов, отличающих тамошнее наречие / сост. С.П. Кораблев. – М., 1853. (В тексте – Очерк.) Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. – М., 1984. (В тексте – СРЛИ.) Подвысоцкий А.О. Словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. – СПб., 1885. Полякова Е.Н. Словарь пермских фамилий. – Пермь, 2005. (В тексте – СПФ.) Профессиональная лексика рыболовства: словарь / сост. Ф.А. Пономарев. – Архангельск, 1996. (В тексте – Пономарев.) Русский ассоциативный словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка: в 6 кн. / Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. – М., 1996–1998. (В тексте – РАС.) 105 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / под общ. ред. Н.Ю. Шведовой: в 3 т. – М., 1998–2003. (В тексте – РСС.) Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. – СПб., 2000. (В тексте – СПЦК.) Славянская мифология: энциклопедический словарь. – М., 1995. (В тексте – СМ.) Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1977. (В тексте – САН РЯ.) Словарь говоров Русского Севера / под ред. А.К. Матвеева. – Екатеринбург, 2001. (В тексте – СГРС.) Словарь образных выражений русского языка / под ред. В.Н. Телия. – М., 1995. (В тексте – СОВРЯ.) Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 5 т. / ред. А.С. Герд. – СПб., 1999. (В тексте – СРГК.) Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова. – Вып. 1–38. – М.; Л. (СПб.), 1965–2004. (В тексте – СРНГ.) Словарь русского языка XI–XVII вв. – Вып. 1–25. – М., 1981–2000. (В тексте – СлРЯ.) Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – М., 1985–1988. (В тексте – МАС.) Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М., 1989. (В тексте – СЭС.) Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1996. (В тексте – СУ.) Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. и доп. О.Н. Трубачева. – СПб., 1996. Федосюк Ю.А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. – М., 2006. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Школьный фразеологический словарь. – М., 1999. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т. / сост. А.И. Федоров. – М., 1997. (В тексте – ФСРЛЯ.) Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. – СПб., 1994. (В тексте – ФСРЯ.) Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. – СПб., 2004. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. – Киев, 1989. Цымбалова Л.Н. Тайны происхождения наших фамилий. – Ростов н/Д, 2008. (В тексте – ТПФ.) Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка: в 2 т. – М., 1999. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. – М., 1987. Шилов А.Л. Материалы к словарю ранних прибалтийско-финских, чудских и саамских заимствований русского языка. – М., 2008. Этимологический словарь русского языка / под ред. Н.М. Шанского. – М., 1963– 1999. (В тексте – ЭСРЯ.) Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / под ред. О.Н. Трубачева. – Вып. 1–27. – М., 1974–2000. (В тексте – Трубачев.) 106 Рукописные источники Картотека Архангельского областного словаря Диалектологического кабинета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. (В тексте – КАОС.) Картотека кафедры истории и диалектологии Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. (В тексте – КПГУ.) Картотека Л.П. Комягиной к Лексическому атласу Архангельской области. (В тексте – КЛАК.) Книга церковного старосты Якова Митрофанова» 1639 г. // Государственный архив Архангельской области, ф. 104, оп. 1, д. 457 – 52 л. (В тексте – КЦСМ.) Книги приходные богоявленской казны церковного старосты Семого Прокопева. 1627 г. // Государственный архив Архангельской области, ф. 104, оп. 1, д. 717 – 50 л. (В тексте – КПБК.) Книги росходные богоявленской казны богоявленского старосты Давыда Максимова. 1628 г. // Государственный архив Архангельской области, ф. 104, оп. 1, д. 718 – 20 л. (В тексте – КРБЦК.) 107