культурная идиома возрождения россии
advertisement
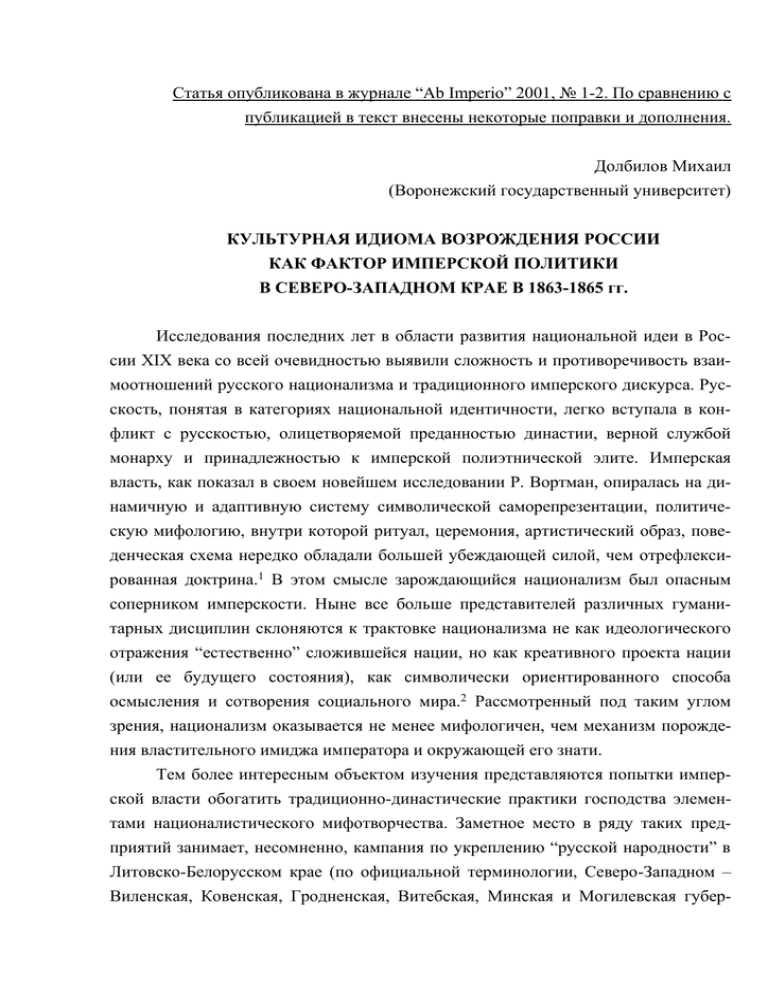
Статья опубликована в журнале “Ab Imperio” 2001, № 1-2. По сравнению с публикацией в текст внесены некоторые поправки и дополнения. Долбилов Михаил (Воронежский государственный университет) КУЛЬТУРНАЯ ИДИОМА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ КАК ФАКТОР ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ В 1863-1865 гг. Исследования последних лет в области развития национальной идеи в России XIX века со всей очевидностью выявили сложность и противоречивость взаимоотношений русского национализма и традиционного имперского дискурса. Русскость, понятая в категориях национальной идентичности, легко вступала в конфликт с русскостью, олицетворяемой преданностью династии, верной службой монарху и принадлежностью к имперской полиэтнической элите. Имперская власть, как показал в своем новейшем исследовании Р. Вортман, опиралась на динамичную и адаптивную систему символической саморепрезентации, политическую мифологию, внутри которой ритуал, церемония, артистический образ, поведенческая схема нередко обладали большей убеждающей силой, чем отрефлексированная доктрина.1 В этом смысле зарождающийся национализм был опасным соперником имперскости. Ныне все больше представителей различных гуманитарных дисциплин склоняются к трактовке национализма не как идеологического отражения “естественно” сложившейся нации, но как креативного проекта нации (или ее будущего состояния), как символически ориентированного способа осмысления и сотворения социального мира.2 Рассмотренный под таким углом зрения, национализм оказывается не менее мифологичен, чем механизм порождения властительного имиджа императора и окружающей его знати. Тем более интересным объектом изучения представляются попытки имперской власти обогатить традиционно-династические практики господства элементами националистического мифотворчества. Заметное место в ряду таких предприятий занимает, несомненно, кампания по укреплению “русской народности” в Литовско-Белорусском крае (по официальной терминологии, Северо-Западном – Виленская, Ковенская, Гродненская, Витебская, Минская и Могилевская губер- нии), проведенная в 1863-1865 гг., параллельно подавлению вооруженного восстания, генерал-губернатором Михаилом Николаевичем Муравьевым. Фигура “умиротворителя” Литвы привлекает внимание уже своей феноменальной символической многомерностью. В России последней трети XIX – начале XX в. один и тот же человек, в зависимости от степени включенности его на данный момент в националистический дискурс, мог вспоминать Муравьева и как “Вешателя”, “сатрапа”, брутального и репрессивного администратора, и как персонификацию “русского дела”, воплощение национально-государственной воли в борьбе с “полонизмом”.3 Между тем в историографии роль Муравьева в генерировании символических образов власти еще не оценена по достоинству.4 По сути дела, серьезное изучение производного от полонофобии националистического нарратива в России 1863-1864 гг. началось совсем недавно, и, пожалуй, польские историки опережают российских в разработке этой проблемы. В. Сливовская и Х. Глембоцкий раскрыли значение пропагандистской риторики, прежде всего в публицистике М.Н. Каткова и славянофилов, для мобилизации антипольских умонастроений в русском обществе и культивирования догмы о моральном превосходстве над польской цивилизацией.5 Речь, следовательно, идет по преимуществу о национализме профессиональных интеллектуалов, о доктринальном измерении национализма. В настоящей статье предполагается осветить дискурсивный отпор власти повстанческим притязаниям в единстве вербальных и невербальных способов легитимации имперского господства. Своей главной задачей я считаю показать взаимосвязь негативной, антипольской составляющей этой стратегии с позитивной, то есть с утверждением русскости посредством актуализации культурной идиомы обновления/возрождения. Постановка такой проблемы может навести читателя на мысль о попытке изобразить М.Н. Муравьева духовным отцом националистических идеологов царствований Александра III и Николая II. Во избежание недоразумения хочу сразу оговориться, что, на мой взгляд, Муравьев был в гораздо большей степени укоренен в структурах старого, наднационального имперского режима, чем он может представляться по апологетическим отзывам позднейших националистов о его подвигах и свершениях. В отличие от К.П. Победоносцева и М.Н. Каткова, виленский правитель так и остался человеком донационалистической эпохи (хотя, конечно, и не может быть сопоставлен в этом качестве с апостолом династического консерватизма В.П. Мещерским). Явленное в политике Муравьева сочетание способов и практик легитимации имперской власти, в своей эклектичности столь родственное общей атмосфере Великих реформ, интересно именно тем, что отражает один из зыбких моментов выбора между различными путями нациостроительства в полиэтнической империи. 1. Полонофобия и доктрина о "перерождении" коренных русских Распространение восстания (по официальной терминологии, мятежа) весной 1863 г. к востоку от пределов Царства Польского бросило русскому правительству столько же военный, сколько интеллектуальный вызов. Не менее опасным противником, чем вооруженный повстанец или симпатизирующий ему сепаратист, были внутренняя, пусть и маскируемая, неуверенность самодержавия в своем абсолютном праве властвовать над этой землей. Для края, который декларативно объявлялся “древним достоянием” России, Литва и Белоруссия (да и Правобережная Украина) были даже в середине XIX в. недостаточно интегрированы в структуры имперского управления, а еще слабее – имперского мышления. Экономическое, социальное и культурное влияние высшего польскоязычного, католического слоя придавало этим землям обескураживающе “инакий” облик. Д.А. Милютин не так уж преувеличивал остроту проблемы, когда несколько десятилетий спустя писал в своих известных воспоминаниях: “На этот край так привыкли смотреть польскими глазами, что смешивали массу народа литовского и белорусского с наносным [эта сугубо оценочная характеристика будет рассмотрена ниже. – М.Д.] верхним слоем польским...”.6 От таких колебаний в признании края русским властную элиту не могли полностью избавить результаты ею же инициированных этнографических и исторических разысканий. Как отмечается в ряде новейших работ, идейный фундамент русификаторского курса в регионе заложили штудии и публикации, осуществленные в середине XIX в. Русским географическим обществом, Археографическими комиссиями в Киеве и Вильне. По словам К. Мацузато, еще до восстания 18631864 гг. “русское правительство внезапно обнаружило, что его традиционные призывы [к освобождению соотечественников от польского гнета. – М.Д.] не лишены определенной научной основы”.7 Думается, восприимчивость власти к научным выводам о русском характере края стоит оценивать более осторожно. Не говоря уже о том, что эти выкладки было трудно облечь в символически зримую форму административной практики, тезис о родственной близости западного региона центральной России был долгое время, с точки зрения власти, палкой о двух концах. Отрицая историческую легитимность польского преобладания, те же этнографы постулировали самобытное существование малороссийского и белорусского “племен”, с их собственными специфическими “наречиями”, что, в свою очередь, грозило вновь подвергнуть сомнению вроде бы доказанное единство этого населения с государственным телом России. Показателен пример И.С. Аксакова, который в период восстания активно поддерживал антипольские мероприятия Муравьева, но одновременно выдвигал этнокультурную, “внегосударственную” концепцию русской национальной идентичности. Развивая в июне 1863 г. в газете “День” идеи молодого ученого М.О. Кояловича о белорусской “народности”, славянофильский идеолог писал: “... Необходимо, чтоб крестьянин понимал и государев указ, и внушение русской власти ..., необходимо, чтоб он почувствовал себя вполне русским, а для этого он должен почувствовать себя прежде всего белорусом...”.8 Несмотря на оговорки Аксакова, что “местное наречие должно и может, по совершенной своей неразвитости, служить проводником к передаче крестьянину только самых необходимых элементарных познаний”, виленская администрация, как мы увидим ниже, отнюдь не приветствовала такую промежуточную стадию идентификации русскости.9 Даже те из высших сановников, которые считали заявления Муравьева о безусловном господстве в крае “русской народности” спекулятивным упрощением проблемы, не были склонны воспринимать этнографическую карту западной окраины слишком уж “в цвете”. Например, министр внутренних дел П.А. Валуев в ответ на утверждение виленского генерал-губернатора (в программной записке от мая 1864 г.) о том, что русское православное население составляет 5/6 жителей северо-западных губерний, писал: “Не только история, но и география и статистика отстраняются, как элементы неудобные. В 4-х так называемых Литовских губерниях 405 т. поляков и 1 милл. 300 т. литвинов на 1 милл. 730 т. русских. В Ковенской губернии русских всего 3% на 1 милл. жителей”.10 Возражение резонно, но и сам Валуев вовсе не упоминает евреев и молчаливо причисляет белорусов к русскому народу. Названная Муравьевым пропорция – 5/6 – была, конечно же, не статистической величиной, а фигурой речи.11 Но такой фигурой речи, за которой стояла по- своему целостная и действенная мифология. Русскость в дискурсе, объективированном муравьевской политикой, была многозначной категорией. Она подразумевала некий идеал политической общности, который представал в одних случаях канувшим в безвозвратное прошлое, а в других – осуществимым и досягаемым в обозримом будущем. Попросту говоря, в крае отыскивались очень разные “русскости”. Русскость местного польскоязычного дворянства и русскость крестьянства являли собой два смысловых полюса, которые задавали мифологическому нарративу Муравьева мощное эмоциональное напряжение и почти эпическое звучание. В первые же дни своего пребывания в Вильне, в середине мая 1863 г., Муравьев со всей возможной ясностью дал понять, что львиную долю ответственности за мятеж он возлагает на местное дворянство en corps. Генерал-губернатор старался выстроить репрессивные и запретительные меры в отношении “панов и шляхты” как наглядное подтверждение весьма популярной тогда идеи о перерождении или “совращении” местного землевладельческого сословия. Суть ее сводилась к тому, что подавляющее большинство говорящих на польском языке помещиков Литвы и Белоруссии – вовсе не поляки по генеалогическим корням. По словам В.Ф. Ратча, автора предельно идеологизированного труда по истории “польского мятежа”, “латинское духовенство и многолетние работы Чарторыйских ополячили туземных литовско-русских дворян до такой степени, что они, в том числе даже и Рюриковичи по предкам, считают себя поляками, хотя тщательно изучают свои родословные”. Как видно из цитаты, предполагаемое ополячение мыслилось процессом, который протекал, охватывая все более широкий круг землевладельцев, начиная с Люблинской унии 1569 г. и вплоть до середины XIX в.: под “работами Чарторыйских” имелась в виду и национальная пропаганда парижской эмиграции 1831 г. (Отель Ламбер). В покровительствуемом Муравьевым журнале “Вестник Западной России” публиковались генеалогические изыскания К.А. Говорского, призванные свидетельствовать о том, что почти у всех знатных дворянских семейств в Белоруссии, исповедующих католицизм, имелись предки не просто православной веры, но состоявшие в православном духовном звании.12 Исходя из такого представления о приключившейся с дворянством бывшего Великого княжества Литовского метаморфозе, Муравьев использовал для характеристики наличной дворянской корпорации емкое и хлесткое наименование “ренегаты” – “польские помещики, бывшие прежде того русскими...”.13 Можно предпо- ложить, что такое воззрение косвенным образом подсказывалось и навевалось достаточно известной в России кастово-аристократической идеологией “сарматизма”, берущей начало в мифе о происхождении коренной польской шляхты от сарматов – легендарных завоевателей славянского населения будущей Польши.14 Служившая в политической культуре Речи Посполитой инструментом самовозвеличения шляхты, укрепления ее корпоративности, утверждения телесной и ментальной инакости пана относительно плебея, мифологема “сарматизма” могла теперь эксплуатироваться в интересах идеологии, тотально враждебной к наследию великой Польши. Будучи включенной в “диалог” с теорией исконной русскости дворян Западного края, “сарматская” легенда помогала структурировать иное, чем оппозиция “пан – плебей”, противопоставление: коренные польские дворяне, с их неславянскими предками, versus потомки древнерусской знати, неполяки, тщетно силящиеся стать поляками вопреки фундаментальным расовым различиям.15 В соответствии с тезисом о “перерождении”, конкретные санкции против дворянства, сверх своего прямого назначения, манифестировали – в глазах власти – порочность самой натуры среднестатистического местного дворянина. Так, обложение каждого помещичьего имения в июне 1863 г. контрибуционным сбором в размере 10% с дохода должно было не только нанести удар по казне повстанческого комитета, но выставить на всеобщее обозрение сребролюбие и низменную меркантильность владельцев. (Отказались от своих идеалов, испугавшись штрафа!). Немало усилий генерал-губернатор приложил к тому, чтобы собрать как можно больше подписей дворян Виленской губернии под всеподданнейшим адресом с осуждением действий повстанцев, заверением в политической благонадежности и ходатайством о высочайшем “милосердии”. В конце июля 1863 г. адрес был официально представлен генерал-губернатору, который немедленно интерпретировал его как свидетельство трусости и раболепия людей, еще вчера симпатизировавших мятежу.16 Подобная диффамация польскоязычного дворянства была для власти одним из способов отрицания за повстанческим движением национального характера, национально-освободительной мотивации. Еще в самом начале восстания, в январе 1863 г., Александр II заявил в речи перед батальоном лейб-гвардии Измайловского полка, что обвинять в крамоле надо не “весь народ польский”, но лишь злоумышленников из “революционной партии”.17 Царь старался не отступить от универсалистского имперского принципа: нет враждебных народностей, есть невер- ные подданные. Однако в Царстве Польском, с его этнически сравнительно однородным населением, которое в своей значительной массе было так или иначе вовлечено в восстание, соблюсти эту линию в политике было невозможно. Западный же край, где для определения этнической принадлежности и межэтнических границ использовались зачастую взаимоисключающие классификационные критерии, представлял собой куда более подходящую сцену для конструирования образа мятежа согласно схемам имперского мышления. Одну из важнейших идеологических задач Муравьев видел именно в том, чтобы опровергнуть трактовку восстания как выступления “польской народности”, даже при условии признания победы русского народа над польским. Так, генералгубернатором была сразу же пресечена инициатива нескольких минских помещиков, предлагавших составить всеподданнейший адрес, содержащий прошение о замене титула “государь Всероссийский” на “государь Всеславянский”. Казалось бы, такое панславистское обращение могло быть выигрышным для правительства, ибо, как говорилось в проекте, дворяне торжественно отрекались от “не признаваемых временем и историей сепаратистских стремлений”.18 У Муравьева, однако, был совсем иной взгляд на дело, который он изложил в письме (предназначенном в конечном счете для императора) главноуправляющему III Отделением В.А. Долгорукову от 18 февраля 1864 г.: “[Польская пропаганда] принимает характер панславизма, стараясь привлечь к этой неновой уже мысли некоторых русских ... и как бы сознавая искренно свою вину перед Россиею в том, что действовала против нее. ... Средство, избранное поляками, другое и как будто в примирительном духе с нами, но цель их, видимо, та же самая, т.е. желание во что бы ни стало со временем освободиться от русского владычества и не называться даже именем Русским”.19 Поляк, называющий себя “именем Русским”, – это абстрактный концепт, обозначающий не столько смену этнической идентичности, сколько осознание своей связи с древней традицией службы престолу. В окружении предшественника Муравьева – В.И. Назимова даже циркулировала идея о принуждении каждого местного дворянина к официальному принятию одного из наименований – поляк или русский, – под угрозой перевода всех лиц, которые “не признают себя русскими”, на положение, в лучшем случае, иностранцев, имеющих собственность в России.20 Муравьев, однако, не считал нужным требовать такого самоопределения от тех, в ком видел потенциальных или фактических изменников. Отсутствие у ново- го генерал-губернатора интереса к “переименовательной” русификации шляхты проявилось и в тексте инспирированного им всеподданнейшего адреса от виленских дворян. В документе нет ни одного этнически окрашенного термина, характеризующего мятежников (“революционную партию”) или местное дворянство. Ключевую фразу адреса – “... Мы, составляя одно целое и нераздельное с Россиею, остаемся навсегда верноподданными твоими...” – усмиритель мятежа понимал скорее в смысле династической лояльности, чем интеграции в национальный организм. С ним был согласен и Александр II, который на следующий день после подачи адреса сообщал наследнику Николаю Александровичу об этом событии, умышленно или невольно переиначивая цитированные выше слова: “... Я ... получил адрес от Вилен. Дворянства, с изъявлением полной покорности и нераздельной их связи с Империею”.21 Отказ от хотя бы формального именования дворян Литвы и Белоруссии русскими (каковыми провозглашались их далекие предки) был обусловлен, конечно же, и прагматической уверенностью в невозможности оторвать этих людей от культурно-политического наследия Речи Посполитой. В повседневной служебной речи, в текущей документации, деловой корреспонденции администраторов местное высшее сословие фигурировало обычно как “поляки” или даже (в противоречие доктрине о русской генеалогии) “дворяне польского происхождения”. Рутинный, обиходный язык власти был отмечен более глубокой печатью полонофобии, чем тексты сугубо пропагандистского или идеологического назначения. Не исключено, что зачастую властная риторика этнической враждебности была намеренным подыгрыванием тому макаберному стереотипу “москаля”, который давно сложился в умах носителей “полонизма”. Так, в марте 1864 г. Муравьев распорядился литографировать несколько сотен экземпляров рисунков, призванных компрометировать “безмозглое”, по его характеристике, восстание, прежде всего “для здешних поляков” и местной “русской публики” и только потом поставил вопрос о том, чтобы “обратить их в лубочные издания для народа”. В свою очередь, племянник виленского правителя сообщал в частном письме в июне 1864 г.: “У Михаила Николаевича только и речи, что о Литве, и выражения его при посторонних и подчиненных об усмиренных уже поляках возмутительны; наедине он человечнее, видно такая система”.22 В сочетании с тезисом официальной пропаганды о русских корнях дворян повседневное подчеркивание их теперешней польскости производило чаемый вла- стью эффект. Тем самым утверждалось представление о фатальной необратимости случившегося когда-то “совращения”, о смерти дворянской корпорации как русских. Не случайно при проектировании конкретных русификаторских мер Муравьев и его последователи отрицали всякую вероятность истинного перерождения польскоязычных “обратно” в русских ранее смены поколений. А непременным условием этой новой метаморфозы считался переход (пусть даже номинальный) нынешних “ополяченных” из католичества в православие до рождения у них детей. По точному выражению современного польского исследователя, власть полагала, что “русским можно было только родиться, но не стать”.23 Иначе говоря, о русской родословной наличного дворянства настойчиво напоминали, чтобы с тем большим драматизмом признать нереальность воскрешения русскости в этом социальном теле.24 Разумеется, устойчивая практика напоминания о крамольном “ренегатстве”, отступничестве от исконной лояльности не препятствовала именованию восстания “польским”, равно как и почти отождествлению повстанца с “поляком” (хотя, чисто теоретически, нетрудно представить себе Муравьева требующим строжайшего соблюдения такой легитимистской терминологии, как, например, “виленский мятеж”, в отличие от польского по ту сторону Немана). Однако же в самих категориях “польский”, “поляк” муравьевские политика и пропаганда подспудно производили смысловую переакцентировку: нейтральное значение этнонима или национальной идентичности приглушалось в них коннотациями антиимперской мятежности, космополитизма, необузданного доктринерства, социальной кастовости, а также подлости, вероломства и прочих низких людских качеств. Весьма показательно, что в окружении Муравьева слово “поляк” (и “полька”) сплошь и рядом употреблялось с определениями, обычно используемыми для усиления характеристики политического образа мыслей или душевного состояния: “поляк в душе”, “заядлый поляк”, “фанатичный поляк” и т.д.25 2. Символический образ борьбы с полонизмом: "Открытие" и спасение народного тела Ксенофобная репрезентация ополяченного “пана” и, в целом, ополяченной “господской” культуры имела своей целью не только создание отталкивающего образа врага и утилизацию негативных эмоций русских военных и чиновников ради восстановления имперского господства в крае. Как отмечает ныне ряд специалистов в области социальной и культурной антропологии, образ чужого в доиндустриальных обществах отличался особой амбивалентностью и выполнял весьма диверсифицированные функции. По словам Р. Штихве, “удивительность чужого является лишь кажущейся”, ибо, говоря несколько упрощенно, общество знает, какой именно чужой ему нужен. Воображенная фигура чужого может воплощать в себе пока еще не реализованные, но ожидающие своей реализации возможности данного общества, в первую очередь возможности инновационного действия. Миф о чужом позволяет исподволь начать подобные рискованные инновации, не теряя шанса, в случае неудачи эксперимента, вернуться на традиционалистскую позицию. Фигура чужого, следовательно, вбирает в себя и институционализирует те внутренние противоречия общественного организма, артикулировать которые лидерам общества мешают те или иные нормативно-ценностные табу.26 На мой взгляд, эта истолковательная модель может быть плодотворно применена в изучении мифологизации “полонизма” и русскости в 1860-х гг. С одной стороны, образы и стереотипы “ополяченного”/“ополяченности” использовались для утверждения русскости Северо-Западного края методом от противного: русскость преподносилась как жизненно необходимый антипод крайне негативных черт и свойств, приписываемых носителям “полонизма”. С другой стороны, носитель “полонизма” изображался самозваным, причем довольно искусным и коварным исполнителем тех функций, которые по праву должны были составлять высокую миссию приверженцев имперского порядка, но почему-либо ими не осуществлялись. В данном случае апелляция к фигуре чужого очерчивала новую сферу приложения созидательных сил лояльных подданных, “своих”. Попытаемся проанализировать этот сложный культурный механизм порождения символики “русского дела”. Восстание 1863 г. резко повысило восприимчивость имперской администрации к внешним знакам, к повседневной семиотике польского (или опознававшегося как польское) присутствия в Литве и Белоруссии. Уже через две недели после своего приезда в Вильну, в конце мая 1863 г., М.Н. Муравьев издал первый из се- рии запретительных циркуляров касательно наружной атрибутики исторического нарратива Речи Посполитой. Циркуляр аттестовал как “преступную манифестацию” массовое публичное ношение женщинами “черных платьев с плерезами и без оных, черных шляпок с белыми султанами”, а также “условных революционных принадлежностей туалета” – пряжек с соединенным гербом Польши и Литвы, переломленных крестов в терновом венке (символ мучений римско-католической церкви в империи) и др. Ношение траура по погибшим повстанцам было специфически женской формой политического протеста в польском движении, но циркуляр грозил взысканиями и тем “из лиц мужеского пола, которые будут появляться публично с знаками траура в одежде..., а также носить чамарки, конфедератки, длинные сапоги сверх нижней одежды и другие условные знаки мятежнической партии”.27 Циркуляр был воспринят сторонниками Муравьева как сигнал ободрения, как мера, настоящее предназначение которой не исчерпывается утилитарным применением. Много лет спустя Д.А. Милютин находил главное отличие первых же мер Муравьева от политики В.И. Назимова в том, что первый “не церемонился ни пред духовенством, ни пред помещиками, ни пред чиновным людом, ни даже пред женщинами...”.28 В дальнейшем борьба с польской символикой приобрела невиданный дотоле размах. В октябре 1864 г. Муравьев отдал распоряжение об инспекции всех типографий и фотостудий и уничтожении “всех карточек с негативами, изображающими сомнительные личности в национальных польских нарядах”, а также “портретов, видов и сцен, напоминающих политические смуты в Польше”. Обнаружение фотографии (даже снятой, например, в Париже) чиновника или военного в польской одежде становилось неоспоримым свидетельством политической неблагонадежности.29 С не меньшим рвением преследовалось публичное употребление польского языка и письменности. Не говоря уже о запрещении польской речи в любых учреждениях и вообще в официальной обстановке, почти анекдотическую известность получил муравьевский приказ немедленно сменить все польские вывески над торговыми, ремесленными и пр. заведениями в Вильне на русские: их содержатели, в большинстве своем евреи, слабо владели русской орфографией, но для власти вид кириллических букв значил больше, чем грамотное написание слов. В распознавании визуальных следов польского присутствия и влияния Муравьев и его помощники проявляли болезненную подчас изощренность. Так, кра- мола могла быть усмотрена даже в черных бантах, повязанных на конской упряжи.30 Как антирусская диверсия римско-католической церкви был расценен принятый в среде литовских крестьян обычай устанавливать по случаю различных памятных событий придорожные кресты со статуэтками святых. Против этой демонстрации крестьянской набожности была открыта целая кампания, кресты систематически уничтожались.31 Начинания Муравьева в этом направлении были подхвачены официозной публицистикой, внесшей немалый вклад в формирование властного дискурса. На мысль о настоящей обсессии наводит статья в официозном журнале “Вестнике Западной России”, подписанная “Турист И...”. В отслеживании визуальных и звуковых “остатков латино-польского преобладания” автор доходил до совета возбранить держать открытыми двери костелов во время богослужения, дабы завораживающие органные мелодии не выливались широкой волной на соседние улицы.32 Безусловно, в подоплеке всех этих и прочих подобных мер наличествовало трезвое понимание подверженности массового сознания семиотическому давлению. Однако совершенно очевидно и то, что у власти имелась некая особенная заинтересованность в драматизации проблемы. Ощущение сплошной окруженности знаками и символами полонизма целенаправленно нагнеталось, тревога обретала характер “управляемой паники”. Не случайно польское присутствие вербализировалось в терминах тумана, морока, наваждения, гипнотизирующего и сбивающего русских людей с верной точки зрения. Один из самых талантливых идеологов Муравьева генерал В.Ф. Ратч сформулировал выразительное понятие “оптического обмана”, “тьмы и мглы” в западном крае: “... Вся польская интеллигенция и все стихии польской жизни давали тот наружный вид краю, что вопрос казался бесспорным. Богатые костелы, наружные проявления общественной жизни, язык, литература, театр, вывески, даже упряжь экипажей, все напоминало Польшу”.33 Налицо сознательная культурно-символическая стратегия: преувеличивая степень подавленности зрения и слуха знаками польского присутствия, власть навязывала восприятие и оценку этого последнего сквозь призму фундаментальных оппозиций внешнего и внутреннего, наружности и сути, поверхности и ядра, наносного и укорененного. Это противопоставление нашло красноречивое отражение в официальной риторике “русского дела”. Символическая значимость маркировки полонизма как явления столь же броского, зрелищного, сколь и внешнего, поверхностного, “искусственного” четко уясняется из обращения редакции “Вест- ника Западной России” “К русским людям”, несомненно согласованного с генералгубернатором. Это был призыв к поиску и сбору документов, памятников и преданий “православно-русской здешней старины”. Предупреждая о сложности этой работы, о необходимости критического перелопачивания груды “польских томов и латинских фолиантов” ради открытия, может быть, всего лишь нескольких фактов, редакция наставляла: “Истина всегда величественно-проста и простотою побеждает, – только для лжи выгодно опутывать себя и других. В истине – основание жизни; оттого она лежит глубоко, а вся ложь поверх ее. ... Единая только может быть здесь правда – русская, и все ищущие правды должны быть проникнуты единым духом... Пусть ни один факт, ни самый мелочной, не остается в забвении или в памяти лиц немногих, – но всем во всеуслышание оглашается, ибо только ложь может быть великою и малою, истина же всегда себе равна”.34 Иными словами, сама скудость эмпирических свидетельств о былой интегрированности Литвы в русскоправославный мир прочитывалась как неопровержимое знамение этой исконной связи. Образ извлечения правды из-под спуда лжи метафорически проецировался на “русское дело” как целостный социально-политический проект Муравьева. В патриотической риторике генерал-губернатор Литвы недаром представал “архистратигом”, русским богатырем, способным превозмочь злую колдовскую волю и развеять дурные чары. Это была героическая, но в то же время и почти жертвенная миссия: “Вы наш народный Русский герой, вся наша надежда, мы Вами гордимся, неужто Вы начали слабеть?” – вопрошал Муравьева оставшийся анонимным корреспондент, встревоженный слухами о смягчении гонений на польский язык.35 Именно риторическая фигура прозрения и откровения была для многих подчиненных Муравьева безотказным приемом самоидентификации, самоубеждения в верности официального взгляда на этот край, инструментом утверждения сопричастности к великому историческому свершению. И в дневниках и в мемуарах сотрудников виленского правителя отыскивается немало таких свидетельств. А.Н. Мосолов, описывая спустя несколько лет после восстания празднование в Вильне в июле 1863 г. дня тезоименитства императрицы (первое из массовых торжеств, с размахом демонстрировавших имперское господство в регионе), признавал: “Тут только, в эти минуты, мы, равнодушные петербургские космополиты, среди враждебной нам среды, начали чувствовать себя русскими и проникаться самым горя- чим патриотизмом”. А.И. Энгельмейер, глава депутации сослуживцев Муравьева, посетившей уже летом 1865 г. бывшего начальника в его имении в Петербургской губернии, заявлял в приветственном слове: “... Радуемся праву предстать пред тем, кто нас собрал, назначил, возбудил, воодушевил и в северо-западном крае сделал русскими более, чем мы были у себя дома”.36 В речи самого Муравьева процесс самоосознания русскости обозначался характерным глаголом “восчувствовать”, подразумевавшим стремительное и полное избавление от внушенного извне шаблона восприятия: “... Польское дело было проиграно, как скоро русские восчувствовали свое могущество, так что мятеж был укрощен не одними только материальными силами, но и моральным сочувствием России, которая вступилась за край, едва нами не потерянный. Мы лишились бы его непременно по собственным нашим ошибкам и заблуждению: мы сами называли его польским...”.37 Концептуализация полонизма как наносного слоя, блестящей оболочки, обманчивой пелены прочерчивала зеркально противоположный образно- ассоциативный ряд “русского дела”. Рассеивание тумана, исцеление от слепоты должно было производить эффект прилива зрячести, небывалого озарения: не только мы, оказывается, русские, но здесь вообще Россия! Легковесному, показному и поверхностному полонизму следовало противопоставить глубоко залегающее, внешне неказистое, массивное народное тело России, открытое лишь пронзительному взору. Мы имеем дело с не чем иным, как смысловой инверсией оппозиций “цивилизация – варварство”, “Европа – Московия” и других, структурировавших восприятие Российской империи многими участниками польского движения.38 То, что повстанцы уничижительно называли “варварством” или “азиатством”, получало противоположный оценочный знак посредством идиом почвы, корней, народной стихии, первозданной естественности и пр. Без реконструкции этого культурного контекста муравьевской политики трудно дать непротиворечивую трактовку ее важнейшему направлению – крестьянскому. Это именно такой случай, когда уместно говорить о том, что если бы реального объекта не существовало в природе, его надо было бы выдумать. Более того, Муравьев отчасти действительно “выдумывал”, измышлял социокультурный облик местной крестьянской массы. Временами виленская администрация буквально воспевала крестьянство как абсолютный антипод “пана”-мятежника: “... Все дело наиболее заключается в сельском населении, которое в душе русское, но было загнано и забито. ... [Теперь] русская родная речь всюду утверждена среди населения, которое еще так недавно думало, что навеки уже порабощено поляками и должно забыть святую свою веру и родное слово”.39 Чтобы в полной мере оценить необычность самого способа мышления о крестьянстве Литвы и Белоруссии, который был актуализован муравьевской политикой, следует учесть, что до весны 1863 г. в высшем правительстве преобладало представление о местном крестьянстве как в лучшем случае пассивной, “материальной”, но не сознательной, “нравственной” (П.А. Валуев) опоре власти в борьбе с сепаратизмом.40 (Собственно, и сам Муравьев в эпоху польского восстания 183031 гг., когда он занимал губернаторские должности в Могилеве и Гродно, взирал на местное крестьянство с традиционной для имперской власти сословнолегитимистской позиции – хотя уже тогда прославился и даже вызывал беспокойство в Петербурге как ненавистник шляхты41). Предшественник Муравьева В.И. Назимов склонялся скорее к пессимистической оценке крестьянского патриотизма, как это видно из его записки от 25 февраля 1862 г., обсуждавшейся на первых заседаниях Западного комитета в декабре того же года. Назимов к тому моменту уже не питал больших надежд на появление в среде местного дворянства “русской партии”. Обращая же взор на крестьянство (как ясно из текста, прежде всего в белорусских губерниях), он описывал ситуацию посредством малоутешительной метафоры летаргии: “... Если русское население в Западных губерниях нельзя еще назвать отжившим свой век, то не ошибемся, когда скажем, что в нем жизненная сила еще не пробудилась, скажем более – чувства народной самобытности находятся в таком безотрадном летаргическом усыплении, что вслед за наступающим пробуждением он [народ] с равною готовностию последует как за русскоправославною, так и за польско-католическою пропагандою...”.42 Распространение восстания в Западном крае еще больше сократило в высшей администрации число лиц, убежденных в русскости тамошнего крестьянства.43 Например, товарищ министра внутренних дел А.Г. Тройницкий, в 1861 г. констатировавший в специальном докладе историческую неизбежность “слияния в одно неразрывное целое” великорусской и малороссийской “народностей”44, в марте 1863 г., как кажется, отрицал такую перспективу для значительной доли белорусского крестьянства. П.А. Валуев, ознакомившись с версткой статьи Тройницкого для официоза МВД “Северная почта”, спешил наставить своего заместителя на верную стезю: “Я побледнел от испуга, прочитав, что вы признаете большинство сельского населения в 4-х Северо-Западных губерниях [Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской. – М.Д.] польским племенем. Что бы было с нами, если бы это сорвавшееся с вашего пера выражение попало в печать!!! ... Польским племенем, кроме помещиков и части горожан, мы никого там признавать не можем”.45 Однако именно в апреле 1863 г., незадолго до того, как в Зимнем дворце вспомнили о Муравьеве (и совпадение это не было случайным), в СевероЗападном крае произошли события, которые заставили власть увидеть тамошнее крестьянство в новом свете. 14 апреля в Динабургском уезде Витебской губернии группа старообрядцев захватила в плен часть повстанческого отряда во главе с графом Л. Платером, отомстив за его нападение днем раньше на обоз с оружием, ехавший из крепости Динабург. Это столкновение словно подало сигнал окрестному крестьянскому населению. В Динабургском и Режицком уездах толпы коекак вооруженных крестьян ринулись на помещичьи мызы, арестовывали без разбора владельцев, членов их семей, гостей (так что за несколько дней в крепость было доставлено более 120 человек), чинили над некоторыми физическое насилие. Было разграблено и сожжено около 20 помещичьих имений, причем одно из них в присутствии воинской команды, пытавшейся остановить разгром. Эта бурная волна улеглась только через неделю, к чему приложил усилия присланный из Петербурга генерал П.А. Шувалов. Состоявшие под его началом войска, постепенно рассредотачиваясь по территории Динабургского и соседних уездов, восстанавливали относительный порядок.46 Дилемма, перед которой столь неожиданная вспышка крестьянского возмущения поставила и столичные и местные власти, была четко сформулирована самим Александром II в частном письме вел. кн. Константину, наместнику в Царстве Польском, от 20 апреля 1863 г. Указывая на сходство волнений в Витебской губернии с памятной резней помещиков в Галиции в 1846 г., император отмечал, что “положение правительства довольно щекотливое, ибо страшно употреблять против крестьян оружие, дабы не обратить их против себя, и в то же время нельзя допускать и своеволия, которое может распространиться и далее”.47 Муравьев хорошо осознавал “щекотливость” (царь, надо сказать, выразился довольно мягко) ситуации. Ему вовсе не была чужда боязнь за сохранение порядка и законности при резком повышении социальной активности крестьян, о чем он откровенно писал, например, в письме Валуеву от 26 мая 1863 г., сообщая о событиях в Могилевской губернии, напоминавших динабургские волнения: “... Мятеж уже у[к]рощен, но к сожалению почти одними крестьянами. Я пишу Яшвилю [командиру 1-й кавалерийской дивизии. – М.Д.], чтобы не давал распространиться этому движению, ибо оно опасно; но и действовать против крестьян оружием – не следует; впрочем, они не делали никаких насилий. Достаточно будет словесных внушений местных высших властей; я надеюсь, что таким образом можно будет приостановить настоящий порыв крестьян...”.48 Генерал-губернатор был осведомлен и о не столь уж малочисленных к маю 1863 г. фактах сотрудничества крестьян (особенно литовцев в Ковенской губернии) с повстанцами, вступления крестьян в мятежные отряды в качестве “косиньеров”. Овладеть в довольно короткий срок ситуацией Муравьев сумел не потому, что обращенные к крестьянам “словесные внушения” возымели немедленное желаемое действие на самих крестьян. Посредством своих важнейших распоряжений, касавшихся крестьянства, генерал-губернатор обращался в первую очередь к подчиненным – офицерам и чиновникам. Вступая в непосредственный контакт с разнородным крестьянским населением, исполнители муравьевских приказов должны были быть уверены в своем праве осуществлять власть, уметь заглушить в самих себе растерянность перед лицом не вполне понятных социальных реалий. Этому и служила внушаемая прежде всего им, а не крестьянам, мифологема единой крестьянской массы, пробудившейся от векового сна не ради совершения беспорядков и насилий, а ради долгожданной встречи с посланцами царя. Первые же публичные распоряжения Муравьева столько же предписывают конкретные действия, сколько рисуют вполне определенный, “унифицированный”, подлежащий узнаванию облик крестьянства. В “объявлении сельским обывателям” от 2 июня Муравьев решительно актуализировал образ крестьянства как единого целого: “... Смело и без боязни станьте лицом к лицу против бунтовщиков, которых страх наказания гонит в леса, а грабеж и разбой вызывают оттуда на ваши селения”. Подтверждая крестьянам Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерний прекращение всякой зависимости от помещиков и переход в состояние полных земельных собственников (согласно указу от 1 марта 1863 г.), генерал-губернатор подчеркивал: “Благодетельная мера эта распространена на всех вас без различия вероисповеданий, ибо и православный и католик, верные своей присяге, пользуются одинаковою защитою от своего Государя”. Кроме того, воображаемая целостность крестьянства подразумевалась трактовкой местного дворянства тоже как единой категории, но, в противоположность крестьянам, глубоко зараженной мятежным духом. В названном “объявлении” эта антитеза прочерчивается с редкой риторической экспрессией: “... Сотни бывших ваших помещиков и ксендзов, участвовавших в мятеже и взятых войсками и верными своему долгу крестьянами, содержатся в крепостях и острогах; над многими из них уже приведены в исполнение смертные приговоры военного суда...”.49 Вслушиваясь в тональность этих деклараций, лучше понимаешь, почему легитимистски настроенные бюрократы, включая помощника Муравьева по гражданской части А.Л. Потапова, в конце 1860-х гг. назначенного виленским генералгубернатором, смотрели “на то патриотическое одушевление, которое внесено было в управление муравьевским строем, как на крупный административный скандал, который надлежало прекратить как можно скорее ради благочиния и порядка”.50 Своеобразное инсценирование встречи, взаимного узнавания и воссоединения после долгой разлуки составляло культурный фон многих мероприятий Муравьева в отношении крестьянства. За два года своего генерал-губернаторства он ни разу не совершил поездки вглубь вверенных ему территорий, не посетил ни одного селения. Всем своим поведением Муравьев давал понять, что ему не нужно проводить каких-либо личных инспекций. Вместо этого с августа 1863 г. складывается регулярная практика официальных приемов генерал-губернатором крестьянских депутаций и поднесения ему крестьянских благодарственных адресов. Насколько солидарно символика этих церемоний разделялась и поддерживалась их участниками со стороны власти (о реакции крестьян судить много труднее), показывает донесение виленского жандармского штаб-офицера А.М. Лосева о приеме самой первой депутации крестьян, причем католиков, который был приурочен к празднику Преображенского полка, 6 августа 1863 г. В патетической тональности Лосев описывает момент предполагаемого озарения крестьян при виде защитников имперских устоев: “... Прибывшие депутаты приглашены были на торжество, устроенное на Игнатьевском плацу ... с таким великолепием, что, по сознанию виленских обывателей, они ничего подобного не видели. Преображенцы пировали под открытым небом, и потому огромная толпа народу была свидетельницею их неподдельного веселья. ... С каким чувством смотрели на все это польские51 депутаты крестьяне, угадать не трудно. По их умиленным лицам, по их рукам, часто слагавшимся в молящееся положение, по их взору, обращаемому к небу, безошибочно можно заключить, что они еще более утвердились в своей надежде на покровительство и защиту законного правительства...”. 52 Принадлежность молящихся к римско-католической вере делается словно бы незаметной в этой имперской по духу сцене взаимного умиления и единения: “небо” является метонимией императорского престола. Одним из начинаний Муравьева, имевших целью создать впечатление почти осязаемого соприкосновения власти со “спасенным” единоверным крестьянством, была кампания по введению в обычай среди православного населения нательных крестов. Игнорирование этой обрядовой практики было, по мысли Муравьева, скрытым знаком польско-католического вмешательства, “отпечатком латинства”, ибо шло еще от униатской церкви, официально упраздненной в 1839 г. Ввести ношение крестов в обиход предполагалось не иначе как централизованным порядком. Муравьев лично хлопотал о заказе у московских фабрикантов 500 тысяч крестиков. Сама идея одновременной раздачи десятков тысяч предметов, предназначенных для индивидуального культового использования, символизировала открытость огромной крестьянской массы благодетельному воздействию светской и духовной власти. Эта акция дала повод непосредственно связать тему возрождения с идеалом царской милости. Императорское семейство прислало примерно полтысячи красивых серебряных крестиков для крещения первого новорожденного младенца в каждом из приходов четырех северо-западных епархий. Муравьев настоятельно рекомендовал митрополиту Литовскому Иосифу (Семашко), чтобы “обряд возложения крестов был совершен в приходской церкви с возможною торжественностию и чтобы к присутствию ... приглашено было сельское общество прихода...”.53 3. Этнический и социальный аспекты "русского дела" Одно из серьезных затруднений, с которыми сталкивается исследователь при анализе феномена “крестьянолюбия” в муравьевской политике, – вопрос о правомерности оценки этой тенденции как русификаторской. Вообще, понятие русификации, как отмечают новейшие специалисты по истории национальной политики в Российской империи, требует осторожного и дифференцированного применения. Следует, в особенности, различать русификацию административную (т.е. унификацию управленческих институтов и процедур по образцу существовавших во внутренних, великорусских регионах империи) и русификацию как этнокультурную или культурно-языковую ассимиляцию.54 На первый взгляд, этнически ориентированные действия муравьевской администрации, взаимосвязанные с крестьянской политикой, прямо и безусловно подтверждают распространенное в литературе мнение об ужесточении русификаторского курса на западной окраине после 1863 г. Веские основания для такого вывода дает подход Муравьева к проблеме белорусской народности. Если судить по формальным показателям, то проблемы как таковой генерал-губернатор вовсе не признавал. В 1830-е гг. в его административно-политическом лексиконе оборот “белорусские крестьяне” еще встречается, и то не в смысле этнонима, а как обозначение по месту обитания: “крестьяне Белорусского края”.55 В программных же документах 1863-65 гг. какие-либо упоминания о белорусах напрочь отсутствуют, и к восточнославянскому крестьянскому населению края прилагается единственная категория – “русские”. Одно из редких исключений – фраза в черновике всеподданнейшего доклада Муравьева (май 1864 г.): “Бедственная идея о разъединении народностей в России, введении Малорос[сийского], Белорус[ского] и иных наречий уже глубоко проникла в обществ[енные] взгляды. Необходимо положить этому твердую преграду и вменить Мин. Народ. Просвещения в обязанность действовать в духе единства России...”.56 В полном согласии с этим тезисом преподавание в сельских школах велось на русском или – в местах проживания литовцев – параллельно русском и литовском (“жмудском”) языках, но ни в коем случае не на белорусском. Вскоре после издания в июле 1863 г. знаменитого циркуляра П.А. Валуева о приостановлении выпуска в свет массовой литературы на малороссийском языке (за вычетом художественных произведений) аналогичное ограничение было наложено на белорусское “наречие”, которое стало все чаще квалифицироваться как вульгарный “жаргон”. Запретительной политике был дан столь сильный импульс, что до начала XX в. не появилось ни одной книги на белорусском.57 Однако тут возникает новый вопрос: действительно ли виленский правитель не распознавал белорусского этноса или только делал вид, что не замечает его? Любопытный эпистемологический парадокс заключается в том, что в свете позднейших обстоятельств национального развития (например, возникновения независимой Республики Беларусь) унификаторская политика самодержавия на окраинах имеет тем больше шансов выглядеть радикальной и тотальной, аморальной и от- талкивающей, чем меньше ее творцы, руководствовавшиеся принципиально иными критериями этнического деления, догадывались о том, что их действия могут показаться потомкам целенаправленной репрессивной ассимиляцией (и, соответственно, чем меньше заботились о теоретическом оправдании своих инициатив). Иными словами, коль скоро в белорусских крестьянах власть видела неотъемлемую составную часть “большого” русского народа, то историку требуется особый аналитический инструментарий для осмысления имперской политики в крае в понятиях ассимиляции. В самое последнее время тема ассимиляции/русификации внутри восточнославянской общности в Российской империи второй половины XIX в. получила обстоятельное освещение в работе А.И. Миллера, посвященной отношению правительства и прессы к формированию украинского национализма в пореформенную эпоху. Миллер доказал существование в умах правящей и пишущей элиты плана целенаправленной ассимиляции малорусской народности в рамках проекта “большой русской нации”. Весьма влиятельные деятели в разные периоды, вовсе не отвергая декларативного именования малороссов русскими, настаивали тем не менее на необходимости специальных комплексных мер для консолидации малороссийского населения с великорусским. Такая схема включала в себя признание регионально-исторической самобытности малороссов и отказ от подавления ее атрибутики (дабы не подстегивать сепаратистских устремлений), ограниченное использование местного наречия в начальной школе, бескомпромиссное недопущение трансформации местного наречия в стандартизованный литературный язык и его конкуренции с русским языком в области среднего и высшего образования, поощрение географической мобильности малороссийского населения и т.д. Но, как обнаруживает автор, несмотря на сравнительную четкость постановки долгосрочных целей, реальная имперская политика в украинском вопросе была феноменально непоследовательной, пугливой и апатичной, замыкалась на запретительных акциях, которые лишь служили раздражающим фактором и провоцировали националистические настроения в малороссийской среде.58 Этот контраст между теорией и практикой ассимиляции выдает глубокое, какое-то унылое и фатальное неверие имперских верхов в ассимиляторский потенциал подкомандной им государственной машины. Миллер неоднократно отмечает, что такое неверие и вытекающую из него пассивность нельзя списывать только на русско-польское политическое, экономическое, культурное соперниче- ство в западных губерниях и угрозу союза “полонизма” и украинофильства. 59 Это наблюдение верно, но, как мне кажется, не вполне принимает в расчет одно из важных измерений польского фактора. Дело было не только в том, что существовала реальная, эмпирическая опасность сближения украинофилов с деятелями польского восстания – опасность, которую власть могла панически преувеличивать именно в условиях ожесточенной борьбы с повстанцами. Не менее важным, а главное более устойчивым проявлением польского фактора было влияние, которое стереотип носителя “полонизма”, сложившийся в умах элиты, оказывал на постижение самой категории этничности применительно к восточнославянскому населению западной окраины. Кажущееся маниакальным (например, в писаниях М.Н. Каткова) подчеркивание связи между “польской интригой” и манифестациями малорусской и белорусской идентичности – это не просто тактический маневр русского национализма. По крайней мере, в случае Муравьева и возглавляемой им администрации, представление о такой зависимости было неотделимо от ключевого образа “совращения”, “перерождения” русских в польскоязычных. Здесь очень ощутимо дала себя знать трактовка “полонизма” как заемной ложной национальности, как отречения от исконной русскости. В этом свете культивирование малорусской и белорусской самобытности принимало вид повторения скорбного прошлого, продолжения “перерождения”, увлечения крестьян (и не только их) на порочный путь, уже проторенный когда-то местным дворянским сословием.60 Итак, объект ассимиляции плохо ли, хорошо, но распознавался (косвенным признаком чего как раз и является систематическое замалчивание Муравьевым слова “белорус”, отнюдь не табуированного даже в бюрократическом языке эпохи). Сама же процедура ассимиляции значительно осложнялась имперсколегитимистским “морализаторством”. Процессу формирования национальной идентичности, который требовалось “оседлать” и направить в нужное русло, присваивались коннотации обмана, нелояльности, отступничества. Такое видение во многом предопределило неуклюжий запретительный подход, помешав более гибко и творчески утилизировать имевшиеся (и осознававшиеся) ассимиляторские ресурсы. Если осуществление ассимиляторского давления на белорусское население могло затрудняться коллизиями в восприятии русскости белорусов как таковой, то, казалось бы, литовцев было легче по крайней мере осмыслить как объект ру- сификации. Между тем это не совсем так. Размашистые декларации Муравьева о том, что русские православные люди составляют 5/6 всех жителей края, отнюдь не означали игнорирования присутствия неславянских групп населения. Литовцы, или, по распространенной тогда терминологии, жмудины – по преимуществу малоподвижная земледельческая общность, типичный “крестьянский этнос” – занимали самостоятельное место в системе мероприятий виленского генералгубернатора. Вообще в глазах власти принадлежность к крестьянскому сословию как гарантия лояльности нередко оказывалась значимее, чем католическое вероисповедание той же группы как индикатор потенциальной мятежности. И кредит доверия к католикам-жмудинам следует признать в целом высоким, если учесть, что именно на территории компактного проживания этноса, в Ковенской губернии очаги восстания были погашены позже, чем где-либо еще, а репрессии пришлось применять и к крестьянскому населению. Важнейшей мерой Муравьева в отношении литовцев как этноса были введение кириллического алфавита в литовскую письменность (разработанного филологами, литовцами по происхождению, Микуцким и Юшкевичем) и прекращение публикаций на литовском языке с использованием традиционной польской латиницы. Подчеркну, что полный запрет на продажу, распространение и ввоз литовской литературы на латинице был издан в 1866 г. преемником Муравьева К.П. фон Кауфманом.61 При Муравьеве начался массовый выпуск литовской литературы для народа на кириллице – букварей, молитвенников, календарей и пр. В исторической ретроспективе отчетливо видно, сколь неудачным и топорным был такой способ ассимиляции литовцев, если, конечно, допускать, что целью данной стратегии ее инициаторы мыслили именно культурно-языковую ассимиляцию. Как показано в новейшей работе А.С. Мыльникова, алфавит в религиозно-культурной борьбе на землях Великого княжества Литовского играл исключительную роль еще в XVI в. Кириллица и латиница были сильнейшими маркерами этнической и конфессиональной идентичности, поэтому для успешного наступления католицизма и унии на приверженцев православия потребовался не немедленный запрет кириллицы, а, напротив, употребление ее в книгах, инфильтрующих католическую веру в культурно инакое сознание: “... В качестве языка (и шрифта) выбирался тот, которым пользовалась аудитория, подлежавшая психологической обработке”.62 Иными словами, использование чужого алфавита – важнейшего символа этничности – помогало сконцентрировать ассимиляционные усилия и сделать их менее заметными для объектов ассимиляции. Противоположный образ действий продемонстрировала имперская власть на литовской периферии во второй половине XIX в. Гонения на латиницу еще сильнее подчеркивали ее этномаркирующее значение и вполне закономерно усугубляли опасения литовцев, что это лишь прелюдия к их насильственному обращению в православие.63 В этом смысле, запрет латиницы был негативным методом утверждения этнической инакости. Как явствует из недавней работы В. Родкевича, лишь к началу XX в. администраторы северо-западного региона начали понимать, что процесс русификации, чтобы быть эффективным, должен включать в себя переходный этап, на котором ассимилирующая сторона может поощрять какие-либо элементы самобытной идентичности ассимилируемой. Лишь тогда был наконец снят запрет на латиницу в литовской письменности.64 Рассматривая мероприятия Муравьева в этой перспективе, трудно обнаружить в них четкое предпочтение той или другой – принудительной или поощрительной – концепции ассимиляции. Хотя тотальное изъятие латиницы из сферы легальной литовской письменности произошло все-таки годом позже его отставки, Муравьев явно стремился сохранить за литовским языком сугубый статус “племенного наречия”, изолировать его в пределах коммуникативного пространства социальных низов. Так, в феврале 1864 г. он распорядился опубликовать отдельно на литовском языке для населения Августовской губернии (латиницей) прокламацию наместника Царства Польского о крестьянской реформе, но отверг предложение руководителя гражданской администрации Царства Н.А. Милютина одновременно перевести также на литовский крестьянское законодательство от 19 февраля 1861 г. и 1 марта 1863 г. для Ковенской и Виленской губерний. По свидетельству одного из ближайших сотрудников генерал-губернатора И.А. Никотина, издание литовского перевода на территории Царства казалось Муравьеву необходимым противовесом официальной же публикации там законов на польском, а в западных губерниях публикация законов по-литовски означала бы совсем другое – признание сопоставимости литовского языка с русским.65 Власть не должна была без чрезвычайной нужды говорить по-жмудски! Сведения из мемуаров И.А. Никотина, которыми я располагал в момент написания данной статьн для журнала “Ab Imperio”, нуждаются в корректировке. Как кажется, Никотин смешал два разных эпизода. В мае 1864 г. Муравьев воспротивил- С другой стороны, Муравьев очевидно старался избегать некоторых запретительно-принудительных крайностей в унификаторской политике на литовских землях. Бывший при нем попечителем Виленского учебного округа И.П. Корнилов утверждал много позднее, в своих работах 1900-1901 гг., что Муравьев вовсе не был фанатиком уничтожения латиницы в литовской письменности и хотел постепенным внедрением кириллицы “восстановить древнее культурное сближение литовцев с русскими”.66 Конечно, в период, когда гонения на латинский алфавит себя окончательно скомпрометировали, такие свидетельства о позиции вдохновителя “русского дела” могли быть ретроспективной спекуляцией. Однако и в написанных гораздо раньше, в конце 1860-х гг., мемуарах П.А. Черевина, при Муравьеве заведующего общим делопроизводством генерал-губернатора (а впоследствии начальника охраны Александра III), отмечается осторожность Муравьева в таком тесно связанном с литовской самобытностью вопросе, как массовое обращение местных католиков в православие. По Черевину, генерал-губернатор “всегда твердил, что не это оружие, которым можно побороть латинство. Сознавал ли он силу сего последнего или предугадывал ли он нашу собственную слабость, нерешительность, отсутствие преследования принятой мысли, осталось для меня загадкою...”.67 Не удивительно, что понятие “русская народность” в муравьевском дискурсе оказалось этнически несфокусированным. Докладывая императору перед самой своей отставкой в апреле 1865 г. о ходе обучения крестьян “русской грамотности вместе с правилами православной веры”, Муравьев с несколько наивной гордостью замечал: “Этот предмет идет уже весьма успешно и учреждено в крае много сотен школ, даже и на Жмуди [т.е. для литовцев-католиков. – М.Д.]. Крестьяне везде с охотою изучают русскую грамоту и сами просят о назначении русских учителей. Они принимают уже радушное участие в устройстве православных ся публикации текста «Положений» 19 февраля 1861 г. в переводе на латышский, а не литовский, язык. Что же касается литовского перевода «Положений», то его распространение приостановил не Муравьев, а К.П. Кауфман в январе 1866 г. Кауфман не находил в таком мероприятии никакой пользы даже в случае напечатания текста русскими буквами. Он выражал опасение, что «крестьяне признают это издание за совершенно новые правила», между тем как «было бы желательно, чтобы крестьяне привыкнули понимать на русском языке». См.: Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas [Литовский государственный исторический архив, Вильнюс], ф. 378, Общее отделение, 1864 г., д. 2130, л. 1-5. церквей и гордятся званием русских”.68 Ясно, что “русские” как “звание” – скорее политоним, обозначение имперской идентичности, чем этноним, а русификация такого рода могла быть больше рассчитана на известный внешний эффект. Что же касается православия как индикатора русскости, то, в отличие от пресловутой уваровской триады в ее версии 1830-40-х гг., муравьевская “русская народность” санкционировала альтернативу официальным формам исповедания православия. Генерал-губернатор усердно покровительствовал местным старообрядцам, которые находились в довольно напряженных отношениях с православной церковью. Он открыто заявлял, что земледельцы-старообрядцы “более других сохраняют русскую народность”, что “не было еще случая, чтобы старообрядец, оставив свои родные привычки, поверья, обычай и образ жизни, слился с местным инородческим элементом”.69 Муравьев оказывал старообрядцам демонстративные знаки доверия даже в ответственных военно-административных мероприятиях, разрешая им формировать самостоятельные вооруженные отряды.70 На мой взгляд, культурная многозначность понятия “русская народность”, объективированная в деятельности виленской администрации, побуждает исследователя рассмотреть этот лозунг в контексте не только правительственных задач на “национальной окраине”, но и проблем общеимперского масштаба. Культурное наполнение идиомы возрождения России, включение в нее столь разнородных элементов, как старообрядчество и православная церковь, литовское и восточнославянское население и пр., репрезентировало социальные низы в крае как единую сплошную массу, нерасчленимую органическую общность. Тем самым достигался неповторимый эффект освобождения “народного тела” из-под будто бы искусственного, наносного прикрытия, расчистки имперского фундамента от нагроможденного сверху хлама. Имперское здание имеет здесь прочную и монолитную основу, но остается недостроенным ввысь, недовозведенным – таково было символическое послание, прочитывавшееся в политике виленских властей многими современниками. Этой картине красноречиво и маняще не хватало вертикального измерения. Демонстративный поворот имперской власти к крестьянству не просто должен был символически манифестировать “открытие” народного тела, но и подтвердить знаковое отождествление “полонизма” с социальным злом. Попытаюсь доказать этот тезис на примере весьма радикальных аграрных мероприятий Муравьева, имевших ближайшей целью увеличение по сравнению с нормами 19 февра- ля 1861 г. крестьянского землепользования (в том числе путем возвращения ранее отнятых участков), оземеливание батраков и облегчение условий выкупа наделов в собственность. Данные акции сравнительно неплохо освещены в литературе в их административном аспекте (в меньшей степени ясны экономические последствия их реализации)71, но символическое измерение аграрной политики еще должно стать предметом внимательного изучения. Среди историков общепринято мнение о том, что, проявляя с марта 1863 г. беспрецедентную заботу о благосостоянии литовских и белорусских крестьян, власть лихорадочно спешила нейтрализовать обещания безвозмездных раздач земли, провозглашенные повстанческими комитетами. Этот мотив представляется (вполне основательно) столь естественным, что остается незамеченным весьма любопытный нюанс: администрация при проведении земельной реформы нередко ссылалась на предшествующие декларации и посулы повстанцев и сочувствовавших им помещиков, хотя, казалось бы, должна была упорно замалчивать факты, могущие повысить в глазах крестьян репутацию “панов”. Какой же был смысл указывать на приоритет непримиримого противника в столь важном вопросе, как сближение с крестьянством? Проще всего объяснить дело тем, что Муравьев подыскивал благовидный предлог для оправдания действий, которые многими столичными сановниками оценивались как рискованное нарушение дворянского права собственности. Процитирую, к примеру, отрывок из черновика его программного письма В.А. Долгорукову от 7 марта 1864 г. (в окончательном варианте акценты расставлены не так откровенно): “Возвращение крестьянам тех участков, которые отобраны от них помещиками польского происхождения, а также немецкими помещиками Ковенской губернии ... есть мера справедливая..., на которую сами землевладельцы не вправе роптать... Многие из помещиков поляков недавно сами даже обещали возвратить крестьянам безвозмездно все прежние их земли, с тем условием, чтобы крестьяне приняли участие в мятеже. Одним этим уже помещики выразили сами, что возвращение крестьянских земель не есть дело невозможное и не будет для них убыточно и тяжело”.72 Стремление изобразить польских помещиков главными виновниками собственных убытков более чем очевидно. Но имелся, как кажется, и более тонкий расчет. “Полонизм” вновь представал неким воплощением неправды и обмана: помещики обещали то, что сами заведомо не собирались выполнять и что выпол- нить могла только законная власть. Не случайно муравьевские правила (изданные осенью 1863 г. фактически без ведома высшего правительства) требовали возвращения крестьянам отобранных земель не частично, а в полном объеме во всех случаях, когда такое обезземеливание было произведено помещиком после 1857 г.73 В этой хронологии заключалась выразительная символика: в названный год дворянство трех литовских губерний выступило с инициативой освобождения крестьян, на которую Александр II ответил знаменитым рескриптом тогдашнему генералгубернатору В.И. Назимову (20 ноября 1857 г.), обязывающим дворянство при освобождении “улучшить быт” бывших крепостных. Процедура восстановления крестьянского надела “в границах” 1857 г. задавала воззрение на тогдашние довольно расплывчатые заявления дворян как образчик коварной лжи, хитроумной интриги, дальновидный план усыпления бдительности правительства. Однако стереотип “пана”, старающегося втереться в доверие к “хлопу”, создавался не единственно лишь ради дискредитации повстанческого движения. В известном смысле, власть рисовала такую картину как пример для подражания. Как отмечал еще в феврале 1863 г. в письме В.А. Долгорукову В.И. Назимов, вследствие рутинно-бюрократического хода “революции” (!) 19 февраля 1861 г. “польская партия” сумела “отчаянным поворотом дела опередить наше правительство и ... дерзко стать на его место”, что в ближайшей перспективе грозило установить “небывалую до сих пор солидарность и взаимную связь между природным русским населением и местным польским дворянством Западного края”.74 Отсюда вытекало, что лояльным подданным, противостоящим мятежу, не мешало бы перенять у польской шляхты ее социальный активизм, предприимчивость и мобильность. В отличие от Назимова, Муравьев никогда не допускал – хотя бы с оговоркой об экстремальных условиях – вероятность подобного тесного союза “панства” и крестьянства. И тем не менее, некоторые черты в сконструированном им собирательном образе мятежника, “чужого” рисовались словно бы в упрек и назидание “своим”.75 В первую очередь это предполагавшееся в “панах” воззрение на крестьянство как объект цивилизаторских усилий высшего социального слоя. Разумеется, поляки тщились “пробудить” крестьянство на погибель Российской империи, “совратив” в чужую народность и веру, но, так сказать, сама структура их действия могла бы быть с пользой воспринята и защитниками имперских интересов. Аграрно-крестьянская политика Муравьева вообще адресовалась не столько крестьянству, сколько потенциальному составу будущей имперской элиты в Западном крае. Благодеяния крестьянам, столь же пропагандистские, сколь и ощутимые на практике, призваны были создать социокультурную атмосферу, необходимую для осуществления наиболее амбициозного русификаторского проекта виленской администрации – колонизационного. По муравьевскому сценарию, от грядущих великорусских колонизаторов-землевладельцев требовалось “узнать” в местном крестьянском населении когда-то потерянных соотечественников, ныне остро нуждающихся в ободрении и покровительстве. “Вы, маститый подвигами граф, совершая переворот в целом крае, счастливили русских людей тем, что одних прямо спасали, а других призвали на спасение братий”, – в такой формулировке идея Муравьева возвращалась ему в приветственном послании от правительственных учреждений Ковенской губернии в 1865 г., уже после его отставки.76 Вновь возникающая социальная связь мыслилась тем более прочной и эмоциональной, что заменяла “искусственное” сцепление противоположностей – русского и польского начал. В начале 1864 г. Муравьев выдвигает ряд взаимодополняющих планов заселения Северо-Западного края “русским элементом”, т.е. преимущественно выходцами из коренной России, при финансовой поддержке государства. Это и приглашение выпускников духовных семинарий на должности учителей сельских школ и волостных писарей, и наделение землей отставных солдат, и переселение крестьян для водворения их на свободных казенных землях, включая конфискованные у мятежников. Особое место в этих колонизационных замыслах отводилось разработке механизма перехода имений польских помещиков, как конфискованных и секвестрованных, так и не затронутых репрессиями, в руки новых, лояльных, владельцев. Именно план дворянской колонизации сразу же приобрел значение символа. Муравьев ставил задачу сформировать в Литве “русский компактный элемент земства” прежде всего из чиновников, приезжающих на службу в Вильну из центральной России, продавая им на льготных условиях имения от 120 до 1000 дес.77 И здесь, как и в других вопросах мирного устроения Литвы, сконструированный властью образ польского мятежника “незримо” оказывал обратное влияние на своих творцов. Отчасти, проект колонизации, разрабатывавшийся Муравьевым с подлинным азартом и страстью, был следствием культурно-психологической потребности в лицезрении антипода мятежника – идеального русского. Логика ми- фотворчества требовала верить в то, что низость и коварство скрытых приверженцев “полонизма” прямо-таки заставят приезжающих русских явить собой эталоны безупречного подданного, неутомимого чиновника, предприимчивого и удачливого помещика и т.д. и т.п. Отсюда-то и проистекали те странные на первый взгляд эйфория авторов колонизационных планов, их невосприимчивость к указаниям на объективные трудности колонизации и заведомую случайность подбора кандидатов в новопоселенцы, экзальтированное упование на решение таким путем общероссийских проблем. Весной 1864 г. с подачи Муравьева министр государственных имуществ А.А. Зеленой ходатайствовал перед императором об обязательной продаже всех секвестрованных владений и предоставлении русским льгот и пособий для приобретения имений в крае.78 Сразу Александр II не решился форсировать мобилизацию дворянской земельной собственности, однако в Вильне разработка идеи продолжалась. В результате преемник Муравьева К.П. Кауфман выступил с проектом еще более жестких санкций, который и был утвержден царем как указ от 10 декабря 1865 г.79, разрешавший покупку имений в Западном крае только “лицам русского происхождения, православного и протестантского вероисповеданий”, но не “лицам польского происхождения”. Указ, несмотря на формулировку “польское происхождение”, не содержал в себе четких критериев идентификации такового. В применении же его на практике индикатором чаще всего выступало католическое вероисповедание.80 Известно, что намеченные указом 1865 г. цели не были достигнуты – колонизация лишь частично ослабила польское присутствие в крае, однако это не отменяет факта, что само проектирование такой колонизации в 1863-1865 гг. поддерживало в муравьевских чиновниках дух социального эксперимента (зачастую, впрочем, неотделимый от своекорыстных или карьеристских устремлений). Идеальный тип колониста – землевладельца, администратора и земского деятеля в одном лице! – восторженно обрисован в специальной записке К.П. Кауфмана от осени 1865 г., которая составлялась, видимо, с учетом советов Муравьева (в личном фонде последнего сохранились копии двух редакций записки): “[Русские помещики] будут стремиться приобретать имения в северо-западных губерниях, причем перевезут в край не только свои семьи, но, частию, и прислугу, а наконец, многие увлекут за собою и лиц из крестьянского сословия, так что каждый из приобретающих имение в северо-западных губерниях положит основание целого русского поселка, посадит в литовскую землю целый куст православного русского начала. Совершенно излишне говорить о нравственном влиянии, которое приобретет в крае группа наприм[ер] из 10 или 12 русских помещиков, поселившаяся в одном уезде. Нечего говорить и о том, какое содействие найдет в них местное начальство при выполнении правительственных предначертаний, ибо они представят собою готовый и оседлый элемент для земства, отчасти для судебной реформы и будут надежными проводниками идеи распространения и укоренения православия в крае...”. При этом не столь уж обширный по меркам империи Северо-Западный край мыслился неким спасительным прибежищем для помещиков со всей центральной России, которые после начала выкупной операции, получив от правительства вознаграждение за земли, “решительно недоумевают, к чему и как приложить свою деятельность”.81 Словом, колонизационный проект вписывал в тему возрождения “русской народности” в западном регионе и исключительно злободневный для первых пореформенных лет вопрос о судьбе поместного дворянства. Муравьев еще накануне реформы 19 февраля 1861 г., будучи министром государственных имуществ, рекомендовал царю в конфиденциальной записке “очистить так называемое дворянство от плевел”, т.е. мелкопоместных и личных дворян (из чего явствует, что жесткость, с которой производились массовые раздворянивание и депортации мелкой и безземельной шляхты западных губерний в 1863 г., не только вызывалась экстремальной ситуацией, но и обуславливалась проектом общеимперской реструктуризации дворянства). Там же предлагалось разработать новые правила пожалования дворянства – не по формальной выслуге чинов, а по реальным служебным и общественным заслугам, дабы дворянство могло “освежаться новыми элементами из лиц других сословий... не составляя замкнутого сословия”.82 Идеальным типом представителя элиты Муравьеву, как и другим консерваторам того времени, мыслился дворянин, совмещающий в своем лице патриархальный авторитет хозяйствующего “лендлорда” и официальную роль представителя власти. Такой замысел, по-своему романтический, отразился во внесенном им в Главный комитет по крестьянскому делу в ноябре 1860 г. предложении учредить выборную неоплачиваемую должность волостных попечителей.83 Эти и другие подобные им инициативы оставались в 1860-1861 гг. втуне. Подавление восстания 1863-1864 гг. и провозглашение программы “русского дела” расчистили, как казалось, удобное поле для такого социального опыта. С этой точки зрения, образ пробуждения местного крестьянства к новой жизни, причем пробуждения наперекор ковам и крамолам “панов” был иносказанием чаемого излечения лояльного русского дворянства от его застарелых недугов, которые почти не находили отражения в сословно-аристократическом дискурсе, – дезинтеграции, апатии, утраты чувства исторического призвания. 4. Русификация Литвы - Белоруссии в контексте стратегий легитимации империи В целом, оценка Муравьевым перспектив обрусения края была амбивалентной: постулирование исконной русскости большинства населения сопровождалось гиперболизацией ассимиляторского потенциала полонизма.84 Эта амбивалентность может быть понята глубже с учетом принципиальных различий между стратегиями культурной легитимации имперского господства, которые Муравьев пытался комбинировать в своей политике. Как и многие его современники, виленский генерал-губернатор усматривал в притязаниях повстанцев на западные губернии возмутительный вызов единству империи. Требованиям повстанцев он противопоставил собственную “империодицею”, знаменательное новаторство которой заключалось в демонстрации самобытной основы империи, наличия у последней органической национальной традиции. Отход Муравьева от парадигмы легитимации, принятой при Николае I, очевиден: николаевская официальная народность, как убедительно показал Р. Вортман, являла собой трансформированный миф европейского абсолютизма XVIII в. Свойства народности в этом контексте понимались универсалистски, как обязательные для всех добропорядочных подданных монарха лояльность, любовь к власти и религиозность, – и нет вины российского императора в том, что, кроме России, нигде в Европе взаимоотношения монархов и управляемых уже не скрепляются этими началами.85 Представая в таком паневропейском обличье, империя продолжала опираться на испытанный временем сословно-династический фундамент и не нуждалась в эксплицировании сущностных качеств нации. Сам собою возникает вопрос: не был ли в таком случае муравьевский властный дискурс прямым предвосхищением националистической модели репрезентации самодержавия, утвердившейся в 1880-х годах? Механизм культурной легитимации самодержавия при Александре III, блестяще раскрытый тем же Вортманом, соответствовал “синхронистической” парадигме мифотворчества: современность преподносилась как возвращение некоего идеального прошлого, как материализация имманентной национальной памяти, тогда как историческая дистанция между этим истоком и настоящим подвергалась символическому забвению. Сакральной функцией власти становились распознание цельного и гомогенного тела нации и очищение его от чужеродных напластований и искажений.86 Безусловно, культурно-символическая стратегия Муравьева имеет ряд броских черт сходства с политической мифологией будущего царствования. И там и здесь влияние “антинациональных” сил определялось в понятиях коварно насланной кажимости, морока, скрывающего от людей их собственное самосознание. В свою очередь, образ народа, “народности” в муравьевском дискурсе тесно смыкался с категориями “воскрешения” и “пробуждения”, с риторическим приемом смещения в благодатную иновременную плоскость, с метафорой хронотопа. Вот, к примеру, как описывала итоги его двухлетней деятельности редакция “Вестника Западной России”, одного из ведущих пропагандистов “русского дела” среди органов печати: “Смело можно сказать, что этот край пережил в эти два года более трех веков, что в 1865 году он едва-едва не явился, в отношении политическом, таким, каким был до 16 века”.87 То же символическое послание подразумевалось муравьевской кампанией по реставрации превращенных в костелы зданий православных церквей в Литве и Белоруссии (прежде всего XIV-XV вв.), с сохранением по возможности максимума остатков древнего строения.88 Однако, несмотря на структурное сходство с позднейшей государственнонационалистической доктриной, муравьевская система образов не могла послужить исчерпывающим оправданием этнически и религиозно гомогенного самодержавного государства. Та самая картина “идеального прошлого”, которая проецировалась Муравьевым на современную политику обрусения, не заключала в себе четкого представления как раз об имперском государстве. Муравьевская датировка золотого века единой “русской народности” весьма проблематична: край должен был стать “таким, каким был до 16 века”, т.е. до Люблинской унии 1569 г. С данным хронотопом плохо гармонировал тот факт, что власть предшественников российских императоров в ту эпоху далеко не досягала до Вильны, с ее восстающими теперь из небытия, в знак древности имперского господства, храмами. Следовательно, за подлежащий воскрешению идеал принималось не состояние государства на конкретном отрезке прошлого, а состояние языковой и рели- гиозной самобытности народа, пусть даже и рассеченного границей между Московской Русью и Великим княжеством Литовским. Критерий этнорелигиозной идентичности оказывался отделенным от политического подданства. В еще большей степени роль государственной власти как субъекта борьбы за “русское дело” принижалась другим фрагментом муравьевского нарратива: едва ли не самым тягостным временем для “русской народности” и православной веры в Литве и Белоруссии изображался период после присоединения этого края к Российской империи. Считалось, что формальное территориальное единство делало козни “полонизма” в первой половине XIX в. особенно коварными, тогда как надзор за ними был номинальным и небрежным. Иными словами, утилизация Муравьевым некоторых националистических (точнее говоря, ранненационалистических) категорий для создания образа лояльной народной массы могла поставить под угрозу традиционную, сословнодинастическую легитимацию императорской власти. Именно поэтому имидж власти и властвующих он конструирует по качественно иной, донационалистической парадигме, включающей в себя цивилизаторское насилие и колонизацию, благодетельное завоевание, петровскую разрушительно-преобразовательную энергию. Здесь-то и обнаруживается важное символическое расхождение его стратегии с державной идеологией царствования Александра III. Ключевым символом национализма победоносцевского толка было возвращение к мифической Московской Руси XVII столетия, к той Московии, в которой, как воображалось, соединенные духовными узами царь и земля составляли единое народное тело (по выражению Р. Вортмана, “воскрешение Московии”). Важно подчеркнуть, что определение “московский” применительно к разным атрибутам государственности приобретает при Александре III значение культурно-семиотического кода, функционирует как инструмент возвеличения и превознесения власти. Напротив, в контексте муравьевской идеологии слово “Московия” было насыщено негативными коннотациями, отсылало к пренебрежительному воззрению европейцев XVI-XVII вв. на Русское государство как варварскую восточную окраину славянского мира.89 Удержание же Западного края преподносилось как наглядная демонстрация центростремительной мощи империи и ее качеств европейской державы. Глубинный парадокс русификаторства 1863-65 гг. в том и состоит, что национальная самобытность Западного края, спасенная, как считалось, от посягательств Европы в лице поляков, предъявлялась с гордостью той же Европе в доказательство принадлежности Российской империи к общеевропейской цивилизации.90 Все это позволяет лучше понять культурную природу тех образов “полонизма” и русскости, которые Муравьев столь изобретательно конструировал. “Полонизм” выступал в его мифологии врагом как Российской империи, так и империи русских. Страх и возмущение, порождаемые им, примиряли (временно) тех, кто мыслил в основе империи сословно-дворянскую, супранациональную элиту, с теми, кто полагал ее прочнейшую опору в национализирующейся крестьянской массе. Словом, фантом, раздутый до демонического масштаба, был той призмой, сквозь которую социокультурный облик империи проступал сразу в двух своих главных ипостасях. Муравьевская мифология показала себя эффективным оружием власти в сопротивлении открытому вызову польского движения, той его “романтической” программе, в которой формулировалось или подразумевалось восстановление наследства Речи Посполитой. Однако политический пафос этой стратегии не способствовал ее успешному применению в интересах империи в дальнейшем. Само понятие об опасности политической дестабилизации и сепаратизма в крае было почти без остатка вложено в собирательную фигуру носителя “полонизма”. Вооруженная муравьевской “оптикой”, власть, болезненно мнительная в отношении этой угрозы, недооценивала значимость других осложняющих факторов, включая, например, те формы рутинного ассимиляционного влияния польских землевладельцев, которые вполне уживались с их прочной лояльностью династии. В свою очередь, идея исконной русскости, зримо запечатленная в политике властей, оказалась жестко вписанной в традиционалистские, почвеннические образы аграрного общества. Инерция этой символической стратегии внушала правительству скепсис относительно таких методов этнополитической консолидации крестьянского населения, как географическая и социальная мобильность, секуляризация начального образования, выпуск печатной продукции для массового читателя и т.д. В конечном счете, то, в чем власть видела ассимиляторскую мощь, обернулось слабым местом реальной русификаторской политики на западной окраине. 1 Wortman R.S. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1: From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton: Princeton U.P., 1995; Vol. 2: From Alexander II to the Abdication of Nicholas II. Princeton: Princeton U.P., 2000. 2 См., напр., ряд статей в сборнике: Нация и национализм / Под ред. А.И. Миллера. М., 1999. 3 То, что в рамках настоящей статьи политика Муравьева анализируется как в своем роде самостоятельная и целостная стратегия репрезентации власти на окраине империи, не означает отрицания преемственности позднейшего правительственного курса в этом регионе относительно важнейших муравьевских начинаний. 4 Новейшие исследователи имперской политики в Западном крае справедливо указывают на необходимость использования объективных и беспристрастных критериев в изучении деятельности Муравьева: Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999. С. 193; Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914. DeKalb, Northern Illinois U.P., 1996. P. 97-98, 103-104; idem. Monuments and Memory: Immortalizing Count M.N. Muraviev in Vilna, 1898 // Nationalities Papers. Vol. 27 (1999). No. 4. P. 551-564. 5 Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866). Kraków, 2000. Rozdziaŀ III; см. также: Śliwowska W. Petersburg i spoleczeństwo rosyjskie wobec kwestii polskiej w przededniu i w czasie Powstania Styczniowego // Powstanie Styczniowe. 1863-1864: Wrzenie. Bój. Europa. Wizje. Warszawa, 1990. S. 548-554. 6 Отдел рукописей Российской гос. библиотеки (далее – ОР РГБ), ф. 169, к. 14, № 3, л. 133 об.-134. 7 Мацузато К. Польский фактор в Правобережной Украине с XIX по начало XX века // Ab Imperio. Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2000. № 1. С. 98; Głębocki H. Op. cit. S. 214-218. 8 Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. III. Польский вопрос и Западно-Русское дело. Еврейский вопрос. М., 1886. С. 114-115. 9 Так же и министр внутренних дел П.А. Валуев в составленном еще осенью 1862 г. “Очерке общего хода дел в Западном крае с начала 1861 г. по настоящее время” скептически отзывался о полемике аксаковского “Дня” с адресом дворян Подольской губернии, ходатайствовавших перед царем о присоединении края к Царству Польскому: “... Все опровержение [этих притязаний. – М.Д.] основано на теории народностей; нет речи о России, в смысле государства...” (ОР РГБ, ф. 169, к. 42, № 2, л. 8 об.). 10 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф. 908, оп. 1, д. 252, л. 3 об. Ср.: Weeks T. Nation and State... P. 72. 11 Не исключено, что это было иносказанием того обстоятельства, что лишь в одной из шести подчиненных Муравьеву губерний – Ковенской – католическое население по численности безраздельно преобладало над православным. 12 Ратч В.Ф. Сведения о польском мятеже 1863 г. в Северо-Западной России. Вильна, 1867. Т. I. Введение. С. 7; Вестник Западной России (далее – ВЗР). 1864/65. Т. I, кн. 3 (Сентябрь). Отд. II. С. 106-128; кн. 4 (Октябрь). Отд. II. С. 178- 202. Любопытно, что это идеологизированное воззрение на исконную идентичность местного дворянства в извращенной форме предвосхитило мнение некоторых современных историков, отмечающих сохранение белорусской (но не русской в муравьевском смысле!) этничности людьми, вполне усвоившими польский язык, католическую веру и культурную традицию Речи Посполитой. См., напр.: Котлярчук А.С. Самосознание белорусов в литературных памятниках XVI – XVIII вв. // Русь – Литва – Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. М., 1997. С. 84; и в том же сборнике наблюдения Н.Н. Улащика: С. 216, 230-231, 242-244; Куль-Сельвестрова С. Роль польских восстаний в формировании представлений поляков и россиян о белорусско-литвинской шляхте // Polacy a Rosjanie. Поляки и русские / Pod red. Tadeusza Epszteina. Warszawa, 2000. S. 49-66/ 13 [Муравьев М.Н.] Всеподданнейший отчет графа М.Н. Муравьева по управлению Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 г. по 17 апреля 1865 г.) // Русская старина (далее – РС). 1902. № 6. С. 497, 510. 14 См., напр.: Дмитриев М.В. Польская шляхта в XVI – XVIII вв. // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. М., 1997. С. 211-212. 15 Следует, впрочем, признать, что в моем распоряжении находится мало непосредственных свидетельств об утилизации “сарматского” мифа идеологами и публицистами промуравьевского толка. Один из таких примеров см.: Нет более Польши. Соч. Фука, перевод с французского // ВЗР. 1867. Т. I, кн. 1. Отд. IV. С. 35 (примечание редактора К.А. Говорского). 16 Подробнее об этом см.: Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа: Политика М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863-1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // Actio Nova 2000: Сб. статей / Под ред. А.И. Филюшкина. М., 2000. С. 368-371. 17 Собственноручная запись царем своих слов, с незначительной правкой: Государственный архив РФ (далее – ГАРФ), ф. 728, оп. 1, д. 2732, л. 1-1 об. 18 Смирнов А.Ф. Восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии. М., 1963. С. 252253. Именно об отсутствии такого признания в адресах дворян Северо-Западного края сетовал в “Дне” (12 октября 1863 г.) И.С. Аксаков: “Поляки заявляют о своем верноподданничестве и о убеждении, к которому пришли, что Западный край составляет с Россией одно неразрывное целое, – но эта неразрывность, эта целость может пониматься в смысле одной внешней, государственной связи” (Аксаков И.С. Указ. соч. С. 250). 19 ГАРФ, ф. 109, Секр. архив, оп. 2, д. 576, л. 4 об.-5. 20 ОР РГБ, ф. 169, к. 42, № 2, л. 46-47 (анонимная записка от октября 1861 г., согласованная с В.И. Назимовым). Ср.: Glębocki H. Op. cit. S. 473-474. 21 Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. М., 1965. С. 43; ГАРФ, ф. 665, оп. 1, д. 13, л. 40 об. (Курсив мой). 22 Голос минувшего. 1913. № 12. С. 259 (письмо министру гос. имуществ А.А. Зеленому от 25 марта 1864 г.); Отдел письменных источников Государствен- ного исторического музея (далее – ОПИ ГИМ), ф. 254, № 508, л. 87. Ср.: Бакланов Я.П. Моя боевая жизнь // РС. 1871. № 8. С. 157-158. 23 Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905). Lublin, 1998. P. 60; см. также: Бутковский Я.Н. Из моих воспоминаний // Исторический вестник (далее – ИВ). 1883. № 11. С. 344. 24 Тема смерти как атрибут пропагандистского изображения ополяченного дворянства выразительно реализована подчиненным Муравьева А.П. Стороженко в аллегорическом рассказе “Видение в Несвижском замке” (не блистающем художественными достоинствами, но оригинальном как опыт мифотворчества). Символом безнадежного состояния высшего сословия выступают призраки, сошедшие со старинных портретов в заброшенном замке князей Радзивиллов. См.: ВЗР. 1864/65. Т. II, кн. 6 (Декабрь). Отд. IV. С. 224-233. 25 Подробнее о социальных и идеологических импликациях термина “поляк” в муравьевском дискурсе см.: Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа... С. 371-382. 26 Штихве Р. Амбивалентность, индифферентность и социология чужого // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I, № 1. 27 Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях: 1863-1864 / Сост. Н. Цылов. Вильна, 1866. С. 353-354. 28 ОР РГБ, ф. 169, к. 14, № 3, л. 133. 29 Сборник распоряжений... С. 348-350; Бутковский Я.Н. Из моих воспоминаний // ИВ. 1883. № 11. С. 355; ОР РГБ, ф. 169, к. 70, № 47, л. 11-11 об. 30 ГАРФ, ф. 945, оп. 1, д. 102, л. 136 об. (вписанное от руки сотрудником III Отделения примечание в печатном тексте циркуляра о борьбе с трауром). 31 См., напр.: Бутковский Я.Н. Из моих воспоминаний // ИВ. 1883. № 10. С. 105. 32 Остатки латино-польского преобладания в Западной России // ВЗР. 1864/65. Т. III, кн. 11 (Май). Отд. III. С. 140-155. 33 Ратч В.Ф. Указ. соч. Т. I. Введение. С. 35. 34 ВЗР. 1864. Т. II, кн. 6 (Декабрь). Отд. IV. С. 308-312. 35 ГАРФ, ф. 109, Секр. архив, оп. 2, д. 705, л. 2-2 об. (подпись – “Москвич, один из огромной толпы Ваших ценителей”). 36 РС. 1883. № 10. С. 395; Депутация от жителей г. Ковно к графу М.Н. Муравьеву // ВЗР. 1864/65. Т. III, кн. 11 (Май). Отд. IV. С. 324 (Подпись – Р. Цензурное разрешение на майский номер дано 20 июля 1865 г.). Среди синхронных литературных репрезентаций пробуждающего воздействия, оказанного мероприятиями Муравьева на национальное самосознание образованных русских, выделяется довольно смелый художественно-публицистический очерк (вероятно, П. Стасевича), где генерал-губернатор представлен мистически “подслушавшим” мудрые слова о мятеже, произнесенные простецом-солдатом. См.: Письма из западного края (IX) // ВЗР. 1864/65. Т. II, кн. 7 (Январь). Отд. IV. С. 340-346. 37 РС. 1902. № 6. С. 494-495. Ср.: Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма: 1840-1876. М., 1997. С. 226. См., напр.: Прокоп Я. Антирусский миф и польские комплексы // Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А.В. Липатов, И.О. Шайтанов. М., 2000. С. 30-38 и ряд других статей в указанном сборнике. 39 РС. 1902. № 6. С. 497. 40 ОР РГБ, ф. 169, к. 42, № 2, л. 10-10 об. (“Очерк общего хода дел в Западном крае с начала 1861 г. по настоящее время”, ноябрь 1862 г.). 41 См. программные всеподданнейшие доклады Муравьева 1830-31 гг.: Русский архив. 1885. № 6. С. 161-186. На этом примере хорошо видно, что освобождение крестьян 1861 г. явилось своего рода раскрепощением и для националистических тенденций политики самодержавия в Западном крае. Механизм воздействия реформы 1861 г. на политику в польском вопросе имел ярко выраженный дискурсивный аспект, предполагавший, в частности, огромную роль риторических практик. 42 ОР РГБ, ф. 169, к. 42, № 2, л. 41-41 об. 43 Нерешительность властей в этом вопросе оттеняется радикальными русификаторскими проектами (например, более или менее насильственного выселения всех польских землевладельцев из Западного края в Царство Польское), которые в те же месяцы разрабатывались националистически настроенными общественными деятелями. См.: Głebocki H. Op. cit. S. 252-257. 44 Цит. по: Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 67. 45 РС. 1899. № 8. С. 472-473. Дважды употребленный Валуевым оборот с глаголом “признавать” обнаруживает понимание им национальной идентичности как открытого сознательному конструированию феномена. 46 Восстание в Литве и Белоруссии... С. 496-500, 503-507, 508-510; Смирнов А.Ф. Указ. соч. С. 215-216; Валуев П.А. Дневник министра внутренних дел П.А. Валуева. М., 1961. Т. I. С. 220, 350; Дельвиг А.И. Мои воспоминания. [М., 1913]. Т. III. С. 230-231; Муравьев М.Н. Записки об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863-1866 гг. // РС. 1882. № 11. С. 391-392; ГАРФ, ф. 109, 1-я эксп., оп. 38 (1863 г.), д. 23, ч. 13, л. 75-77 об., 83-85. 47 Переписка наместников Королевства Польского: Январь – август 1863 г. / Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego: Styczeń – sierpień 1863 r. Wrocŀaw, 1974. С. 197. 48 ОПИ ГИМ, ф. 241, № 22, л. 35 об.-36 (копия). 49 Сборник распоряжений... С. 104, 229, см. также с. 229-230, 230-231, 232233, 234, 235. 50 Мосолов А.Н. Виленские очерки. 1863-1865 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898. С. 161 прим. 51 Именование крестьян “польскими” объясняется, видимо, тем, что они прибыли из Августовской губернии Царства Польского (что и послужило вскоре поводом к передаче губернии во временное административное подчинение виленского генерал-губернатора). Этнически же эти крестьяне были, скорее всего, литовцами, см.: [Мосолов А.Н.] Виленские очерки // РС. 1883. № 11. С. 402-404. 38 ГАРФ, ф. 109, 1-я эксп., оп. 38 (1863 г.), д. 23, ч. 319, л. 25-26. Риторика крестьянских адресов, поступавших на имя Муравьева, как и процедура их составления – вопрос, заслуживающий специального анализа. Пока ограничусь предположением, что дело не обходилось без “режиссуры” из Вильны. В ряде написанных с явной оглядкой на идеологический канон адресов полонофобские ноты заметно резче, чем в официальной риторике. Это наводит на мысль о попытках обыграть стереотип жгучей ненависти местного православного крестьянства к “панам” (надо учесть, что многие адреса публиковались). 53 Из переписки М.Н. Муравьева относительно религиозных и церковнообрядовых вопросов северо-западного края // РА. 1914. № 12. С. 548-555. 54 Weeks T. Nation and State... P. 12-13; Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад. М., 1996. С. 185, 190. 55 См., напр.: Русский архив. 1885. № 6. С. 166-169 (всеподданнейшая записка от 22 декабря 1830 г. “о нравственном положении Могилевской губернии и о способах сближения оной с Российскою Империею”). 56 ГАРФ, ф. 811, оп. 1, д. 48, л. 27 об. 57 Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. Минск, 1980. С. 144-147; Миллер А.И. Указ. соч. С. 123, 177. 58 Миллер А.И. Указ. соч. С. 31-41, 67-68, 90-91, 103-105, 111-115, 126-152, 189-195, 228-235. 59 См., напр.: Там же. С. 232-233. 60 Любопытно замечание мемуариста о том, что в Могилевской губернии после подавления восстания чиновники с очевидной польской самоидентификацией стали называть себя белорусами: Захарьин И.Н. Тени прошлого. Рассказы о былых делах. СПб., 1885. С. 252-254. 61 Никотин И.А. Из записок // РС. 1903. № 3. С. 502-503; Rodkiewicz W. Op. cit. P. 173-174. 62 Мыльников А.С. Картина славянского мира: Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 198. 63 Weeks T. A National Triangle: Lithuanians, Poles and the Russian Imperial Government // Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire / Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов. М., 1997. С. 368. 64 Rodkiewicz W. Op. cit. P. 176-191. 65 РС. 1903. № 3. С. 500-502. 66 Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 458-459. 67 Черевин П.А. Воспоминания. 1863-1865. Кострома, 1920. С. 65-66. 68 ГАРФ, ф. 811, оп. 1, д. 48, л. 66. 69 Русский архив. 1885. № 6. С. 194-197; Станкевич А. Очерк возникновения русских поселений на Литве. Вильна, 1909. С. 44. 70 Восстание в Литве и Белоруссии... С. 315-316; ИВ. 1883. № 11. С. 333. 52 См., напр.: Неупокоев В.И. К вопросу о восстановлении инвентарных наделов крестьян Литвы в результате восстания 1863 г. // Проблемы общественнополитической истории России и славянских стран: Сб. ст. к 70-летию акад. М.Н. Тихомирова М., 1963. С. 418-427; Самбук С.М. Указ. соч. С. 114-130, 134-136, 170171, 182-183. 72 ГАРФ, ф. 811, оп. 1, д. 135, л. 126-126 об. 73 Сборник распоряжений... С. 92-96. 74 Восстание в Литве и Белоруссии... С. 5-6. 75 В мемуарах ряда сослуживцев Муравьева содержится немало зарисовок шляхетских опытов “слияния сословий” накануне и в период восстания, например, устройства гуляний и балов с участием аристократов и городского плебса. Все такие “братанья” (выражение И.В. Любарского) трактовались с немалой долей сарказма и расценивались как “фальшивые”, театрализованные или продиктованные “фанатизмом” (сомнительная миссия девушек-шляхтянок в разночинских повстанческих отрядах), но все-таки в описаниях явственно сквозит нота тревожной ревности. См., напр.: Любарский И.В. В мятежном крае (Из воспоминаний) // ИВ. 1895. № 4. С. 168-169; [Мосолов А.Н.] Виленские очерки // РС. 1883. № 10. С. 183184; Бутковский Я.Н. Из моих воспоминаний // ИВ. 1883. № 11. С. 335. 76 ВЗР. 1864/65. Т. III, кн. 11 (Май). Отд. IV. С. 325-326. 77 Самбук С.М. Указ. соч. С. 44-48; РГИА, ф. 1267, оп. 1, д. 1, л. 36-36 об. (официальное представление министра гос. имуществ А.А. Зеленого, составленное с учетом мнения Муравьева и легшее в основу высочайше утвержденной инструкции от 23 июля 1865 г.); Голос минувшего. 1913. № 12. С. 263-264 (письмо Муравьева Зеленому от 22-28 декабря 1864 г.). 78 Муравьев М.Н. Записки... // РС. 1883. № 2. С. 298-300; Самбук С.М. Указ. соч. С. 32-33. 79 Спустя два дня после подписания указа император писал киевскому генерал-губернатору А.П. Безаку, что решил утвердить эти меры, как “ни круты и ни больны, откровенно говоря, [они] моему сердцу”, дабы “укрепить навсегда Западный край за Россиею и не допускать его ополячиванья, как то к несчастию было после неоднократных опытов 1812, 1830 и 1861 годов”. (ГАРФ, ф. 728, оп. 1, д. 2813, л. 1-1 об.). 80 См.: Горизонтов Л.Е. Указ. соч. С. 101-108. 81 ГАРФ, ф. 811, оп. 1, д. 71, л. 17-17 об., 37 об., 16 об. 82 См.: Долбилов М.Д. Сословная программа дворянских “олигархов” в 1850-1860-х годах // Вопросы истории. 2000. № 6. С. 44-45, 47-48. 83 Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу. Пг., 1915. Т. II. С. 90-93. 84 При чтении, например, обзорной записки Муравьева, поданной царю накануне отставки в апреле 1865 г., создается впечатление, что автор, неустанно твердя о беспощадной борьбе с “полонизмом”, словно бы не верит, да и не хочет верить в возможность его скорого и безусловного исчезновения: РС. 1902. № 6. С. 487-510. 71 Wortman R.S. Op. cit. Vol. 1. P. 275, 297-299, 379-381 etc. См. также: Knight N. Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost’ and Modernity in PreEmancipation Russia // Russian Modernity: Politics, Practices, Knowledges / Ed. by David Hoffman and Yanni Kotsonis. London, 1999. 86 Wortman R.S. Op. cit. Vol. 2. P. 235-244. 87 1-е мая 1863 и 17-е апреля 1865 года // ВЗР. 1864/65. Т. II, кн. 8 (Февраль). Отд. IV. С. 567. 88 См. об этом: Муравьев А.Н. Русская Вильна. СПб., 1864; Jaroszewicz A. Przebudowy kościolów katolickich na cerkwie prawosławne na Białorusi po powstaniu styczniowym // Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium Rosyjskiego (1772-1915) / Pod red. D. Konstantinowa, P. Paszkiewicza. Warszawa, 1994. S. 141-152. 89 См., напр.: Мыльников А.С. Указ. соч. С. 76-86, 125-126, 305 и др. 90 Эта схема мышления запечатлена, например, в следующих строках из письма Муравьева А.А. Зеленому от 1 февраля 1864 г.: “Пора, наконец, нам опомниться и убедиться, что здешний край искони был русским и должен им оставаться... В противном случае Россия безвозвратно лишится Западного края и обратится в Московию, т.е. в то, во что желают поляки и большая часть Европы привести Россию” (Голос минувшего. 1913. № 10. С. 207). 85