Логико-смысловой подход в сравнительной философии
advertisement
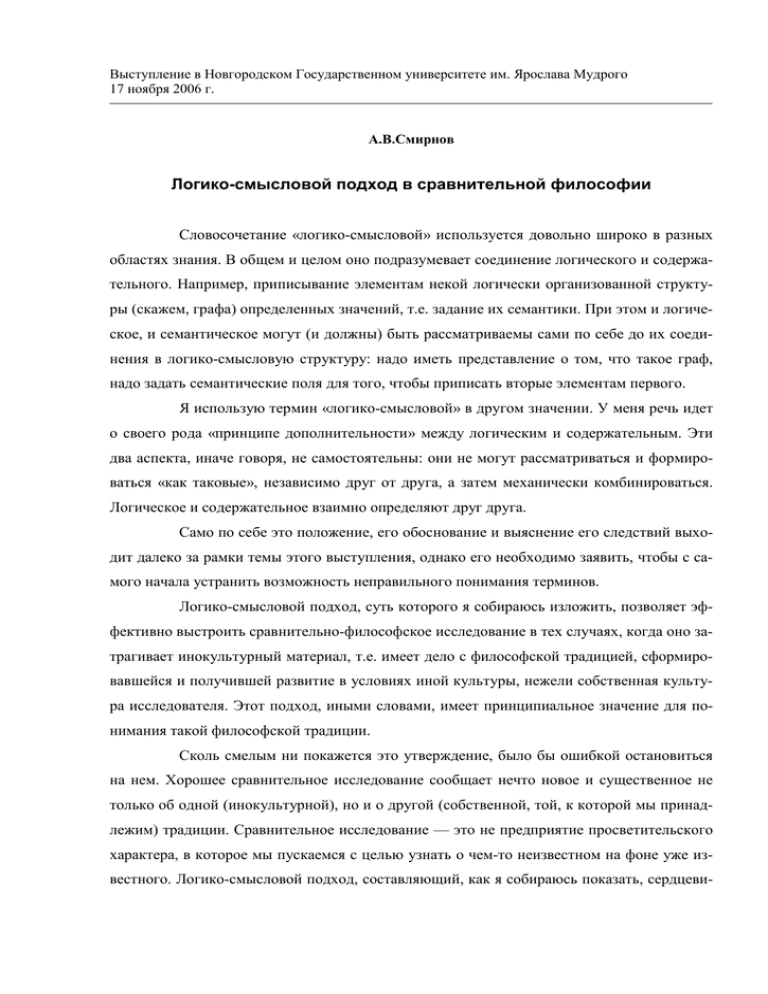
Выступление в Новгородском Государственном университете им. Ярослава Мудрого 17 ноября 2006 г. А.В.Смирнов Логико-смысловой подход в сравнительной философии Словосочетание «логико-смысловой» используется довольно широко в разных областях знания. В общем и целом оно подразумевает соединение логического и содержательного. Например, приписывание элементам некой логически организованной структуры (скажем, графа) определенных значений, т.е. задание их семантики. При этом и логическое, и семантическое могут (и должны) быть рассматриваемы сами по себе до их соединения в логико-смысловую структуру: надо иметь представление о том, что такое граф, надо задать семантические поля для того, чтобы приписать вторые элементам первого. Я использую термин «логико-смысловой» в другом значении. У меня речь идет о своего рода «принципе дополнительности» между логическим и содержательным. Эти два аспекта, иначе говоря, не самостоятельны: они не могут рассматриваться и формироваться «как таковые», независимо друг от друга, а затем механически комбинироваться. Логическое и содержательное взаимно определяют друг друга. Само по себе это положение, его обоснование и выяснение его следствий выходит далеко за рамки темы этого выступления, однако его необходимо заявить, чтобы с самого начала устранить возможность неправильного понимания терминов. Логико-смысловой подход, суть которого я собираюсь изложить, позволяет эффективно выстроить сравнительно-философское исследование в тех случаях, когда оно затрагивает инокультурный материал, т.е. имеет дело с философской традицией, сформировавшейся и получившей развитие в условиях иной культуры, нежели собственная культура исследователя. Этот подход, иными словами, имеет принципиальное значение для понимания такой философской традиции. Сколь смелым ни покажется это утверждение, было бы ошибкой остановиться на нем. Хорошее сравнительное исследование сообщает нечто новое и существенное не только об одной (инокультурной), но и о другой (собственной, той, к которой мы принадлежим) традиции. Сравнительное исследование — это не предприятие просветительского характера, в которое мы пускаемся с целью узнать о чем-то неизвестном на фоне уже известного. Логико-смысловой подход, составляющий, как я собираюсь показать, сердцеви- 2 ну сравнительно-философского исследования, принципиален для понимания самой сути нашего мышления. Он, таким образом, стоит в центре философского разыскания. Чтобы подойти к существу дела, зададим вопрос: Что такое сравнительная философия? Ставя его, мы не можем не иметь в виду другой, который маячит за этой формулировкой, не может не выглядывать из-за нее: Что такое философия? Говоря о сравнительной философии, предлагая логико-смысловой подход в качестве методологии сравнительно-философского исследования, я буду постоянно иметь в виду и этот, второй вопрос; он будет незримо пребывать в поле нашего рассуждения. Я предложу понимание того, что такое сравнительная философия, отталкиваясь, во-первых, от ее объекта, и, во-вторых, от ее метода. С точки зрения своего объекта сравнительная философия может пониматься, с одной стороны, как философия, которая сравнивает разные философские традиции. Тогда «сравнительная философия» — это «философия, сравнивающая разные философии». В таком случае, поскольку речь идет о разных философиях, но все же именно философиях, предполагается некое родовое единство объекта, которое только и делает сравнение возможным. Здесь сравнительная философия опирается на свои, имманентные критерии понимания того, что такое «философия». Они имманентны потому, что сама сравнительная философия является философией per se, она в самой себе — а не в изучаемой инокультурной философской традиции — черпает представление о своем объекте. Другой вариант понимания сравнительной философии — это понимание ее как философии, которая сравнивает нечто иное, нежели философские традиции. Что может быть объектом такого философского сравнения? Если брать максимальный масштаб, то это — разные культуры. При его уменьшении это будут те или иные сегменты разных культур. Тогда сравнительной философией будет философия, которая сравнивает, скажем, поэтологические традиции разных культур с точки зрения их оснований. Или же — разные исторические традиции, опять-таки с точки зрения их оснований. С философских позиций можно сравнивать, например, традиции языкознания, развитые в разных культурах: такой философский подход улавливает то, что остается за пределами сферы внимания истории языкознания. Заметим, что в этом случае сравнительная философия не имеет в самой себе источника представления о своем объекте: она обязана почерпнуть его в исследуемом материале. Поскольку «исследуемым материалом» является материал разных культур, взятый к тому же в аспекте сравнения, то ни одна из них не обладает логическим приоритетом пе- 3 ред другой в плане формирования у философа представления об объекте своего сравнительного исследования. В пределе рассмотренные два варианта смыкаются, поскольку, если сегментом культуры оказывается именно философия, то понимание сравнительной философии в первом смысле и будет ее пониманием во втором. Однако разница все же остается, и разница весьма существенная. Ведь в первом случае философ имеет право наделять объект своего сравнительного исследования характеристиками «философии», черпая их в собственном представлении о том, что такое философия. В этом случае он формирует в инокультурной традиции объект «философия», который и становится затем объектом сравнительного исследования. Не будет большим преувеличением сказать, что так формируемый инокультурный объект «философия» является воплощением существенных черт философии, как та представлена в культуре самого философа-компаративиста. Во втором случае такая операция находится под логическим запретом, и философ обязан решить, что такое философия в другой культуре, исходя из критериев самой этой культуры. Что значит «исходить из критериев самой изучаемой культуры» и не проецировать на нее собственные герменевтические ожидания, мы и будем обсуждать. Однако важно зафиксировать, что в таком случае, как это следует из сказанного, философ-компаративист, дабы сформировать объект своего исследования, должен ответить на вопрос «что такое философия», причем ответить на него, не прибегая к «подсказке» своей культуры. Вот почему я утверждаю, что ответ на вопрос «что такое сравнительная философия» невозможен без ответа на вопрос о том, что же такое философия. Таково мое понимание того, чем является сравнительная философия с точки зрения своего объекта. Рассмотрим теперь сравнительную философию с точки зрения ее метода. Здесь важно отметить следующее. Методы сравнительно-философского исследования могут быть более или менее изощренными, более или менее развернутыми, но в любом случае они опираются, явно или неявно, на определенную трактовку процедуры понимания. Ведь сравнительная философия занимается тем, что пытается понять свой объект: прежде чем сравнить и дать толкование, необходимо достичь понимания. То, что я буду делать дальше, сводится к следующему. Я предложу свое представление о том, как может быть выстроена процедура понимания и что вытекает из возможности такого выстраивания. Это будет проблематизацией методологии сравнительной философии. Такая проблематизация не для всех и не всегда является очевидной. В самом деле, сравнитель- 4 ная философия (comparative philosophy) существует уже давно, и в качестве оформившейся самостоятельной философской дисциплины имеет не менее чем столетнюю историю. Несмотря на это, сравнительная философия до сих пор не занялась по существу продумыванием собственных оснований. Авторы-компаративисты приступают к сравнению как к некоторой самоочевидной операции. В самом деле, что представляет собой «сравнительная философия» в обычном понимании? Это такое исследование, когда берут одного философа, принадлежащего одной традиции, другого, принадлежащего другой традиции, «ставят» их перед своим мысленным взором — и сравнивают. Примерно так же мы сравниваем в магазине разные экземпляры одного товара, выбирая удачный фасон брюк или обувь по вкусу. Мы смотрим на разные образцы товара, сравниваем, решаем, что больше нравится — то и выбираем. Точно так же и в сравнительной философии: посмотрели, что сказал один философ, потом посмотрели, что сказал другой, сравнили… — Как сравнили? — Что за вопрос? Понятно, как: взяли да сравнили, а затем записали результаты своего сравнения. Такого рода сравнительных исследований немало. Этот подход представлен и в монографиях, и на страницах уважаемых научных журналов. По поводу такого рода исследований В.К. Шохин однажды остроумно заметил, что их результат можно предсказать заранее, поскольку суть дела всегда сводится к тому, что у двух сравниваемых философов взгляды в чем-то совпадают, а в чем-то не совпадают, и между ними есть что-то общее, а что-то различное. В самом деле, не всегда бывает понятно, какой прок, к примеру, в сравнении американского прагматизма с классической китайской философией. Как заметил тот же В.К. Шохин, такие исследования бывают блестящими, но их основная цель — продемонстрировать богатую эрудицию их авторов. Именно такой, некритический подход я хотел бы оставить в стороне и проблематизировать вопрос о том, как может выстраиваться исследование по сравнительной философии. Оттолкнемся от самого слова «сравнительная». Русское слово имеет корень, передающий идею равенства. То же — в английском comparative, которое, как подсказывают этимологические словари, восходит (через старофранцузское comparer) к латинскому compare (спаривать, считать ровней), от compar «равный один другому», составленного из com- «вместе» и par «равный». Мы привыкли интуитивно понимать сравнительную философию как поиск сходств и различий. Но если отталкиваться от этимологии, то «сравнительная филосо- 5 фия» — это то, что вы-равнивает, то, что с-равнивает, т.е. то, что ищет основания единства. Такие языковые подсказки могут быть случайными, и дело, конечно, не в этимологии. Но в данном случае эта подсказка языка важна. Ведь вопрос, который я хочу поставить, звучит так: как возможно сравнение в смысле с-равн-ивания? Иначе говоря, как найти общее основание, благодаря которому мы можем различить два сравниваемых объекта, будь то две философские традиции или два одноименных сегмента культуры? — ведь в любом из двух пониманий сравнительной философии мы действуем одинаково с точки зрения методологии: с-равн-ивая, ищем нечто общее, затем, опираясь на него, стремимся выявить различия. Возможны три стратегии выполнения этой задачи — задачи сравнивания. Эти стратегии вместе с тем исчерпывают принципиально возможный список стратегий понимания. Таким образом, то, что я собираюсь предложить, можно описать как понимание понимания (т.е. понимание того, как устроено наше понимание). То, как устроено наше понимание, проявляется и в том, как устроено сравнительное исследование, — ведь философ-компаративист, как мы говорили, должен сперва понять, как может быть сконструирован объект сравнения в инокультурной традиции. Тем самым от вопроса «что такое сравнительная философия?» прокладывается путь к вопросу «что такое философия?», поскольку понять, как устроено наше понимание, является едва ли не центральной задачей философа, и философию можно было бы определять как «понимание понимания». Итак, три стратегии понимания. Первую я условно обозначу как попытку «понять нечто в качестве иного экземпляра той же самой сущности». Предположим, мы имеем перед собой другую (нежели та, к которой относим себя сами) философскую традицию, например, арабскую философию. Перед нами стоит задача ее понимания. Следуя данной стратегии понимания, мы полагаем, что есть «философия вообще» (некая сущность) и что она представлена в разных экземплярах (античная, арабская, китайская и т.д. философии). Эта стратегия понимания является универсалистской по своему принципу, поскольку полагает некую универсальную сущность, и только в заданных таким образом пределах выстраивает понимание отдельных вещей как экземпляров этой сущности. Данная стратегия в общем характерна для философов. Ведь классический философский подход предполагает именно такую диспозицию: есть философия вообще, и есть разные традиции философии, которые постольку философии, поскольку обнаруживают в 6 себе это родовое общее. Применение такой стратегии приводит к одному существенному следствию, неизбежному в силу своей логической природы. Родовое представление о том, что такое «философия вообще», выстраивается исключительно и только на основе опыта западной философии, и любая другая философская традиция не является по большому счету философией постольку, поскольку не отвечает родовым характеристикам, сконструированным на основе опыта западной философии. Сказанное не означает, что такое следствие является плохим или, наоборот, хорошим; важно, что оно неизбежно в рамках данной стратегии. Вторую стратегию понимания я условно обозначу как попытку «понять нечто в качестве иной сущности». Она означает, что, когда мы хотим понять нечто, мы понимаем это как отрицание чего-то другого (чего-то, что мы имеем в качестве понятого и понятного) в рамках некой более широкой общности, которую мы для этого специально конструируем. Пусть перед нами корпус теоретических текстов на арабском языке, статус которых мы хотим установить. Можно попытаться понять эти тексты как экземпляр философии вообще, идя первым путем, а можно пойти вторым путем. Тогда мы скажем, что есть «философия», а есть «не-философия» в рамках чего-то более общего, например, в рамках «теоретической мысли». Таким образом, мы выстроим нечто вроде родовидового отношения, имея некий род и два его вида, и будем понимать наш корпус текстов как отрицание для «философии» в рамках, скажем, «теоретической мысли». Первая и вторая стратегии понимания образуют естественную последовательность. Я хочу сказать, что представляется естественным начать с первой и только в случае ее неудачи перейти ко второй. Дело в том, что первая стратегия проще, и закон экономии усилий вполне проявляет себя в данном случае. Только если корпус арабских текстов, статус которого мы хотим определить, никак не может быть понят как экземпляр философиивообще, мы сделаем еще один шаг и будем считать его «не-философией». Так построенное отрицание требует определить то общее, в рамках которого отрицание имеет смысл, и в качестве такого общего в данном случае достаточно естественно выступает понятие «теоретическая мысль». Вся история исследования арабских текстов, которые могли бы претендовать на звание философских, может быть описана как применение этих двух стратегий. Любому прошедшему университетский курс философии известно, что «философией» в арабском мире является только фальсафа (арабский перипатетизм), — ведь именно фальсафа может быть понята как экземпляр философии вообще, т.е. той философии, образ которой постро- 7 ен на основе западной традиции. Все остальные тексты этого корпуса объявлены «не-философией» в рамках «теоретической мысли» или даже «мысли вообще». Так, мутазилизм отнесен к «теологии» («рациональное богословие»), суфизм — к «мистицизму» и т.д. Насколько «хорошо» работает такой способ понимания, видно хотя бы из того, что сама фальсафа оказывается рассеченной на две части, и те (самые, кстати говоря, интересные, оригинальные и имевшие реальное влияние внутри самой арабской философии, а не на Западе) ее онтологические, гносеологические и прочие учения, которые не укладываются в так построенный образ «философии вообще», вовсе выпадают из поля зрения историков философии. Не говоря уже о том, что естественное «тело» философской традиции, как она развивалась в арабской культуре, оказывается разделенным надвое, и тем самым разымается и единая система философских категорий, и естественная историческая связь и преемственность философских учений. Таковы две стратегии понимания, реально представленные в сравнительной философии. Ими как таковыми и их различными комбинациями исчерпывается методологический арсенал, который стоит на вооружении философов-компаративистов. Третью стратегию понимания я и хотел бы предложить в качестве нового подхода в философской компаративистике. Это тот подход, который я обозначаю как логикосмысловой. Лучше всего подойти к объяснению его сути, отталкиваясь от второй стратегии понимания. Она заключается в том, чтобы выстроить отношение противоположности между двумя сущностями, причем это противоположение обязательно бывает выстроено «с оглядкой» на общее: у нас есть общее, и в пределах, задаваемых этим общим, есть противополагание. Это может быть классическая родовидовая схема. Это может быть (если отказаться от эссенциалистского подхода и принять теоретико-множественный) множество, каждый из элементов которого относится к другому как отрицание, но в рамках чего-то общего. Эссенциализм и связанная с ним родовидовая схема — лишь один из примеров, с таким же успехом, следуя этой стратегии понимания, можно практиковать неэссенциалистский подход. Мой тезис заключается в следующем: выстраивание общего и противоположности может осуществляться принципиально различными способами. Такие способы не сводимы один к другому. Это означает, что они являются процедурно различными. «Процедурно» значит: вне зависимости от содержания тех «единиц», между которыми устанавливается отношение противоположения и объединения. 8 Такие процедурно различные способы противополагания и объединения не могут быть поняты как преобразования друг друга. Один способ выстраивания отрицания нельзя понять как преобразование другого способа выстраивания отрицания, и, соответственно, один способ выстраивания общности нельзя понять как преобразование другого способа выстраивания общности. Это — принципиальное положение, и вытекает оно из того, что любое преобразование сводится к противоположению и объединению; однако эти процедуры не могут применяться к самим себе, чтобы объяснить собственное различие: мы в таком случае получаем дурную бесконечность. Различие этих процедур вызвано чем-то другим, нежели они сами, а именно — смысловой составляющей. Вот почему я говорю о логико-смысловой соотнесенности как о взаимозависимости этих двух сторон, такой взаимозавивисмости, благодаря которой возможна вариативность их обеих. (Если продумать это положение до конца, станет понятно, почему культура, представляющая собой логико-смысловое единство, целостна и несводима к другим культурам, если те построены на каком-то другом варианте логико-смысловой соотнесенности.) Таким образом, если мы имеем две логико-смысловые структуры, выстроенные на основе разных стратегий противополагания и объединения, то они не могут быть сведены друг к другу, не могут быть переведены одна в другую, а представляют собой нередуцируемые целостности. Применяя этот подход к пониманию культуры в целом, мы получаем такого рода целостности, в этом (именно в этом) смысле закрытые одна для другой, типа тех, что описывали Н.Я. Данилевский или О. Шпенглер. Высказав этот тезис, мне остается показать возможность альтернативной процедуры выстраивания противоположности и объединения, которая не сводима к той, что известна нам по опыту западной традиции, и привести примеры логико-смысловых структур, выстроенных на ее основе. Чтобы сделать это, надо заложить фундамент для выполнения подлинной задачи сравнительной философии — задачи с-равн-ивания. Надо нащупать то основание, которое даст возможность приравнять разнокультурные традиции, — и только после такого приравнивания говорить о сходствах и различиях между ними. Именно на ощупь начинаем мы свое движение: наша исходная точка в темноте, еще не освещена. В этом особая трудность нашего предприятия, и в этом же — его особый интерес и значение. Ту процедуру противополагания и объединения, к которой мы привыкли, с которой знакомы благодаря интеллектуальному опыту своей культуры, можно описывать 9 по-разному. Я возьму только один признак, который в данном случае будет ключевым. Он заключается в следующем: общее, которое обобщает противоположности, снимает их противополагание и тем самым объединяет их, всегда интериоризирует, включает внутрь себя противополагаемое. Противоположности, т.е. объединяемое, включаются внутрь объединяющего. В каком смысле «включаются внутрь», в каком смысле «интериоризируются»? Интериоризация, или включение внутрь, — это метафора, апеллирующая к определенному пространственному представлению. Она может быть проиллюстрирована неким — как мы считаем, самоочевидным — образом, например, чем-то вроде кругов Эйлера. С другой стороны, эта метафора тесно связана с нашим телесным ощущением: свое тело как единое я ощущаю благодаря тому, что оно интериоризирует все, что я чувствую включенным в него. (Проблема границы тела относится уже к области философской рефлексии, но никак не базовой интуиции, о которой я веду речь.) Это действительно интуиция, и в качестве таковой она действует на дорефлективном уровне. Если эту интуицию рационализировать, попытаться развернуть ее в качестве чего-то объективного, то среди ее следствий мы найдем такое. Общий признак всегда предицируется тому, что включено в общее в качестве частного. Например, если говорить о родовидовой схеме, мы не можем назвать вид, не предицируя ему родовой признак. Этого просто невозможно сделать. Если речь идет о теоретико-множественном подходе, то, называя любой элемент множества, мы тем самым называем само множество, поскольку указание на элемент предполагает указание на вхождение в множество. Иного просто не может быть. Таким образом, называя данный вид или данный элемент множества, мы тем самым не называем все признаки других видов или других элементов множества, стоящих к данному виду или элементу в отношении отрицания, однако мы обязательно называем объединяющий их признак. Та, другая, интуиция, о которой я говорю как об альтернативной, выстраивается в отсутствие этого ощущения. Здесь объединяющее не включает внутрь себя объединяемое. Объединение устроено таким образом, что объединяемые противоположности не интериоризированы объединяющим. Как такую интуицию прочувствовать телесно, я не могу сказать, поскольку не могу обладать двумя интуициями сразу (поэтому и описание этой интуиции у меня только негативное). Однако я могу сказать, как она может быть рационализирована и концептуализирована, по аналогии с тем, как мы только что концептуализировали следствия первой интуиции. А именно, здесь общее не предицируется частному. Общее, объединяющее две 10 противоположности, не предицируется тому, что объединяется им. Иначе говоря, называя общее, мы не называем тем самым частное, и, наоборот, называя частное, мы тем самым не называем общее. Как если бы мы могли называть вид, не называя тем самым род, или указать на элемент множества без того, чтобы указать на само множество. Таковы теоретические положения. Как они могут быть проиллюстрированы? Что может служить для них примером? Мой тезис состоит в том, что арабская культура как целое выстроена на основе именно этой процедуры противополагания и объединения, поэтому в принципе иллюстрацией может служить любой сегмент этой культуры, любой феномен, который мы выделим в ней и будем пытаться понять, тем самым неизбежно встраивая его в эти отношения. Вот почему в принципе можно работать с любым материалом, с точки зрения сути дела это безразлично. Но чтобы получить доходчивую иллюстрацию, следует выбрать пример, который не слишком сложен, легко воспринимается и который можно было бы противопоставить чему-то известному в нашей собственной культуре. В качестве такового я выбрал пример понимания пространства и времени. Я имею в виду известную апорию Зенона о стреле, которая летит, — но в каждое отдельное «теперь» она не летит, потому что каждое отдельное «теперь» — это мгновение, когда она покоится. Эта апория остается таковой, т.е. именно апорией, по сей день: мы можем выстраивать свое понимание пространства и времени по-аристотелевски, а не по-зеноновски, чтобы избежать ее, но стоит принять допущения Зенона, как мы вновь сталкиваемся с непреодолимым затруднением. Считается, что эта апория отражают саму суть движения (наряду, конечно, с «Ахиллесом и черепахой», но я здесь говорю только о «Стреле»). Так вот, все дело в том, что апория Зенона, если и отражает суть движения, то не напрямую. Самой апорией, как она сформулирована, вскрыто совсем другое: суть понимания противополагания и объединения, которое имеет место в западной традиции. Располагаясь вместе с Зеноном в пространстве античной мысли, возьмем два последовательных момента времени и спросим: «Передвинулась ли стрела за эти два момента?». Мы должны ответить положительно, поскольку дано, что стрела летит. Но двигается ли она в каждый из двух моментов времени? Нет, не двигается ни в один из них, поскольку эти моменты — недлящиеся «теперь». Тогда получается, что общий признак (движение) мы не можем предицировать каждому отдельному элементу, которые объединяют- 11 ся этим общим. Отсюда и апория. Суть ее — исключительно логико-смысловая, т.е. относящаяся к логике взаимного преобразования содержательных элементов. Такая апория в принципе не может возникнуть в том случае, если процедура объединения не предполагает включение объединяемого внутрь объединяющего. Именно такую процедуру мы встречаем в арабской мысли. Применительно к интересующему нас вопросу это означает следующее. Каждый отдельный момент времени является атомарным, так что время у арабских мыслителей, как и у Зенона, состоит из недлящихся моментов «теперь». Пусть мы имеем зеноновскую стрелу в первый и в следующий моменты времени и, сравнивая ее положения, замечаем, что они разные. Находясь в пределах разрешенных в арабской мысли процедур объединения, мы говорим, что эти два противополагаемых «теперь» объединены, и общим для них является «движение». Таким образом, мы говорим, что за два момента времени стрела передвинулась. Тем самым мы как будто лишь повторяем заданное условие движения стрелы. Но ведь главное в том, как мы ответим на следующий вопрос: двигается ли она в каждый из двух моментов времени? Это именно тот вопрос, в ходе ответа на который и возникает зеноновская апория. Мы задаем этот вопрос теперь в пространстве арабской мысли. Ответ отрицательный: нет, стрела не двигается ни в один из этих двух моментов. Задержимся на этом моменте. Он важен потому, что в нашем рассуждении до сих пор пути Зенона и арабских мыслителей как будто совпадали, они как будто говорили одно и то же, и даже буквально одно и то же. Уже на следующем шаге эти пути разойдутся, причем настолько радикально, чтобы не сойтись ни в чем. Именно поэтому так важно задержаться на этом моменте: во-первых, понять, почему эти пути расходятся именно здесь; во-вторых, понять и другое: эти пути разошлись с самого начала, и только неэксплицированность всех логических ходов, скрытых до поры за номинальным буквальным совпадением, создавала иллюзию сходства. Итак, стрела движется «вообще», т.е. в любые два последовательные момента времени ее положение в пространстве меняется. Но в любой из этих двух моментов стрела не двигается. Вот этого и не может быть, согласно Зенону, и данное не может быть носит чисто логический характер. Не может быть потому, что стрела должна двигаться в каждый из двух моментов времени, коль скоро она движется «вообще» в два момента времени: общий признак не может не предицироваться частному. Не может быть потому, что, коль скоро стрела не движется в отдельный момент времени, следовательно, она покоится, 12 а покой и движение противоположны, и они не могут сразу предицироваться одному и тому же субъекту в одном и том же смысле. Эти не может быть и должно быть носят чисто логический характер. Они не эксплицируются (во всяком случае, обычно не эксплицируются) в ходе изложения апории «Стрела» или ее анализа: они остаются в качестве фона, абсолютно принимаемого как теми, кто формулирует апорию, так и теми, кто пытается ее обойти. В силу подобного их характера я называю эти не может быть и должно быть логической очевидностью, или, если выражаться точнее, логико-смысловой очевидностью (причина такой поправки скоро станет ясна). Итак, эти очевидные логико-смысловые постулаты остаются за эксплицитно сформулированным текстом, хотя они принципиальны для его связности, а значит, присутствуют, пусть незримо, в каждом явно высказанном положении. Ирония состоит в том, что развитая в ранней арабской мысли теория атомарного пространства и времени пока что, до настоящего момента, обнаруживала удивительное, просто-таки буквальное совпадение с зеноновским построением, — однако стоящая за текстом логико-смысловая очевидность в этом случае другая. Я говорю об иронии потому, что стоящее за явленным и как будто нарочно совпадающим текстом логико-смысловое различие меняет полностью сам явленный текст. Что это именно так, я покажу чуть ниже, когда мы продолжим анализировать наш пример. Но эта полная, именно тотальная инаковость могла бы уже сейчас стать ясна как вывод из абсолютного характера логико-смысловой очевидности. В самом деле, наши не может быть и должно быть обладают именно тотальной властью над текстом, они не могут соблюдаться в одном месте и не соблюдаться в другом. Если мы переходим на позиции иной логико-смысловой очевидности, мы переходим на эти позиции во всем, а не как-то частично. Таков один аспект абсолютности, которая характеризует логико-смысловую очевидность. Другой аспект этой абсолютности проявляется в несводимости разных типов логико-смысловой очевидности, в их нередуцируемости друг к другу и невыводимости друг из друга. Оба аспекта, именно как аспекты, непосредственно связаны. Вернемся к нашему поворотному пункту. Мы видели, что до сих пор арабские мыслители буквально вторят Зенону: время состоит из недлящихся моментов, стрела движется «вообще», т.е. в любую пару последовательно взятых моментов времени ее положение меняется, но она не является движущейся ни в один из таких моментов. Для Зенона этого достаточно, чтобы сформулировать непреодолимое затруднение; для арабских мыс- 13 лителей, наоборот, это построение — абсолютно правильное, связное и логичное. В чем же дело? Пойдем дальше. Стрела не движется ни в один из тех двух моментов времени, в которые, если взять их совокупно, она является движущейся, т.е. меняющей свое положение в пространстве. Следовательно, говорит Зенон, стрела покоится в каждый из моментов времени, и этому соответствует тот факт, что она в любой недлящийся момент времени занимает равное себе пространство. Вот это и есть тот принципиальный поворотный пункт, который покажет нам, в чем именно и как расходятся1 пути греческой и арабской мысли. Стрела покоится, ибо занимает равное себе пространство. Какова природа этого «ибо»? Могут сказать, что это — «просто» определение. «Покоиться» и значит «занимать равное себе пространство». Однако этого не достаточно. Не достаточно потому, что «покоиться» означает также «не двигаться». Движение и покой дихотомичны, и если тело не покоится, значит, оно двигается. «Двигается» означает «меняет свое положение в пространстве». «Занимать равное себе пространство» и «изменять свое положение в пространстве» оказываются также дихотомичными. Таким образом, «покоиться» является не просто словесным эквивалентом для «занимать равное себе пространство». «Покоиться» означает также «не двигаться». Взаимная замена «покоится» и «не двигается» оказывается тривиальной в пределах зеноновского рассуждения. Поэтому и замена «занимать равное себе пространство» на «не двигаться» или «покоиться» также оказывается безусловно возможной. «Двигаться» — это «изменять свое положение в пространстве». Следовательно, «не изменять свое положение в пространстве» и означает «не двигаться», то есть «покоиться». И теперь главное. «Занимать равное себе пространство» относится исключительно к одному моменту времени. «Покоиться» постольку, поскольку это слово эквивалентно выражению «занимать равное себе пространство», также относится к одному моменту времени. Относится в том смысле, что, делая такое утверждение, мы как будто не выходим за пределы одного момента времени. Нам как будто нет дела ни до какого другого момента времени, соседнего или самого отдаленного: мы можем высказать это положение, обращая внимание исключительно на данный момент времени. 1 Речь, конечно, о «расхождении» в смысле динамики и логики нашего изложения, никак не в смысле исторического размежевания: последнее составляет отдельную тему. 14 Однако «не двигаться» уже не относится к одному моменту времени. «Не двигаться» отрицает «движение», а «движение» предполагает изменение, изменение же всегда — функция двоицы, а не единицы. Говоря о «движении», мы предполагаем возможность сравнить и заметить различие, — а как иначе можно говорить об изменении положения в пространстве? Различие по самой своей сути, будучи отрицанием, предполагает двоицу, а не единицу. Следовательно, говоря, что стрела «не движется», мы каким-то образом выходим за пределы «теперь», мы затрагиваем этим высказыванием не только данный момент времени, но и по меньшей мере еще один — тот, в сравнении с которым мы можем говорить о движении. Наше рассуждение дало нам очень многое. Слово «покой», оказывается, имеет два принципиально разных значения. Первое не выводит нас за пределы одного, данного момента времени: тело «покоится» в том смысле, что «занимает равное себе пространство». Но другое значение уже преодолевает границу одного момента времени: тело «покоится» в том смысле, что оно «не двигается». Но дело не только в этом. Чисто отрицательное по своей форме «не двигается» имеет, как оказывается, положительное содержание: «не двигаться» означает «сохранять покой» в течение по меньшей мере двух соседних моментов времени, — тех, относительно которых в принципе можно было бы говорить о «движении». Второе значение слова «покой» не просто отличается от его первого значения; оно разительно, принципиально отделено от него. И тем не менее в пространстве зеноновской мысли это одно и то же значение. Дело в следующем. И «движение», и «покой» (во втором значении) выводят нас за пределы одного момента времени и требуют рассмотрения как минимум двух соседних моментов времени, поскольку означают различие (различное положение тела в пространстве) или отрицание различия. Следовательно, по самому своему смыслу «движение» и «покой» являются обобщающими, т.е. сообщающими нам некую общую для двух (или более) моментов времени характеристику, в данном случае — характеристику положения тела в пространстве. Это означает, что смысловой статус понятий «занимать равное себе место в пространстве» и «покоиться» (во втором значении, =«не двигаться») — различный, поскольку первое понятие предполагает рассмотрение только одного момента времени, тогда как второе — рассмотрение (как минимум) двух моментов времени. Когда мы, толкуя Зенона, говорим, что тело, занимая в один момент времени равное себе пространство, «по- 15 коится, а следовательно, не движется», мы совершаем скачок, повышая смысловой статус понятия. Почему же возможно это смешение двух значений? Почему можно говорить о «покое» в смысле неизменности положения в пространстве, как будто не отличая его от «покоя» в смысле альтернативы движению (либо движение, либо покой), тем самым выскакивая за пределы одного момента? Почему, более того, можно спрашивать, «движется ли стрела в один момент времени», чтобы, получив отрицательный ответ, заявить о логическом противоречии, — тогда как, казалось бы, по самому своему смыслу «движение» предполагает как минимум два момента времени? Все это возможно только благодаря тому, что процедура образования общего в западной культуре такова, какова она есть. Здесь общее как будто «включает внутрь себя» обобщаемое, и каждое обобщаемое непременно является носителем той характеристики, которая и составляет содержание общего. Стрела движется, это дано условиями. «Движение» здесь — характеристика общего, того, что обобщает моменты времени. И в силу особенности процедуры обобщения, и только в силу этой особенности, каждый отдельный момент времени также должен быть моментом движения стрелы. Но таковым он быть не может — вот и апория, вот и непреодолимое затруднение. Однако затруднение возникло не из самого характера движения, как обычно думают, а только и исключительно вследствие особенностей процедуры образования общего понятия и его отношения к обобщаемому. Я думаю, сказанным вполне выяснено это обстоятельство. Но еще большей ясности мы достигнем, сравнив рассмотренную ситуацию с тем рассуждением, которое выстраивается в пространстве арабской мысли, опирающейся на иную процедуру обобщения. Вернемся вновь к нашему поворотному пункту. Стрела не движется ни в один из моментов времени. Мы сказали, что арабские мыслители согласились бы с этим утверждением Зенона. Это верно, но теперь мы можем добавить: при этом они имеют в виду совсем не то же самое, что Зенон. Да, они говорят об «отсутствии движения». Однако дело в том, что «отсутствие движения», отрицание движения не означает «покой». Чтобы получить значение «покой» в пространстве арабской мысли, мы нуждаемся в чем-то ином, нежели просто отрицание значения «движения». (Здесь стоит остановиться, чтобы сказать: рассуждения такого рода, какое мы начинаем сейчас, являются рассуждениями о смысловой «субстанции». Оказывается, что 16 она сложена в разных культурах по-разному. «По-разному» значит: за счет разной процедуры связывания исходного и результирующего, обобщаемого и обобщающего. Это различие отражается и выражается в логике соотнесения таких смысловых единиц. В свою очередь, такое, и именно такое их соотнесение оказывается логичным, потому что такова их субстанция. Это взаимное влияние смыслового и логического я и имею в виду, употребляя термин «логико-смысловое»: не механическое соединение готового логического с готовым содержательным, а взаимное влияние, взаимное выплавление, вылепливание этих двух сторон.) Мы поймем, почему отрицание «движения» не означает «покой» в пространстве арабской мысли, если обратим внимание на характерную для той процедуру обобщения. Здесь, как и в пространстве греческой мысли, обобщающее выражает нечто, что характеризует оба обобщаемых момента времени совокупно, вместе. Однако в силу того, что обобщающая характеристика не предицируется обобщаемому каждому по отдельности, отдельный момент времени в пространстве арабской мысли не имеет ни характеристики движения, ни характеристики покоя. Вот почему верно, что стрела «не движется» в отдельный момент времени; — но она и не «покоится». «Движение» и «покой» взаимно исключают друг друга, и под «движением» и «покоем» арабские мыслители понимают ровно то же самое, что Зенон, если трактовать эти категории через понятия равного себе или неравного пространства, занимаемого телом. Иначе говоря, они, как и Зенон, считают, что тело покоится, если «стоит на месте», и движется, если «не стоит на месте». Что означает «стоять на месте», какой смысл имеет это понятие и какова логика его поведения — уже другой вопрос. Рассматривая апелляцию к внешнему миру, к «реальной» ситуации движения, мы не найдем здесь никаких различий; более того, различий мы не найдем и в том, что касается понимания движения и покоя как перемены или отсутствия перемены своего положения в пространстве. Можно сказать, что в двух случаях одинаковы все исходные условия, однако различны логико-смысловые очевидности — а потому тотально различны два рассуждения, построенные на одних и тех же исходных условиях и одинаково строгие и правильные. Для арабских мыслителей совсем нет никакого противоречия, никакой несуразности в том, чтобы не видеть движение (или покой) ни в один их двух моментов времени по отдельности, но видеть его (или покой — процедура образования понятий одна и та же) в два момента времени совокупно. Это не только возможно — это необходимо. Потому что процедура обобщения здесь предполагает в обобщающем возникновение нового (в 17 сравнении с обобщаемым) смыслового элемента, т.е. возникновение содержания, которого нет и не может быть в обобщаемом. Что дает этот пример для ответа на наш вопрос о характере сравнительной философии? С-равн-ивание философских традиций (или любых других сегментов двух культур) должно проходить как выяснение их логико-смыслового основания — тех логикосмысловых очевидностей, о которых я говорил и которые здесь выражены как не может быть и должно быть. Если оказывается, что логико-смысловые основания разные, то сравнение может и должно происходить только как выяснение влияния этого различия на все стороны, все нюансы, все шаги выстраивания содержательных структур в двух культурах. Дискуссия Сорокин А.И., доцент кафедры философии: Мне из Вашего выступления показалось, что арабская философия мудрее европейской. Но я хочу обратить внимание на то, что Вы сказали в плане понимания движения: объединяющее не включает в себя то, что объединяется. Это так — но только на уровне понятия, потому что в самой действительности время и движение неразделимы. Арабская философия более целостная, в отличие от западной. Вопрос у меня такой: можно ли говорить о «философии вообще» в отрыве от каких-то философских течений и традиций? Смирнов А.В.: Здесь сразу несколько вопросов. Начну по порядку. Я не стал бы утверждать, что арабская философия мудрее западной или, наоборот, западная мудрее арабской. У меня нет критерия мудрости, равно приложимого к двум традициям. Тут дело, с моей точки зрения, не в мудрости, а просто в том, что процедура обобщения, принятая в арабской мысли, не приводит к образованию тех затруднений при описании движения, к которым приводит процедура обобщения, принятая в западной мысли. Но это не значит, что она вовсе безупречна или абсолютно «истинна». Собственно, понятие истины, с моей точки зрения, можно определить только в пределах логико-смыслового пространства, а потому критерий истины не приложим к сравнению двух разных логико-смысловых пространств. Да, в арабской мысли не возникает тех парадоксов, которые возникают в западной, — зато она встречает неразрешимую трудность там, где ее не встречает западная мысль, и все по той же причине — в силу особенностей принятой в ней процедуры противополагания и выстраивания общего. Второй вопрос. Что такое «сама действительность» вне логико-смыслового пространства, т.е. вне нашей способности судить о ней и выстраивать ее? Я не знаю. Тут скорее большая и очень интересная проблема, нежели априорная очевидность, из которой ис- 18 ходите Вы. Если в двух логико-смысловых пространствах «сама действительность» конструируется совершенно по-разному, так, что результаты несводимы, это ставит под вопрос очевидность Вашего утверждения. Я не думаю, что арабская философия более целостна, чем западная. Я могу говорить о целостности в смысле внутренней целостности, а здесь вряд ли какая-то из традиций имеет преимущество перед другой. Наконец, последний вопрос. С моей точки зрения, можно говорить о «философии вообще» в смысле тех фундаментальных задач, или даже — той фундаментальной задачи, которую решает философия. Если такая задача ставится в какой-то традиции мысли — перед нами философия, если нет — значит, нет философии. Все остальное, т.е. формирование исходной диспозиции для решения этой задачи, принятие некоторой парадигмы, те или иные логико-смысловые очевидности, является частностями, отличающими одну философскую традицию от другой. Но обычно обращают внимание именно на эти частности, т.е. пути решения задачи, а не на саму задачу, и на основании этого определяют философский статус той или иной традиции. Апресян Р.Г., профессор, заведующий сектором этики ИФ РАН: По поводу «сравнительной философии». Вы думаете, что есть какая-то «сравнительная философия», а не сравнительные исследования с определенных философских или нефилософских позиций, которые сравнивают философии? Смирнов А.В.: Да. «Сравнительная философия» — это уже сложившееся направление философских исследований и у нас, и на Западе. О том, как сравнительная философия может решать именно философскую задачу, задачу прояснения устройства нашего понимания, я и говорил сегодня. Апресян Р.Г.: Если сравнительная философия является чем-то субстанциальным, а не просто жанром, тогда это уже не парафилософия, а метафилософия по отношению к философиям, оказывающимся предметом сравнения. Смирнов А.В.: Это очень точная формулировка того, к чему я хотел привести свое рассуждение. Я говорил, что по большому счету задаю вопрос не просто о том, «что такое сравнительная философия», а о том, «что такое философия». То, что вы называете метафилософией, и выражает, по моему мнению, истинное призвание философии: понять как устроено наше понимание (а значит, понять, как устроен мир вокруг нас и мы сами), а понять это можно, сравнивая по-разному (фундаментально по-разному) устроенные традиции понимания. Это и есть предмет сравнительной философии. 19 Это то, что я хотел бы выдвинуть в качестве цели, и в этом смысле сравнительная философия может стать метафилософией, или подлинной философией. И задачей философии является не исследование некоего объекта, а исследование процедур понимания и, уже исходя из этого, выход на объект, который мы понимаем. Но если брать сравнительную философию, как она реально представлена в корпусе исследований, то в большинстве случаев это — довольно наивный подход, который полагает, что можно взять две вещи и «просто» их сравнить. Сюда может привноситься какая-либо методология, но эта методология — не собственно сравнения, а методы, которые используются и вне сравнительной философии. Апресян Р.Г.: Возможен ли сравнительный анализ в диаметрально противоположных традициях? Смирнов А.В.: Да, возможен. Более того, он наиболее интересен именно в таких случаях. Но этот сравнительный анализ должен быть не попыткой при-равнивания, т.е. прямолинейного поиска сходств и различий. Скажем, в исследовании философских категорий. Берем некое арабское понятие, например, «хакика», и говорим, что это понятие — то же самое, что наша «сущность», но только отличается тем-то и тем-то. Это — прямолинейное при-равнивание через сходства-и-различия. Такое исследование всегда будет недостаточным, оно всегда будет «спотыкаться», поскольку не учитывает те логико-смысловые очевидности, которые как раз различны в случае, о котором Вы спрашиваете: в случае «диаметрально противоположных традиций». Говоря образно, тем «диаметром», по которому мы устанавливаем в таком случае различие, будет именно логико-смысловая очевидность, и именно ее вскрытие, а затем — показ ее влияния на смысловое и логическое «поведение» любого термина, любой категории в целостном рассуждении и составляет содержание сравнительного исследования.