Научные труды и публикации
advertisement
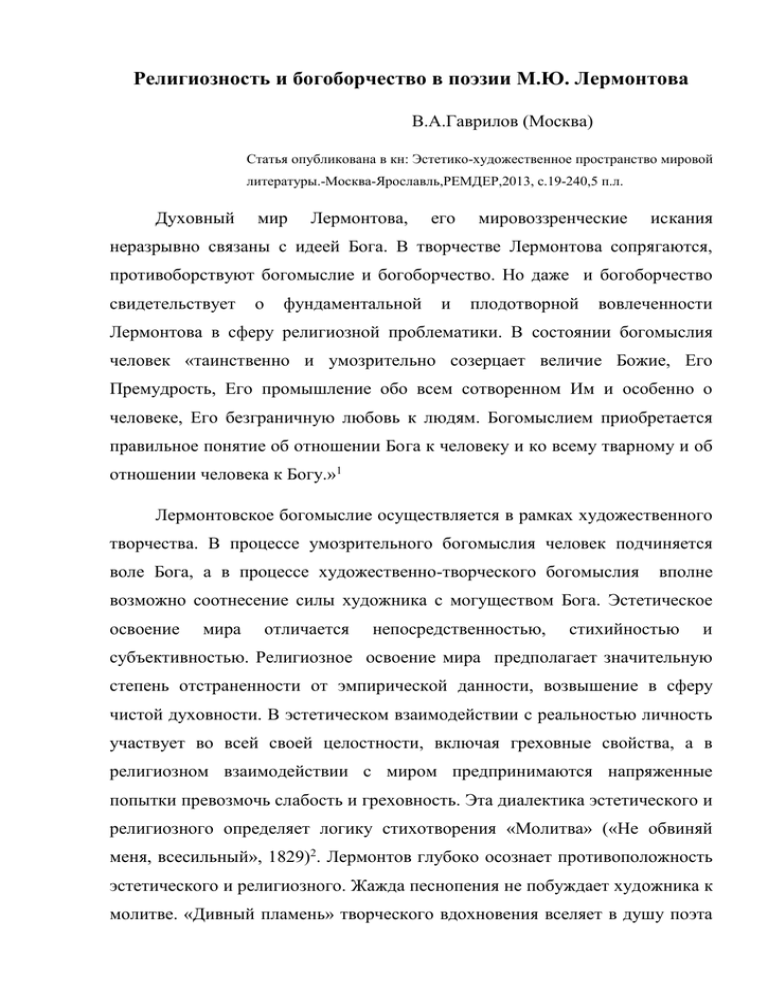
Религиозность и богоборчество в поэзии М.Ю. Лермонтова В.А.Гаврилов (Москва) Статья опубликована в кн: Эстетико-художественное пространство мировой литературы.-Москва-Ярославль,РЕМДЕР,2013, с.19-240,5 п.л. Духовный мир Лермонтова, его мировоззренческие искания неразрывно связаны с идеей Бога. В творчестве Лермонтова сопрягаются, противоборствуют богомыслие и богоборчество. Но даже и богоборчество свидетельствует о фундаментальной и плодотворной вовлеченности Лермонтова в сферу религиозной проблематики. В состоянии богомыслия человек «таинственно и умозрительно созерцает величие Божие, Его Премудрость, Его промышление обо всем сотворенном Им и особенно о человеке, Его безграничную любовь к людям. Богомыслием приобретается правильное понятие об отношении Бога к человеку и ко всему тварному и об отношении человека к Богу.»1 Лермонтовское богомыслие осуществляется в рамках художественного творчества. В процессе умозрительного богомыслия человек подчиняется воле Бога, а в процессе художественно-творческого богомыслия вполне возможно соотнесение силы художника с могуществом Бога. Эстетическое освоение мира отличается непосредственностью, стихийностью и субъективностью. Религиозное освоение мира предполагает значительную степень отстраненности от эмпирической данности, возвышение в сферу чистой духовности. В эстетическом взаимодействии с реальностью личность участвует во всей своей целостности, включая греховные свойства, а в религиозном взаимодействии с миром предпринимаются напряженные попытки превозмочь слабость и греховность. Эта диалектика эстетического и религиозного определяет логику стихотворения «Молитва» («Не обвиняй меня, всесильный», 1829)2. Лермонтов глубоко осознает противоположность эстетического и религиозного. Жажда песнопения не побуждает художника к молитве. «Дивный пламень» творческого вдохновения вселяет в душу поэта гордость, сознание безграничной силы. Лермонтов убежден, что художественное творчество («лава вдохновенья, дикие волненья») выводят поэта из замкнутой сферы эмпирической данности («мир земной мне тесен»). Но другой мир, к которому восходит художник, это не есть мир, заповеданный Богом. Хотя земной мир лирическому герою Лермонтова тесен, он, тем не менее «мрак земли могильный с ее страстями» любит. Теснота земного мира преодолевается «дивным пламенем», «всесожигающим костром» творчества. Но свет и пламя не утоляют потребности и притязания героя. Он любит «мрак земли могильный» и гордится тем, что «дикие волненья мрачат стекло… очей» его. Таким образом, герой не удовлетворяется ни мраком, ни светом. Сугубо эстетическое, с абсолютным преобладанием субъективности освоения мира, приводит героя к разладу и с Богом, и с миром, и с самим собою. Хотя герой преисполнен гордости из-за сознания своей равнозначности с Богом, он в финале стихотворения готов вступить «на тесный путь спасенья». Он готов допустить, что платой за это будет «преобращение» его «сердца в камень». В стихотворении Лермонтова «Не обвиняй меня, всесильный» мы наблюдаем максимальные последствия эстетического субъективизма, как предпосылки трагического богоборчества. Система мотивов, аналогичная смысловым и эмоциональным доминантам стихотворения «Не обвиняй меня, всесильный», характерна и для позднего Лермонтова, о чем свидетельствует, например, стихотворение «Есть речи – значенье» (1840), (т.1, с.430). «Диким волненьям и лаве вдохновенья» соответствуют здесь «слезы разлуки и трепет свиданья», а также «безумство желанья», которые вызываются и внушаются звуками речей, чье значение «темно иль ничтожно». Но одновременно эта речь, это слово «из пламя и света рожденные». Темнота и ничтожность – координаты земного, пламя и свет – координаты небесного. Таким образом, порыв к сверхценному, идеальному происходит с удержанием, сбережением земного. Лермонтов остро осознает уникальность этого порыва. Этот порыв абсолютно отделяет героя от «шума мирского». Но вместе с тем этот порыв побуждает героя покинуть храм, «не кончив молитвы, на звук тот ответить». Участие в битве традиционно, может быть, еще более сильная мотивация, чем пребывание в храме для воздержания от каких-либо иных побуждений. Заметим, что в стихотворении «Родина» (1841) храм («темной старины заветные преданья») и битва («слава, купленная кровью») также уступают по духовной ценности органике народной жизни и природным стихиям. Мы исходим из того, что в эстетическом отношении к миру доминирует личность с ее избирательностью и даже своевольством, а в религиозном отношению к миру происходит самоограничение личности, восхождение к Богу. Романтическая гордыня определяет логику стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой» (1832), (Т.1, с.321). Герой Лермонтова предполагает особый, избирательный интерес Бога к самому себе; другие люди такого внимания Бога не заслуживают: «Кто может, океан угрюмый, Твои изведать тайны? Кто Толпе мои расскажет думы? Я – или Бог – или никто!» В чем же заслуга лирического героя и его превосходство над толпой? Его ответ таков: «В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит». Для христианской души сопряжение тотальной разочарованности и Бога греховно, так как совершенная любовь к Богу устраняет разочарованность. Митрополит Иоанн поучает: «Когда к тебе приходит состояние безотрадности, невыносимой тоски и безысходности, ты только взывай: «Господи, помоги; Господи, не оставь меня…»3. Лермонтов же горделиво оценивает свою тоску и разочарованность как знак избранности, исключительности. Романтический субъективизм внушает герою высокомерие. Избирательность, пристрастность, своевольство отстраняют героя от религиозных и даже моральных абсолютов. В стихотворении «Нищий» (1830), (Т.1, с. 140) автор парадоксально сближает нищего, которому вместо подаяния вложили в руку камень, с обидой влюбленного, чьи чувства оказались безответными. Ситуация с нищим и в авторе, и в читателе обостряет ассоциации, связанные с религиозными ценностями милосердия, отзывчивости, щедрости. Эти ассоциации неправомерно распространяются на ситуацию безответной любви. Если нищий смиренен, то влюбленный требователен и настойчив. Нищий не ставит в зависимость своей веры (он не покидает «врат обители святой») от сомнительного поведения какого-то глумливого человека, а лирический герой, страдающий от безответной любви, жалуется: «Так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». Внешняя аналогия между обиженным нищим и безответным влюбленным не подкрепляется у Лермонтова доказательством сущностного сходства их состояний. Нищий остается в рамках религиозного сознания, романтический герой оказывается вне этих рамок. Лирический герой пристрастен и своеволен. Если в раннем стихотворении «Нищий» обвинения героя адресованы возлюбленной, чья вина заключается в ее душевных несовершенствах, то в стихотворении «И скучно и грустно» (1840), (Т.1, с.426) неумолимые претензии героя распространяются и на него самого. Суд над толпою, над людскими несовершенствами продолжается и в этом стихотворении («некому руку подать в минуту душевной невзгоды»). Но главная причина отчаяния и безнадежности в душе лирического героя в том, что он разочарован в самом себе. Он беспощадно развенчивает и опровергает все, что взрастила его душа: и любовь, и радость, и муки, и страсти. На каком же основании он столь строг и взыскателен? Думается, что это основание – романтический эстетизм. Он прозрел и убедился, что душа его не океан, и это породило неприятие самого себя, а заодно и жизни в целом. Таким образом, романтический эстетизм оказывается ненадежной предпосылкой ни для внутренней гармонии, ни для гармонии лирического героя с окружающим миром. Когда лермонтовский герой выходит за пределы своей субъективности, он обретает поистине благодатное состояние сопричастности с миром и Богом. Подчеркнем вместе с тем, что богоборческие мотивы в поэзии Лермонтова обусловлены не только его романтическим субъективизмом, но и реакцией художника на противоречия между искусством, предметом которого является естественное, и религией, которая сконцентрирована на сверхъестественном. Об этом противоречии очень принципиально размышлял Гегель: «Мы уже видели, что искусство должно поставить в центре своих изображений прежде всего божественное начало. Но божественное, взятое для себя как единство и всеобщность, по существу доступно только мысли и, будучи в самом себе чем-то безобразным, не может стать предметом художественной фантазии»4.. Гегель утверждает, что божественное, в котором заключается исходный и вечный смысл бытия есть фундаментальный предмет искусства. Но в искусстве божественное предстает в образной форме, что представляет собой отступление от религиозной догматики, но в духовном плане эстетическое все-таки неотделимо от религиозного. Выразительным подтверждением этих связей между искусством и религией служит стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива» (1837), (Т.1, с.379). В стихотворении раскрывается процесс обретения и укрепления веры через переход от естественного, чувственного к духовным абсолютам. Природные явления, изображенные Лермонтовым, трогательны своей простотой, элементарностью, и в то же время заключают в себе провиденциальный смыл. Когда мы наблюдаем, как «прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка», как «ландыш серебристый приветливо кивает головой», мы вслед за автором постигаем, что в природе все стремится сблизиться, сродниться, что все преисполнено доверчивости, благосклонности. Слива прячется не просто в тени, в тени «сладостной». Этот эпитет «сладостный» относится и к тени, и к сливе, и к листку. Душистая роса питает ландыш. «Румяный вечер иль утра час златой» живят, бодрят, радуют весенний цветок. В природе нет ничего нейтрального, обособленного, безразличного. И время суток, и состояния пространства, и проявления стихий – все насыщено взаимным расположением, источает любовь. Эта любовь не какой-то отдельный признак природы, а сама ее субстанция, сама ее стихия. Эта любовь необъясненная, несформулированная, как сама жизнь, а, следовательно, вездесущая и неистребимая. На приоритет любви в религиозном сознании указывал апостол Павел: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»5. «Студеный ключ» в этом стихотворении Лермонтова «играет по оврагу», «лепечет таинственную сагу». Очевидно, здесь проступает образ ребенка. Тем не менее, лепету ручья внимает душа поэта и прозревает таинства мироздания. Признак детскости, столь явно ощутимый в образе студеного ключа, заставляет нас возвратиться к образам сливы и ландыша. И у них мы без труда обнаруживаем трогательную наивность, детскую непосредственность, простодушную доверчивость. К вере лермонтовский герой восходит не через рассудочную умудренность, не через интеллектуальный поиск, а через молитвенное преклонение перед разлитой в природе атмосферой любви. Убежденность Лермонтова в том, что природа отзывчивее к божественным повелениям, чем человек, раскрывается во многих других его лирических произведениях. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу» (1841) «пустыня внемлет Богу и звезда с звездою говорит» (Т.1, с.478). В поэме «Мцыри» герой, с необыкновенной чуткостью различающий в природном мире присутствие божества, небесные следы, ощущает неуместность человека, когда звучит природный гимн Богу: «И все природы голоса Сливались тут; не раздался В торжественный хваленья час Лишь человека гордый глас. (т.2, с.413).» Итак, Лермонтов приобщается к религиозному смыслу бытия через эстетическое обаяние жизни. Это, конечно, не канонический способ приобщения к религиозности, так как у Лермонтова божественное и вечное сопрягается с чувственным и временным. Религиозность Мцыри так далеко отстоит от канонического абстрагирования, что он готов взбунтоваться против абсолютов рая и вечности, готов предпочесть им возвращение к миру идиллического детства. Мцыри восклицает: «Увы! – за несколько минут Между крутых и темных скал,Где я в ребячестве играл, Я б рай и вечность променял… (т.2, с.424).Мцыри мечтает возвратиться в мир детства, при этом он отрешается от своей судьбы в монастыре. Такой феномен отстранения от себя, от собственной судьбы ради восхождения к религиозному смыслу бытия мы наблюдаем и в стихотворениях «Когда волнуется желтеющая нива», «Выхожу один я на дорогу», «Есть речи - значенье». Но когда герой отстраняется от собственной судьбы, от собственных страстей, он соединяется со своей душой, и она говорит в полный голос. В стихотворении «Молитва» («В минуту жизни трудную», 1839, т.1, с.415) душа героя наполняется «силой благодатною», которую он почерпнул в молитве. Он освобождается от интеллектуального высокомерия. Он постигает, что «святая прелесть» молитвы не подлежит пониманию, а осваивается верой. Таким образом, религиозные прозрения Лермонтова включают стадию молитвенного преклонения перед природным миром, свободным от присутствия человека. В дальнейшем восхождении к религиозному смыслу бытия герой, преодолевая собственную судьбу, обретает бессмертную, верующую душу. Примечания и ссылки Митрополит Иоанн (Снычев) Посох духовный,-С.-П.,Царское дело, 2000, с.27. 2 Лермонтов М.Ю. Собр.соч. с четырех томах.-Т.1.-Л.,Наука,1979,с.415. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.3 Митрополит Иоанн (Снычев) Посох духовный (с.241).4. Гегель. Эстетика. М., 1 1968, т.1, с.184.5 Апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 13, ст.8 Энергия истины и политический догматизм в выступлениях М.А.Шолохова на писательских и партийных съездах 1950-1960-х годов. В.А.Гаврилов (Москва) Статья опубликована в сб.:Материалы шолоховских чтений, том 2, МГГУ им.Шолохова 2012 г., 0,75 п.л. В пятидесятые и шестидесятые годы ХХ века М.А.Шолохов был активным участником идеологической и общественно-политической борьбы, которая велась как по инициативе либерального запада, так и по инициативе социалистического востока. Автор «Тихого Дона» обладал цельным и последовательным мировоззрением. Западным ценностям прав личности и конкуренции он противопоставлял идеалы общей жизни и народной солидарности. Политическая заостренность многих высказываний писателя была обусловлена не только его идеологической бескомпромиссностью, но и подобной же неуступчивостью зарубежных демократических оппонентов. Эта неуступчивость наглядно воплотилась в историях с Нобелевскими премиями Б.Пастернака и М.Шолохова. Вопрос о награждении М.Шолохова обсуждался в Стокгольме уже в 1955 году, но, тем не менее, по конъюнктурным политическим соображениям премия была присуждена лишь в 1965 году. Деформированное, искаженное восприятие советской литературы в эпоху холодной войны было характерно не только для членов Нобелевского комитета, но и для западной интеллигенции в целом: «Отношение к Шолохову и советской литературе во многом определялось расхожим мнением о том, что в новой России выбита самая почва, порождающая крупных художников, и при большевистской власти могут процветать только “отпрыски Демьяна Бедного, «корифея пролетарской культуры»”, безликая бездарность, приспособляющаяся и низводящая изящную словесность до пропагандных идей и примитивных лубочных агиток».1 Таким образом, социологическим схематизмом грешили и та и другая сторона. Подчеркнем, однако, что противники советской литературы стремились доказать ущербность и ничтожество всего советского, Шолохов же и в художественной прозе и в публицистике открывал в реалиях нашей действительности подлинное достоинство и обретение. У западных критиков - негативный, ниспровергательский пафос, а у Шолохова положительного опыта, обнадеживающих перспектив поиск исторического развития нашего народа и человечества в целом. К западным литераторам, обвинявшим М.Шолохова в большевизме, примыкают и пресловутые российские «антишолоховеды». Они то пытаются усомниться в том, что М.Шолохов автор «Тихого Дона», то развенчивают М.Шолохова как художника вообще. Справедливо указывает на первоисточник такой враждебности к великому писателю литературовед В.Васильев: «Для меня совершенно очевидна природа современной ненависти к Шолохову — она в незапятнанной любви автора «Тихого Дона», «Поднятой целины» и «Судьбы человека» к России, отчей земле, народу, к простому человеку и их социально-нравственным и духовным ценностям. С точки зрения нынешнего продвинутого либерала такой замшелой любви нельзя ожидать в человеке с верхним образованием, а тем более в человеке талантливом и гениальном»2 . Такие фундаментальные ценности, как народ, государство, национальная духовность всегда были движущим стимулом и пафосом не только исторического процесса, но и художественного развития человечества. Причастность народу и государству есть, по убеждению М.Шолохова, мощная вдохновляющая и творческая сила. Это с исключительной наглядностью воплотилось в его выступлениях на втором и четвертом съезде советских писателей, на ХХ, ХХII, ХХIII съездах КПСС. Речь на втором съезде советских писателей (1954 г.) отличается острой полемической направленностью. М.А.Шолохов подвергает критике организацию литературного процесса в СССР в послевоенные годы, формы и способы государственного поощрения лучших произведений. Он протестует против распространения на литературную жизнь элементов бюрократической иерархии, администрирования. Резкое неприятие и осуждение оратора вызывает то, что среди прочих писательских категорий выделились, благодаря критическому лицемерию и беспринципности, каста «литературных сеттльментов неприкосновенности»3, а и также удостоившихся лауреатства» 3 лиц, каста пользующихся «литературных правом горемык, не . Шолохов саркастически замечает, что развивается опасная тенденция судить о заслугах писателя не по качеству его книг, а по количеству его наград. С несомненным гражданским мужеством Шолохов при этом ссылается на пример К.М.Симонова, облеченного высокой властью партийного и культурного функционера, имеющего огромное количество наград. Автор «Тихого Дона» беспокоится о серьезном снижении качества советской литературы в послевоенные годы. Он объясняет это двумя причинами: привычкой военных лет к немедленному реагированию на события и к срочному воплощению своих впечатлений и суждений в произведениях оперативного жанра; падением требовательности и самокритичности маститых писателей, занявших прочные позиции в литературе и корыстно пользующихся своим сомнительным авторитетом. Фактор административных рычагов и неписанной субординации искажает нормальное развитие литературы. Особенно пагубно это сказывается на культурных и эстетических приоритетах «Литературной газеты». Назначение главным редактором газеты Б.С.Рюрикова Шолохов считает крайне неудачным. Рюриков робок, зависим от начальственного мнения. Шолохов настаивает на самостоятельности фигуры главного редактора «Литературной газеты», на отстраненности его от всяких групповых интересов. Шолохова большинства возмущает современных приспособленчество критиков. и Критики беспринципность бесстыдно льстят знаменитостям, ни на йоту не отступая от комплиментарного стиля. Когда же речь заходит об авторах малоизвестных или молодых, то их «лирические сопрано сразу переходят в начальственные баритоны и басы» (т.8, с.301). Зоркий и проницательный Шолохов фиксирует в своей речи появление утонченного новейшего способа - заслонить именитого писателя от серьезной критики, ограничившись по его адресу критикой ритуальной и сверхделикатной. Такой, по мнению Шолохова, заслоняющей критикой отличалась статья К.Симонова о романе И.Эренбурга «Оттепель». К чести Шолохова, он строг не только по отношению к собратьям по литературному цеху, но и к самому себе. Он отклоняет оценку самого себя как ведущего писателя из-за почти десятилетнего творческого бесплодия и предлагает зачислить себя в категорию писателей «стоящих». При всей резкости и остроте критических соображений, характерных для выступления Шолохова, он не ставит под сомнение доброкачественности и полноценности эстетических и идеологических ориентиров советской литературы. В соответствии с логикой и пафосом господствующей в 50- е годы коммунистической идеологией Шолохов в своем выступлении на ХХ съезде КПСС (1956) предлагает свое решение организационных и эстетических проблем советской литературы. Большое количество издаваемых в СССР художественных произведений не заслоняет эстетического качества основного их потока. от Шолохова низкого Проблемы, поставленные в речи Шолохова, решаются им противоречиво и непоследовательно. С одной стороны, Шолохов признает, что писательский « труд … сугубо специфичен, и … нет у нас в стране более неорганизованных людей, чем… писатели»4. С другой же стороны, он благодарит партию за административное вмешательство в творческий процесс: «Партия не раз поправляла Союз писателей за идеологические срывы на отдельных участках литературной борьбы, и мы всегда чувствовали ее твердую направляющую руку» (По велению души, с.276). Шолохов исходит из принципиального методологического положения о том, что характер литературы и ее достоинства напрямую зависят от характера времени. Однако характер времени он понимает односторонне, сужает его до целей и намерений коммунистической партии. При этом достоинства современности так велики, что в создании художественного произведения роль самого автора второстепенна в сравнении с этими эпохальными ценностями. Шолохов заявляет: «Но ведь положа руку на сердце надо прямо сказать, что ведущей она (советская литература – В.Г.) стала не потому, что ею достигнуты какие-то ранее недосягаемые для писателей высоты художественного совершенства, а потому, что все мы, каждый в меру своего таланта, глубинными средствами искусства, проникновенным художественным словом пропагандируем всепобеждающие идеи коммунизма» (По велению души, с.272). Кроме «идей коммунизма», другой фундаментальной предпосылкой художественного творчества Шолохов признает непосредственную связь с жизнью, погружение в социальную реальность, соприкосновение с эмпирическими фактами бытия. Он досадует, что сотни советских писателей не имеют прямых контактов с трудовыми коллективами заводов, фабрик и колхозов. Он убежден, что такие связи и контакты есть источник творческого вдохновения и для человека труда, и для художника. С трогательной наивностью Шолохов дает рекомендации писателям Панферову, Первенцеву, Пермитину, поэту Сергею Васильеву и другим расстаться с московским комфортом и окунуться в повседневную жизнь рабочих и крестьян в российской глубинке. Он ставит в пример современникам Л.Толстого, Чехова и особенно Горького, которые знали жизнь народа изнутри, конкретно и детально. А между тем в самом организационном стиле Союза писателей, прежде всего в бытность его генеральным секретарем Фадеева А.А., административный эстетическими задачами. вектор преобладал Шолохова над возмущает творческими и бюрократическая терминология, подменяющая саму суть непрерывного писательского труда какими-то рубриками и интервалами наподобие «творческой командировки и творческого отпуска». Шолохов искренне огорчен, что соблазн высоких административных полномочий оказался губительным для генсека Союза писателей Фадеева, административное возвышение которого обернулось творческим бесплодием. Шолохов расхождении не идей допускает коммунизма мысли с о каком-либо социальной существенном практикой советских трудящихся. Он верит, что советский человек ориентирован на социализм, привержен идеалам партии. Поэтому общение писателей с инженерами, новаторами производства, ударниками труда обязательно должно привести к плодотворным результатам. В условиях советского строя Шолохов возрождает некрасовскую и толстовскую веру в идеальное начало народной жизни и в идеальную первооснову народного характера. Несомненным достоинством шолоховской позиции следует признать его заботу о социальном здоровье общества, а также заботу о моральной консолидации трудящихся масс и духовно-идеологической элиты. О морально-политическом приоритетах капиталистического несовместимости соответствующих состоянии и народа, социалистического этим обществам о социальных общества, о идеологических надстроек, о гражданской ответственности советского писателя перед своей страной и народом размышляет М.А.Шолохов в своем выступлении на ХХII съезде КПСС (1961). В своих размышлениях он исходит из принципиальной предпосылки, что он «прежде всего коммунист, а потом уже писатель» (По велению души, с.358). Он безоговорочно отклоняет претензии западных критиков по поводу тенденциозности советской литературы. С полемическим азартом он вызывающе заявляет: «Они утверждают, что пишем мы предвзято. А как бы им хотелось?» (По велению души, с.362). Крайне важно подчеркнуть, что источник этой предвзятости Шолохов объясняет любовью к соотечественнику, к рядовому труженику и воину. Пафосом этой любви проникнуто все выступление Шолохова. Отечественная литература призвана воспеть «советскую семью, моральный облик нового человека, титанический труд нашего народа» (По велению души, с.363). В этой связи Шолохов безоговорочно отклоняет эстетическую рекомендацию Чехова о сдержанности в художественном воплощении авторской позиции. Шолохов, наоборот, настаивает на последовательной и открытой тенденциозности. Безусловными ценностями для М.Шолохова остаются трудовое человечество, народная мораль, народовластие, социалистическая идеология. Энергично отрицая единство на основе организационно-административной принадлежности и подчиненности, М.Шолохов проповедует единство на основе духовной общности, товарищеской солидарности, взаимовыручки и взаимопомощи. Эту мысль он иллюстрирует сопоставлением рассказа О.Генри «Дороги, которые мы выбираем» с повестью Гоголя «Тарас Бульба». О.Генри раскрывает суть явления капиталистической конкуренции, а Гоголь воспевает явление товарищества не по крови, а по духу. C неприятием размышляет М.Шолохов о людях, истребивших в себе все, кроме энергии вражды и соперничества. Г.Ермолаев в книге о «Тихом Доне» заметил: «Для общей характеристики ситуации в подцензурной литературе начала 1950-х годов необходимо упомянуть неуклонно растущую враждебность к Западу, в первую голову к его военному оплоту — США»5. Как видим из выступления М.Шолохова на ХХ11 съезде, эта враждебность не смягчается у него и в 60-е годы. Если у О.Генри представлено прошлое и настоящее человечества, то у Гоголя в повести предвосхищается «Тарас грядущая Бульба», гармония и по мнению М.Шолохова, совершенство человеческих отношений. Автор «Поднятой целины» убежден, что элементы этого будущего уже родились и развиваются на почве социалистического общества. Он считает реальной всеобщую связь и солидарность советских людей. Он почти не замечает тоталитарно-административных скоб и обручей, стискивающих общественный организм. В своей речи М.Шолохов с гордостью размышляет о деятельности и свершениях народа. Он не без основания связывает себя и с Гоголем, и с Л.Толстым, и со всей русской классикой, гении которой пророчили великую будущность нашему народу и нашей Родине. То, что они предвидели, М.Шолохов, по его убеждению, наблюдает воочию. С неподдельной радостью рассуждает он о социальных сдвигах и экономическом прогрессе : «Просто комок подкатывает к горлу: до чего всетаки здорово. И если по совести говорить, иной раз возгордишься втихомолку своей партией, своим советским народом. И с невольным восторгом и грубоватой ласковостью, употребляемых в обращении с близкими, скажешь, про себя: «Ну и талантливы же, мои милые сердцу люди. Ну и сильны же вы, черти, во всех отношениях сильны» (По велению души, с.258). С самой высокой трибуны М.Шолохов позволяет себе улыбнуться то растроганно, то иронически, то с ободряющим подтруниванием, то с беспощадной язвительностью. Он убежден, что условием полноценного творчества является жесткое разграничение художником наших и не наших, принципиальная дифференциация подлинных ценностей, их суррогатов и антиценностей. Он ставит под сомнение систему либеральной западной культуры. Он заботится о социальном здоровье общества и народа. При этом порой допускает полемическую односторонность и чрезмерную заостренность суждений и оценок. Но утверждение им идеалов общей жизни, национальных духовных и моральных приоритетов, солидарности и товарищества в отношениях между людьми представляет собой бесспорные достоинства и может служить образцом беззаветного служения своему Отечеству. Выступление М.А.Шолохова на ХХIII съезде КПСС (1966 г.) проникнуто неподдельной гордостью вследствие причастности автора «к народу великому и благородному», «к могучей прекрасной родине» (По велению души, с.320). Прославляя людей труда, Шолохов расценивает их свершения как образец для людей творческих профессий. Как и в выступлениях 30-50-х годов Шолохов не склонен дифференцировать физический труд и духовно-практическую деятельность. Все сферы деятельности он воспринимает как составные части единого общенародного дела. Идеологический догматизм проступает в утверждении Шолохова об абсолютной актуальности горьковского вопроса: «С кем вы, мастера культуры?». Шолохов с трудом допускает возможность какого-либо другого измерения человеческой личности, кроме политического и идеологического. Особенно непреклонно и безоговорочно это требование предъявляется к советским писателям: «Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой родины» ( По велению души, с.320). В своей речи М.А.Шолохов выступает бескомпромиссным обвинителем диссидентов Синявского и Даниэля, не упоминая даже их имен. Эти авторы в произведениях, опубликованных за границей, с критических позиций оценивали советскую действительность. Не вникая ни в их мотивы, ни в их аргументы, Шолохов однозначно оценивает их деятельность как предательство. С оттенком ностальгии Шолохов гипотетически прилагает к Синявскому и Даниэлю нормы революционного права: «Попадись эти молодчики с чёрной совестью в памятные 20-годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, ещё рассуждают о «суровости» приговора!» (По велению души, с.321). Эти оценки, конечно, продиктованы прежде всего убеждениями политика, а не позицией художника. Руководствуясь политическими приоритетами, М.А.Шолохов размышляет о стратегических проблемах развития советской литературы на IY съезде писателей СССР (1967 г.), стремясь оказать положительное влияние на ее будущее. Он с иронией отзывается о безмятежной атмосфере IY съезда, об «улыбках благодушных» (По велению души, с.371) и о щедрых похвалах, расточаемых основными докладчиками – Г. Марковым и М.Дудиным. Однако умиротворенность и благодушие Шолохов фактически признает лишь внешней стороной деятельности Союза писателей. На самом же деле, по мнению Шолохова, «что-то у нас запохаживается на армейские порядки» (По представительство велению молодежи души, с.375): неуклонно на писательских съездах, сокращается а также в руководящих органах творческого союза. Но и сам Шолохов подвержен этому недостатку возрастного авторитаризма, навязывания определенных эстетических и идеологических постулатов. Он некритически цитирует Ленина, отказывавшего в свободе слова монархистам и анархистам. На этом основании Шолохов берет на подозрение некоторых неназванных представителей творческой молодежи с их «этакой фрондой, непризнанием общепринятых норм поведения» (По велению души, с.374). Шолохов намекает, «и кое-что другое есть на их совести» (там же, с.374), великодушно соглашаясь оправдать это в настоящий момент их молодым возрастом, он предостерегает на будущее о строгих карах и взысканиях. Таким образом, ленинские требования к степени свободы в сфере политической публицистики Шолохов склонен распространять на художественное творчество. Высказывая претензии организаторам съезда по поводу его формальности и бесплодности, Шолохов вместе с тем насмешливо укоряет И.Эренбурга за то, что тот предпочел поездку в Италию участию в работе съезда. Шолохов расценивает эту поезду как демонстративную готовность И.Эренбурга в «коллективе ставить самого себя над всеми» (По велению души, с.373). Весьма знаменательна и симптоматична ссылка Шолохова на рассказ Фадеева о маленьком сыне священника, не допускаемом к совместной игре другими детьми, воспитанными в духе советской бескомпромиссности. Этот одинокий ребенок вызвал у Фадеева слезы. Шолохов уподобляет этому мальчику некоторых отстраняются от современных господствующей авторов, которые идеологической и добровольно эстетической ориентации. Как и в годы Великой Отечественной войны, Шолохов по-прежнему ощущает себя в общем боевом строю, «в запасе первой очереди» (По велению души, с.376). Он остается и в 60-е годы приверженцем общей жизни, обеспеченной безусловной «примагниченностью» каждого советского человека к единым целям и идеалам. Наш анализ показывает, что идейная позиция М.А.Шолохова опирается не только на мировоззренческую убежденность, но и на веление души и сердца, то есть на веру. Шолохов видел идеал в том, что у народа и его духовного авангарда общее дело, общее слово и общая судьба. Последствия подобной позиции неоднозначны. Установка на единство и всеобщность приводило публициста М.А.Шолохова к недооценке народного многоличия и мировоззренческой дифференциации. В результате отступления от господствующей идеологии трактовались как нравственное падение и предательство. С другой стороны, бескомпромиссности, в следует шолоховской признать последовательности бесспорное и и перспективное достоинство. Эта последовательность исключает либеральную терпимость и всеядность, противостоит пагубным соблазнам, служит залогом сбережения духовных первооснов национального бытия. Ссылки и примечания 1 Васильев В. Огни во мраке. Шолохов в сознании интеллигенции «с того берега»., - журнал «Литература», М., издательский дом «Первое сентября», 2003, №7. /http://lit.1september.ru/article.php?ID=200300703/ 2 Васильев В. Интервью у классной доски., – газета «Литература», М., Издательский дом «Первое сентября», 2004, № 39 /http://lit.1september.ru/article.php?ID=200403902/ 3 М.А.Шолохов., Собр.соч. в 8 т.т.,т.8, М. , 1960, с.298, с.300. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 4 5 Шолохов М.А., По велению души., М., Молодая гвардия, 1970, с.271 Герман Ермолаев «Тихий дон» и политическая цензура. 1928—1991». — М.: ИМЛИ РАН, 2005. с.86 Позиция автора в романе Ю.Бондарева «Без милосердия» Гаврилов В.А., к.ф.н., доцент кафедры русской литературы МГГУ им. Шолохова (г.Москва) Статья опубликована в сб.:Вопросы языка и литературы в современных исследованиях,М., государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина, 2011, с. 450-456; 0,5 п.л. В творчестве Ю.Бондарева последних двух десятилетий мы наблюдаем авторское стремление к прямой социальной диагностике. Писатель старается разобраться в механизмах и направленности современного исторического процесса. Следствием этого становится напряженная полемика, которую ведут персонажи последних романов писателя. Среди персонажей, встревоженных судьбой России, отчетливо выделяется две группы. К первой группе относится тип человека рыночного, сущность которого иронически описывает писатель Мишин из романа «Бермудский треугольник»: «Блажен лишь тот, кого удовлетворяет поверхность жизни» 1 .Сам Мишин отнюдь не склонен воспользоваться этим рецептом. Персонажи рыночного типа нацелены на счастье и успех и пренебрегают иными жизненными ценностями и не следуют традиционным моральным императивам. Желание принадлежать текущему моменту, быть встроенным в него кажется им дальновидным и гарантирующим жизненную победу. Ю.Бондарев симпатизирует типу – людям несовременным: Тарутину и Дроздову из романа «Искушение», Андрею Демидову из «Бермудского треугольника», Дмитрию Максимова из романа «Без милосердия». Образцом агрессивного неприятия рыночным человеком героя граждански ответственного является брань преуспевающего бизнесмена, адресованная журналисту-патриоту в книге «Бермудский треугольник»: «Ты человек несовременного склада, ты идеалист Х1Х века, наивный народник, потомок Дон-Кихота, ты – просто идиот московского разлива!». 2 Таким образом, один из водоразделов, дифференцирующих бондаревских персонажей - это их отношение к истории и современности. Разрушение культурной и духовной преемственности, отпадение от традиционных устоев России – все это в различных вариациях связано с характерами и взглядами таких персонажей романа «Без милосердия», как режиссер Пятаков, бизнесмен Виталий Голосков… Приверженность традициям и их циническое ниспровержение – это одна из осевых линий, вокруг которых развертывается логика и эстетика бондаревского романа. Люди классических убеждений, как Дмитрий Максимов, уверены в возможности бытия человека в трех измерениях: в природе, в искусстве, в бессмертии. Для людей, подвергшихся либеральнодемократической переделке, время сокращается, сужается, от него отсекаются вечность и история. В романе «Без милосердия» Ю.Бондарев размышляет о социальных, нравственных и духовных процессах, развернувшихся в нашей стране в последнее десятилетие. Писателю представляется, что наша жизнь приняла уродливое, извращенное направление, что она развивается в режиме непоправимых утрат и катастроф. Автор старается выяснить, каковы предпосылки и факторы подобного исторического поворота. Он хочет разобраться, насколько этот поворот естественен, и предрешен и насколько он искусственен и спроектирован враждебными силами. Писатель проверяет, непогрешим ли и функционален идеал, взращенный в лоне русской культуры. Он задается вопросом, не следует ли скорректировать идеал, включив в него новые параметры (например, динамизм, предприимчивость) и, напротив, снизить удельный вес традиционных элементов (чрезмерное русское морализаторство, нравственная мнительность, доктринерство). Склонность к разноориентированных иронии сближает персонажей разнохарактерных романа. Потребность в и ней свидетельствует о том, что поврежден нравственный и идеологический фундамент общества. Ирония, глумливый сарказм образуют уродливую, разрушительную связь между людьми, которая хуже отчужденности. Художественный конфликт в романе развертывается прежде все в идеологическом, мировоззренческом аспекте. С неприятием и осуждением представлена парадигма идей и взглядов либерально-западнической интеллигенции. Носители почвеннических идей (драматург Максимов, романист Кудрин, поэт Мокрушин) изображены с явным сочувствием и одобрением. Полемика между действующими лицами отличается непримиримостью и ожесточенностью. От констатации идеологических расхождений они стремительно переходят к личным выпадам, моральным обвинениям и даже к подозрениям в преступных намерениях и деяниях. Взаимная неприязнь противоборствующих сторон так велика, что противоборствующие стороны готовы пренебречь и элементарным тактом и традиционными запретами, регулирующими процесс полемики. Главный герой Максимов полагает, что маститый литературовед Хрупов привержен антишолоховской позиции не по убеждению, а вследствие зависти и злонамеренного умысла разрушить ядро русской культуры, осквернить одно из знамен русской духовности. Максимов грозит в свою очередь предъявить Крупову скандальные обвинения в мнимых сексуальных домогательствах. В финале романа Максимов, с которого сняты подозрения в убийстве собственной невесты , едва не становится жертвой бесстыдной провокации. В писательском ресторане его уязвляют клеветой, что он откупился от наказания круглой суммой в долларах. Взбешенный герой едва удерживается, чтобы не пустить в ход кулаки. Враждующие стороны напоминают о необходимости интеллигентности и милосердия по отношению к себе, но проникнуты бесповоротным убеждением, в абсолютной испорченности противника и в неприменимости к нему никакого снисхождения. Таким образом, идеал интеллигентского великодушия и такта оказывается поверженным и опрокинутым. Ю.Бондарев в романе «Без милосердия» показывает насколько культ народа, преклонение перед народом неистребимы в сознании художественной интеллигенции. Однако культ народа на рубеже 20-21 веков приобретает форму своеобразного народоборчества. Если Лев Толстой и Достоевский беззаветно верили в неисчерпаемость народной энергии и в безошибочность народного инстинкта правды, то герои Бондарева предъявляют народу строгий счет. Поэт Мокрушин, отличающийся «геркулесовским телосложением» и «небоскребным ростом» ощущает себя брошенным и осиротевшим. Он жалуется: «…дрыхнут русаки как суслики, как медведи сосут тощую лапу и даже хвостом не пошевелят… Недаром после каждых выборов в одурманенной башке складывается вот такое: «Народа уже нет, а есть электорат, к кому не подключи, тому дурак и рад»4(49). Чрезвычайно знаменательно, что народ подвергается критике за наивность политического поведения, за доверчивость к власть имущим. Ни поэт Мокрушин, ни романист Кудрин не допускают мысли, что в подобном поведении народа, возможно, скрыты глубинный смысл и правота. Если герои Толстого и Достоевского верили в нравственную самодеятельность народа, в драгоценные результаты его органической жизни, то современный Бондаревский интеллигент обязывает народ к государственно-политической инициативе. Мокрушину, который предсказывает, что враги России вытеснят народ из исконных территорий, вторит Максимов: « ..ты прав, Володя. Все возможно в наилучшем из лучших миров. Посадят на льдины славянское население, отбуксируют от берега – и плавайте на здоровье в Ледовитом океане, пожирайте друг друга от голода» (210). Здесь мы наблюдаем образец напрасных и достаточно примитивных претензий культурной элиты к людям из народа. Превратное толкование исторической миссии народа, романтическое вменение ему в долг радикальных инициатив и преобразований оборачиваются не только крушением идеалов, но и потерей самоуважения, ослаблением воли самобытия. Поэт-почвенник Мокрушин пусть и в моменты отравляющего отчаяния провозглашает: «Русским совестно называться! От позорища и срамоты подохнешь! Операцию морды сделаю, иностранную гирю-блямбу такую навешу, и сразу издавать будут…» (54). Романтическое презрение к миру из-за уязвленности в своих надеждах и идеалах проступает в декларации Максимова: «У меня опустошилось вот здесь… Я потерял... ну, как это сказать… У меня какое-то безразличие к самому себе, и душит какаято гадливость ко всему. Поэтому нисколько не жалею, что все движется к наихудшему из концов…» (212) Политико-идеологическая одержимость героев, тяга к раскольниковскому мессианству ведет к ниспровергательскому отношению к народу, к романтической мировой скорби. Мессианское представление о России и русском народе усиливает критицизм в отношении России и ее народа и наращивает скепсис по поводу мировой истории. Скорбные, траурные заклинания Мокрушина и Максимова о конце русской нации и истории перекликаются с апокалиптическими пророчествами Кудрина, о движении человечества от одних грехов не к покаянию, а к все более неискупимым грехам. Непомерные обязательства по спасению мира, которые возлагают на себя интеллигенты из романа Ю.Бондарева «Без милосердия», скорее всего, есть иллюзия и предрассудок, неосуществимость которых, т.е. обязательств, оборачивается комплексом вины, ложным стыдом за мнимое отступничество от великого призвания. Одержимость мессианскими идеями развивает в героях романа обличительный, полемический пафос. А полемика неуклонно склоняет их к абстрагированию от конкретики характеров, от плоти бытия. Эта абстрагированность косвенно подтверждает первостепенность, концептуальность для романа «Без милосердия» сугубо культурных, эстетических ценностей. В романе неоднократно цитируется мысль Оскара Уайльда о том, что все мы лежим в грязной канаве, но при этом некоторые видят звезды. Справедливо подчеркивает критик И. Кириллов: «Бондарев давно уже живет и пишет "для вечности"»3. Почему в роман «Без милосердия» так фундаментально вошла тема литературы? Случайно ли то, что главная героиня служит библиографом в Российской государственной библиотеке? И ее избранник Максимов почти не ошибается, когда угадывает в Марине родную сестру Анны Карениной, а, точнее, двоюродную сестру. Реальность в глазах Максимова до того повреждена и обезображена, что соприкосновение с ней всего прекрасного и идеального, какова Марина, смертельно опасно; а отстраненность от подобной реальности спасительна. По сути возлюбленная Максимова больше связана с литературой, чем с реальностью. Случайная встреча с солнцеволосой и лучезарной Мариной заставляет Максимова с особым отвращением переживать зрелище привычного для московских улиц человеческого падения. Вот как Максимов комментирует тягостные впечатления, беседуя со своей изумительной подругой: «Посмотрите сюда, влево, в сторону витрины, видите на шкафообразных плечах красное шершавое личико с носом картошечкой, с крупными губами. За двести долларов убьет любого. А вот второй – под липами. Видите? Еще молодой, но уже морщины, седые виски, стриженный, красные веки, какие бывают у наркоманов или сильно пьющих» (17). Герой неоднократно вспоминает слова Оскара Уайльда о том, что все мы лежим в грязи, но некоторые при этом видят звезды. Такой уайльдовской, и тютчевской, даже рубцовской звездой оказывается Марина. Молчи, скрывайся и таи – эти тютчевские напутствия чуткой душе стали законом жизни главной героини. Она остерегается соблазнов заграницы, куда ее настойчиво приглашают преуспевающие родители. Она вынуждена скрываться от агрессивного, влюбленного в нее родственника, по ошибке назначенного ей отцом в охранники. Она отстранена от житейской круговерти, повседневных стычек, неутихающих споров. В первом же столкновении с жизнью она погибает. Все это мотивирует благоговейное отношение Максимова к ней, совершенно уничтожает элемент декламации и фальши в его славословиях, когда он восторженно именует ее царицей, жемчужиной. Литература, искусство для героев Бондарева – свидетельство и залог неистребимости человеческого благородства и великодушия. Концептуально важен в романе «Без милосердия» феномен библиотеки. Кудрин после возвращения из ссылки энергично восстанавливает поредевшую личную библиотеку, что крайне важно для него в восполнении прежнего духовного достояния. Максимов уверен, что его взгляды подкреплены, отточены, а часто и сформированы благодаря неутомимому чтению книг из дядиной библиотеки, тщательно отобранных. В споре Максимова с Пятаковым сталкиваются не только политические пристрастия, но и литературная эрудиция противников. Ссылка Максимова на Горация, что «…богиня мщенья, хоть и хромая, все же догонит порок ушедший» (122), вызывает ярость оппонента не из-за сути возражения, а из-за неуместной, на взгляд Пятакова, эрудированности Максимова. В зоне актуальности и даже злободневности оказываются для Бондарева концепции и идеи Канта, Шопенгауэра, Вольтера. Обостренный интерес к литературе и философии обусловлен скудостью и беспросветностью реальной жизни. Современная Москва, с точки зрения писателя, это « перенаселенная пустыня». Здесь нет пристанища человеческой душе. Человек вытеснен, выветривается рыночными стихиями и исчезает, капитулируя перед машинами, витринами, рекламой. Хотя в современной Москве и проступают некоторые признаки ее первородства, но подступившие бездна и хаос настолько вместительны, что способны поглотить любую самобытность. На улицах Москвы все меньше лиц, и все больше «рыскающих неутоленных взглядов» (25). У Бондарева возникает мрачное впечатление о «сумасшествии, неостановимой игре обезумевших людей»(24). Отсюда авторское вопрошание – вариация гоголевского мотива о птице-тройке: «Кто сидел в этих машинах? Откуда они мчались и куда? В ад, в рай, на край света? На свидание с Мессией, чтобы каяться и молиться о спасении души?» (24). Но если гоголевская тройка «мчится вся, вдохновенная Богом» и слышит «с вышины знакомую песню», то безостановочный поток машин в современной Москве отторгнут и от Бога и от неба. Бондарев, как и Гоголь вопрошает, что «значит это наводящее ужас движение». Если Гоголь различает в этом движении «божье чудо», то Бондарев фиксирует человечества. тотальное Лакированность богоотступничество машин, витрин, современного нарядов, причесок монолитность и помпезность технических новшеств резко контрастируют в романе Бондарева со всеобщей разобщенностью и враждебностью. С болезненным и гнетущим чувством главный герой романа Максимов замечает бесчисленные воинственной факты заносчивости, демонстративного жажду опрокинуть самоутверждения, ближнего своего, восторжествовать над ним. Все это характерно и для случайных соприкосновений между людьми и распространяется на служебные и групповые отношения. О масштабах и глубине раскола в государстве, обществе, семье рассуждает Максимов: «Если бы он инкогнито пришел во второй раз и увидел бы адское зрелище, ужасающий человеческий театр.(…) Был бы ошеломлен невиданной завистью, породившей всеобщую вражду, неисчислимыми убийствами, кровью, коварной клеветой, корыстью, насилием и т.п.» (67) Ю.Бондарев превосходно уловил, что в переломный исторический момент русская интеллигенция не мыслит себя без правильной теории жизни. Писатель подтвердил прозрения великих предшественников, что достоинства и одновременно изъяны русского самосознания заключаются в непреклонной вере в историческую миссию России, в особую духовность русского народа. Исторические перемены сдвигают героев с привычных позиций. Прежние идеалы и представления не согласуются с основным массивом современных реалий и главенствующей логикой современного бытия. Жизнь подталкивает героев к переоценке ценностей, к новому пониманию народа и личности, к поиску новых каналов влияния на окружающих людей и на мир в целом. Ссылки и примечания 1. Бондарев Ю.В. Мгновения. Бермудский треугольник. М., ИТРК, 2001 (с. 620). 2. Там же, с.745. 3. Кириллов И. Вечное возвращение.- Завтра, 2005 , №2. 4. Бондарев Ю. В. Без милосердия. Роман.- М.; ИТРК,2004. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте. Феномен и концепция человека в романе Солженицына «Раковый корпус» ГАВРИЛОВ В.А. (Москва) Статья опубликована в сб.: Вопросы языка и литературы в современных исследованиях, Москва-Ярославль, изд. Ремдер,2010. С. 436-442, 0,5 п.л. Изображая в романе «Раковый корпус» эпоху жестокого политического диктата, социальных регламентаций, бесцеремонного вмешательства государства в частную жизнь людей, Солженицын стремится отыскать как идейные, так и органические, коренящиеся в первородной сущности человека противовесы, надругательством над личностью и народом. Если советская идеология не различала в полярных ей позициях никакой эстетики и никакой этики, то сама она и породила ответ А.Солженицына, который не различает в ней ни эстетики, ни этики. Согласно А.Солженицыну, идеологическая диктатура преобразилась в естественную норму поведения и мышления лишь немногих советских людей. Неистребимость естественных мотивов поведения особенно наглядно проявляется в ситуации болезни. Основополагающие векторы человеческой психологии предстают в этом состоянии с наибольшей полнотой и убедительностью. В книге Солженицына, по справедливому суждению Л. Даниленко «нет крупных событий; действие протекает в одном месте - раковом корпусе; почти нет смены декораций. Нет и единого сюжета, который стягивал бы всё происходящее в единый узел. Судьбы героев не пересекаются, а проходят как бы параллельно. Взаимодействие персонажей происходит лишь в духовной сфере.»1 Исследуя воздействие социальных обстоятельств на личность человека, А.Солженицын использует богатейший опыт классической русской литературы Х1Х века. Изображая социалистическую действительность в романе «Раковый корпус» он показывает, как многие ее сущностные особенности препятствуют полноте нравственного развития, ущемляют свободную жизнедеятельность человека. В недрах советского общества подобные результаты формировались, по А.Солженицыну, как стихийно, так и системой особых организационных мер, преднамеренно. Стихийные проявления системных нравственных пороков писатель усматривает в любовной культуре, а точнее бескультурье, советской молодежи. Вспоминая о своем любовном опыте, медсестра Зоя, студентка мединститута, обескуражена безответственностью своих мимолетных избранников. Она догадывается, что даже штамп в паспорте не гарантирует ей надежного супружества. А.Солженицын убежден, что официальная моральная пропаганда не затрагивает душевных импульсов молодежи. Религия не замещена чем-то эффективным и пригодным для внушения молодежи подлинных идеалов. Образцы любовной безупречности писатель отыскивает в среде ссыльных, заключенных, чьи позиции сформировались вне магистрального воздействия господствующей идеологии (семья Кадминых, Олег Костоглотов и его любимая девушка, семья Федерау). В то же время, акцентируя порядочность и благородство Олега Костоглотова, писатель не склонен к идеализации. Любимая девушка, которая вместе с Олегом была арестована за участие в кружке инакомыслящих ленинградских студентов, по предположениям героя, либо погибла, либо стала жертвой грязных домогательств бесчисленных лагерных мерзавцев. Это не становится центром душевных переживаний героя. А.Солженицын правдиво показывает жестокость и иной раз неизбежность отстранения от несчастных и поверженных даже близких им людей. Система подавления человеческой воли и самоуважения раскрывается Солженицыным, в частности, в стиле деятельности советского управленца Павла Николаевича Русанова. Возглавляя отдел кадров крупного предприятия, он убежден, что «на каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное, каждый человек в чем-нибудь виноват или что-нибудь утаивает…»2. Павел Николаевич обладает целым арсеналом взглядов, кивков, приветствий с заминкой, с холодком, с оттенком загадочности, которые ввергают человека в пучину сомнений и тревожности по поводу своих мнимых или действительных грехов. Русанов убежден, что его методы благотворно действуют на подчиненных и избавляют их от опрометчивых поступков. Скупые, малозаметные жесты начальника производят неотразимое действие на подчиненных, так как подкрепляются доносами и арестами. Сам Русанов донес на своего соседа инженера Родичева, после чего воспользовался его жилплощадью. А.Солженицын убедительно показывает, что за идеологической бескомпромиссностью Русанова скрывается грубый эгоистический интерес. Подозрительная и обвинительная советская идеология не пускает глубоких корней в душах солженицынских героев. Она служит в основном средством осуществления карьеры, сведения служебных счетов, для достижения сомнительных высот в творческой деятельности. Когда же корыстные апологеты этой идеологии попадают в опасную ситуацию, они начинают апеллировать к вековечным ценностям. Процесс реабилитации несправедливо осужденных Русанов с дочерью оценивают не с точки зрения устойчивости государства и авторитета партии, а с точки зрения личного спокойствия и благополучия. Авиета категорически заявляет: «Ну, если уж так вам приспичило – так реабилитируйте, но без очных ставок! Но не треплите же нервы людям!…» (221). Приверженность советской идеологии не ведет к духовному наполнению личности, а делает ее, по Солженицыну, нравственно ущербной, морально нечистоплотной, беспомощной перед собственными инстинктами. Русанов, гордившийся своей верностью партии, еще никем не обвиненный, жалко оправдывается: «Не я один это делал! Почему вы судите именно меня? А кто этого не делал?…» (171). Авиета, которая переняла от отца штампованные пропагандистские фразы, пробивает стихотворный сборник в печать с помощью связей, телефонных звонков и записок. А.Солженицын стремится четко измерить соотношение духовных запросов человека и его материально-биологических потребностей. Не случайно в этой связи пристальное внимание к профессии и этике врача. Раскрывая характеры хирурга Донцовой и ее коллег, А.Солженицын подчеркивает первенство духовных мотивировок в их позиции и поведении. С едкой иронией рисует А.Солженицын картины грубого административного вмешательства сверху в деятельность врачей. Стремление властей навести порядок и поставить на место людей с достоинством не исключает и уголовного преследования там, где требуется научная экспертиза. Писатель различает в нашей жизни много такого, где безотчетно, стихийно складывается превосходство материального над духовным. С досадой и сожалением размышляет об этом замечательный диагност физических и духовных недугов Вера Гангарт: «А просто с годами мы тупеем. Устаем. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности. Мы сдаем их времени. Вот поглощать всякий день еду и облизывать пальцы – на этом мы неуступчивы…» (270). Но проблема эта решается Солженицыным отнюдь не прямолинейно, как может показаться по последней цитате. В каком-то смысле первородные, изначальные биологические импульсы составляют фундамент всех духовных обретений человечества. Больной Костоглотов изобретательно избегает гормональных уколов, ускоряющих исцеление от рака. Дело в том, что действие этих гормонов носит перекрестный характер: мужчинам дают дозы женских гормонов и наоборот. При этом угасает половое влечение, а вместе с тем рушится вся энергия человеческой личности. С трудом добравшись до Ташкента, изнемогая от смертельной болезни, Костоглотов мечтает попасть в оперный театр и посмотреть любимый спектакль. Болезнь не разрушает в нем высших духовных запросов. Но он уверен, что при потере либидо наступит полное опустошение. И недаром к этому больному, да вдобавок еще ссыльному, испытывают любовное влечение и практичная Зоя, и романтическая Вера Гангарт. Костоглотов сохранил способность к жизненной инициативе, к здоровой авантюре, к живительной любовной игре. Эта бодрость и энергия духа, питаемые любовными надеждами, помогают ему азартно и изобретательно бороться за свое здоровье, по крохам добывать информацию у вечно занятых врачей. А.Солженицын настойчиво убеждает, что оптимизм и воля к жизни у человека имеют не идеологическую и доктринальную природу, а более конкретную, земную. Этот оптимизм извлекается из отношений с близкими, родными, любимыми. Даже идеологически зашоренного Русанова, в конечном счете, ободряет поддержка жены и дочери, а не радужные исторические перспективы. Непосредственные отношения людей заключают в себе гораздо больше энергии и смысла, чем отношения к идеям и к персонифицированному в вождях смыслу эпохи. Например, из отношений юного Демки к дерзкой и разбитной Асе Солженицын исключает компонент примитивной и прямолинейной моральной оценки. Тело и душа Аси полны жизненного огня. Все это с невероятной силой ощущает Демка, целуя грудь Аси, обреченную на ампутацию. А.Солженицын в «Раковом корпусе» пытается устранить зияющую брешь, которую в сфере эротики преднамеренно образовала советская идеология. Герои романа это не выхолощенные советские праведники, а люди с нормальными эротическими влечениями. А.Солженицын размышляет в романе о болезни как о переходе человека от социальных к органическим параметрам существования. Он обнажает то, чего редко касалась советская литература или преподносила в духе оптимистической трагедии. Хирург-онколог Донцова сама заболевает раком. Ее социальный и профессиональный статус вселяет в нее решительность и уверенность в себе. Но этого оказывается недостаточно перед смертельной болезнью. Солженицын пишет, что ранее упорядоченный для Донцовой мир рухнул, «и вдруг в несколько дней ее собственное тело вывалилось из этой стройной системы, ударилось о жесткую землю и оказалось беззащитным мешком…» (343). Человек науки с мужественным сердцем перед лицом смерти может сохранить присутствие духа, как Вадим Зацырко. Но дар выздоровления из безнадежно больных заслуживает в романе один Костоглотов Олег. Костоглотов – наиболее мыслящий и чувствующий персонаж романа. Он отвергает абстрактные идеи и оценивает живые факты, насущную логику бытия. Его устами Солженицын затрагивает чрезвычайно рискованную тему блокады Ленинграда, которая откристаллизовалась, казалось бы, в исчерпывающих формулировках. Костоглотов обвиняет в бесчисленных жертвах не только Гитлера, а и безответственных и бездарных тогдашних руководителей. Персонаж, выломившийся из советской системы координат, преподносится как наиболее духовно проницательный и справедливый. Социальный и биологический детерминизм в романе Солженицына многонаправленно взаимодействуют. Социальные факторы часто препятствуют полноте и свободе человеческого бытия. Природные факторы при их свободном развертывании, наоборот, способствуют полноте личностной самореализации. Персонажам с советской духовностью при встрече с болезнью и смертью недостает внутреннего самообладания. Религиозный фактор жизнестойкости Солженицын представляет как благодатный, драгоценный, но переставший быть серьезным условием жизни и судьбы советских людей. Примечания. 1. Лариса Даниленко «Урок Александра Солженицына. Размышление о его повести "Раковый корпус"» Литературно-критический журнал Литературная учеба №6, 2008 г., Москва 2. Солженицын А.И. Раковый корпус, - Собр.соч. в М.,1991,с.151.Далее ссылки на это издание даются в тексте. «Шагать по негаснущим звездам» Гаврилов В.А. Учебное пособие 7 т. – т.4.- (о романе Ю.Бондарева «Бермудский треугольник») Опубликовано : Москва, Издательство «Таганка», 2006, 2,5 п.л. Художественные, познавательные и идейные достоинства романа «Бермудский треугольник» (1995-1999) делают его замечательным образцом реалистического искусства конца ХХ века. Ю.Бондарев изображает своих героев в момент исторического катаклизма 90-х годов. Духовная проницательность и художественное мастерство позволяют писателю раскрыть мировоззренческое размежевание среди наших соотечественников и выбор ими политических и моральных ориентиров. Одни герои романа ведут напряженный поиск истины и справедливости, другие пытаются занять в этой жизни комфортное и престижное положение. Однако бондаревский «отпечаток» заметен на каждом из них. Независимо от личного выбора каждый из них старается познать себя, осмыслить происходящее и дать ему оценку и тем самым обосновать собственную позицию. Не все мировоззренческие столкновения персонажей находят отражение в событийном ряду романа. Но все они органичны для романа, в котором затронуты самые болевые проблемы недавнего прошлого, сохраняющие животрепещущее значение для нашей современности. Участники исторических событий. Изображенные Бондаревым, отличаются эстетической подлинностью и многогранностью. События 1993 года представлены во всем их драматизме, полноте и величии. Реальная трагедия эпохи находит подтверждение в трагедийном повествовании. В романе Бондарева с громадной поэтической силой и выразительностью обнажена проблематика целой эпохи, в нем утверждается, что высокие устремления человека не уничтожатся стихийными силами истории. Духовная энергия человека призвана превозмочь разрушительные последствия исторических катаклизмов. В предлагаемом пособии развернут многоаспектный анализ проблематики и поэтики романа «Бермудский треугольник», установлена его связь с произведениями русской литературы, авторы которых постигали феномен национальной катастрофы. Пособие поможет студенту-заочнику сориентироваться в особенностях и логике литературного процесса конца ХХ столетия. 1. Проблема национальной катастрофы в романе. Название романа – «Бермудский треугольник» – указывает на некий социально-исторический феномен, истребляющий все, что оказывается в зоне его влияния. Но если губительные процессы в географическом бермудском треугольнике таинственны и непознанны, то разрушительные силы, обусловившие скольжение России по наклонной плоскости или ее свободное падение в 90-е годы, Ю. Бондаревым внятно обозначены и художественно исследованы. Вместе с тем писатель стремится отыскать противовесы, которые воспрепятствуют движению страны от катастрофы к гибели, а затем обеспечат ее возрождение. Над проблематикой национальной катастрофы напряженно размышляли многие русские писатели, поскольку наша страна не раз оказывалась на краю гибели. Эта проблема крайне важна для Пушкина в трагедии «Борис Годунов», для Достоевского в романе «Бесы», для А.Толстого в романе «Петр Первый». «Бермудский треугольник» может быть отнюдь не искусственно сопоставлен с этими произведениями. Знаменательна типологическая близость центрального героя «Бесов» Николая Ставрогина и бондаревского Тимура Спирина. Их нравственное крушение, их физическая гибель объясняются не только психологически, но и социально-исторически. Ставрогин убежден, что русский человек не может быть атеистом, русский призван быть православным. Спирин, побывавший в Афганистане, рассуждает о необходимости веры, придает некое мистическое значение имени своей жены Веры. Оба героя отличаются необыкновенной физической силой и энергией. Ставрогин примеряет на себя роль вождя. Спирин дорожит великим статусом нашей страны, тяжело переживет утрату державного величия. Достоевский с иронией изображает государство, представленное такими карикатурными функционерами как губернатор фон Лембке, абсолютно лишенными всякой притягательной силы для крупных личностей вроде Ставрогина. В 80-е годы волевой и силовой потенциал Спирина пригодился в Афгагистане, где наше государство смело отстаивать свои приоритеты, а в 90-е годы Спирин становится абсолютным циником не в последнюю очередь из-за презрения к немощи государственно-политических структур ельцинской России. Из невозможности реализовать себя открыто, официально и Ставрогин и Спирин соскальзывают к конспиративным, подпольным формам деятельности, к которым впоследствии также начинают испытывать отвращение. Оба героя проникнуты предчувствием смерти и тоской по ней, оба пускаются в изощренные и чудовищные авантюры, которые нельзя объяснить и оправдать никакими личными интересами и выгодами. Ставрогин совершает кражу денег у своего квартирного хозяина, Спирин участвует в хищении картин у своего университетского друга. Ставрогин доводит до самоубийства соблазненную им девочку, а затем с жадным любопытством наблюдает за ее самоказнью. Спирин у стен Белого дома в октябре 1993 года с изуверским сладострастием расправляется с 14 летним казачонком, методично дробя ему пистолетными выстрелами кости обеих рук, а затем обеих ног, как бы четвертуя казачонка. В обоих случаях очевидны чрезмерность злодейства, некий экспериментальный характер жестокости, опыт самоиспытания предельной подлостью. Помимо личного своевольства героев, мы усматриваем здесь и реакцию на обилие зла в мире, злобное доведение принципа зла до кошмарного абсолюта. И Ставрогин, и Спирин способны на мировоззренческую исповедь, завершающуюся взрывом ненависти к исповеднику (монаху Тихону, журналисту Демидову). Следует подчеркнуть, что в деморализации и цинизме Ставрогина первенствует личная инициатива, а у Спирина - социальноисторические параметры катастрофической эпохи. Размышляя о типологических общностях Ю.Бондарева и Ф.Достоевского, обратим внимание на тон отчаявшегося праведника и обличителя зла, в котором Спирин в финале романа исповедуется перед Андреем Демидовым. Злодей Спирин клеймит коммунистов за предательство идеалов, подобно тому, как убийца Раскольников обрушивается на Лужина за пристрастие того к принципу личной выгоды: а ведь этот принцип потенциально содержит в себе стимул к убийству конкурентов. Напрашивается также сравнение разбойника Федьки из «Бесов» с бондаревскими ментами, изображенными в первых главах «Бермудского треугольника». Достоевский наблюдает над усилиями своих героев сокрушить государство, у Бондарева эти усилия увенчиваются успехом. Легкомысленные ликвидаторы существующего государства у Достоевского стараются оправдать себя благими целями. Отпетые подонки из милиции, «зачищающие» советскую власть у Бондарева, действуют как одичавшие уголовники. Даже «легких» мыслей у этих негодяев нет, остались лишь первобытные инстинкты. Энергия действия «революционеров» Достоевского направлена на убийство Шатова, вполне достойного человека. Она возбуждена лживыми провокационными уверениями Петра Степановича Верховенского об угрозе доноса, исходящей от Шатова. «Менты» в «Бермудском тругольнике» в угаре остервенения расправляются со следователем Серегиным, поражающим нравственной силой и духовной красотой. Они едва не убивают и журналиста Андрея Демидова, отважившегося вступиться за Серегина. Энергия действия этих негодяев возбуждена лживыми провокационными уверениями об истреблении милиционеров снайперами из числа защитников Белого дома, тогда как на самом деле стрельба по милиционерам производилась таинственными снайперами с крыши американского посольства. Феномены политической провокации, всевозможных фальсификаций и подтасовок как симптомы национальной катастрофы изображены Пушкиным в «Борисе Годунове» и А.Толстым в «Петре Первом». Борис Годунов внушает народу чувство растерянности по поводу мнимого безвластия, склоняя народ к уговорам и мольбам не оставить его без царственного попечения, что позволяет Годунову скрыть свою причастность к убийству законного престолонаследника Дмитрия. Самозванство Гришки Отрепьева представляется Пушкиным как грандиозная манипуляция народным мнением. Борис Годунов и Гришка становятся жертвами своих манипуляций: распознав их хитрости, народ отшатывается от них. Претерпевают пушкинские герои и внутреннюю кару: их терзает больная совесть. Гришка предвидит будущую площадную казнь: «падая стремглав, пробуждается» он в своих кошмарах. Злоупотребив простодушием народа, Годунов с отчаянием убеждается, что уязвленная доверчивость людей превращается в фатальную недоверчивость: все благие начинания царя перетолковываются народом как черные замыслы и козни. Годунов с запозданием прозрел, что если на совести «единое пятно, единое случайно завелося, тогда беда, как язвой моровою душа сгорит, нальется сердце ядом». Бондаревским манипуляторам и провокаторам несть числа. В сравнении с эпохой Годунова к концу ХХ века эта порода размножилась неимоверно, имя ей – легион. Бондарев показывает, как в ельцинской Москве на первые роли выдвигаются витрина, реклама, этикетка, красочная упаковка. Кардинально меняется статус прессы. Центральный герой романа Егор Александрович Демидов имеет много оснований подозревать журналистов в следовании принципу: пусть гибнет мир, но пресса торжествует. Наименования вещей отделяются от их сущности, искусственно созданные репутации - от подлинных личностей. Пушкинские герои, для захвата власти прибегая к политиканству и лжи, не порывают с реальностью, возвращаются к ней, не превращают ложь в самостоятельную и главную сферу жизни. Одни наши современники в «Бермудском треугольнике» изобретают фикции и призраки (политиканы, журналисты, артисты, мошенники и аферисты вроде Виктора Викторовича Парусова), а другие наши соплеменники с увлечением и азартом хватаются за эти призраки и фикции. Ю.Бондарев убежден, что за согласием на подмену жизни фикциями с немалой долей вероятности следует уступчивость перед наркотическими соблазнами. Подмена жизни глумливым действам, непристойным балаганам, «фразами циничной издевки», «угарным юмором» представлена в романе Ю.Бондарева в исполнении разных социальных групп нашего общества. Жестокие милицейские упражнения в суперменстве в духе американских боевиков исключают чутье правдою, к которой призывает карателей излучающий духовное достоинство Серегин. Милицейский капитан в первой главе романа актерствует, прокурорски обвиняя депутата трезвенника в непотребном опъянении. Он же режиссирует все действо, поправляя, например, недалекого сержанта, назвавшего задержанных предателями. «Предатели России,» - корректирует он реплику сержанта. С особым упоением издевается над задержанными белокурый лейтенант Кустенко с ослепительной, «неисчезающей улыбкой», которая напоминает писателю «замороженную улыбку какого-то американского киноактера» (521).1 Изображены в романе Бондарева и утонченные варианты суррогатной, фальшивой жизни. Школьная выпускница Таня Ромашина ослеплена перспективой стать фотомоделью и танцовщицей в Италии. Однако сеньор Петиньи и его российский подручный изящный до женственности Виктор Викторович Парусов готовит ее и ей подобных для совершенно иного поприща. Милицейский капитан с его прической «взять взаймы», лейтенант Кустенко, копирующий американского киноактера, Парусов, чье призвание исполнять женские роли – все это вариации призрачности и маскарадности. Контрастна им мощная фигура Егора Александровича Демидова, напоминающего то богатыря, то молотобойца, то священника. Без этих связей для писателя немыслима личность его центрального героя. Всякой условности и игре Демидов противопоставляет безусловность истории и искусства. Его любимые скульптуры изображают Петра, Бондарев Ю.В. Мгновения. Бермудский треугольник. Москва, ИТРК, 2001 (с. 521). Далее ссылки на это издание даются в тексте. 1 Достоевского, Жукова, Королева и призваны проникнуть в логику истории и сущность национального духа. Игра и провокация связаны с ситуацией национальной катастрофы и в романе «Петр Первый» А.Толстого. Однако комедиантство Петра предназначено для профанации поношения отживших форм социального бытия. Непрерывные издёвки Петра над боярами и византийским величием политически заострены, направлены на возбуждение новой политической энергии. Комедианты и лицедеи Бондарева равнодушны к политике. Таковы милиционеры, ернически повторяющие зады либеральной пропаганды, а озабочены лишь шестью долларами в час за свою грязную работу. Таков актер Афанасий Жарков, который под предлогом борьбы с примитивной идеологией и лозунгами радуется репертуару беспартийных ограничений, включающему спектакль про лесбиянок. Под девизом «нельзя, чтобы все в жизни было заслонено тенью политики» (610), он участвует в порнографической версии спектакля по Гоголевской «Женитьбе», где ходит по сцене с расстегнутой ширинкой. Он упрекает своих университетских товарищей, встревоженных катастрофической ситуацией в России, в том, что «они протухли политикой» (612). Профессиональный лицедей Жарков, исполняющий сомнительные роли в порнографических спектаклях, эстетически концептуально сближается Бондаревым с лицедействующими любителями из милицейского балагана. Когда жуткая сцена в милицейском застенке завершается, и капитан велит выбросить где-нибудь на помойке депутата, ветерана и девушку, то один из ментов спрашивает: «Дай нам малость нижним документом поиграть в сахарнице, не даром мы у тебя за демократию потеем». (527). Жарков, живописуя геройство своего режиссера, избившего врача скорой помощи за опоздание, объясняет его безнаказанность тем, что милиционеры охотно посещают по контрамаркам спектакли их прогрессивного театра, приветствующего демократические реформы. Бондарев подчеркивает, что и среди милицейских, и среди театральных лицедеев главенствует клановый приказ, клановая санкция. «Вы покорные ребята, театральные рабы»(615), - клеймит Тимур Спирин Жаркова и его компанию. Как видно, той же аттестации заслуживает и корпорации милиционеров. Таким образом, феномены игры и комедиантства у Бондарева и А. Толстого разнофункциональны. Комедиантство Петра расширяет жизнь, уничтожает боярскую клановость, ерничество бондаревских антигероев сокращает жизнь, возводит клановые перегородки. Когда Петр играет роль мастерового в Голландии, он признает достоинство и самоценность той жизни, которой подражает. Когда бондаревские менты играют роль демократических центурионов, а актеры – роль либеральных провозвестников, то ими владеет цинизм и презрение. Петровское вхождение в Европу и петровское втаскивание Европы в Россию было трагедией, а, следовательно, заключали громадный созидательный потенциал, а либеральнодемократический восторг перед западом явно отдает фарсом, что и показали А. Толстой т Ю.Бондарев соответственно. Состояние катастрофы изображено в «Бермудском треугольнике» многопланово. Оно воплощается в символических картинах, относящихся к октябрьским событиям 1993 года, в которых с необычайной выразительностью и силой совмещаются конкретные детали и глубинные смысловые акценты. Концептуальным и эстетическим центром романа стала картина художника Демидова «Катастрофа», в которой воплощены характерные для 90-х годов настроения тоски и отчаяния. Ю.Бондарев показывает, как пошлость, жестокость, одичание, суррогаты и фикции теснят здоровые начала жизни. Ю.Бондарев с незаурядной художественной и интеллектуальной отчетливостью различает следующие векторы катастрофы. Во-первых, происходит отпадение людей от поверженных ценностей прошлого, эти ценности фальсифицируются, извращаются, переименовываются с целью их пропагандистского развенчания («комуннофашистский» мятеж, «красно-коричневая» угроза, - цитируются громогласные изречения Гайдара). Во-вторых, иссякает и рушится специфический и нравственный императив народа, который в русском культурном сознании возбуждал энергию долга и служения, убеждал в осмысленности жизни. В-третьих, Бондарев показывает, как в левопатриотическом, и в особенности либерально- демократическом лагере нарастают примитивная и напрасная досада, всевозможные сожаления о том, что у России именно такая история, как есть (вспомним волевое и смелое нежелание Пушкина иметь другую историю своей страны, чем та, которая состоялась). Вчетвертых, ситуация смыслоутрат и поверженных ценностей подрывает прочность дружеских, родственных, семейных уз и связей. Ю.Бондарев убежден, что пережитое и испытанное его героем Андреем Демидовым у стен Белого дома в октябре 1993 года должно войти в исторический опыт современного читателя. Журналиста долго не оставляет мучительное воспоминание о потерявшемся в одном из арбатских переулков пятилетнем мальчике, принявшем Андрея за отца и умолявшим не бросать его, и обещавшем, чтобы не быть обременительным, мало есть. Это воспоминание-сновидение символически воплощает настроение абсурда, смятения, отчаяния и бессилия, охватившее многих мыслящих людей в октябре 1993 года. Демидов видит «в отчаянной мольбе залитые слезами глаза мальчика. Он кричал, захлебываясь: «Папа, папа, возьми меня с собой, я мало ем, тебе не будет со мной трудно» (588). Андрей плакал вместе с мальчиком и когда это было наяву, и когда он снова переживает это теперь во сне. Как и герой, писатель переживает то, что мир поврежден, нравственные опоры расшатаны, духовная атмосфера отравлена. От бесприютности, осиротелости, брошенности страдает едва ли не большинство персонажей «Бермудского треугольника». В этой художественной констатации один из лейтмотивов романа. Крайне важно, что в сновидении-воспоминании мальчик выбирается из пестрой толпы самодовольных гостей художника Демидова, среди которых выделяется импозантный американец Хейт. Мальчика обездолили не только 1993 год, но и продолжают обездоливать эти эгоистичные, суетливые хозяева жизни. От этого несчастного мальчика протягивается смысловая и эстетическая линия к заблудшей и покинутой Тане Ромашиной. Бондарев настойчиво и убедительно стремится придать кровавым событиям 1993 года глобальный, вселенский смысл. Он пишет: «Было похоже, что горел крест, и внезапно послышался женский рыдающий голос в толпе: «Голгофа! Вот оно – Распятие, Господи!»(589). Если последовательно толковать этот образ-символ, то надо признать в нем не только значение катастрофы, но и значение воззвания к людям о спасении, об освобождении от греховности и жестокости. Ю.Бондарев снова и снова возвращается в романе к символике Христова Распятия, То, что Андрей Демидов наблюдал воочию, его дед с художнической проницательностью воспроизвел на своем полотне «Баррикады». Художник изобразил на этой картине «горящий Белый дом, из окон которого вверх и в стороны черным траурным распятием расползался дым, и сквозь него просвечивало что-то белое, еле уловимое, скорбное, как туманный лик Христа» (589). Бондареву представляется, что человеческая жестокость и недомыслие в очередной раз пригвождают Бога к кресту. Атмосфера фатального трагизма бытия воплощена и в самой заветной картине Демидова - «Катастрофа». Мужчина и женщина, представляющие человеческий род, задавлены исполинским грузовиком цивилизации. Картина пугает чувством обреченности, внушенным Демидову событиями и обстоятельствами 90-х годов. Жизнь и природа отступают перед напором техники. Демидов гордится тем, что «одержимо шел всю жизнь по негаснущим звездам» тогда как у большинства людей «перед носом урбанистическая цивилизация, критинизм, власть денег» «искушение слабеньких человеков». Образ скорбного расстреливаемого Христа нужен Бондареву, чтобы символически возразить пророчествам мистера Хейта, предсказывающего, что Святая Русь окончательно выветрится у нас и на ее месте воцарятся западная демократия и комфорт. Бондарев и его любимые герои верят, что человек, прежде всего существо духовное, а красота и искусство безгрешны. Писатель показывает в своем романе различные варианты и разные стадии отпадения от традиционных ценностей, выработанных нашим народом, как советских, так и христианских. Роман начинается и заканчивается тревожными, пугающими картинами такого отпадения. В первой главе изображены разнузданные, озверевшие менты и омоновцы во власти первобытных инстинктов агрессии и похоти. В финале романа читателя ждет новое гнетущее впечатление. Стерильный, рафинированный врач нарколог Бальмонт Суханов, человек без страстей и идеалов, абсолютно свободный от малейшего благоговения перед феноменом жизни, лечащий наркоманов наподобие того, как техник производит ремонт машины. Символичен ответ Суханова, отрицающего не только родство, но и общность фамилии с знаменитым поэтом. Компьютерный «Бальмонт Суханов», читающий только криминальную хронику и специальную литературу, живущий совершенно процедурно, составляет резкий контраст с Егором Демидовым, страстным, пламенным, мятежным, который всю жизнь «пахал и облака, и землю». При внешней полярности респектабельного Бальмонта и брутальных омоновцев в них очевидна общая основа – безыдеальность, безыдейность. Бондарев убежден, что в 90-е годы энергия и воля власти были направлены к повреждению и растлению морального сознания общества. Власть усердно демонизировала своих противников, представляла их в виде тупиц и негодяев. Писатель прибегает к такой композиционной мотивировке включения в роман наиболее репрезентативных высказываний тогдашних властителей, как журналистские записи Андрея Демидова. Особенно кощунственны и пошлы в контексте художественной логики романа слова тогдашнего председателя Совета Федерации Шумейко: «Справедливость, правда – все это библейские понятия, их нет и не будет» (550). Надо отметить, что в романе даны язвительные сатирические характеристики и отнюдь не в жанре дружеского шаржа на некоторых активистов демократических преобразований. Пошлость, самореклама, полная утрата духовной русскости - вот их отличительные черты. В романе ведется напряженная полемика о степени вины и ответственности русского народа за национальную трагедию конца ХХ века. «Потерял уважение народ-то наш, измельчал, оравнодушил. Кому загадочное славянское многотерпение нужно?» - горестно размышляет художник Демидов (506). «При слове народ не истекай любвеобильными слезами квасного вкуса. Надо быть реалистом и согласиться, что уже нет русской нации, какой мы ее воображаем. За десять лет ее растлили, развратили» (611), - говорит университетским товарищам писатель-патриот Мишин, рискуя навлечь на себя обвинения в русофобстве. Демидов и Мишин осуждают народ за ребяческую доверчивость, за легкомысленные надежды на какое-то немедленное улучшение жизни, благодаря заграничным благодетелям. Демидов укоряет народ за апатию и смирение, Мишин не прощает народу самоубийственных, предательских шагов, вроде знаменитых шахтерских забастовок. Оба угнетены неспособностью народа на историческую инициативу и самодеятельность. Народ раздробился на группы, не объединенные друг с другом и не спаянные внутри. Егор Демидов и Станислав Мишин тоскуют по герою богатырю, тоскуют по народному единству. Раздробленный, дезориентированный народ с расщепленным сознанием не создает условий для формирования национальной идеи, становится легкой добычей всевозможных пиарщиков и политтехнологов, что проницательно обозначено Бондаревым уже в 90-е годы в его романе «Бермудский треугольник». «В обществе без единства не может быть национальной журналистики», (617) – выражает мысль автора его герой Мишин. Представление писателя о растлении народа, об угасании его духа, о его неспособности к моральной инициативе и историческому творчеству объясняет отсутствие в романе с проблематикой национальной катастрофы коренного типа из народной толщи. В споре университетских друзей о народе в пятой главе упоминается Платон Каратаев, оцениваемый журналистом Демидовым как толстовское заблуждение. Суть, однако, не в конкретных особенностях личности Каратаева, а в толстовской убежденности, что в отдельном человеке может концентрироваться все богатство и очарование народной души. Но не является ли аналогичным типом бондаревский Егор Демидов, который в одном из снов грезит себя кем-то вроде инока Пересвета. Демидов, бравируя, ставит себе в заслугу, что из него «прет ужасающая невоспитанность и плебейство» (584). Художник справедливо причисляет себя к славянской традиции. С некоторой досадой реагирует на демонстративную русскость деда его внук. «Зачем изображать из себя ой ты гой еси добра русского молодца», (584) – пеняет он Егору Александровичу. Между Каратаевым и Демидовым есть три существенных различия. Платон воплощает в себе норму, стихию, осуществляющуюся без усилий, без напряжения – бессознательно. Демидов отдает полный отчет в своих духовных предпосылках, отстаивает свои взгляды в острых столкновениях, как с недругами, так и со сторонниками. Каратаев – это всеобщность, природа, а Демидов – это гениальность, творчество. В поведении Каратаева акцентируется скромность и кротость, а в поведении Демидова – демонстративность и вызов. Платон Каратаев бесчисленными невидимыми нитями связан с окружающим, полон этими связями, погружен в настоящее. Демидов же страдает от одиночества и непонимания, для внутреннего равновесия он нуждается в моральной поддержке великих предшественников – Петра, Достоевского, Шолохова, Королева. Русскость Каратаева – почва счастья, русскость Демидова – это предпосылка трагедии. Русскость во времена Демидова не достигает стадии всеобщей нормы и стихии. Обида на доверчивость и опрометчивость народа переплетается в героях Бондарева с надеждой на народ. В своей обиде они утешаются надеждой, а несбывшиеся надежды снова порождают обиды. Ю.Бондарев внимательно наблюдает за подобными переходами в переживаниях и размышлениях героев. Интеллигентские обиды и надежды на народ в некотором смысле симметричны народным упованиям на доброго царя. Чрезмерные надежды граничат с чрезмерными разочарованиями и сожалениями. Результатом взаимных претензий народа и власти, народа и интеллигенции оказывается общественная апатия и безразличие. «И никто не верит ни во что, и никто не знает, что делать, поэтому хочется послать все подальше», (617) – в сердцах заявляет Андрей Демидов. Национальная катастрофа повреждает не только настоящее, но и прошлое. В прежних исторических деятелях начинает подозревать тайных обманщиков, не изобличенных преступников, вольных или невольных врагов надлежащего развития России. На предшественников обрушивается гнев и досада за современное неблагополучие, за неосуществленные надежды. Менты в первой главе бранят задержанных за якобы попытку тех «посадить на загривок им Ленина». Егор Демидов ставит в вину Белинскому личную трагедию Гоголя, считает, что критические оценки Белинского деформировали российское общественное сознание, что привело к роковым заблуждениям и ошибочному историческому выбору. Ю.Бондарев показывает, что особенно усердствует в переоценке ценностей либеральная интеллигенция вроде артиста Жаркова или самодовольного редактора эротического журнала, в представлениях которых советский период нашей истории – это чистейший абсурд и безобразие. Исказившаяся история, пошатнувшееся прошлое, по мысли писателя, не сулят нам надежного будущего. Но самое главное эти искажения и повреждения обессмысливают настоящее, причиняют ущерб даже далеко стоящим от них сферам жизни – любви, дружбе, родственным отношениям. 2.Человек разумный и человек рыночный. В «Бермудском треугольнике» есть два облика Москвы. Трагедия 1993 года передается контрастом черного и огненного, несовместимостью тесного, вонючего милицейского застенка и высокого неба, на фоне которого сквозь пламя и дым над Белым домом выступает еле уловимый образ Христа. Октябрьская Москва ассоциируется у Бондарева с ветхозаветными и библейскими трагедиями. В столице середины 90-х годов писателя отвращает наглая крикливость, бесстыдная балаганность. Октябрьскую Москву художник Демидов запечатлел на картине «Баррикады». Москва либеральная, как саркастически показывает Бондарев в начале шестой главы, наиболее органично отображается в вывесках и рекламах. В октябре, пусть и малое количество людей, сплотилось в общность, а теперь лицом Москвы стали иномарки, сплотившиеся «в железное стадо». Если на картине «Баррикады» свет и огонь излучают глаза демонстрантов, то теперь, в ельцинской России, огонь и свет – это «блики, изгибы, скачки надоедливого бега реклам» (621). «Все будто бы значилось русской заграницей с назойливостью вышколенных зазывал убеждающей в присутствии здесь Европы, которая таким же сверканием внешнего довольства, показной роскошью, зрелищной пресыщенностью обещает каждому из молчаливой, усталой, текущей по тротуарам толпы развлечения, удовольствия, легкую иностранную жизнь» (621). В четвертой главе писатель наблюдает за напряженной полемикой университетских товарищей Андрея Демидова, встревоженных судьбой России, а в пятой главе даны картины другой страны, суетливой рыночной Москвы. Человек разумный, ответственный сменяется человеком рыночным. Картины ресторанной и полуиностранной Москвы предваряются иронической фразой писателя Мишина, которой завершается четвертая глава: «Блажен лишь тот, кого удовлетворяет поверхность жизни» (620). Сам Мишин отнюдь не склонен воспользоваться этим рецептом. Подобная установка на жизнь проверяется в романе позициями и судьбами Тани Ромашиной и Тимура Спирина. Сразу же заметим, что оба приходят к плачевному финалу. Между тем оба слишком односторонне были нацелены на счастье и успех, пренебрегая иными жизненными ценностями и иными моральными императивами. Таня и Тимур обязывают себя быть современными. Этим самым они повинуются искусительному сигналу смутного времени. Желание принадлежать текущему моменту, быть встроенным в него кажется им дальновидным и гарантирующим жизненную победу. Оба избрали ультрамодные поприща: она собирается стать манекенщицей и танцовщицей, а Тимур возглавляет частное охранное предприятие «Гарантия». Оба с различной степенью снисходительности укоряют Андрея Демидова за идеализм и выпадение из настоящего. «Вы несовременный человек» (562), - с ласковым высокомерием отчитывает поклонника Таня. Задетый Андрей отвечает, что не собирается быть «демократической мартышкой». Обвинения Спирина агрессивны и враждебны, поскольку, обвиняя Андрея, он силится убедить себя в собственной правоте: «Ты человек несовременного склада, ты идеалист Х1Х века, наивный народник, потомок Дон-Кихота, ты – просто идиот московского разлива!» (745). Подобные мысли и оценки характерны для искусствоведаперекупщика Пескова, уличающего художника Демидова в ретроградстве, в попытках «сбыть залежалый товар», «уже съеденную яичницу». Пескову кажется, что Демидов отстал на сто лет и не понимает, в каком веке живет. Редактор эротического журнала предлагает Андрею Демидову освободиться от прошлого, уверяет, что с коммунизмом покончено навсегда. Таким образом, один из водоразделов, дифференцирующих персонажей «Бермудского треугольника» - это их отношение к истории и современности. Разрушение культурной и духовной преемственности, отпадение от традиционных устоев России – все это в различных вариациях связано с характерами и взглядами Тимура Спирина, Тани Ромашиной, Пескова, редактора и др. Приверженность традициям и их циническое ниспровержение – это одна из осевых линий, вокруг которых развертывается логика и эстетика бондаревского романа. Люди классических убеждений, как Егор Демидов, уверены в возможности бытия человека в трех измерениях: в природе, в искусстве, в бессмертии. Для людей, подвергшихся либеральнодемократической переделке, время сокращается, сужается, от него отсекаются вечность и история. «Я не помню, было ли вчера, я знаю, что есть настоящее, а завтра будет ничто, и на хрена предаваться иллюзиям» (745), - в исступлении провозглашает изверившийся Тимур Спирин. Он призывает Андрея Демидова избавиться от кантианского утопизма, отрезвиться от мечтательности. На первый взгляд, совершенно противоположное наставление адресует своему поклоннику Таня Ромашина. Она предлагает Андрею «заблудиться», жалеет, что у него нет «никаких заблуждений и никаких золотых снов» (558). Таня советует Андрею, чтобы тот обратился к прорицателю или астрологу и те предсказали бы ему счастливый поворот в судьбе, какую-нибудь жар-птицу, как пообещали ей самой. Таня воображает себя красавицей-королевой. Спирин определил себе место не среди слабаков, а среди победителей. Совпадают мнения Ромашиной и Спирина о том, что Андрей занят «дурацкой писаниной» (559). «Надо быть смекалистым, как говорят юмористы» (745), ернически наставляет приятеля Спирин. Прорицатели, астрологи, юмористы – это своеобразный пароль либеральнодемократической эпохи. Хотя Спирин призывает к освобождению от иллюзий, а Таня Ромашина к приобретению их, но в главном эти персонажи едины. Жизнь представляется Тане бессмысленным и скучным «храпом на конюшне» (558), а грезы нужны ей, чтобы заслониться от этого неприглядного зрелища. Спирин поясняет свои представления о российской жизни античным анекдотом. На разорванные струны лиры уселась цикада, и ее беспорядочные движения произвели безобразную какофонию. Россия, по мнению Спирина, и есть такая цикада. Чтобы вынести это безобразие, Спирину требуется не иллюзия, как Тане Ромашиной, а цинизм. Таня своей красотой, а Спирин своей силой надеются отвоевать в этом хищном мире комфортное место. Таким образом, наивность Тани и цинизм Спирина ведут к разрыву с национальной основой бытия. Спирин хотел бы отправить жену и дочь за границу. Он говорит: «Увез бы я их на Канарские острова, подальше, перестал я любить Русь святую» (743). Таня Ромашина, посвящая Андрея в свои мечтания, предлагает ему попробовать себя на поприще банкира, обзавестись «Мерседесом», отправиться на Багамские острова. Багамы и Канары – символ либеральной мечты, опиум золотой молодежи времен Ельцина. Жизненный и моральный выбор Тани Ромашиной и Спирина сопровождаются тягостными, болезненными переживаниями. Спирин осознает, что его позиция основана на «низости духа» (745), что он готов выживать в любом качестве. Чтобы оправдаться, он внушает себе, что Россия – это гниющий мусор, это оскаленные пасти хищников. Он цитирует четверостишия Хайяма, в которых провозглашается идея безысходной абсурдности бытия. В исступленных нападках на бесхребетность коммунистических «партейцев», на безмозглость и продажность новой генерации политиков, в стенаниях Спирина по поводу падения державы Бондарев различает некий шкурный интерес: всеобщая подлость и убожество как бы освобождают Спирина от любых моральных обязательств. Критика Спирина по тематике и пафосу сильно напоминает инвективы Егора Демидова, но вывод первого – гибель, а вывод второго – национальная катастрофа. Агрессивно-садистские выходки морально агонизирующего Спирина резко различаются с игриво-кокетливыми признаниями и воззваниями Тани Ромашиной, но есть очевидная общность в их позициях. Таня не налагает на себя никакой моральной дисциплины, так как 99 % мужского и женского населения планеты, по ее убеждению, эгоисты и негодяи. В Тане, как и в Спирине, причудливо совмещаются самообесценение и переоценка собственной личности. Он именует себя маршалом своего дела, а она мечтает о почестях королевы-красавицы. Мрачному спиринскому самобичеванию соответствует ее легковесная самоирония. Она называет себя птеродактелем, дикобразом, попугаихой в мини-юбке, веснушчатой каракатицей и др. Танино словесное шкодничество и остервенелая брань Спирина свидетельствуют о неспособности героев обзавестись гармонической самооценкой, свидетельствуют об их раздвоенности. Их отвращает то, что искушает; их искушает то, что отвращает. Спирин и Таня Ромашина соотнесены Бондаревым по многим пунктам. Чтобы занять выигрышные позиции в современном рыночном мире (танцовщицы и «рыцаря огня и кинжала» (744)), им приходится подвергнуть насилию собственные души. Есть у них знаменательное совпадение эстетических вкусов. Тане не нравятся «прилизанные, стильные мальчики» на экране и в жизни, а Спирин аттестует приверженцев новой эротической эстетики театральными плюгавцами. С инстинктивной проницательностью Таня уличает некоего солиста, который поет о синеглазке, «притворяясь влюбленным голубком», а на самом деле он «соблазнитель» и «бык». Таня обещает вышвырнуть за окно телевизор, рекламирующий стильных мальчиков, а Спирин с удовольствием избивает «преподавателя эстетики» Парусова, одного из таких мальчиков-соблазнителей. Ю.Бондарев постоянно акцентирует трогательную детскость Тани, которую она предает в себе ради модного поприща и модного статуса. Таня завораживает Андрея Демидова и читателей золотистыми искрами в своих пшеничных волосах, а Спирин тоскует по своей дочери, «маленькому беленькому существу, беззащитной инфузории» (744). Самопредательство Тани равноценно отцовскому предательству Спирина. Его монолог о беленькой инфузории в финале романа предваряется ощущением наступающей тьмы, небытия, фатального затягивания в гибельный Бермудский треугольник. Таня в финале романа видит сон, будто бы ее засыпают землей, и ей становится нестерпимо страшно и душно. А ведь заняв мнимовыигрышные позиции в этом жестоком рыночном мире, Таня и Спирин приобрели даже особую осанку и стать. Спирин, чувствуя в себе силу и принадлежность к силе, ведет себя с демонстративной медлительностью и наглым спокойствием. Ромашина в ресторане, не стыдясь слишком открытой одежды, обращается с Андреем и его приятелем Христофоровым с хвастливой фамильярностью, именуя их мальчиками. Это словопароль «мальчики», ранее неприятное ей, теперь звучит как сигнал о ее новом, престижном положении. Демидова также больно задевают нотки высокомерной официальности в ее речи. Нравственное падение Спирина сопровождается разрывом семейных и дружеских уз, а у Тани Ромашиной - опрометчивой жертвой нарождающегося любовного чувства. Вследствие этого герои утрачивают внутреннее равновесие: Спирин признает себя «живым трупом», а Таня «чувствует себя эгоисткой, развратной и гадкой». Выбор рыночной ориентации отравляет и душу, и интеллект. Спирин ненавидит Андрея Демидова, так как тот не признает необходимости жить по волчьим рыночным законам. Андрей, останься он даже в единственном числе, опровергает выбор Спирина. Пусть жизнь абсурдна, что наблюдает Спирин вокруг, и что вычитал он у Хайяма, но лучше остаться с человеческим достоинством, чем без него. Спирин заинтересован в том, чтобы все расстались с достоинством и верой. Андрей лишает его этого утешения, отсюда остервенение, отсюда ненависть ко всем, отсюда желание взорвать и демократов и их противников. Спирин уничтожил себя сам, выстрел Андрея лишь формально подтверждает это, логическое совпадает с фактическим. Мировосприятие Тани, очевидно, искажено. Когда Андрей вызволяет ее из притона, где она надеялась выучиться на манекенщицу, она бешено сопротивляется и смотрит на него с ненавистью. Когда Бальмонт-Суханов в наркологической клинике предлагает ей обратиться за помощью к родителям, то она с горячечной убежденностью заявляет, что родители ее ненавидят. Мать Тани способствовала, чтобы это убеждение созрело, но еще в большей степени оно сформировано ложью и непотребством того круга, в который добровольно вступила Ромашина. Сознание Тани, как и у Спирина, легко резонирует относительно феномена ненависти, а не любви. Ю.Бондарева интересуют не только нравственные последствия нашего вхождения в рыночную систему общественных отношений, но и люди, обладающие абсолютным иммунитетом перед рыночными соблазнами. Андрей Демидов после закрытия газеты вынужден подрабатывать извозом. Когда он берет деньги у клиентов, его охватывает чувство стыда и брезгливости. Его досада и замешательство еще больше возрастают, когда клиент вручает деньги с барственным пренебрежением хозяина к лакею. Российский капиталист требует за свои деньги не только услуги, но и удовольствие демонстрировать свою власть. Став после смерти деда наследником его картин, Андрей исключает для себя возможность каких-либо торгово-финансовых операций, к которым склоняет его перекупщик-искусствовед Песков. Подобное поведение героя может показаться, на первый взгляд, странным и искусственным. Нельзя же так обособляться от действительности, вдобавок имея нужду в деньгах для спасения гибнущей от наркозависимости Тани. Бондарев реалистически и сочувственно рисует здесь особый тип духовности, особый тип личности, не вступающий ни в какие компромиссы с рыночными реалиями. В системе идеологических и эстетических координат романа эта позиция не только определяет выбор героя, но относится к ядру авторской концепции. В антирыночном поведении Андрея Демидова и его деда есть демонстрация и вызов. Для художника Демидова невыносима мысль, что его картины превратятся в предмет торга, сделок, коммерческих спекуляций. Продавать картины в музеи и частным лицам он не против, но его оскорбляет вмешательство в этот процесс дельцов и спекулянтов. Заметив маневры американца Хейта, не скупящегося на улыбки и океи, Демидов предпочитает опрокинуть обозначившуюся коммерческую перспективу и дарит Хейту один из своих пейзажей – настоящий шедевр. Демидов считает постыдным принять рыночную логику и рыночную культуру американца. Он не может решать с американцем никаких частных вопросов, так как в его присутствии непрерывно ощущает противоположность русской духовности и западного торгашества. Не различает он в Хейте и признаков частного лица, а только представителя Америки, которого вызывает на гимнастическое состязание. Хейт, откликаясь на страстный напор оппонента, засучивает рукава. Ожесточенные нападки Демидова на критику и прессу объясняются тем, что они меняют свой статус и функциональность, превращаются в средства рекламы и пиара. Тем не менее, старший Демидов навлекает на себя упреки внука за уступки новой власти. Демидов берется за портреты новой политической знати, но рисует хозяев жизни, не льстя им. Он сообщает их лицам столько ума и благородства, сколько они заслужили, то есть очень мало. Отвечая на укоры своего кроткого друга Караваева и бескомпромиссного внука, художник заявляет, что не может жить так, будто его нет на свете. «Аз есмь», провозглашает он, уверенный, что никто не в силах его покорить. И Караваев, и внук подозревают, что Демидову мало уже обретенной славы, что он ищет признания новых властей. Защищаясь, художник сравнивает своих обличителей с Белинским, который, по его мнению, своим знаменитым памфлетом против Гоголя нанес едва ли не смертельную рану автору «Ревизора». Невозможность сокрушить врага, невозможность даже наносить ему ощутимые удары делает любимых героев Бондарева особенно строгими и взыскательными друг к другу. А в условиях поражения, невнятности обнадеживающих симптомов критика из дружеских уст особенно болезненна и горька. После объяснения с внуком, пытавшимся сделать назидательное внушение деду, Демидов тяжко страдает от одиночества. Если «что-то не то происходит на белом свете» (617), то болезнь распространяется, охватывая все новые зоны. Андрей страдает от бессилия и отчаяния, наблюдая, как повреждается и рушится былая дружба университетских товарищей. Любимую девушку уводят растлители. Верный товарищ оказывается омерзительным оборотнем. При общности духовных предпосылок и идеалов в целом позиции старшего и младшего Демидовых далеко не совпадают. Дед расценивает ситуацию в России как катастрофу, а внук скорее склоняется к констатации гибели. Дед убежден, что русский народ состоит из надежды и веры, а внук с фаталистической иронией припоминает чье-то философское изречение о том, что надежды – сны бодрствующих. Дед с олимпийской непреклонностью занимается творчеством, а внука беспорядочно швыряют бурные волны житейского моря, и он оказывается то в ресторане, то в редакции сомнительного эротического журнала, то наведывается ранним утром к хмельному приятелю. Недаром даже Таня Ромашина пеняет Андрею на неуместность его появления в фешенебельном ресторане. Старший Демидов гибче, многовалентней, многомерней своего внука. Роман «Бермудский треугольник» был завершен в 1999 году. Жизнь тогда не давала серьезного материала для каких-либо оптимистических прогнозов, обнадеживающих предвосхищений. Человек разумный и человек рыночный были тогда, конечно, по разным основаниям абсолютно враждебны друг другу. Этот антагонизм с безупречной честностью и громадной художественной выразительностью подтверждает Ю.Бондарев в своем романе. Любимые герои писателя стремятся отстоять и сберечь свою правду, несмотря на кажущуюся бессмысленность сопротивления. Одной из форм их самозащиты, а также средством нападения на самодовольную ложь становится ирония. Вместе с тем эта ирония свидетельствует о том, что расхождение между идеалом и реальностью слишком непоправимо, героям не под силу сузить разрыв между ними. 3. Мировоззренческие искания героев и их идеалы. В романе «Бермудский треугольник» Ю.Бондарев размышляет о социальных, нравственных и духовных процессах, развернувшихся в нашей стране в последнее десятилетие. Писателю представляется, что наша жизнь приняла уродливое, извращенное направление, что она развивается в режиме непоправимых утрат и катастроф. Автор старается выяснить, каковы предпосылки и факторы подобного исторического поворота. Он хочет разобраться, насколько этот поворот естесственен, и предрешен и насколько он искусственен и спроектирован враждебными силами. Писатель проверяет, непогрешим ли и функционален идеал, взращенный в лоне русской культуры. Он задается вопросом, не следует ли скорректировать идеал, включив в него новые параметры (например, динамизм, предприимчивость) и, напротив, снизить удельный вес традиционных элементов (чрезмерное русское морализаторство, моралистическая мнительность, доктринерство). Предприимчивый и энергичный Тимур Спирин в романе Ю.Бондарева идейно и нравственно опровергнут. Но идейно опровергнута и мать героини романа, проповедующая моральные догмы с остервенелостью, губительной для ее дочери. Моральный, граждански ответственный пафос в романе Ю.Бондарева присущ сторонникам традиционных ценностей русской культуры. А персонажи и исторические лица, одержимые новаторством, развенчиваются (например, западник Белинский, либералмондиалист Лихачев), не говоря о менее авторитетных поборниках новизны. Главный редактор развлекательно-эротического журнала декларирует перед патриотом-почвенником не только свои пристрастия, но и политические антипатии. Он сознает, что линия его журнала противостоит советской идеологии. Он заявляет: «Советская карта бита. На столетие, милый мальчик, на столетие!» (603). В таких персонажах, как редактор, Ю.Бондарев различает не только самодовольство и упоение роскошью и комфортом, не только наглую силу, но и эстетику правоты: уверенность тона, гибкость интонаций, самообладание. Важным признаком манеры общения подобных людей Бондареву представляется самопоказ, театральность, демонстративность. Бондарев с презрением и ненавистью пишет о силе, уже прошедшей стадию грубости и жестокости и обретающей эстетический лоск. Редактор «откинулся в кресле, возвел взор к матовому плафону на потолке, и всей вольной позой своей, аристократически поставленными переливами своего натренированного голоса, бросающимся в глаза ярчайшим галстуком, светло-синим костюмом, расстегнутым с небрежностью, он не скрывал барственного довольства положением главного редактора» (602). Обволакивающе-повелительные интонации, ироническая игривость и артистизм характерны и для тайных телефонных преследователей Андрея Демидова. Находясь в глухой обороне, удрученный похищением картин деда и надругательством над его мастерской, Демидов-младший чувствует себя уязвимым. И не чувствует себя таким торжествующе правым, богатырски победоносным как его дед. Самозащита и атакующие порывы Андрея чаще всего строятся на иронии. И эта ирония – симптом некой внутренней слабости Андрея. Склонность к иронии сближает разнохарактерных и разноориентированных персонажей романа. Потребность в ней свидетельствует о том, что поврежден нравственный и идеологический фундамент общества. Цинической иронией пользуются не только рафинированные интеллектуалы, отстаивающие права сексуальных меньшинств, но и представители социальных кругов, далеких от утонченности, например, милиционеры, творящие расправу над защитниками Верховного Совета в октябре 1993 года. Отравляющая ядовитая ирония умерщвляет истину, вера в которую, вкус к которой потерян. Разъяренный «плоскогрудый мент с заносчивыми, немигающими глазами» (516), кричит схваченным последним заступникам советской власти: «Нового Ленина на загривок посадить хотите?… Я за Ельцина таким как ты горло перегрызу!» (517). Милиционеры охвачены желанием уязвить, глумливо поиздеваться и растоптать все, что связано с социалистической идейностью и советской законностью. Арестованный депутат Моссовета пробует вразумить остервенившихся милиционеров штампованными фразами советских пердовиц и агиток. На что следует язвительная реплика: «Речи тут будешь еще толкать, кусок свинячий?» (516). Слова Ленин, фашисты, рейхстаг, выхолощенные советской демагогией, обессмыслились и вызывают лишь цинические ухмылки. Ирония, глумливый сарказм образуют уродливую, разрушительную связь между людьми, которая хуже отчужденности. Берет верный тон, взывает к здравому смыслу обезумевших милиционеров один из задержанных – инспектор МУРа, который эстетически возвышен Бондаревым. Он говорит: «Через край стараешься, офицер. Неужели знаешь, где правда? Расскажи, послушаю» (527). Но ни рассказать, ни выслушать друг друга героям «Бермудского треугольника» чаще всего не удается. Думается, что в спортивном парне с неиссякаемой внутренней веселостью был заключен эстетический и нравственный потенциал главного героя книги, но писатель идет другим путем. Ю.Бондарев показывает, что разрушительная сила извергается не только из продажных ментов, но и из души принципиальной матери, разочаровавшейся в споткнувшейся дочери. Милиционеры – представители хаоса, разнузданной агрессивности и похотливости, а мать Тани Ромашиной действует и мыслит в режиме советской догматики, когда голый принцип ставится выше, чем личность, даже личность собственной дочери. Таня Ромашина поддается рыночным искушениям и участвует в сомнительном проекте, мечтая о карьере танцовщицы за рубежом, за что расплачивается потерей целомудрия и наркотической зависимостью. Мать морально уничтожает Таню, считая ее отступницей от заветов русской любовной этики. С мизантропической непреклонностью Кира Владимировна клеймит дочь: «Позор! Была! – и нет русской целомудренности, все кончено! Была дочь – и нет дочери! Есть проститутка! Грязь!» (697). Эта позиция опирается на реальный феномен русской культуры: репрессивно-подозрительное отношение к эротизму. Естественное побуждение к этой сфере немедленно зачисляется в ранг греховного. Чрезмерный нравственный максимализм властной женщины не спасает от заразы, а усугубляет ее. Кира Владимировна ставит слишком пессимистический диагноз и дочери, и семейным устоям, и перспективам русской морали. Ее вульгарное морализаторство еще более отвратительно в применении к безвольному мужу. Ниспровергательский тон, вытекающий из чрезмерного доктринерства, вносят в полемику о русском народе публицисты и писатели, друзья журналиста Андрея Демидова. Прозаик Мишин, патриот, отчаявшийся в надеждах на возрождение России, подобно Кире Владимировне проникнут духом мрачных пророчеств: «Жалеем народ, но народ не жалеет себя. Наверно, когда все начнут жрать асфальт вместо хлеба, тогда очнутся и встанут с четверенек. Встанут и начнут оглядываться: да что это с нами делают? Если же не встанут – рабы американской империи на сотню лет! И конец русской нации. Конец русской истории. Вот что чудовищно!» (619). Публицист-почвенник Татарников в ответ на эту страстную тираду Мишина обвиняет его в русофобстве. Апокалиптический страх за народ, неверие в плодоносное начало естественного бытия и творимой истории часто вселяет в души героев «Бермудского треугольника» чувство обреченности и озлобленности. Они стремятся к недосягаемому единству и всеобщности, слишком зависят от моральных и идеологических догм, что чревато разрывом дружеских и семейных связей. Историческая изжитость определенных принципов воспринимается как моральное предательство людей. Необходимость мыслительной эволюции расценивается как отступничество от национальных традиций. Мишин ополчается на народ, не наблюдая пролетарскиреволюционных реакций масс на их ухудшающееся положение, и предсказывает голод. В словах об асфальте, как продукте питания окольно проступает знаменитый плакатный образ о булыжнике как орудии пролетариата. Мишин громит народ исходя из штампованных советских абстракций. Очевидно, Мишин проклинает любя, тем не менее он схлопотал обвинение в русофобстве, которое также проистекает из тощих абстракций, правда, уже славянофильских. Друзья орудуют принципами, не жалея друг друга, а когда Андрею Демидову пришла мужественная мысль о том. что «пусть будет, что будет» (620), то он немедленно устыдился своего прозрения. Идеологическая одержимость, тяга к ракольниковскому мессианству приводит к тому, что интеллектуальные расхождения и даже размолвки расцениваются как предательство. Фанатичный Татарников сразу же переходит от идейных разногласий к личностному неприятию, прокурорски фиксируя наступающую «нищету нашей дружбы» (618). Мессианское представление о России и русском народе усиливает критицизм в отношении России и ее народа и наращивает скепсис по поводу мировой истории. Скорбные, траурные заклинания молодого Мишина о конце русской нации и истории перекликаются с апокалиптическими пророчествами Демидова-старшего: «Погибнет Россия, погибнет и Америка, да и вся Европа дружно загниет, как червивый банан! Вы талдычите про панихиду по России, а это панихида по Америке» (584). Непомерные обязательства по спасению мира, которые возлагают на себя интеллигенты из романа Ю.Бондарева, скорее всего, есть иллюзия и предрассудок, неосуществимость которых, т.е. обязательств, оборачивается комплексом вины, ложным стыдом за мнимое отступничество от великого призвания. Даже «менты» в начале романа, расправляясь с задержанными, решают не локальные задачи, а предотвращают воцарение нового Ленина и защищают вселенскую свободу. Даже Тимур Спирин, признающий с циническим злорадством, что кантовские «поднебесные теории превратились в пыль. И не только у нас. На всем шарике» (745), уличает коммунистов в предательстве за неспособность защитить советскую власть. Одержимость мессианскими идеями развивает в героях «Бермудского треугольника» обличительный, полемический пафос. А полемика неуклонно склоняет их к абстрагированию от конктретики характеров, от плоти бытия. Пусть будет, что будет – эта мысль показалась Андрею Демидову предосудительной. Пусть было, что было, - даже с этой позицией не может смириться Демидов-старший. Он победоносно цитирует Блока, весьма небесспорно утверждавшего: «Отсюда начало порчи русского сознания – языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до мелочи – полного убийства вкуса. Порча от Белинских, Писаревых, Стасовых и Михайловских» (601). Ставя в центр своей личности идеи, Демидов-старший переоценивает их роль в ходе и направленности русской истории. Опрометчиво считать, что Белинский исказил Гоголя и Грибоедова, т.е., что он чужд органике русской культуры, и что такой лжепророк подчинил себе русское самосознание. Ю.Бондарев превосходно уловил, что в переломный исторический момент русская интеллигенция не мыслит себя без правильной теории жизни. Писатель подтвердил прозрения великих предшественников, что достоинства и одновременно изъяны русского самосознания заключаются в непреклонной вере в историческую миссию России, в особую духовность русского народа. Исторические перемены сдвигают героев с привычных позиций. Прежние идеалы и представления не согласуются с основным массивом современных реалий и главенствующей логикой современного бытия. Жизнь подталкивает героев к переоценке ценностей, к новому пониманию народа и личности, к поиску новых каналов влияния на окружающих людей и на мир в целом. Ю.Бондарев великолепно раскрывает извилистое и разнонаправленное движение мысли нашего современника в условиях надвинувшейся катастрофы. 4.Проблемы веры и религии в романе. Ю.Бондарев не только с громадной проницательностью наблюдает за явлениями и симптоматикой катастрофической эпохи, но стремится отыскать пути выхода из нее. Это побуждает писателя обратиться к проблемам религии и веры. В кризисные, трагические времена перед героем, перед праведником возникает дилемма: творить возмездие над врагом, разя его или спасать от врага тех, кто стал его жертвой. Неисчерпаемый по смыслу, многоплановый роман Ю.Бондарева можно обозреть в координатах этой дилеммы. А.Демидов еще до милицейского застенка внес в свой журналистский блокнот мудрое суждение отца Владимира, павшего у стен Белого дома. Священник внушал, что достойнее всего привести в храм заблудшего, освободить его от лжи и побудить жить по заповедям Христовым. Достойна праведника и молитва за неотмоленные грехи врагов, если эти враги крещены в православной вере. Однако отец Владимир открывает Андрею «греховный секрет, что в Библии есть такое евангельское изречение: «Побороть враги своя под нози своя» (553). Обозначенная дилемма сводится к предпочтению любви или ненависти как главного импульса внутренней жизни и общественного поведения. Дед предостерегает Андрея Демидова от фанатизма ненависти, от революционного радикализма. Дед, имеющий именной пистолет, заклинает внука ни при каких обстоятельствах не воспользоваться этим оружием. Царственное положение зла в мире и его обилие убеждают Андрея Демидова в том, что библейские назидания бессильны, а Бог явно оставил людей на произвол судьбы. Он так обосновывает преимущество оружия перед проповедью: «А Бог? Вездесущий, всемогущий, всеведущий? И что же? Почему открытая дъявольщина и подлая ересь торжествуют в России? Чем провинилась Россия? И почему путается под ногами эта покорная достоевщина: «Смирись, гордый человек!» (543). Андрей одержимо грезит, что вот-вот отыщет одного из своих милицейских обидчиков, торжествуя, увидит страх в его глазах и выпустит в него обойму. Когда же он стал отдаляться от мрачных событий, то оценивает свое состояние не как выздоровление, а как моральное преступление: «мало-помалу приостыв, подчас чувствовал самоуничижительную гадливость к этому успокоению» (553). Нацеленный на возмездие врагу, Андрей, хотя и невольно, отступается от задачи праведника – от спасения Тани Ромашиной. Засхлестнутый отчаянием, уязвленный пережитыми унижениями, с пошатнувшейся верой в Россию, он убивает Спирина и оставляет без заступничества и попечения «детей» своего деда, то есть картины, и неосуществившуюся любовь свою - Таню Ромашину. На наш взгляд, в характере Андрея Демидова Ю.Бондарев проницательно раскрыл один из советских моральных комплексов: воинственное отношение к врагу достойнее созидательной работы духа. Взаимные воинственные претензии и самообвинения угнетают и омрачают души бондаревских героев. Российское общество 90-х годов ХХ века Ю.Бондарев изображает в состоянии раздробленности, вражды и ожесточения. Символом морально-политического распада в стране стали октябрьские события 1993 года. Соответствующие сцены романа представлены писателем в рамках эстетики безобразного. Атмосфера этих начальных сцен предваряет извержения безумия, абсурда и безобразия, которые с беспощадной зоркостью выделил Ю.Бондарев в частной жизни, в социальной и исторической сферах российской действительности конца ХХ века. Чудовищно поведение ментов, сладострастно издевавщихся над убежденными и случайными сторонниками Верховного Совета. Чудовищно методичное умерщвление казачонка, которого размеренными выстрелами четвертовал одержимый омоновец. Чудовищны то паскудство и одичание, то беспредельное отступление даже от традиционной воровской этики, которыми сопровождалось похищение драгоценных картин из золотого запаса художника Демидова. В эстетике безобразного выдержана сцена, когда Андрей Демидов и его корыстный помощник Спирин отыскивают Таню Ромашину и ее мнимую подругу Ярославу, пребывающих в наркотическом помешательстве. Проблематика романа Ю.Бондарева «Бермудский треугольник» развертывается в связи с феноменами и религиозноидеологическими концепциями катастрофы и спасения. В романе есть множество картин, в которых воспроизводятся факты попрания святынь, глумления над беззащитными и невинными, разрушения верований, растления душ. Сам роман дает много свидетельств и признаков всеобщего грехопадения. А центральным образомсимволом оказывается полотно художника Демидова «Катастрофа», посредством которого он предостерегает о возможном крушении России. С другой стороны, Егор Александрович уверен, что если погибнет Россия, то будет обречен и весь мир. Герои романа пытаются найти моральную, мировоззренческую точку опоры, чтобы спасти русскую духовность. Великий художник Демидов старается спасти свои шедевры от коммерческих оборотов, чтобы не оскудела исцеляющая энергия его искусства. Внук художника, журналист Андрей Демидов, пытается спасти погибающую Таню Ромашину, которая, подобно платоновской девочке из «Котлована», заключает в себе возможность или невозможность национального будущего России. Бондарев не смягчает красок, не щадит читательских чувств, показывая как безобразное проникает в души наших современников и распространяется в наличной реальности. Автор полагает, что спасение в обжигающей, разящей правде. Роман Ю.Бондарева подтверждает справедливость утверждения Н.Бердяева: «Вся духовная энергия русского человека была направлена на единую мысль о спасении своей души, о спасении народа, о спасении мира»1. Мысль Ю.Бондарева движется в противоположных направлениях. Мотивы тревоги и обреченности нацеливают автора на поиск источников возрождения и бессмертия. Идея бессмертия прочно связана у Бондарева с религиозными переживаниями и религиозным философствованием героев. Писатель подает множество сигналов, предлагает ряд символических образов, которые нацеливают на трактовку его произведения в символических координатах. Старшего Демидова в знаменательные дни октября 1993 года ельцинские менты и омоновцы принимали за священника, глумливо и невежественно предлагая ему спрятаться к попадье под рясу. Среди защитников Белого дома Андрей находит отца Владимира, вскоре погибшего, но в этой роковой ситуации размышлявшего о религиозных догматах и проверявшего их на пригодность к реальной жизни. Отец Владимир убеждал Андрея, что молитва за врагов снимает с молящегося сто грехов. Аналогичную мысль внушал Андрею интеллигентный милиционер в свитере, отпустивший его на свободу. Старший Демидов склонен толковать происходящие события как звено в вековечной схватке Бога и сатаны. Признаки такого же восприятия действительности мы наблюдаем у его внука. Когда перед ним, избитым и отчаявшимся, отпирают дверь, он слышит ее «ветхозаветный» скрип. 1 Бердяев Н.А. Судьба России.- М., 1990, с.75 А когда он выходит наружу в октябрьскую ночь, он видит: «за дымными, как тени, березами в переулке кое-где краснели библейские тысячелетние огоньки» (534). Реакция некоторых персонажей на происшедшую катастрофу молитвенно-созерцательная, фаталистическая. Милиционер, отпустивший Андрея, расценивает озверение и кровопролитие как кратковременное помешательство, заслуживающее христианского снисхождения. Молитвенно-заклинательные нотки замечает Ю.Бондарев и в наивном фразерстве депутата Мартьямова. Роковой характер события побуждает и обоих Демидовых обратиться к библейским образцам как к отправной точке для исторического самоопределения. Андрей пытается опрокинуть эту отправную точку, усомнившись в моральной состоятельности религиозного всепрощения и милосердия. Он считает их оправданием трусости и бездействия. Оскорбительное чувство бессилия, пережитое им, вызывает жажду компенсации, нетерпеливое раскольниковское желание радикального действия. С дедовским «вальтером» он стремится выследить хотя бы одного из карателей, упиться ужасом в его глазах и со злорадной мстительностью разрядить пистолет. Вместе с дедом Андрей испытывает радость, когда из газеты «Патриоты России» узнает о фактах возмездия над палачами. Лишь с издевкой и презрением он может думать о молитвенном закатывании глаз каким-нибудь праведником, верящим в ложь всеобщего примирения. Возникшая культурная и духовная обстановка не заключает в себе никаких предпосылок для равновесия в общественных мнениях, для поведенческих стандартов. Роль этикета и воспитанности попросту обрушивается, возникает не столь уж частая возможность чистосердечных деклараций, открытых публичных манифестов. В этом смысле типологически однородными оказываются поведение и заявления «бесстрашно ерничающего» Егора Александровича Демидова и беззастенчивых властителей России того периода. Все испытывают нечто подобное ярости кулачного боя, проверяя силу и надежность своей веры, своих мифологем. Ю.Бондарев раскрывает процессы, происходящие в середине 90-х годов ХХ века, когда убеждения людей достигли степени мифологической значимости. О подобном состоянии умов писал А.Ф. Лосев: «Из наличной действительности мы выделяем ту ее сферу, которая интимно чувствуется субъектом, которая есть сфера подлинно жизненного взаимообщения субъекта и объекта, т.е., где есть субъект и объект чувства, воли, аффектов»1. Близкие собственным оценки тогдашних политиков Бондарев вводит, ссылаясь на заметки из записной книжки журналиста Андрея Демидова. Наиболее остры впечатления Андрея по поводу того, как чмокающий Гайдар призывает раздавить Верховный Совет, как бесстыдный Шумейко оплевывает идею правды и справедливости как библейскую фантазию. 1 Лосев А.Ф. Самое само.-М., 1999,с.269 Поэтому нет ничего диковинного в запальчивости и страстности старшего Демидова. Удивительны здесь как раз были бы уравновешенность и сдержанность. Эпатирующий тон Демидова порой вызывает оторопь и недоумение даже у его лучшего друга пейзажиста Караваева, пытающегося иногда урезонивать приятеля: «Как ты ядовито насмешничаешь! То говоришь серьезно, то ерничаешь! Куда тебя постоянно заносит?» (597). В шумных компаниях, которые любит собирать Демидов, он берет на себя роль обличителя, современного Чацкого. Сравнение с Чацким тем более уместно, что публика вокруг него не разделяет его взглядов. Манерных девиц с телевидения он шокирует площадными афоризмами, адресованными не столько им, сколько всей современной прессе, возомнившей себя неприкасаемым божеством. Демидов предостерегающе пророчит: «И будем ходить под современным лозунгом: пусть погибнет весь мир, но восторжествует пресса!» (570). Несоразмерная роль прессы, ее попытки присвоить себе незаслуженную власть вызывают такое же негодование Демидова, как и надменная, высокомерная критика, которая не сокращает путь к произведениям искусства, а заслоняет его. Вместо произведений искусства критика предлагает себя. Демидов цитирует Толстого, считавшего критику мнением глупых об умных. Особенно меткими кажутся ему вызывающие слова А.Блока о критике, уподоблявшего ее «задницам английских туристок», заслоняющими в музеях шедевры живописи. Атака на критику и прессу, очевидно, связана с тем, что собственные идеи и убеждения Демидова не столь популярны, как модные попсовые и модернистские стереотипы. То, что пресса перехватывает инициативу у искусства и религии и становится властителем народных дум, является естественно-историческим процессом или временным, случайным извращением? Этим вопросом Демидов не задается, а как древний бородатый богатырь вступает в поединок с агрессивной темной силой. Демидов хотел бы, чтобы его внук, журналист, стал хранителем его сокровищ, душеприказчиком. Когда он замечает в Андрее недостаток благоговейного отношения к его искусству, это болезненно омрачает ему душу. «Значит, я тебя раздражаю. Значит, ты просто меня не любишь, милый мой внук, стало быть, настоящего наследника у меня нет,- проговорил Демидов и, горестно соглашаясь с самим собою, покивал, покрутил головой и неожиданно из его смеженных век выжались и покатились маленькие капли, застревая в седеющих усах» (605). Вера мертва без дела и преемственности. Егор Александрович, обвиняя внука в отступничестве, заявляет о своих бескомпромиссных требованиях к нему. Ю.Бондарев убеждает нас в том, что Андрей Демидов не изменяет заветам деда, а следует им. Философский роман-диспут Ю.Бондарева «Бермудский треугольник» вторгается в самые первоосновы социальноисторического бытия нашей страны конца ХХ столетия. Писатель с изумительной художественной проницательностью и громадной художественной выразительностью воплотил в ситуациях, картинах и в героях своего романа первостепенные начала и векторы эволюции российской интеллигенции, ее мировоззренческие искания, ее прозрения и заблуждения. Писатель не забегает вперед, не корректирует характеры и события, создает максимально достоверную картину противоречивой эпохи. Рекомендуемая литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. Бердяев Н.А. Судьба России.-М.,1990. Вахитова Т.М.Поиск земли обетованной.-Лит.в школе.,2005,№6 Горбунова Е. Ю.Бондарев.Очерк творчетва.-М.,1989 Идашкин Ю. Бондарев Ю.-М.,1987 Коробов В. Ю.Бондарев.-М.,1984 Минералов Ю.И. История русской литературы. 90-е годы.Учебное пособие для Вузов.-М.,2002 7. Нехаев Р.В. Бондарев Ю.В. Бермудский треугольник.-Вестник МГОПУ им.М.А.Шолохова. Филологические науки.-М.,2002,№1 8. Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе:1990-е.М..1998 9. Лосев А.Ф. Самое само.-М., 1999,с.269 10.Оберемко В. Писатель Ю.Бондарев: Мир спасет слово.Аргументы и факты,2006,№18 11.Русская проза конца ХХ века (сост.Тимина С.И.).-М.,2002 12.Сорокин В. Красота мудрости.-Слово,2001,№1 13.Федь Н.Художественные открытия Ю.Бондарева.-М.,1988 14.Федь Н. Литература мятежного века.-М.,2003 15.Щеголова Е. Ю.Бондарев.Бермудский треугольник.Знамя,2000,№5 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. 2. 3. 4. Проблема национальной катастрофы в романе. Человек разумный и человек рыночный. Мировоззренческие искания героев и их идеалы. Проблемы веры и религии в романе. Проблемы веры и религии в романе Ю.Бондарева «Бермудский треугольник». Гаврилов В.А. Статья опубликована в сб.:М., РИЦ МГОПУ им.М.А.Шолохова, 2006г. 0,3 п.л Российское общество 90-х годов ХХ века Ю.Бондарев изображает в состоянии раздробленности, вражды и ожесточения. Символом моральнополитического распада в стране стали октябрьские события 1993 года. Соответствующие сцены романа представлены писателем в рамках эстетики безобразного. Атмосфера этих начальных сцен предваряет извержения безумия, абсурда и безобразия, которые с беспощадной зоркостью выделил Ю.Бондарев в частной, социальной и исторической сферах российской действительности конца ХХ века. Чудовищно поведение ментов, сладострастно издевающихся над убежденными и случайными сторонниками Верховного Совета. Чудовищно методичное умерщвление казачонка, которого размеренными выстрелами четвертовал одержимый омоновец. Чудовищны то паскудство и одичание, то беспредельное отступление от традиционной воровской этики, которыми сопровождалось похищение драгоценных картин из золотого запаса художника Демидова. В эстетике безобразного выдержана сцена, когда Андрей Демидов и его корыстный помощник Спирин отыскивают Таню Ромашину и ее мнимую подругу Ярославну, пребывающих в наркотическом помешательстве. Проблематика романа Ю.Бондарева «Бермудский треугольник» развертывается в связи с феноменами и религиозно-идеологическими концепциями катастрофы и спасения. В романе есть множество картин, в которых воспроизводятся факты попрания святынь, глумления над беззащитными и невинными, разрушения верований, растления душ. Ю.Бондарев прибегает к приему удвоения этой эстетической декларации. Сам роман дает много свидетельств и признаков всеобщего грехопадения. А центральным образом-символом оказывается полотно художника Демидова «Катастрофа», посредством которого он предостерегает о возможном крушении России. С другой стороны, Егор Александрович уверен, что если погибнет Россия, то будет обречен и весь мир. Герои романа пытаются найти моральную, мировоззренческую точку опоры, чтобы спасти русскую духовность. Великий художник Демидов старается спасти свои шедевры от коммерческих оборотов, чтобы не оскудела исцеляющая энергия его искусства. Внук художника, журналист Андрей Демидов, пытается спасти погибающую Таню Ромашину, которая, подобно платоновской девочке из «Котлована», заключает в себе возможность или невозможность национального будущего России. Бондарев не смягчает красок, не щадит читательских чувств, показывая как безобразное проникает в души наших современников и распространяется в наличной реальности. Автор полагает, что спасение в обжигающей, разящей правде. Роман Ю.Бондарева подтверждает справедливость утверждения Н.Бердяева: «Вся духовная энергия русского человека была направлена на единую мысль о спасении своей души, о спасении народа, о спасении мира»1. Мысль Ю.Бондарева движется в противоположных направлениях. Мотивы тревоги и обреченности нацеливают автора на поиск источников возрождения и бессмертия. Идея бессмертия прочно связана у Бондарева с религиозными переживаниями и религиозным философствованием героев. Писатель подает множество сигналов, предлагает ряд символических образов, которые нацеливают на трактовку его произведения в символических координатах. Старшего Демидова в знаменательные дни октября 1993 года ельцинские менты и омоновцы принимали за священника, глумливо и невежественно предлагая ему спрятаться к попадье под рясу. Среди защитников Белого дома Андрей находит отца Владимира, вскоре погибшего, но в этой роковой ситуации размышлявшего о религиозных догматах и проверявшего их на пригодность к реальной жизни. Отец Владимир убеждал Андрея, что молитва за врагов снимает с молящегося сто грехов. Аналогичную мысль внушал Андрею интеллигентный милиционер в свитере, отпустивший его на свободу. Старший Демидов склонен толковать происходящие события как звено в вековечной схватке Бога и сатаны. Признаки такого же восприятия действительности мы наблюдаем у его внука. Когда перед ним, избитым и отчаявшимся, отпирают дверь, он слышит ее «ветхозаветный» скрип. А когда он выходит наружу в октябрьскую ночь, он видит: «за дымными, как тени, березами в переулке кое-где краснели библейские тысячелетние огоньки» (20)2. Долгое время спустя в мучительных ночных видениях-воспоминаниях в сознании Андрея возобновляется картина расстреливаемого Белого дома, из окон которого «дым расползался снаружи, крестообразно покрывал высоту здания траурной копотью. Было похоже, что горел крест, и внезапно послышался женский рыдающий голос в толпе: «Голгофа! Вот оно – распятие, Господи!» (79). Реакция некоторых персонажей на происшедшую катастрофу молитвенно-созерцательная, фаталистическая. Милиционер, отпустивший Андрея, расценивает озверение и кровопролитие как кратковременное помешательство, заслуживающее христианского снисхождения. Молитвенно-заклинательные нотки замечает Ю.Бондарев и в наивном фразерстве депутата Мартьямова. Роковой характер события побуждает и обоих Демидовых обратиться к библейским образцам как к отправной точке для исторического самоопределения. Андрей пытается опрокинуть эту отправную точку, усомнившись в моральной состоятельности религиозного всепрощения и милосердия. Он считает их оправданием трусости и бездействия. Оскорбительное чувство бессилия, пережитое им, вызывает жажду компенсации, нетерпеливое раскольниковское желание радикального действия. С дедовским «вальтером» он стремится выследить хотя бы одного из карателей, упиться ужасом в его глазах и со злорадной мстительностью разрядить пистолет. Вместе с дедом Андрей испытывает радость, когда из газеты «Патриоты России» узнает о фактах возмездия над палачами. Лишь с издевкой и презрением он может думать о молитвенном закатывании глаз каким-нибудь праведником, верящим в ложь всеобщего примирения. Возникшая культурная и духовная обстановка не заключает в себе никаких предпосылок для равновесия в общественных мнениях, для поведенческих стандартов. Роль этикета и воспитанности попросту обрушивается, возникает не столь уж частая возможность чистосердечных деклараций, открытых публичных манифестов. В этом смысле типологически однородными оказываются поведение и заявления «бесстрашно ерничающего» Егора Александровича Демидова и беззастенчивых властителей России того периода. Все испытывают нечто подобное ярости кулачного боя, проверяя силу и надежность своей веры, своих мифологем. Ю.Бондарев раскрывает процессы, происходящие в середине 90-х годов ХХ века, когда убеждения людей достигли степени мифологической значимости. О подобном состоянии умов писал А.Ф. Лосев: «Из наличной действительности мы выделяем ту ее сферу, которая интимно чувствуется субъектом, которая есть сфера подлинно жизненного взаимообщения субъекта и объекта, т.е., где есть субъект и объект чувства, воли, аффектов»3. Близкие собственным оценки тогдашних политиков Бондарев вводит, ссылаясь на заметки из записной книжки журналиста Андрея Демидова. Наиболее остры впечатления Андрея по поводу того, как чмокающий Гайдар призывает раздавить Верховный Совет, как бесстыдный Шумейко оплевывает идею правды и справедливости как библейскую фантазию. Поэтому нет ничего диковинного в запальчивости и страстности старшего Демидова. Удивительны здесь как раз были бы уравновешенность и сдержанность. Эпатирующий тон Демидова порой вызывает оторопь и недоумение даже у его лучшего друга пейзажиста Караваева, пытающегося иногда урезонивать приятеля: «Как ты ядовито насмешничаешь! То говоришь серьезно, то ерничаешь! Куда тебя постоянно заносит?» (83). В шумных компаниях, которые любит собирать Демидов, он берет на себя роль обличителя, современного Чацкого. Сравнение с Чацким тем более уместно, что публика вокруг него не разделяет его взглядов. Манерных девиц с телевидения он шокирует площадными афоризмами, адресованными не столько им, сколько всей современной прессе, возомнившей себя неприкасаемым божеством. Демидов предостерегающе пророчит: «И будем ходить под современным лозунгом: пусть погибнет весь мир, но восторжествует пресса!» (56). Несоразмерная роль прессы, ее попытки присвоить себе незаслуженную власть вызывают такое же негодование Демидова, как и надменная, высокомерная критика, которая не сокращает путь к произведениям искусства, а заслоняет его. Вместо произведений искусства критика предлагает себя. Демидов цитирует Толстого, считавшего критику мнением глупых об умных. Особенно меткими кажутся ему вызывающие слова А.Блока о критике, уподоблявшего ее «задницам английских туристок», заслоняющими в музеях шедевры живописи. Атака на критику и прессу, очевидно, связана с тем, что собственные идеи и убеждения Демидова не столь популярны, как модные попсовые и модернистские стереотипы. То, что пресса перехватывает инициативу у искусства и религии и становится властителем народных дум, является естественно-историческим процессом или временным, случайным извращением? Этим вопросом Демидов не задается, а как древний бородатый богатырь вступает в поединок с агрессивной темной силой. Демидов хотел бы, чтобы его внук, журналист, стал хранителем его сокровищ, душеприказчиком. Когда он замечает в Андрее недостаток благоговейного отношения к его искусству, это болезненно омрачает ему душу. «Значит, я тебя раздражаю. Значит, ты просто меня не любишь, милый мой внук, стало быть, настоящего наследника у меня нет,- проговорил Демидов и, горестно соглашаясь с самим собою, покивал, покрутил головой и неожиданно из его смеженных век выжались и покатились маленькие капли, застревая в седеющих усах» (92). Вера мертва без дела и преемственности. Егор Александрович, обвиняя внука в отступничестве, заявляет о своих бескомпромиссных требованиях к нему. Ю.Бондарев убеждает нас в том, что Андрей Демидов не изменяет заветам деда, а следует им. Непреклонная вера Андрея в жизнь и добро обнаруживается в финальных эпизодах романа. Изверившийся во всем Тимур Спирин пытается внушить студенческому другу свои представления о мире, склонить Андрея к собственным предпочтениям. Спиринская критика реформаторов России, которая на самом деле губит ее, иррадиирует и распространяется на все сферы бытия, переходит в тотальный нигилизм. Цитируя Омара Хайяма, он заявляет: «Ты видел мир, но все, что ты видел, - ничто. Все то, что говорил ты и слыхал, - ничто. Итог один – весь век ты просидел ли дома, иль из конца в конец мир исшагал, - ничто». Вот так, старик, - ничто. Самое исчерпывающее философское понятие – ничто. Бермудский треугольник. Приборы на нуле. Машины корабля заглохли» (241). В душе Тимура Спирина истреблена вера в людей, в государство, в самое себя. К его оценке объективно сложившихся обстоятельств близок и Андрей Демидов, и сам автор. Однако кроме объективно сложившихся обстоятельств, остается несломленная воля человека, неуступчивая сила самобытия праведных героев Ю.Бондарева, для которых добро не только принцип, но и вера, но и соблазн, но и аффект. Повинуясь этой вере и аффекту, Андрей Демидов, может быть, и совершает самые ответственные поступки в своей жизни, совершая правосудие и возмездие над Спириным за смерть распятого казачонка. Примечания. 1 Бердяев Н.А. Судьба России.- М., 1990, с.75 2 Бондарев Ю.В.Бермудский треугольник.-М.-Молодая гвардия,2000.Далее ссылки на это издание даются в тексте. 3 Лосев А.Ф. Самое само.-М., 1999,с.269 Идея нравственного императива в романе А.Солженицына «В круге первом» Гаврилов В.А. (г.Москва) Статья опубликована в Сб. Русское литературоведение в новом тысячелетии, М., ИД «Таганка», 2005; 0,3 п.л Действие романа Солженицына «В круге первом» происходит в конце сороковых годов прошлого века в эпоху сталинского всемогущества. Это было время жесткого политического детерминизма, социальных регламентаций, бесцеремонного вмешательства государства в частную жизнь людей. Без верховной санкции не то что действовать, а и помыслить было нельзя. Согласно А.Солженицыну, идеологическая диктатура преобразилась в естественную норму поведения и мышления лишь немногих советских людей. Лишь люди из вне, вроде доверчивой венгерской аспиранткикоммунистки Эржики, свято верят в безупречность «нового человека» и в праведность советской власти. Солженицын убежден, что для большей части народа идеи и идеалы социализма послужили не для просветления, а для помрачения души. Один из любимых героев писателя, Герасимович, рассуждает: «…Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей…» 1 ( 2 , 246) Впечатления Солженицына от социалистической реальности чрезвычайно удручающие и беспросветные. Очень выразительны и тенденциозны картины сельской жизни, которые наблюдают дипломат Володин со своей свояченицей во время подмосковной прогулки: в деревне Рождество и в ее окрестностях, кроме радующего глаз кладбища, все пребывает в запустении и в каком-то мертвом оцепенении. Символом нравственной извращенности, поруганием здравого смысла и цинического бесстыдства сталинской власти являются воронки, снующие по московским улицам, сконструированные по аналогии с продуктовыми машинами и для полной конспирации снабженные надписями «хлеб», «мясо», причем в порядке какой-то особой глумливости на четырех языках. С ядовитой иронией изображает Солженицын советский феномен политучебы, предназначенной для умерщвления всякой интеллектуальной инициативы, всякой живой мысли и искреннего слова. Тупо вытверживались давно устаревшие факты и цитаты, «а бесстрашное желание переходить к жгучей современности, к ее недостаткам и движущим противоречиям» обычно не осуществлялось, так как все механически заученное забывалось и приходилось возвращаться к началу. В возможность искренних и убежденных сторонников советской идеологии, исповедующих ее по логике реальной жизни, а не по логике умозрительных построений и идеальных схем, Солженицын не верит. В романе горячим энтузиастом социалистической переделки мира представлен Лев Рубин, майор-переводчик и знаток Германии. По истине он книжник и Фарисей, пренебрегающий фактами и ссылающийся на абстрактные законы. В тюремных спорах Рубин отметал доводы противников, заявляя, что «…в больших числах и в главном потоке все идет так, как надо…»2 (2, 126). В свое время Рубин поступился нравственным императивом, обязывающим исключать доносительство из поведения порядочного человека. Комсомольская откровенность Рубина перед партийным функционером погубила его двоюродного брата, обвиненного в троцкизме. Голос совести уступил партийному долгу. Солженицын с иронией пишет о попытках Рубина утешить себя метафизическими ссылками на Аристотелеву теорию трагического. Солженицын смеется над героем, который превращает свое заурядное арестантство в возвышенную античную трагедию: «… Но свое положение здесь (да еще Абрамсона) он понимал трагичным в аристотелевском смысле»… (2, 125). А.Солженицын убежден, что господствующая идеология настолько абстрактна, настолько неорганична для всех социальных общностей и групп советского государства, что ничего жизнеспособного она не порождает. Эта идеология вступает в уродливый симбиоз с естественными потребностями человеческой натуры, угнетая их, деформируя, внушая человеку комплекс вины и страха за то, что он позволяет быть себе самим собою. Ни народ, ни интеллигенция, ни власть, не достигают внутреннего равновесия и самодостаточности. Убежденный и искренний коммунист Рубин с отвращением и брезгливостью относится к практическим деятелям социалистического строительства. Герой мучительно вопрошает себя: «Когда и как они расплеменились, эта самодовольная непробиваемая порода? – из лопуха комчванства, что ли?…Как случилось, что именно этим достался весь аппарат, и вот они всю страну толкают к гибели. Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же в кабинете, ручной гранатой! (1,223). Рубину совестно выказывать свою коммунистическую веру перед подобными союзниками. Так получаются, что это неуместно и неприлично. Солженицын показывает, что сталинизм эксплуатирует феномен святости, веры. Но это делается так лживо и изуверски, что никто не вправе сличать идеал с реальностью. Ни реальность, ни идеал не оказываются чем-то внятным и отчетливым. Атрофируется сама способность здраво мыслить. Например, вольным работникам шарашки внушают самые нелепые представления о заключенных, сообщая о них беспардонную клевету и демонизируя их. Опыт общения с арестантами убеждает недавних студенток Серафиму, Клару Макарыгину в том, что перед ними нормальные, даже благородные люди. Но выбраться из этого противоречия, вынырнуть из этого умственного омута мало кому удается. Официальная демагогия внедряется в сознание и уродливо уживается там с результатами непосредственного опыта, со здравыми понятиями. Солженицынский Сталин не верит чужим словам и не придает значения своим. Родственник главного героя романа Иннокентия Володина, дядя Авенир, - мирской затворник, своеобразный летописец оборотничества и идейного предательства коммунистов, их отступничества от заветов и клятв. Дядя Авенир ядовито называет Сталина своим «ровесничком», но ничего общего между ним и собой не признает. Если Сталин подверг слово святотатственному поруганию (это Солженицын воспринимает как интеллектуальную и психическую патологию), то дядя Авенир относится к слову как к первородной ценности, как к знамению нетленного духа. Логика романа и его сентенции свидетельствуют, что библейское откровение – « в начале было Слово» - воспринимается Солженицыным как безоговорочная истина. Феномен слова принципиально влияет на проблематику, поэтику и сюжет романа. Сталин поручил ученым арестантам создать абсолютный символической шифратор-вокодер, прозорливостью в обозначена чем с незаурядной стратегическая тоталитарного государства деформировать слово, попытка устранить из него бытийный и сокровенный религиозный смысл, превратить в механический, машинный импульс. Солженицын показывает, что подменяя слово демагогией и внедряя в те области сознания человека, которые предназначены для освоения религии, пустые фразы-дерективы, сталинизм старается мотивировать человека исключительно властью, что превращает человека в нравственного и интеллектуального урода. Иннокентий Володин, читая дневники матери, по-старинному приверженной нравственному императиву и идеалу милосердия «открыл, что он – дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая» (2, 55). Солженицын развернуто и многоаспектно показал (развенчание соцреализма, критика советской журналистики, советской гуманитарной науки), как господствующая идеология предпринимала усилия по искажению и умерщвлению слова, что косвенно свидетельствует о бесспорном могуществе слова. Поэтому так принципиально для Солженицына нравственное и эстетическое неприятие советского варианта русского языка. Для этого языка были характерны строжайшее соблюдение синтаксических формальностей, редкость эллипсисов ( все должно было быть разъяснено, места для догадки не оставлялось ). Солженицын же неизмеримо вольнее, раскованнее, непринужденнее в своем стиле. Солженицын верил уже в 60-е годы, что святотатственное поругание слова временно, что слово обретет первородную силу и исцелит нашу страну от ее недугов. В финале романа Нержин заявляет: «Слово разрушит бетон…Ведь помните: в Начале было Слово, Значит, Слово - исконней бетона?» ( 2, 250). Мы можем вслед за А.Архангельским попенять Солженицыну, что его упования на могущество слова чрезмерны. ХХ век показал, что Запад не хотел «жить не по лжи – и все равно ( а может статься, именно поэтому ) победил. По праву сильного, а не по праву честного»2. Однако в романе «В круге первом» не мотивированные социальными и силовыми параметрами порывы и усилия человека предвосхищают возможность грядущей гармонии и совершенства. В романе «В круге первом» есть эстетически и идеологически рискованный эпизод, когда корневой русский мужик Спиридон в благодатном порыве просветления признается Нежину, что однажды простил немцам все их грехи и преступления. Мастер завода, где работал пленный Спиридон, посочувствовал родительскому гневу пленника, заступившегося за сына и замахнувшегося на этого мастера топором. А именно в это утро немец получил извещение о смерти сына на Восточном фронте. Вспоминающий об этом на шарашке Спиридон изображен Солженицыным едва ли не боговдохновенным, прозревающим истину. Подобную авторскую патетику мы ощущаем в знаменитом эпизоде из «Войны и мира», когда жесткосердный маршал Даву испытал братское расположение к подозреваемому в поджогах Пьеру и тем самым приобщился к высшей правде бытия. В описании Солженицына внешняя грубость Спиридона контрастирует с его духовной красотой: «Окаленный, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом: - После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и все зло этот фатер снял» (2, 107). А.Солженицын едко оценивает умственные хитросплетения и изощренность, которые безоговорочно уступают наивным прозрениям Спиридона: «Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе – не терзал Спиридона» (2, 107) Именно непосредственный характер нравственного чувства, укорененный не иначе где, как в душе ( «Душа, преисполненная чувств, - это высшее из возможных совершенств» - Кант), является основанием категорического императива в этической системе Канта. Философ М.Мамардашвили указывает, опираясь на Канта, на «независимость нравственности от знания, автономию нравственности по отношению к знанию. Автономная сфера нравственности и понимание ее избавляет нас от необходимости отвечать на вопросы, на которые нет ответов уже по логическим причинам»3. Идеологическое высокомерие сына пламенного революционера Иннокентия Володина было опрокинуто трогательной наивностью дневниковых записей его матери, где жалость признавалась первым признаком доброй души, а классовая бескомпромиссность и непримиримость – нравственным уродством. Единственно совесть движет Володиным, когда он, рискуя жизнью, пытается предотвратить похищение советскими разведчиками секрета атомной бомбы у американцев. А у генералов Абакумова, Селивановского, у зэка Льва Рубина, добивающихся разоблачения предателя, писатель не устанавливает побуждений, рожденных совестью Именно в этом суть дела. Именно это определяет проблематику и эстетику романа А.Солженицына «В круге первом». Если литература соцреализма и советская идеология не различали в полярных им позициях никакой эстетики и никакой этики, то сами они и породили ответ А.Солженицына, который не различает в них ни эстетики, ни этики. Думается, что по интеллектуальной независимости, по бесстрашной готовности давать собственные ответы на проклятые вопросы истории А.Солженицын сопоставим с крупнейшими русскими мыслителями и художниками. Примечания. 1. Солженицын М.И. В круге первом, - собр.соч. в 7 томах. – т. 1-2, М., 1991. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 2. Архангельский А. «…И приветствую звоном щита». – Новый мир, 1996, №5, стр.218. 3. Квинтэссенция.- М., Политиздат, 1992, с.133-134. Проблематика национальной самобытности в поэзии С.Куняева. Гаврилов В.А. (Москва) Статья опубликована в электронном журнале parus.ruspole."Парус", 2013 г., выпуск 24; 0.5 п.л. В поэзии 1960-1980-х г.г. Станислав Куняев остро и напряженно чувствует и сознает свою национальную самобытность. Можно сказать, что проблематика национальной самобытности преобладает в его творчестве. Национальное самоопределение поэта – это первооснова, абсолютный принцип, через призму которого он воспринимает и оценивает все то, что наблюдает в самом себе, в окружающем мире, во Вселенной. Любовь к России – это решающая предпосылка его духовной, культурной и исторической самоидентификации. Эта любовь не какая-то константа, а есть непрерывное восхождение в историческое прошлое и в будущее, непрерывное накопление связей и открытий в самом себе и в окружающем мире. Причем, С.Куняев безоговорочно отказывается от статуса беспристрастного созерцателя, а проникается стихиями русского духа, возлагающего на себя ответственность за мировой порядок и беспорядок и подвергающего все происходящее строгой и взыскательной оценке. В стихотворении «Сквозь слезы на глазах и сквозь туман души» 1 (с.93) поэт размышляет о борьбе беспристрастности и тенденциозности в своих произведениях: Была одна мечта – подробно рассказать О том, что на земле и на душе творится, Но слишком полюбил смеяться и страдать, А значит, из меня не вышло очевидца. Русский дух в поэзии Куняева расширяется вплоть до бесконечности, вбирает множество связей и отношений, но не распадается, а смыкается затем в нераздельную целостность, монолитную волю, в мессианскую сверхидею. В стихотворении «Меня манили в царство льда» (с.60) С.Куняев размышляет о своих увлечениях и симпатиях к разнообразию мира, к чарам дикой природы, к прелестям европейской цивилизации. Душа поэта чутко откликается на обольщения мира. Ее можно «манить», она готова «влюбляться». При встрече с сынами других народов поэт чувствует окрыленность, веря, что «всяческий народ велик по-своему в подлунном мире». А его воодушевление за праздничным столом возрастает, если он пирует где-то «в Грузии или на Памире». Соприкосновение, взаимодействие с другими народами оживляет в русском человеке ту грань духа, ту энергию, которую Куняев признает драгоценной. Эта энергия ведет к двояким последствиям. Искренняя вера в величие других народов ведет как бы к отрешенности, к позиции «гражданина мира вроде». И нет ничего неожиданного в том, что это расширение до позиции «гражданина мира вроде» завершается восхождением к национальным абсолютам и приоритетам. Энергия этого восхождения усилена сознанием правоты, которая состоит в отсутствии всякой национальной гордыни и тщеславия. Пытливое и благодарное отношение к самобытности других народов помогает Куняеву утвердиться в своей национальной духовной идентичности. Поэт ощущает кровную связь и с Россией народной, и с ее политическими вождями, и с титанами ее культуры. В названном стихотворении «Меня манили в царство льда» он пишет: … Я часть России плоть от плоти – наследник всех ее основ – петровских, пушкинских, крестьянских, ее издревле вещих снов, ее порывов мессианских. В стремлении к духовной полноте, Куняев делает акцент на единстве русской истории и культуры, отодвигаясь от ее прошлых антагонизмов. Между прочим, аналогичное представление имеет Куняев, например, о национальном самосознании шведов. В стихотворении Карл XII (с.52), оценивая радикальные перемены, произошедшие ныне в шведских приоритетах, в сравнении с эпохой Карла XII, Куняев с некоторым удивлением и вместе с тем с одобрительным концептуальным нажимом восклицает: «А все-таки нация чтит короля». Что же одобряет поэт? Он одобряет национальный инстинкт неотторжения от своей истории, от внутренней связи даже и с экстремальными, противоречивыми стадиями своего развития. В стихотворении «Листья мечутся между машин» (1967, с.53) Куняев размышляет о другом феномене русской национальной специфики - о способности расставаться со своим прошлым. Оказавшись в рязанском селе на празднике в честь Руставели, устроенном грузинскими гостями, которые пели при этом древнегрузинские песни, лирический герой Куняева испытывает горечь и досаду, «потому что беспечная Русь столько песен своих позабыла». Но герой превозмогает свою досаду. Он сознает, что утраты и разлуки все-таки не означают отпадения от основ. Ведь герой не нашел могилы отца «на погостах великой блокады», но родовую, кровную связь с отцом сберег. Герой наблюдает осеннее небо, осеннюю Оку, в которых щемяще слились судьба и прощанье. Герой прозревает, что русская способность прощаться и разлучаться содержит в себе сокровенную и благодатную энергию: Над равниной плывут журавли, Улетают в горячие дали… Вам спасибо, что вы сберегли, Нам спасибо, что мы растеряли. Но зато на просторах полей, На своей древнерусской равнине Полюбили свободу потерь И смиренье, что пуще гордыни. Аналогичные и даже более глубинные аспекты темы судьбы, темы связи времен, отпадения от прошлого и его обретения раскрываются в стихотворении «Мне было жаль, что не поймет меня...» (1969, с.96). Если в стихотворении «Листья мечутся между машин» разрыв с прошлым воспринимается поэтом с тревогой и сожалением, впоследствии преодолеваемыми, то здесь феномен пересмотра судьбы, переоценки ценностей, которые достигают степени «прощания с жизнью», представлены как фундаментальные достоинства личности. Поэт здесь сожалеет о тех, «кто ни разу с жизнью не прощался. Этому прощанию сопутствует встреча героя с собственной «нищей душой». Таким образом, утрата сопровождается обретением. Переживание утраты острое и напряженное, но не мучительное, а даже какое-то горделивое: Я шел и знал, что на моих губах осела соль мгновений быстротечных, иллюзии, развеянные в прах, горячий пепел заповедей вечных. Герой одновременно соприкасается и с прошлыми мгновениями, и с прежними иллюзиями, и с заповедями вечными, энергия которых для него иссякла, и с нищетой собственной души, в чем он прозревает нечто окрыляющее и плодоносное. Очевидно, что указание на «нищую душу» лирического героя должно возбудить ассоциацию с евангельским изречением: «Блаженны нищие духом». В стихотворения сочетаются мотивы прощания и возвращения. Эти нравственные, духовные способности во многом однородны и предполагают друг друга. Это составляет источник горделивого и приподнятого самоощущения героя. Он возвращается, «когда на белом свете ни души, все спят вповалку - даже постовые…». А для его освобожденной души все становится как бы впервые. Он освобождается от прежних впечатлений, от прежних навыков мировосприятия. Слова как посредники в его связи с миром отступают, вытесняются (« а в голове едва дымилась груда каких-то слов…»). А вместо этих разложившихся, выгоревших слов душа поэта заполняется первородными впечатлениями: Как пахнут липы, влажные внутри, как все смешалось: тонкий запах тлена, и свежесть листьев, и дыханье ветра, и розовое золото зари. Лирический герой выбирается «из колеи» иллюзий и заповедей, из колеи стереотипов и прописных истин. Он бодро и вдохновенно расстается с прежним опытом. Просторы русских полей, просторы его собственной души приучили его любить не только обретения, но и потери, расставания. Эти расставания – вековечный русский импульс обновления и возрождения. Утраты и обретения в лирике С.Куняева могут следовать друг за другом, но могут и совмещаться друг с другом, предполагать друг друга. «Нищая душа» - освобожденная душа, восприимчивая, открытая, вбирающая блага и дары мира. Освобожденная душа избегает фанатизма, односторонности, откликается на многообразие бытия и его полярности. В стихотворении «Если час удавалось урвать» (1970, с.39) поэт размышляет о своей нравственно-психологической вовлеченности в полярные стихии жизни. Он вспоминает себя подростком, когда «уходила в туманы война, коекак оживала Россия». Мальчик растроганно слушает игру матери на рояле. Эта игра «серебром заполняет округу». Музыка Грига, Листа высокая культура 19 века, конечно, контрастирует с анархичностью и разнузданностью окружающей жизни («пьяный Витя калечит подругу»). Но вместе с тем такая музыка выводит низменные факты из сферы безобразного. Вследствие этого душа подростка откликается не только на высокую культуру, но оживляется и при соприкосновении с грубыми, анархическими явлениями действительности: Черно-белые клавиши, Лист, девятнадцатый век, тарантелла… А на улице гомон и свист: мол, пора собираться на дело! Почему же авторитет матери-пианистки и авторитет культуры не отвращают юного героя от сочувственных душевных соприкосновений с сомнительными реалиями жизни. Но вспомним, что и для Блока и для Цветаевой в подобных сомнительных реалиях заключается некое обаяние, некий смысл. Блок в стихотворении «Русь» любуется Россией: Где буйно заметает вьюга До крыши утлое жилье, И девушка на злого друга Под снегом точит лезвие. А Марина Цветаева в стихотворении «Семь холмов как семь колоколов» неожиданно добавляет к своему благоговению и преклонению перед колокольной, православной Москвой неожиданно добавляет знаменательное сочувствие «московскому сброду»: Провожай же меня, весь московский сброд, Юродивый, воровской, хлыстовский. Мы не видим в подобных реакциях и оценках Блока, Цветаевой, Куняева какой-то неразборчивости, бесшабашности, бравады. В «гомоне и свисте» послевоенных куняевских подростков, в выходках цветаевского «московского сброда», в блоковском любовании девушкой, которая «точит лезвие» мы различаем знаменательную догадку о некоторой особенности русского менталитета, пусть и двусмысленной, пусть и сомнительной особенности, но пренебрежение которой исказит истину. Куняев в стихотворении «Если час удавалось урвать» настаивает на необходимости следовать и своей индивидуальной натуре и своей национальной самобытности, которые в пределе стремятся к совпадению. Лирический герой Куняева не обязывает себя к завершению, не сковывает себя постулатами, вопросы он предпочитает ответам. Он выносит свои внутренние противоречия, что является условием и предпосылкой его духовного восхождения: С той поры и пошла колея, завязались в душе два начала, две струи… И всеядность моя то губила меня, то спасала… Национальный пафос в поэзии Куняева помогает автору точно воспринимать и оценивать природу, историю, свой внутренний мир. Его творчество убеждает, что нет короче и прямей пути к истине и правде, чем тот, который открывает перед человеком любовь к Родине. Примечания 1 Куняев С.Ю. Озеро безымянное. Книга стихов. - М.:Современник, 1983, с. 93. Далее ссылки на это издание даются в тексте. В тупиках отчуждения и духовного сиротства (герои в повестях Николая Смирнова) Гаврилов В.А. г. Москва Статья опубликована в электронном журнале: "Парус" (2012 г., выпуск 18 (октябрь), 1,5 п.л. Николай Смирнов имеет свое лицо и не отступается от этого лица, какой бы жизненный материал он не осваивал в своих произведениях. В его книгах причудливо совмещаются элементы фантасмагории, демонстративной условности с грубой действительностью, с жестким «бытовизмом». В конце повести «Сын Коли-Бога» есть знаменательный эпизод, который не только выразительно завершает сюжет, но и проясняет эстетические принципы автора, особенности его художественного метода. Сотрудница бензозаправки расспрашивает водителя, доставляющего в райбольницу для вскрытия тело самоубийцы, оказавшегося соседом заправщицы. Несмотря на экстремальность события, оба собеседника ограничиваются мелочными поверхностными соображениями. Женщина «стала торопливо и уже не в первый раз пересказывать, из-за какого пустяка повесился Симонов, придавая всему этому вид повседневной случайности, привычного русского обыкновения». В своей прозе Н.Смирнов приводит множество примеров подобного восприятия реальности русским человеком. Многих персонажей Смирнова характеризует этот роковой изъян, эта обидная слабость, которая отчуждает их от подлинного смысла жизни, отчуждает их друг от друга. Тривиальное восприятие самоубийства героя, не ведущее к прозрению других участников событий, не приводящее в движение духовных и жизненных энергий, на первый взгляд, подключает Николая Смирнова к соответствующей традиции А.Чехова. Треплев в «Чайке» кончает самоубийством, Войницкий в «Дяде Ване» покушается на убийство профессора Серебрякова, но из-за этого никто не прозревает и никакие духовные и жизненные энергии в движение не приходят. Но у Чехова эти провалы и поражения персонажей объясняются ущербностью исторической ситуации и ущербностью современных людей. Вдобавок у Чехова современные люди осознают свою личную несостоятельность, рефлектируют по поводу действительности и критически относятся к ней. У Николая Смирнова констатации более удручающие и более неутешительные. Персонажи Смирнова пребывают в состоянии отчужденности, духовного сиротства, неприкаянности. Они не находят, к чему притулиться, на что опереться. Мир их бытия тесен, замкнут, скуден. Совершенно понятно, что нечем обнадежиться и воодушевиться человеку в колымском краю рудников и приисков, в краю, который заперт холодами и тайгой, на земле, не рожавшей хлеба. Гнетуще действуют на человека хилые постройки колымского поселка в повести «Василий Нос и Баба Яга»: «…строения стояли тесно и …почти каждое из них не было похоже на другое. Но эта непохожесть не разнообразила, не радовала, а наоборот, удручала. И к сарайкам, и к стенам домов чего только было не попритыкано. И бревна, и гнилушки-доски, и просто колья или свал свежих ящиков из-под консервов». На наш взгляд, этому описанию следует придать знаменательное, принципиальное значение. Дело в том, что не только в обстановке, окружающей смирновских персонажей, но и в самих их шатких, непросветленных душах «чего только было не попритыкано», кроме главного, стержневого, жизнетворного, плодоносного. Трудно чем-нибудь ободриться на Колыме, но вот в повести «Сын Коли-Бога» лишь радость от скорой встречи с матерью заслоняет от сознания и взгляда начинающего поэта Владимира Симонова безотрадное зрелище скудной жизни районного городка где-то в срединной России, в Ярославской области: «Он не замечал, как много здесь говорило о людской бедности: улица, по которой он шел от автостанции, начиналась с заброшенного дома с вынутыми уже оконными рамами, дальше по задворкам лепились огородики, разные сарайки, сделанные иногда чуть ли не из картонных коробок: чтобы обустроиться на этой земле, местные жители использовали все, начиная от ржавого, свалочного железа и бывшей в употреблении фанеры». Скудость и беспорядочность материального бытия у персонажей Смирнова соответствуют скудости и беспорядочности их духовной жизни. Вот, например, бедствующая в военное лихолетье Маша Симонова начинает подворовывать шерсть в катальной мастерской, а после заключения выходит замуж , будучи двадцатью годами моложе, за никчемного мужика, «пьяницу и лежня» Колю-бога. Этот Коля считает причастным себя к божественному. Эту причастность он демонстрирует карикатурно, скоморошески, вызывая насмешки и издевки окружающих. Не особенно много «попритыкано» в душе Коли-бога. Но суть не в том, что ничего не освоено, ни к чему не осуществлено восхождение, а в том, что даже божественное становится частью хаоса. Об этом хаосе и осквернении догадываются земляки Колибога. Они даже эту догадку распространяют на самих себя. Но догадка не превращается в подлинное раскаяние, в энергию очищения от греховности: «Сами корстовцы так растолковывали нехитрые ее смыслы (клички «Колябог» - В.Г.): «Вот-де какой у нас мужик есть – пьет-гуляет, грешит, а сам прикидывается божественным – да не такие ли и все вы?» Недостаток внутренней определенности и твердости, шаткость мировоззренческих основ мешают героям Смирнова приобщиться к плодоносным началам бытия. Труд, деятельность их не просветляют, не становятся для них чем-то самоценным. Тоскливое, мрачное настроение, которое преобладает в жизнечувствии Владимира Симонова не оставляет его и тогда, когда он приступает к работе: «Когда утром Симонов сюда приходил и надевал спецовку, жизнь в стенах с оббитой штукатуркой тоще, тщедушно оживлялась». Это тощее, тщедушное оживление лишь обостряет непрерывное ощущение героем своей и общей ущербности. Персонажи Смирнова, и вольные, и заключенные, ощущают давящий груз зависимости, никак не могут стать внутренне свободными даже тогда, когда такая возможность им предоставляется. Васька Нос, отбывший срок заключения, но не получивший разрешения на выезд с постылой Колымы, не испытывает никакого облегчения, а наоборот, чувствует себя проклятым и поверженным. Васька Нос психологически при всей своей абсолютно анархической, порабощен. разбойничьей Внутренне он натуре покоряется начальственной воле, которая для него непостижима, иррациональна, вездесуща. Он не может духовно сопротивляться этой воле систематически и повседневно. Все, на что способен Васька Нос в своей ненависти к начальству, - это взрыв, извержение слепой разрушительной стихии. Способом возражения начальству для Ветрова становится по преимуществу убийство. При этом внутренняя покорность перед начальством санкции на это убийство не дает. Васька Нос – отпетый уголовник, забубенная головушка, а прямо-таки от физиологического подобострастия перед властью избавиться не может. Это раболепство безотчетное, но от того не менее гнетущее, болезненное, вызывающее душевное помрачение и нравственные судороги. Ведь наблюдал же Василий Ветров и уязвимость и беспомощность власти. Схваченный после побега, он оказался в камере смертников вместе с бывшим секретарем обкома, совершенно поверженным, который плакал и молился. Это наблюдение и этот опыт могли бы послужить предпосылкой для дифференциации Васькиных представлений о начальстве. Но власть остается для Ветрова монолитом, фетишем, повергающим в оцепенение его душу и сознание. Власть – объект бесплодной и бессильной ненависти и причина внутреннего распада морально порабощенного ею героя. Аналогичное отношение к власти характерно и для главного героя повести Н.Смирнова «Сын Коли-Бога». Прослышав о стихотворных опытах Владимира Смирнова, партийное начальство в мастерской назначило его политинформатором. Это возмущает героя как посягательство на его личное достоинство. Между собою и начальством он ощущает бездонную пропасть. Если с бывшим уголовником он может поговорить о сокровенном, о своих стихах, то даже ближайшему, низовому начальнику он абсолютно не доверяет, хотя в общежитии этот начальник спит рядом, на соседней кровати. Смирнов иронически сообщает об авторитетных для Симонова людях: «Симонов думал про свои стихи, что они хорошие: еще в армии, в стройбате, товарищи его хвалили, один даже так говорил: «Молодец, у тебя много чувства! И здесь, на работе, хвалил его не только радиомастер, но и газосварщик, отсидевший срок в лагере и в поэзии понимавший». Выходит, статус бывшего уголовника, в глазах Симонова, свидетельствует о превосходстве в понимании жизни и в понимании поэзии. Подобная убежденность весьма укоренена в русском сознании. Что говорить о простых людях, но ведь даже Горький подчеркивает в характерах вора Васьки Пепла и вора Челкаша особые достоинства, в том числе и в сфере поэтического восприятия жизни. Смирнов в повести «Сын Коли-Бога» показывает, что отторжение рядового человека от власти мотивировано отнюдь не только ее пороками, но и капризностью, вздорностью самого рядового человека. Предложение и даже приказ стать политинформатором можно расценить как доверие начальства к Симонову. Но он не допускает иного отношения к руководству, кроме враждебности и подозрительности. Смирнов раскрывает подобное состояние героя с незаурядной психологической выразительностью: «- И меня политинформатором, мама, сделали!.. Даже и без красной книжки!выкрикнул Владимир. И с нарочитой гримасой хозяина увернул звук пластмассовой коробочки: как насекомое на стене раздавил. – Хоть дома-то этому начальству пятки прижгу! Говорят, что всего много у нас – почему же мы, рабочие, живем и ничего не видим?» Советская власть и господствующая идеология, которая тотально навязывается человеку по радио и в газетах, Симонова раздражают, он их отвергает. Однако отвергая, он попадает к ним в плен. Его эмоции и переживания слишком мотивированы властью и ее идеологией. В повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» мы наблюдаем у профессора Преображенского сугубо критическое отношение к советской пропаганде; профессор предостерегает от чтения советских газет, которые, по его ироническому замечанию, вредят пищеварению. Душевное же равновесие профессора Преображенского остается неуязвимым. Он ничуть не склонен самоутверждаться посредством истерических выпадов против советской пропаганды. А начинающий поэт Симонов в повести Николая Смирнова к этому склонен. Давить кнопку радиоприемника как какое-то зловредное насекомое - это фикция борьбы. Настоящих усилий по выстраиванию собственной души Симонов не предпринимает. Вместо этого он твердит бесплодное заклинание: «Почему я раб, раб, раб?» Здесь вроде бы и протест проступает, а, в конечном счете, оказывается бессильное пораженчество. Любопытно, что профессор Преображенский у Булгакова, сопротивляясь отвергаемой им власти, в конкретных, локальных ситуациях, достигает частичных успехов. Смирновский же Симонов, «возведенный» начальством в политинформаторы, расценивает это обстоятельство как роковое, катастрофическое. Психологически он ощущает себя попавшим в какую-то черную дыру, в которой концентрируется бесконечное зло. В его болезненном сознании абсолютным воплощением зла становится генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. Если для Ваньки Ветрова абсолютное зло концентрируется в бухгалтере Маргослепове, то для Симонова – в Брежневе. Оба персонажа бунтуют против справедливости, покушаются на убийство, но жертвой убийства становятся не те, кто должен был стать: Ванька Ветров убивает жену и дочь бухгалтера, а Симонов – собственную собаку. Хотя в повестях Симонова немало социальной конкретики, бытовых примет и деталей, писатель пытается осуществить восхождение к предельным началам и предпосылкам бытия. Мироздание не представляется Смирнову чем-то благостным, а люди и цивилизация отступившими от первородной чистоты. В самих изначальных стихиях мироздания писатель различает нечто фатально грозное и мрачное. В людских испытаниях и бедствиях Смирнов усматривает некий вселенский космический первоисточник: «И, наверное, только эти звезды, которые от мороза становились все злей и пристальней, понимали скрытую суть железных завалов – ржавых труб, распущенных тракторных гусениц, электромоторов, трансформаторов, колес, катушек тросов, что громоздились и под открытым небом, в снегах, и под ветхими навесами. Только они знали, сколько еще здесь, в омертвелом, не рожавшем хлеб земляном лоне спрятано золота. Может и весь прииск был вкайлен, втаян кострами в вечную мерзлоту для тайной и злой их воли?» Для русской классики более характерно и более знаменательно противопоставление социального зла и природной благости. Например, в финале романа Булгакова «Белая гвардия» звезды в своем вечном торжественном блистании изображены как укор людской жестокости и кровавым распрям гражданской войны. Мандельштам в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков» отстраняется от царящего зла, «от кровавых костей в колесе», в колесе истории, утешаясь благостью природы: Уведи меня, ночь, где течет Енисей, Где сосна до звезды достает… У Булгакова и Мандельштама, несмотря на отчаянность исторического момента, проступает альтернатива злу. У Смирнова зло настолько обильно, естественно, что даже звезды оказываются не обособленными от зла, а причастными к нему. Зло у Смирнова столь укоренено и неистребимо, что даже звезды воспринимаются как санкции зла и даже его источник. Но в изначальных безднах бытия для Смирнова сокрыты на только гнетущие, угрожающие начала, но и целительные, окрыляющие. Правда, последние начала оказываются для героев Смирнова недоступными, недосягаемыми. Был счастливый момент в смутной и сумбурной судьбе Владимира Симонова, настоящий дар и благодать, на который он не смог откликнуться: «Он шел по тропке уютного тротуарчика, отделенного от мощеной булыжником улицы кустами шиповника, и здесь, в теплом закутке, у обшитой тесом стены старого дома, его окликнул голос: «Вовка!»(…) Он почувствовал, что в этом закутке жизни – глубина, рай, что все здесь живое, все дышит, мерцая: и цветы шиповника, и тропка, и солнечный, ветхий тес стены. Может, все это – живое, райское - окликнуло его человеческим голосом? Он тогда и не предполагал, что такого счастливого слияния с жизнью больше никогда не будет». Для слитности с жизнью Симонову потребовалось некое чудо, потребовалось, чтобы какая-то таинственная сила окликнула его по имени. Следовательно, для счастья герою непременно нужно выйти за рамки будничности. Суть дела не в преображенной действительности, открывшейся герою в прекрасной ипостаси, а в этом колдовском, волшебном оклике. Герой не ощущает сопричастности к мирозданию и его смыслам через опостредования, через множественность и вариативность бытия. Для переживания сопричастности ему нужно что-то концентрированное и уникальное, в данном случае – непостижимый оклик по имени. Николай Смирнов убежденно и вдохновенно доказывает, что в описанный счастливый момент жизнь в ее полноте вливается в душу и в сознание героя. Но поскольку это сопряжено с редкостным условием, с чудесным окликом, то возникает основание не для окрыляющих надежд, а для сомнения и тревоги. В повести «Старосветские помещики» Гоголь в пространном лирическом отступлении делится своими впечатлениями и переживаниями от аналогичной ситуации, когда таинственный голос во время уединенной летней прогулки окликает его по имени. Гоголь испытал не радость сопричастности к миру, а леденящий ужас. Похоже, Смирнов не замечает, что герой Симонов даже в блаженное мгновенье жизни воспроизводит худшие стороны своего характера, которые так выразительно и проницательно раскрывает писатель: раздвоенность личности, ориентацию на чудо, внутреннюю изолированность, расщепленность души на редкие моменты радости и продолжительные интервалы угнетенности. Стремясь разобраться в душевных изгибах, в эмоциональных порывах, в идейных и жизненных тупиках своих героев, Николай Смирнов размышляет о нравственных проблемах и перспективах русского человека из провинции. Этот человек нередко далек от исторических магистралей, от высокой культуры, от целостного мировоззрения. Но в сознании, в поведении, в судьбе этого человека писатель обнажает острые проблемы, без разрешения которых шатким и рискованным оказывается наше будущее. В центре повести «Василий Нос и Баба Яга» - жизнь антигероя, который преступает почти все заповеди: убивает телесно и духовно, лжет, заключает сделку с дьяволом, отрекается и предает. Однако подобный вывод следует лишь из голых фактов, а к элементарным фактам содержание повести далеко не сводится. Ванька Ветров в состоянии душевного помрачения убил женщину и ее дочь – младенца для того, чтобы избавиться от внутреннего дискомфорта фатальной закрепощенности, чтобы сокрушить в себе гнетущую зависимость от власти. Ванька Ветров жестоко и преднамеренно вместо себя подводит под расстрел малодушного уголовника Василия Четвергова. Ответственен ли он за эти злодеяния абсолютно и безоговорочно? Не должно ли государство отчасти разделить с ним вину, поскольку обрекло его на нечеловеческий удел? Автор повести допускает подобный сдвиг центра тяжести в интерпретации поведения и судьбы героя. В русской классике падший человек, преступник отторгает себя от фундаментальных начал бытия, от первозданной природы. Иное дело Ванька Ветров, ставший Василием Четверговым. Васька Нос чем-то сродни грозной колымской природе, в которой явно не предусмотрены жалость, нежность, растроганность: «Все там было как-бы заново родившимся и не имело прошлого. Или оно напрочь было отрублено? И Васька Нос…будто самозародился там, сгустился, как валун в распадке, из серого цвета каменистых осыпей, галечников, серых старых столбов лагерных ограждений. Не поминал он никогда про родителей, точно их х у него и не было. Весь был оттуда – из нависей скальных пород, мхов, ягелей, тусклых кварцевых песков». Знаменательно, что Васька Нос представлен в детском восприятии. Это давнее восприятие самого автора. Васька Нос вызывает у подростка неприятные ощущения и ассоциации. Но любопытство и детская интуиция подсказывают мальчику, что в этом человеке скрыта какая-то тайна, скрыта какая-то незаурядная способность. Хотя Васька пугает детей, что умеет предсказывать смерть, ничего зловещего в нем они не улавливают. Более того, он с какой-то охотой и удовольствием ставит себя в общении с детьми в комическое положение. Он легко мирится с насмешками детей, которые опровергают его похвальбу об участии во взятии Зимнего дворца. Тем самым автор позволяет ассоциировать его со знаменитой когортой детей лейтенанта Шмидта. В портрете Васьки нет ничего зловещего и повергающего в ужас: «…человек в серенькой поношенной спецовке. Поседевшие космочки волос лезут из-под шапки, одно ухо которой отвернуто торчком вверх, другое – тесемочкой до плеча свисает. Из-за покляпого, сильно увеличенного носа глазки маленькие поблескивают хитро, будто желают сквозь перегородку эту друг на друга глянуть – замутненные, слабоватенькие, как бы крепко припугнутые некогда глазки…, а, может это они от спирта, грамм сорок которого держит Васька под дощатым столиком в железной кружке?» Да и хитрость Васьки какая-то наивная и ребяческая. Да и пятью граммами спирта он угощает подростков без уркаганской властности и давления. В повести есть символический эпизод, составляющий зерно сюжета, его смысловую подоплеку. Это эпизод с воскрешением тритона, найденного бурильщиком в глубоком шурфе. Тритон целые тысячелетия пребывал в анабиозе в кромешной тьме и холоде. Именно Ваське Ветрову, бросившему тритона на огненную плиту, удается оживить его на короткое время. Мы наблюдаем здесь повтор мотива о связи Ветрова, будущего Васьки Носа, с первобытными, неодухотворенными началами мироздания. Именно в благодарность за воскрешение тритона и получил он впоследствии от Бабы Яги «избаву» от смерти. Именно первобытная, неодухотворенная сила движет Ветровым в момент убийства Маргослеповых. Формально освобожденный, но без права выезда на материк Ветров хочет разорвать оковы, стискивающие его душу. Ненависть Ветрова сосредоточилась на бухгалтере Маргослепове, который поставил в пример Ваньке самого себя, посланного на Колыму Родиной и партией. Ванька, как Раскольников у Достоевского, хочет убить для себя, он хочет отважиться, посметь, превозмочь свою робость. Ветров внушает себе, насколько омерзителен Маргослепов. Это отвращение должно перевесить страх перед начальством, но не перевешивает. Ванька тешит себя обидой на власть, но и ненависть, обида остаются на уровне буйной, слепой страсти. Раскольников у Достоевского освободил себя от моральных запретов после тщательного анализа исторических и социальных безобразий, тем самым он обрел субъективное право на убийство. А Ванька отринул моральные запреты стихийно и бессознательно, уподобясь молнии, смерчу, землетрясению, которые убивают не рассуждая. О своих переживаниях и действиях он ничего всерьез не может помыслить. И бунт его, и робость перед бунтом смутны и бесплодны: «Страшно становится вдруг Ветрову от того, что не убить ему Маргослепова. Нет, человека убить – это раз плюнуть! – говорит себе Ванька. А страшно ему от того, что замысел этот – напасть на бухгалтера, то есть на начальника – настолько дерзновенен для Ветрова Ваньки, что даже и желание уехать на материк отрывается от этого замысла». Поэтому он «радовался», не застав бухгалтера дома, но как и Раскольников, созревший для убийства, Ванька оказывается в абсолютной зависимости от своего замысла. Раскрывая состояние антигероя, Смирнов прибегает к реминисценциям из «Преступления и наказания»: «Вот, оказывается, как», - пронеслось еще в нем, и это «вот, оказывается, как» значило, что замысел уже бесповоротно свершился и, чтобы он сейчас, Ветров, не предпринял – не в его воле уже было помешать этому замыслу». Сам факт убийства представлен в ужасающих натуралистических подробностях. Ванька настолько примитивен и бесчеловечен, что у автора не возникает оснований представить субъективный мир жертв – женщины и ребенка. Все представлено через убогое и ущербное восприятие Ветрова. В защите от укоров совести он не нуждается за отсутствием последней. Жертвы в описанном эпизоде представлены чисто функционально. Васька Четвергов, уголовник, случайно оказавшийся в камере смертников, для Ветрова также чисто функционален. Он употребляет жизнь Четвергова для спасения собственной. В камере смертников Ванька Ветров почувствовал «будто истаял до тла». Душа антигероя исчезла, провалилась в пустоту и тьму, он ощущает рядом с собой какие-то ворочающиеся звериные туши. Да и сам он инстинктом зверя догадывается, что он может присвоить жизнь Василия Четвергова: «Вот он, значит, какой», - мелькнуло у него. Этот «какой» так и вертелся в Ванькиной голове, и был он, наверное, тот самый темный образ, клок тумана или мысленной тьмы, что помогал ему быстро и остро схватывать, примерять к себе все еще никак не утихомиривавшееся, все еще происходящее убийство матери и дочки Маргослеповых». Ванька убил, теперь убьют его – дальше этой примитивной функциональности сознание антигероя не идет. Функциональность жены и дочери Маргослепова для Ваньки в том, что все их человеческие определения, их свойства исчезли для него. Самые отпетые преступники различают в младенце некий отблеск ангельского, божественного. Младенец некоторым образом выше человека, приобретающего и достоинства и пороки. Дочка Маргослеповых была поглощена темной стихией, слепой страстью Ветрова, то есть стала функцией этой страсти. Ванька Ветров еще до расстрела ощущает себя отсутствующим, исчезнувшим. Он субъективно превращается в материал для функционирования карательного механизма государства, то есть в функцию этого механизма. Моральное и волевое исчезновение антигероя превращает его в средство для приложения черных сил мира. Переход в это состояние развертывается в предсмертном сновидении Ваньки. В своих грезах он поднимается на сопки, стоит «в звездной гуще». Он тревожится: «Я по звездам иду, как бы не провалиться». Конечным пунктом его фантастических странствий оказывается избушка Бабы Яги. Облик ее отталкивающий, вызывающий отвращение. Ваньку обдает исходящим от нее запахом мертвечины, но он соглашается попробовать предложенное ею угощение, «пересилив тошноту, хлебнул раз, хлебнул другой – и сожрал все…». Ванька отдает себя под власть ведьмы, союз с дьяволом заключен. Но оказывается, что ведьма повелевает не только волей и судьбой Ваньки Ветрова, но и волей и судьбой Васьки Четвергова. Баба Яга сообщает Ваньке, что его спасение обеспечено: «- Дам – дам избаву. Тынина уж приготовлена у меня для Василия Четвергова!» Один из кульминационных моментов повести Смирнова, таким образом, выводится из традиционной системы психологических и житейских мотивировок. Четвергов обречен, и ничего предпринять для своей защиты не сможет. Баба Яга вручает Ваньке Ветрову «избаву» от смерти – нож, выточенный по воровскому стандарту. Да и в голосе, и в повадке Бабы Яги замечает он что-то родственное уголовной браваде: «Сам звук ее голоса, в котором отдавалась и блатная куражливость, и сиплый предсмертный стон – были смыслом, и были Ваньке странно близки и понятны. Таким тоном ему в лагерях не раз говаривали». Следствием фантастического сновидения оказывается сугубо материальный предмет. Подобный сюжетный ход использовал Гоголь в повести «Майская ночь или утопленница». Герой повести помогает во сне панночке-утопленнице отыскать свою обидчицу ведьму, за что вознаграждается реальной запиской, которая обеспечивает счастливый финал его любовных исканий. Левко, благородный герой, получает фантастическое подспорье в своих достойных жизненных замыслах и притязаниях. Однако впоследствии он живет и действует свободно. В другой гоголевской повести – «Портрет» - начинающий художник Чартков получает фантастическое подспорье фактически от дьявола и употребляет это подспорье для сомнительных, нечистоплотных целей. Оплачивая продажных журналистов, Чартков снискал репутацию талантливого художника. Картины же настоящих творцов он в исступлении зависти и ненависти скупал и уничтожал. Поддаваясь магнетическому влиянию черной силы, Чартков теряет внутреннее равновесие и испытывает нравственные муки. После сделки с дьяволом он лишается свободной воли. Столь же безобразными и ужасающими оказываются последствия соглашения с черной силой для Ваньки Ветрова в повести Н.Смирнова «Василий Нос и Баба Яга». В избушке Бабы Яги Ванька услышал исчерпывающее пророчество о своей судьбе: «Голос прямо из света читает: «Твоя жизнь – пирог из чертенятины». И видит Ветров: что-то черное, как огромный гроб, выступает из тьмы и загораживает выход…. «Умрешь – лопнет твоя телесная оболочка, как орех, - гудит голос, - и вспыхнет огнем твоя совесть». В повести Смирнова не обсуждается, почему вор Васька Четвергов стал добычей Бабы Яги. Пригодность же Ваньки Ветрова для участия в ее кознях и злодействах раскрыта исчерпывающе. После расстрела настоящего Василия Четвергова Ванька Ветров присвоил себе его имя и по необходимости часть его судьбы. Эта необходимость была выигрышной, так как вместо расстрела ему пришлось лишь отсидеть вполне посильный срок. Но преимущественно формальное вхождение в судьбу Четвергова через несколько лет становится вхождением реальным. Слепая мать Четвергова с помощью сердобольной соседки отыскивает своего непутевого сына, который после заключения остался на колымских приисках и материально преуспевает. Взыскание алиментов в пользу матери обеспокоило ВетроваЧетвергова. Васька отправляется в деревню, чтобы побудить свою анкетную мать отказаться от алиментов. Наступает новый кульминационный момент повествования. У старухи Четверговой не возникает ни малейших сомнений в подлинности вернувшегося сына. В противовес козням Бабы Яги возникает другой ряд психологически и житейски немотивированных предпосылок и факторов, которые влекут Ваську Носа к свету, к спасению. Он грубо и бесцеремонно втолковывает дарованной ему матери: «Все чудишь, мамаша? Уж скоро пятнадцать лет, как Вася твой косоглазый в могиле! Неужели ты сына от чужого мужика не отличишь?» Неотразимость и сокрушительность приводимых фактов старуху не убеждают. Между тем благодаря близости дарованной ему матери что-то человеческое начинает оттаивать в оледенелой, омертвелой душе Васьки Носа. Доводы Васьки на старуху не повлияли, а ее, казалось бы, безрассудное упорство в признании его сыном начинает колебать его примитивную самоуверенность относительно независимости от Васьки Четвергова. Убеждает Васька Нос старуху, «говорит, а как-то все не так выходит: словно он это про себя, словно он и убит». Если бы Васька Нос проникся сознанием своей убитости, то для него забрезжила бы надежда на воскрешение. Эта перспектива предваряется в сновидении Васьки, предшествовавшем его объяснению с матерью. В этом сновидении он карабкался по стенкам глубокого шурфа к свету, к спасению, но выход ему загородило «лицо неясно черное и словно кровавое», очевидно, лицо Бабы Яги. Васька рушится на дно шурфа. Мерцающая надежда на духовное возрождение уничтожена. В старухе Четверговой Смирнов различает богородичные черты. Богородица прощает и дарует любовь даже оступившимся, падшим, предавшим. Но скверна взяла верх в сознании Васьки Носа, и он сам отринул дар любви. После этого наступление физической смерти антигероя, можно сказать, становится формальностью. Погрязший в мерзости и лжи, Васька решается прибегнуть к помощи государства для сведения счетов со старухой Четверговой. Зная, что срок давности по его преступлению с Четверговым истек, он бесстыдно рассказывает уполномоченному об этом преступлении, чтобы получить «избаву» от алиментов. Только «избаву» от подлости, бесчеловечности, которую не раз предлагали ему жизнь и небеса, Васька Нос никогда не мог ни заметить, ни оценить. Замечательно, что видавший виды уполномоченный, к которому Васька пришел со своим подлым заявлением, уполномоченный, явно не склонный ни к религии, ни к мистике, догадывается о «пироге с чертенятиной». Уполномоченный доводит до логического конца устранение антигероя из мира живых и лишает Ваську паспорта: «-Паспорт – сдать! И беги отсюда дальше, скотинина!... Я тебе сказал, бандитская морда, чтобы ты мне на глаза на территории прииска больше не попадался!...Пусть тот, кто подначил тебя это сделать, тот пусть и выдает тебе документы!» Определенна и выразительна в повести Николая Смирнова «Василий Нос и Баба Яга» социально-бытовая основа происходящего. Но логика повествования, свойства характеров отнюдь не исчерпываются чисто психологическими и социально-бытовыми мотивировками. Смирнов показывает, как в судьбах его героев участвует фантастический элемент, как в их жизнь, в их внутренний мир вторгаются роковые силы мироздания. Но грозные и мрачные начала бытия встречают отпор в глубинах человеческого сердца и души. Бабе Яге противостоит кроткая и любящая старуха Четвергова. Победы черных сил не устраняют воли человека к сбережению своего достоинства и своей веры. В повести «Сын Коли-Бога», как и в повести «Василий Нос и Баба Яга», центральной стала проблема отпадения героя от мира и проблема его самоотчужденности, то есть отпадения от самого себя. В первой повести эта проблема приурочена к личности анархической и преступной, а во второй повести – к личности, в серьезной степени причастной к культуре и идеологии. Внутренняя раздвоенность начинающего поэта-рабочего символически воплощается в его сне о возвращении к матери в родной дом. В этом сне он представляет себя спящим и раздосадованным на стуки и шорохи за стеной, которые он приписывает соседу. Попытка выяснить отношения с соседом оборачивается ошеломляющей встречей Симонова с самим собою: « Вот какой, значит, я? Не в людях, не на работе, а по настоящему: просто, как умаленный силуэт, а не человек! Его вдруг остановило непонимание: серый, дымчатый свет этого непонимания, изумляя, все плотнее обволакивал его душу. Так порой в мастерской очаровывало его, бывало, похожее отчуждение: силился он понять – что это? – глядя, как из иного мира, на привычные окройки железа или на синие гирлянды стружек у станка». В мире политинформаций, генсеков, собраний, гипсового Ленина Симонов чувствует себя рабом, а в мире воображаемом представляет себя «умаленным силуэтом». Оба мира унылые, скудные и обескураживающие. В своей позиции Владимир, похоже, мало отрывается от куцей, но громогласной и претенциозной философии своего отца. Полусумасшедший Коля-бог шутовски ораторствует о вере и неверии, он «…косноязычно спорил сам с собой на два голоса: «Бог есть-есть-есть-есть», и тут же резко перебивал сам себя: «Бога нет-нет-нет!... Один черт вокруг!» Известно, что и вера может быть великой силой и богоборчество может быть великой силой. А кликушеские заклинания Коли-бога не влекут ни мыслительных, ни поведенческих последствий. Они остаются голой фразой, лишены всякой энергии. К тому же к этим воззваниям проповедника-забулдыги добавляется его смехотворная похвальба, что у него «есть красная книжка». У Коли-бога есть сподвижник-собутыльник, который публично клянет генсека Брежнева и предсовмина Косыгина. Но и Петя Сандалов и Коля-бог бессмысленно талдычат, что Ленин жив. Анекдотические, курьезные фигуры Пети Сандалова и Коли-бога имеют в повести серьезный смысл. Их убогое фразерство призвано подчеркнуть, что и коммунистическая пропаганда и ее низовая народная критика выродились, что омертвевшие догмы этих антагонистических позиций могут мирно сосуществовать в одной голове. То, что для Коли-бога является скоморошеской личиной и шутовским кривлянием для его сына стало содержанием внутренней борьбы и обернулось духовной драмой. Но роковая печать наследника юродивого отца не отринута, не изжита Владимиром Симоновым. Если для отца Владимира предельной ценностью был бог, пусть и в превращенной, искаженной форме, то для самого Владимира такой предельной ценностью стал коммунизм и его атрибуты – Ленин, рабочий класс, советский человек. Также как и отец, Симонов от приверженности переходит к бунту. Но и в самом бунте он не изживает отвергаемые коммунистические догмы и мифы. Бунт его оказывается бессильным и бесплодным. Первоначальную точку отсчета, систему ценностных координат он изменить не может. В голове Симонова роятся взаимоисключающие идеи, в равной степени примагниченные к коммунистическим исходным постулатам и к низовой народной критике этих постулатов. Еще во втором классе его поразила диссидентская реплика старшего мальчика. Патетическую фразу учительницы о том, что «мы идем ленинской дорогой», четвероклассник Владик в доверительном разговоре с Симоновым опровергает, что мы давно свернули с этого пути «в канаву». Этот разговор навсегда отпечатался в памяти Симонова, расщепил его сознание. А совладать с противоречием, прибиться к какому-нибудь берегу он не может. Симонов проклинает начальство, но гордится одобрительным отзывом о своих стихах ответственного сотрудника Ярославского издательства. Тот признал, что в его стихах есть надежная идеологическая основа. Симонов терзается своей раздвоенностью: «Почему чуть ли не десять лет сознательной жизни ты во всех спорах-разговорах, во всех своих мечтах-стишках любовался тем раем, в который теперь всаживаешь штык? Никому не признаюсь в этом – страшно! –так ты слабо сопротивляешься сам себе…» Симоновская неприязнь и враждебность к советской власти концентрируется вокруг бюрократического беспредела иссушающих партийной мозг заорганизованности: собраний, нелепых вокруг предвыборных изнурительных, инструктажей. Настоящий комплекс, психоз образуется и развивается в душе Симонова при созерцании ленинского бюста в райкоме партии: «Голова-то действительно мертвая!… Ему даже показалось, что голова опустилась ниже, ссохлась, как те головы-трофеи, которые засушивали индейцы в прочитанных в детстве книжках про Чингачгука. Даже багровая завеса тоже будто покоробилась, закуржавела от давнишней крови». Гипсовые изваяния и фантазии героя подменяют реальность. Конечно, советская власть способствовала сокрытию реальности от человека, но Симонов идет гораздо дальше в отстранении от живого бытия. Сам собою монумент не является ни добром, ни злом, так что симоновская одержимость все искажает. Ненависть к советскому вождю, и даже не к вождю, а к его изваянию, переходит у Симонова в ненависть к народу, к массам. Ни человек в отдельности, ни народ в целом не отделяются Симоновым от политического строя, от вождей. Он негодует против терпения и спокойствия народа. Он опрометчиво объясняет спокойствие народа соглашательством с властью, покорностью перед ней, а не тем, что народ безотносительно к власти занят своими заботами и интересами. С одной стороны, Симонов болезненно ощущает, что над ним довлеет проклятье отверженного отца Коли-бога, что он, Владимир Симонов, - дурак, что его заслуженно избегают девушки, с другой стороны, он возлагает на себя грандиозную миссию – избавить страну от Брежнева, истребить раболепствующую перед вождями толпу. В своем сопротивлении советскому он заражен советской бескомпромиссностью и агрессивностью: « бежать, бежать – а потом размахнуться и всадить штык! – и воображалось уже ему подобие той картины, где Ленин на трибуне, а сверху – светы и зарева, и толпа – старинная, еще из девятнадцатого века, и он со щелком всаживает штык в эту толпу» – так грезит Владимир Симонов, возомнивший себя революционным ниспровергателем и советской революционности и советского начальстволюбия. Погруженный в свои сомнения и подозрения, Симонов жадно впитывает извне все, что соответствует его настроениям. Жизнь как бы подслуживается ему, одобряет его помышления. Однажды во время пропагандистской лекции он подслушал разговор двух фрондерствующих инженеров, утверждавших, что социализм – это смерть и требуется прорыв к жизни. В общении инженеров ощущается непринужденность, раскованность и безбоязненная готовность поделиться друг с другом рискованными соображениями и оценками. Даже в процессе партийной промывки мозгов они не теряют себя, сохраняют свое внутреннее достояние. Симонов же «болезненно затревожился: все его тайные помыслы, все то, что он привык сам для себя называть своей душой, утянулось куда-то, угасло в пестром людском позорище. Всегда чувствовал, что в душе у него есть что-то – домашнее, тайное, а теперь не стало ничего, кроме внутреннего бессилия». Фрондерствующие инженеры и мнительный, зависимый Симонов составляют знаменательный контраст в персонажной системе повести. Для 1970-х годов опасливость Симонова представляется нам чрезмерной. Понятны страхи его матери, отсидевшей срок. Он же при всей бесшабашности домашних выпадов против начальства слишком поддается ее опасливым внушениям и предостережениям. Материал и сюжетная логика повести не дают оснований мотивировать комплексы и психозы Симонова социалистическим идеологическим прессингом. В повести Гоголя «Записки сумасшедшего», с которой проблематика и характер главного героя книги Смирнова «Сын Коли-бога» перекликается, сумасшествие Поприщина мотивируется вопиющими пороками и несправедливостью социального устройства. У Смирнова же ко лжи и порокам социальной системы, мотивирующих психическое и интеллектуальное помрачение Симонова, добавляются ложь и пороки болезненно амбициозного, но чрезвычайно изолированного от реальности сознания главного героя. Симонов во многом сам виноват, что степень его свободы не расширяется, а сокращается. Вроде бы подслушанный разговор фрондерствующих инженеров должен был укрепить его уверенность в собственной правоте, обрадовать встречей с союзниками. А ему же хочется оборвать их: «А вот сейчас как крикнуть на них, - озлился он, - как, мол, вы смеете, а?» Суть дела в том, что они смеют, а он не смеет. Они смеют делиться и доверять друг другу, а он не смеет. Его обидчик Фонарев смеет ухаживать за девушками, а Симонов после первой неудачи поставил крест на любовных надеждах. Поэтому он так злобствует, подозревает и обособляется от людей, добившихся успеха. Он, например, беспочвенно подозревает парторга Уткина в том, что тот донес на него редактору Хитрову, и этим вызвана задержка публикации стихов. Но ведь стихи его были прочитаны по радио. Таким образом, сам Симонов обрекает себя на неудачи, полагаясь лишь на свой природный талант и не желая учиться. Бойкотирующее отношение к жизни лишает Симонова энергии и жизненных перспектив. Чрезвычайно символичен эпизод из симоновского детства, который любит пересказывать его мать. Четырехлетний Владимир увел младшего брата в бор и не откликался на зов матери. Мать в воспоминаниях до сих пор растрогана его взрослостью, а надо бы тревожиться по поводу его отстраненности, отрешенности. Не откликается Симонов ни на зов парторга, назначившего его политинформатором, ни на зов инженеров-диссидентов, критикующих социализм. Даже в этой критике он готов усомниться, даже от нее он отшатывается: «Не сокрыт ли даже и в самом обличении социализма обман, не навязывается ли он хитро, чтобы хоть на сколько-нибудь отвлечь усилия ума от подлинной причины того ада, которым неприметно обрастает земля?» В этой чудовищной догадке об аде, которым якобы обрастает земля, Симонов видит «избаву», спасение от заблуждений и хитроумных интеллектуальных ловушек, подстраиваемых нам неутомимыми врагами и недалекими наивными союзниками. Поразительно, как эта догадка об аде равносильна утверждению Коли-бога, что Бога нет, а «один черт кругом». У Коли-бога такая констатация носила отвлеченный характер, а его сын подозрение о реальности ада связывает с реальностью социализма. Определив социализм как виновника тягот и лишений, Симонов намеревается уничтожить главного социалистического начальника Брежнева. Перед воображаемым поединком с Брежневым у Симонова случилась реальная схватка с земляком Фонаревым, любовным соперником Владимира. Драка произошла по инициативе Симонова, завершилась не только его поражением, но и внутренним крушением, самоубийственной просьбой «добивай меня». Таким образом, бесконечные притязания и мессианские порывы совмещаются у героя с вопиющей беспомощностью в конкретных, частных делах. Да и от претензий к социализму он склоняется к неверию в благоустройство мира вообще. Вот какие безотрадные, безутешные настроения нередко одолевают Владимира: «Как выдержать всю эту застывшую на века омертвелость, время без времени. Такое стояло и в двенадцатом веке, и в семнадцатом, и в революцию, и сейчас стоит недвижимо в этом овраге: затаилось в своей адской мгле». Получается, что все в этом мире – смерть и адская мгла. Неверие, отрицание мира ведет героя к самоотрицанию. Воля к жизни истощается и уступает воле к смерти. В повести «Сын Коли-Бога» Николай Смирнов раскрывает феномен стихийной народной оппозиции практике и идеологии социализма. Эта оппозиция смутная, противоречивая, болезненная. Симоновы отнюдь не Базаровы. Хотя и на Базарова порой находит уныние, но он стоит за свою правду непреклонно и достоинства своего никогда не роняет, убеждений не скрывает. Критицизм Симонова не вселяет в него ни силы, ни гордости, ни сознания своей правоты. Его критицизм распространяется с социализма на мир в целом, а потом и на самого себя. Человек без надежды, без веры перестает различать истинные дары и блага бытия. В нем развивается бойкотирующее отношение к жизни, он перестает откликаться на ее благие зовы. Н.Смирнов в повести «Сын Коли-Бога» убеждает, что русский человек сохранил в своей душе чувство высокого предназначения, исторической роли. Но это великое достоинство русского человека на исходе двадцатого столетия оказалось поврежденным и нуждается в возрождении и очищении. У Николая мотивированное Смирнова миросозерцание, есть ставшее оригинальное, предпосылкой глубоко подлинных художественных открытий. Характеры и ситуации, представленные в произведениях писателя, замечательны смысловой энергией, заостренностью и сгущенностью обобщений. К тщательной бытовой детализированности, к серьезной социальной мотивированности характеров и событий в произведениях Николая Смирнова добавляются попытки писателя проникнуть в иррациональные исторических процессов. предпосылки человеческих судеб и