О теории новеллы
advertisement
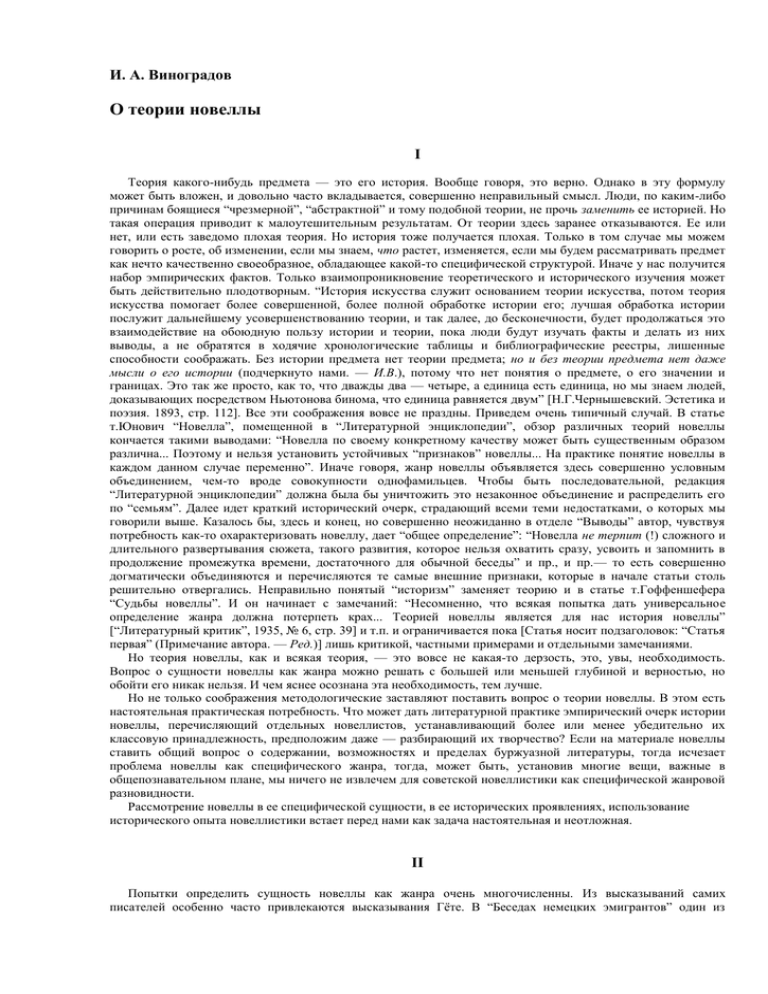
И. А. Виноградов О теории новеллы I Теория какого-нибудь предмета — это его история. Вообще говоря, это верно. Однако в эту формулу может быть вложен, и довольно часто вкладывается, совершенно неправильный смысл. Люди, по каким-либо причинам боящиеся “чрезмерной”, “абстрактной” и тому подобной теории, не прочь заменить ее историей. Но такая операция приводит к малоутешительным результатам. От теории здесь заранее отказываются. Ее или нет, или есть заведомо плохая теория. Но история тоже получается плохая. Только в том случае мы можем говорить о росте, об изменении, если мы знаем, что растет, изменяется, если мы будем рассматривать предмет как нечто качественно своеобразное, обладающее какой-то специфической структурой. Иначе у нас получится набор эмпирических фактов. Только взаимопроникновение теоретического и исторического изучения может быть действительно плодотворным. “История искусства служит основанием теории искусства, потом теория искусства помогает более совершенной, более полной обработке истории его; лучшая обработка истории послужит дальнейшему усовершенствованию теории, и так далее, до бесконечности, будет продолжаться это взаимодействие на обоюдную пользу истории и теории, пока люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные способности соображать. Без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о его истории (подчеркнуто нами. — И.В.), потому что нет понятия о предмете, о его значении и границах. Это так же просто, как то, что дважды два — четыре, а единица есть единица, но мы знаем людей, доказывающих посредством Ньютонова бинома, что единица равняется двум” [Н.Г.Чернышевский. Эстетика и поэзия. 1893, стр. 112]. Все эти соображения вовсе не праздны. Приведем очень типичный случай. В статье т.Юнович “Новелла”, помещенной в “Литературной энциклопедии”, обзор различных теорий новеллы кончается такими выводами: “Новелла по своему конкретному качеству может быть существенным образом различна... Поэтому и нельзя установить устойчивых “признаков” новеллы... На практике понятие новеллы в каждом данном случае переменно”. Иначе говоря, жанр новеллы объявляется здесь совершенно условным объединением, чем-то вроде совокупности однофамильцев. Чтобы быть последовательной, редакция “Литературной энциклопедии” должна была бы уничтожить это незаконное объединение и распределить его по “семьям”. Далее идет краткий исторический очерк, страдающий всеми теми недостатками, о которых мы говорили выше. Казалось бы, здесь и конец, но совершенно неожиданно в отделе “Выводы” автор, чувствуя потребность как-то охарактеризовать новеллу, дает “общее определение”: “Новелла не терпит (!) сложного и длительного развертывания сюжета, такого развития, которое нельзя охватить сразу, усвоить и запомнить в продолжение промежутка времени, достаточного для обычной беседы” и пр., и пр.— то есть совершенно догматически объединяются и перечисляются те самые внешние признаки, которые в начале статьи столь решительно отвергались. Неправильно понятый “историзм” заменяет теорию и в статье т.Гоффеншефера “Судьбы новеллы”. И он начинает с замечаний: “Несомненно, что всякая попытка дать универсальное определение жанра должна потерпеть крах... Теорией новеллы является для нас история новеллы” [“Литературный критик”, 1935, № 6, стр. 39] и т.п. и ограничивается пока [Статья носит подзаголовок: “Статья первая” (Примечание автора. — Ред.)] лишь критикой, частными примерами и отдельными замечаниями. Но теория новеллы, как и всякая теория, — это вовсе не какая-то дерзость, это, увы, необходимость. Вопрос о сущности новеллы как жанра можно решать с большей или меньшей глубиной и верностью, но обойти его никак нельзя. И чем яснее осознана эта необходимость, тем лучше. Но не только соображения методологические заставляют поставить вопрос о теории новеллы. В этом есть настоятельная практическая потребность. Что может дать литературной практике эмпирический очерк истории новеллы, перечисляющий отдельных новеллистов, устанавливающий более или менее убедительно их классовую принадлежность, предположим даже — разбирающий их творчество? Если на материале новеллы ставить общий вопрос о содержании, возможностях и пределах буржуазной литературы, тогда исчезает проблема новеллы как специфического жанра, тогда, может быть, установив многие вещи, важные в общепознавательном плане, мы ничего не извлечем для советской новеллистики как специфической жанровой разновидности. Рассмотрение новеллы в ее специфической сущности, в ее исторических проявлениях, использование исторического опыта новеллистики встает перед нами как задача настоятельная и неотложная. II Попытки определить сущность новеллы как жанра очень многочисленны. Из высказываний самих писателей особенно часто привлекаются высказывания Гёте. В “Беседах немецких эмигрантов” один из персонажей говорит о том, что “интерес происшествия в его новизне... Обычно лишь новое кажется важным, ибо оно, без всякой связи с прочим, вызывает удивление и на мгновение приводит в движение наше воображение, лишь слегка задевая наше чувство и вполне оставляя в покое наш разум”. Однако “среди многочисленных историй из частной жизни... встречаются многие, которые до сих пор обладают более чистой и привлекательной прелестью, чем прелесть новизны”, и далее он говорит о рассказах, которые “раскрывают перед нами на мгновение глубокие тайники человеческой природы: об историях столь же обыденных, как и те люди, с которыми они приключились”, о происшествиях, “которые на мой взгляд характерны, которые затронули и заняли мой ум и мою душу” [Гёте. Собрание сочинений, т. VI. М., ГИХЛ, 1934, стр. 184]. В “Разговорах” Эккермана также имеется запись о новелле: “Разговор зашел о том, какое заглавие дать новелле... Знаете что? — сказал Гёте.— Озаглавим просто “новелла”, это и есть новое невиданное происшествие” [Эккерман. Разговоры с Гёте. М.—Л., “Academia”, 1934, стр. 344]. Это, конечно, еще не теория — это ряд замечаний, суждений о новелле писателя, размышляющего о сущности и технике своего дела. Из способа изображения “происшествия” исходят Шлегель и Тик. “Новелла представляет в самом ярком свете незначительный или значительный случай, который хотя и вполне возможен, тем не менее является удивительным, — пожалуй, единичным”, — пишет Тик. Как “младший”, фрагментарный по отношению к роману жанр и вместе с тем как крайнее “сосредоточение” жизни рассматривает новеллу (называя ее повестью) Белинский. “Когда-то и где-то прекрасно было сказано, — пишет он в статье “О русской повести и повестях Гоголя” (1835), — что “повесть есть эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих”. Да, повесть — роман, распавшийся на части, на тысячи частей, глава, вырванная из романа... Жизнь наша современная слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отражалась в поэзии, как в граненом угловатом хрустале, миллион раз повторенная во всех возможных образах, и требуем повести. Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновеньи сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века,— повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки” [Белинский. Избранные сочинения, т. I. 1907, стр. 91. Необходимо отметить, что роман, по мнению Белинского, изображает действительную жизнь и частную жизнь, — следовательно, эти признаки переносятся и на повесть]. Очень любопытное суждение о коротком рассказе находим мы в “Серапионовых братьях Гофмана. “Произведения для чтения вслух надо выбирать с большой осмотрительностью, и я думаю, что, кроме живейшего, прямо из жизни вырванного интереса, они непременно должны быть невелики объемом... По моему мнению, — сказал Отмар, — произведения, предназначенные для чтения вслух, должны приближаться к драматической форме или даже быть совсем драматическими” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II. 1896, стр. 88—89]. Из мнений, подчеркивающих самый характер изложения событий в новелле, укажем еще на мнение Эдгара По. Он говорит о романе: “Так как он не может быть прочитан в один присест, он тем самым лишает себя огромной силы, связанной с ощущением целости” — и далее отмечает необходимость выбора “центрального эффекта” и такого изложения событий, которое всего лучше может содействовать выявлению этого эффекта. Со стороны изображения характера подходит к новелле Шпильгаген, говоря, что новелла, в отличие от романа, “имеет дело с готовыми характерами”. Постоянно и настойчиво указывает на необходимость предельно сжатого изложения, на необходимость краткости, максимального использования каждой детали Чехов, один из величайших мастеров короткого рассказа. Собственно, это основные суждения о новелле. Теория Пауля Гейзе, позднейшие работы западноевропейских и русских теоретиков, формалистов и неформалистов, или берут какой-то один признак, пусть подчас и важный, и отрывают его от остальных, или комбинируют ряд признаков, скорее лишь детализируя приведенные выше суждения, чем их углубляя. Мы привели все эти суждения менее всего для того, чтобы с самого же начала отвергнуть их, заявить об их несостоятельности. Нет ничего легче, как опровергнуть примерами и принципиальными соображениями и теорию “необычайности”, и теорию “одного происшествия” и особой “сюжетности”, и теорию “установки на устное повествование” и пр. Такая критика необходима, но это лишь вступление. Ограниченная задачей только “разоблачения” и отрицания, она бесплодна. Гораздо важнее и плодотворнее показать не только ложность, односторонность, но и долю объективной истинности всех этих теорий. Всякая подлинная наука, направленная на познание объективной действительности, опирается на какие-то грани, стороны, черточки, закономерности самой этой действительности. Вместо сомнительного удовольствия сразу показать себя “умнее” и “глубже” Гёте или Белинского, мы сможем, исходя из принципиально других позиций, “вобрать” их суждения в свои, обогатить наше знание предмета, рассмотреть его, опираясь на предшествующую теоретическую работу. Однако задача состоит вовсе не в том, чтобы механически соединить все эти теории, суммировать все те признаки новеллы, которые когда-либо указывались. Мы получим таким путем лишь мнимую широту и многосторонность. Это будет механический набор черт, не связанных никакой внутренней логикой, часто явно противоречивых. Задача состоит в том, чтобы, уяснив относительную правомерность различных суждений о новелле, показать вместе с тем ту “сущность” предмета, в которой они коренятся, к которой они восходят. Развитие “теории” любого предмета происходит путем “вбирания”, переработки итогов предшествовавшего научного изучения. Это помогает внести ясность и вот в какой вопрос. Мы стремимся к теоретическому определению новеллы. Но определение вовсе не означает какой-то мертвой, не способной к развитию, застывшей формулы. Вся наука о каком-либо предмете есть “определение”, “понятие” его. Сжатое указание на наиболее существенные черты предполагает возможность все более и более многостороннего и детального раскрытия предмета. Разными путями, с разных сторон изучая историю новеллы, изучая историю суждений о новелле, опираясь на общие принципы марксизма, мы должны подойти к пониманию существа новеллы как жанра и затем показать, как развивается, изменяется новелла, какие различные формы она принимает, показать, какую же объективную основу имели те многочисленные, разноречивые и односторонние суждения о новелле, о которых мы говорили. III В чем же сущность новеллы? И что такое эта сущность? Искусство представляет собой отражение действительности общественным человеком. Что же это за особая форма отбора, раскрытия, изображения явлений объективного мира — новелла? Определяется ли она самым характером жизненного материала, взятого художником, или субъективным углом зрения, подходом к этому материалу? Новелла есть часть, форма познавательной деятельности общественного человека, — как же она возникает, развивается, изменяется? Какие частные признаки, стороны новеллы можем мы указать и чем они объясняются? Новелла как жанр развивается в буржуазной литературе. Литературный материал, на который опиралась новелла, имел большую давность. В “странствующих рассказах”, которыми питалась новелла, скрещивались следы самых различных влияний. Но “материал этот только тогда выделится в известный род словесности, только тогда достигнет и определенной, более или менее художественной формы, когда и в общественной жизни, рядом с рыцарски-феодальным бытом, вступит в свои права окрепший городской элемент. Тогда реалистически настроенная повесть найдет себе художественное завершение в итальянской новелле XIV века... Если, в противоположность рыцарской эпопее, этот отдел народной литературы можно назвать порождением сатирически-буржуазного духа, то понятно, почему именно в Италии такие произведения получили широкое художественное развитие... Народу талантливых ремесленников, торгашей, банкиров, ведших дела свои со всей Европой, должны были приходиться по вкусу те древние восточные сказки и повести, где на сцену выводится ловкость, хитрость коммерческого человека, проницательность простолюдина, остроумная загадка, решение спутанного процесса или новый, особый вид плутовства, обманы мужей женами, скандальные похождения монаха и т.д.” [А. А-ва. Итальянская новелла и “Декамерон”. “Вестник Европы”, 1880, февраль, стр. 581—583]. К такому объяснению пришла еще буржуазная история литературы. Новелла была одним из тех литературных явлений, в которых социальное содержание обнаруживалось легче и очевиднее, чем во многих других. Взятая в широком историческом плане, новелла была выражением “буржуазного духа” в литературе. Новелла опиралась не только на литературные источники, — важнее то, что она вырастала из быта, несла в “большую литературу” живой материал окружающей жизни. А.Н.Веселовский отмечает в “Декамероне” группу местных или исторических повестей, лишенных традиционного значения, “рассказов об остроумных выходках и шутках”, одним словом, “новостей дня” [А.Н.Веселовский. Бокаччо, его среда и сверстники. Собрание сочинении, т. V. Пгр., 1915, стр. 465]. Как непосредственно из быта возникали подобные рассказы, очень хорошо видно на примере “Фацетий” Поджо Браччолини. Не только новый жизненный материал несла с собой новелла, но и новое отношение к нему. Реалистическая трезвость, разрушение и осмеяние старых феодальных ценностей, прославление жизни с ее наслаждениями, преклонение перед буржуазной ловкостью, хитростью, оборотистостью характеризуют новеллу на ее первых шагах. Стоит вспомнить замечательные слова Маркса из “Коммунистического манифеста”, какими он характеризует буржуазное общество, слова о разрушении “всех прочных, заржавелых отношений, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями” [К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т. V. М.—Л., 1929, стр. 486] о том, что “люди вынуждаются, наконец, взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение” [Там же]. При всей буржуазной ограниченности этого духа, во всем этом было и огромное положительное значение. Литература реалистически и трезво подходила к изображению “типических характеров” своей эпохи, проникалась реалистическим познавательным содержанием. Но ведь все эти свойства новелла разделяет с буржуазным романом. Может быть, роман даже шире и полнее решал эту задачу реалистического изображения типических характеров. В чем же заключаются своеобразие, специфические задачи новеллы? Самое простое, что можно сказать о новелле,— это то, что она малая эпическая форма в буржуазной литературе. Определение это кажется крайне наивным и вызывает часто прямо насмешки. Его высмеивает, например, т.Гоффеншефер в своей статье о новелле. Но можно было бы возразить, что во всех спорах о новелле только это оставалось всегда наиболее очевидным и устойчивым. Это — нечто наиболее простое, приметное, бросающееся в глаза. И дело не в том, что определение новеллы как короткого повествования неверно, а в том, что оно слишком внешне, что его нужно раскрыть. Количество, размер выступает здесь как наиболее очевидное выражение качественных особенностей. Мы ссылались выше на характеристику буржуазного духа в “Коммунистическом манифесте”. Можно еще специально для характеристики новеллы сослаться на известное место из “Введения к критике политической экономии”, где Маркс говорит о греческом эпосе. “Что сталось бы с богинею Фамою при наличности Printinghousesquarе?” (типография “Times” в Лондоне), — пишет Маркс [К.Маркс. К критике политической экономии, 1932, стр. 42]. “Молва” в буржуазном обществе существует, однако, не только в виде газеты. Одним из ранних проявлений ее были фабльо, шванки, фацетии. Новеллистика вывела эту буржуазную молву, этот устный рассказ о привлекшем внимание, чем-то примечательном происшествии в “настоящую” литературу. Сходный дух часто проявляется в различных вещах. Есть нечто, что роднит буржуазную новеллу с отделом происшествий в буржуазной газете, с хроникой событий и нравов. Если роман был эпосом буржуазного общества, то к рождению новеллы причастна богиня Фама этого общества. И дело тут не только в том, что новелла тесно связана с фольклором, с устным рассказом, из него вырастает, но в самом стремлении рассказать, запечатлеть в острых и выразительных формах “случившееся”, то, что поразило, остановило внимание, передать характерные эпизоды живого потока быта и нравов. Малые эпические формы имелись и в предшествовавшей литературе. Такова, например, сказка, религиозная легенда. Но есть принципиальная разница между ними и новеллой, разница в самом подходе к действительности. “Сказка и шванк суть нечто в основе различное, потому что они не стоят друг с другом ни в какой генетической связи” [Ludwig Felix Weber. Märchen und Schwank. Kiel, 1904, стр. 78], — делает вывод Людвиг Вебер после сопоставления сказки и шванка. “Что до основания, на котором они покоятся, то материал, из которого они образованы, не одинаков. Сверхчувственный мир, являющийся для шванка только ложью, призраком, в который верят только глупцы, есть мир сказок”, — заявляет он далее. Мир легенды — также в значительной степени мир фантастических представлений большею частью религиозного характера. И у сказки и у легенды есть свой материал, свои принципы подхода к действительности, глубоко отличные от материала и подхода к действительности в фабльо, шванке, новелле. Уже этот общий “дух”, эта общая тенденция несколько уточняют характеристику новеллы как “краткой повествовательной формы”, но этого еще совершенно недостаточно. Пока новелла вырисовывается здесь еще в самом общем виде. Только отсюда, собственно, и должно начаться раскрытие, уточнение ее специфики. Количественный признак не определяет новеллы, но он вводит нас в ее существо (если мы все время будем помнить о своеобразии самого социального содержания новеллы). Но необходимо с самого же начала предостеречь от ошибочного пути, на который весьма часто вступают, пытаясь объяснить внутреннюю основу этой внешней сжатости новеллы. Весьма часто рассматривают новеллу как изображение “одного” эпизода, случая, происшествия, видят ее особенность в ограниченности как количества событий, так и количества персонажей, которые она может охватить. Ограниченностью самого материала, узостью изображаемой действительности пытаются в данном случае объяснить сжатость, малый размер новеллы. Чтоб показать ошибочность такого мнения и вместе с тем наметить тот путь, который кажется нам правильным, разберем новеллу 7-ю второго дня “Декамерона”. “Декамерон” — классический памятник новеллистики, и, теоретизируя о новелле, обращаются всего чаще именно к нему. Та новелла, о которой мы говорим, любопытна в теоретическом отношении как раз тем, что она чрезвычайно насыщена людьми н событиями, приближаясь в этом отношении к роману, и все-таки остается типичной новеллой. Содержание этой новеллы вкратце изложено в ее заголовке: “Султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужество к королю дель Гарбо; вследствие различных случайностей она в течение четырех лет попадает в разных местах в руки к девяти мужчинам; наконец, возвращенная отцу как девственница, отправляется, как и прежде намеревалась, в жены к королю дель Гарбо” [Джованни Бокаччио. Декамерон. М., “Academia”, 1930, ч. I, стр. 172]. Алатиэль отправлена отцом, султаном Вавилонии, в замужество к королю дель Гарбо, но ее корабль терпит крушение, и она поочередно попадает в руки Периконе да Висальго, его брата, генуэзских корабельщиков, аморейского принца, афинского герцога, сына константинопольского императора, султана Осбека, его приближенного Антигона, купца из Кипра — и, наконец, своего жениха. Новелла эта кончается следующими словами: “Король дель Гарбо очень обрадовался и, послав за нею с почетом, радостно ее принял. А она, познавшая, быть может, десять тысяч раз восемь мужчин, возлегла рядом с ним как девственница, уверила его, что она таковая и есть, и, став царицей, долгое время жила с ним в веселии. Вот почему стали говорить: уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются” [Там же, стр. 199]. Как видим, это классическая новеллистическая концовка, “pointe”, где сосредоточена вся ее сила. Новелла и строится на противоречии всей бурной истории Алатиэль и неожиданного конца. Как мы сказали, людей и событий, затронутых в этой истории, хватило бы на добрый роман. История эта явно взята из литературной традиции и, вероятно, восходит к построениям романного типа. “Приключения напоминают отчасти канву романа Ксенофонта Эфесского и одну сказку 1001-й ночи” [А.Н.Веселовский. Собрание сочинений, т. V. 1915, стр. 495], — пишет Веселовский. Но там девушка выходит из многих приключений действительно целомудренной. Больше близости находит Веселовский с повестью Katha Сарит-Сагара, “которая могла дойти до Бокаччио в отражении какого-нибудь мусульманского пересказа” [А.Н.Веселовский. Собрание сочинений, т. V. 1915, стр. 495—496]. “Самара, король видьядгаров, проклял свою дочь Анангапрабгу за то, что в самомнении своей красоты и юности она отказывалась от брака: она сойдет на землю, станет человеческим существом и никогда не будет счастлива в супружестве” [Там же, стр. 493]. Далее идет рассказ о ее приключениях. Сопоставление если не с этой повестью, то с какой-либо подобной тем более убедительно, что тема роковой красоты осталась и в новелле Бокаччо, но осталась как рудимент, не совсем даже понятный. О “роковой красоте” упоминается уже в самом начале: “я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой, по причине ее красоты, пришлось в какие-нибудь четыре года сыграть свадьбу до девяти раз” [“Декамерон”, ч. I, стр. 174], и далее этот мотив возвращается не однажды. Но он здесь лишен прежнего смысла. В новелле Боккаччо нет вступительного эпизода с проклятием, объясняющим роковую долю красавицы [А.Н.Веселовский. Указ. соч., стр. 498], — справедливо замечает Веселовский. Однако никак нельзя согласиться с ним, что будто бы здесь есть “идея судьбы”. Какая же это “судьба”, если все кончается веселым обманом и поцелуйной моралью, если новелла как целое и держится этим противоречием “нецеломудренных” злоключений и “целомудренного” конца. “Рок” здесь — остаток прежнего объединяющего идейного принципа, но он не выдержан здесь до конца. В общей конструкции новеллы он оттеснен на задний план, он инороден идее новеллы, он включен как некий традиционный “нарост” в новое идейное и конструктивное целое. Не идея судьбы интересовала здесь Боккаччо, а буржуазная “возрожденческая” мораль. И по существу весь материал “приключений” несет здесь другую тему. Неважно, “роком” обусловлены они или нет, важно то, что это “падения” красавицы (среди них есть и невольные и вольные), и важна самая их многочисленность. Но нам необходимо выяснить не только изменение идейного принципа, но и специфичность новеллистической обработки этого материала. Специфичность здесь, как видим, не в количестве персонажей и событий, — их, повторим еще раз, хватило бы на добрый роман, построенный на идее “судьбы” или какой-либо другой идее,— специфичность в самом способе охвата, художественного освоения этих событий. Они упрощены, сжаты, сокращены. “Сложность” событий и взаимоотношений отступает на задний план перед их “цельностью”. Каждое новое приключение важно лишь как новое “падение” невесты короля дель Гарбо. Движение, необратимая последовательность событий, переходы отступают на задний план перед количественным суммированием “падений”. В сущности, конструкция новеллы не пострадала бы, если бы “падение” было однократным, — остались бы и обман и специфическая мораль. Многократность “греха” не столько раздвигает рамки новеллы вширь, сколько усиливает один из полюсов этого противоречивого сочетания, а через него и всю “тему” новеллы. Сделаем большой скачок во времени. Возьмем “психологическую”, “лирическую” новеллу Чехова. Одной из лучших своих новелл, если не самой лучшей, Чехов считал новеллу “Студент”. Это авторское мнение если и не говорит нам о ценности новеллы, то, по крайней мере, позволяет заключить, что Чехов выразил в ней нечто особенно существенное для него, особенно органически “передуманное и перечувствованное”. Новелла очень коротенькая — четыре неполных странички. Студент Иван Великопольский возвращается с тяги домой. Вечер. Пустынно. Холодно. “Пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут,, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше” [А.П.Чехов. Полное собрание сочинений, т. X. Пгр., 1918, стр. 48—49]. Он подходит к костру, около которого две бабы стерегут огороды. Студент начинает рассказывать им евангельскую легенду об отречении Петра и его раскаянии. Одна из баб плачет. “Студент... подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям... Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой...” Он “думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле” [А.П.Чехов. Полное собрание сочинений, т. X. Пгр., 1918, стр. 51]. Рассказ очень короток и вместе с тем стремится как бы включить в себя всю человеческую историю, сведя ее к двум основным силам — дикости, нищете, невежеству и высокому чувству правды и красоты. Нетрудно увидеть в этом рассказе основную тему Чехова, основное противоречие, проходящее через все его творчество. На сотнях лиц и событий показывает он силу мрака, убожества, пошлости, и все же в нем остается вера в правду и человечность, мечта о “небе в алмазах”. Мы можем понять, почему Чехов придавал этому рассказу такое большое значение, так его любил: весь пафос его критики и весь пафос его утверждения выражен здесь в сжатой, сконцентрированной форме, дан с философской обобщенностью и широтой. Это, так сказать, новелла о всей жизни, о всей мировой истории, об ее основных силах, как их понимал Чехов. (Здесь, между прочим, отчетливо видна и “сила” и “слабость” этого понимания.) Итак, не объемом охваченного времени и пространства, не количеством лиц и событий определяется новелла. Заостряя эту мысль, можно сказать, что новелла в состоянии огромные горизонты, всю мировую историю включить в свои пределы, и, в свою очередь, мыслим и существует роман, который берет лишь один день, ограничивается одной семьей, небольшой группой лиц, почти одним человеком. Примеры этого не так уже редки. Но в самом характере охвата событий, как это видно уже из приведенных примеров, будет большое своеобразие. Очевидно, что не во внешней ограниченности материала, а в самом способе раскрытия действительности нужно искать специфичность новеллы, настоящую основу ее количественной стороны. Возьмем такой простой пример. В “Брусках” Панферова дается изображение роста, изменения, развития самых различных людей. Как это делается? Эпизод за эпизодом, день за днем, от месяца к месяцу, от года к году, показывается, в какие обстоятельства попадает тот или иной человек, как он сталкивается с другими людьми, как он реагирует на все это, как он меняется постепенно. Правда, это движение событий не сплошное, а прерывистое. Эпизоды взяты “узловые”, наиболее яркие и характерные, но все-таки здесь тема роста раскрывается через длительное и последовательное движение, через поток событий. Предположим, что эту тему роста хочет раскрыть своими средствами новеллист. Предположим, что малый размер в данном случае предстоит ему как заранее данная задача. Ясно, что он должен как-то иначе показать эту тему. Он может, к примеру говоря, взять исходный и конечный пункт движения и сопоставить их, он может дать лишь один конечный пункт, как-то внедрив в него указание на пройденный путь. Он может дать быстрое и сжатое изложение большого количества событий под одним “знаком” (как это было в приведенной выше новелле Боккаччо). Он может взять один эпизод и показать в нем всю динамику движения. Ведь по “силе” и “направлению” движения в один данный момент мы можем судить и о дальнейшем движении, о “законе” его. Мы не говорим, что предлагаемые способы решения этой задачи будут лучшими из возможных. Художник может найти и какие-то другие способы, более удачные. Но нам хочется только отметить, что он иначе будет отбирать и развертывать события. И дело тут не только в изложении событий. Нет, сама тема будет трактована несколько по-иному, “укрепленнее”, если можно так выразиться, будет дана уж не с такой детализацией и сложностью, в более основных и простых очертаниях. Ведь внутреннюю тему, идейное содержание произведения нельзя рассматривать отдельно от всей системы образов. Внешняя широта романа дает вместе с тем возможность более детального, сложного раскрытия внутренней темы, идеи его. Замечательные слова Пушкина, что роман все “выбалтывает до конца”, важны не только для внешней характеристики романа, но и для понимания самого способа раскрытия существенных сторон действительности в нем. Но раз так, то встает задача определить более точно и подробно, в чем же состоит это своеобразие раскрытия действительности в новелле. Всякое художественное произведение не является какой-то механической совокупностью людей, фактов, событий. Нет, во всей этой совокупности конкретно-чувственных фактов есть внутренний смысл. Искусство отражает не только факты, но и связи, реально существующие в действительности. Законченность, цельность художественного произведения создается именно наличием внутренней связи между всеми его частями и наличием какого-то единства во всем многообразии изображенных сторон и отношений. Подобно тому как в логическом мышлении утверждение “А есть А” бесполезно и ни для кого не интересно, подобно тому как в логическом мышлении необходимо, чтобы в этом А открывалось что-то новое и большее, так и в литературе нужно что-то открыть в реальных фактах и отношениях, что-то такое, о чем вообще стоило бы рассказывать. Мы хотим этим сказать пока еще очень простую вещь: содержание литературного произведения есть как бы развертывание, раскрытие действительности. Тут есть как бы некоторое подобие с логическим мышлением, с логическим суждением. Это относится и к внутреннему содержанию произведения, к тому, “чтό хочет сказать” или чтό говорит художник своим произведением, но это же относится и к развертыванию описания или повествования, к самому изображению фактов. Должно быть какое-то “прибавление”, раскрытие жизни в самом художественном изложении фактов. Только тогда это будет иметь какой-то интерес. Поскольку многосторонность, связь, движение, изменение суть проявления общего закона противоречия, мы можем говорить о том, что искусство раскрывает противоречия действительности. Описать, рассказать что-то — это значит хотя бы и частично, поверхностно, но отразить противоречивость жизни. Посмотрим, что это значит, на примере “Декамерона”. Новеллы “Декамерона” уже как-то распределены и объединены самим автором. Только два дня собеседники Декамерона “рассуждают о чем кому заблагорассудится”. Впрочем, и в первом дне семь новелл — это новеллы об удачном, остроумном ответе. Остальные дни как-то сюжетно объединены — это рассказы “о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели” (день второй), “о тех, кто благодаря своей умелости добыл что-либо им сильно желаемое, либо возвратил утраченное” (день третий), “о том, чья любовь имела несчастный исход” (день четвертый) и т.д. Объединение это весьма внешнее и приблизительное. Но уже в самом этом обозначении циклов есть нечто, характеризующее диалектическое движение сюжета. Возьмем, например, сюжеты о “достижении благополучной цели”. Бедственное положение как основная ситуация не остается чем-то неизменным. Мы видим переход его в противоположность. Само сочетание — беда и выход из нее — есть уже нечто привлекающее внимание, возбуждающее интерес, есть некая частица жизненных превратностей. Возьмем сюжет об удачном ответе, о хитрости и т.п. Герой удачным ответом или своей ловкостью парирует нечто ему угрожающее, “оскорбительное” для его достоинства и чести, достигает успеха. Здесь опять противоречива не только исходная ситуация (столкновение, угрожающая опасность), но противоречиво и ее изменение; герой торжествует над угрожавшей ему опасностью, изменяет ситуацию в свою пользу. Диалектика сюжетных ситуаций и их движения — это факт простой и очевидный. Значительно интереснее то, что лежит в основе этой внешней сюжетной диалектики. Вот, например, новелла 6-я дня первого — “Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов”. Некий простак, услышав во время обедни слова “Воздастся вам сторицею”, говорит монаху-инквизитору, что братии монастыря на том свете придется захлебнуться похлебкою: они каждый день “отнимают” эту “часть” своей трапезы и отдают ее нищим. Простак этим спас себя и свое имущество (он был обвинен в ереси и содержался в монастыре). Но в основе этого сюжетного движения лежит нечто более существенное — это противоречие между видимостью монашеской братии и подлинной сущностью их. Сюжетный ход с “ловким ответом” раскрывает именно эту тему, — уличая монахов, человек спасает себя. Или вот новелла 3-я дня второго (о достижении благополучной цели). “Трое юношей, безрассудно растратив свое состояние, обеднели; их племянник, возвращаясь домой в отчаянии, знакомится на пути с аббатом и открывает в нем дочь английского короля, которая выходит за него замуж, а он, возместив дядьям все их убытки, возвращает их в прежнее положение”. Достигнутое “благополучие” — женитьба купца на дочери английского короля — здесь есть вместе с тем отрицание аристократической морали во имя “естественной” морали любви и личных достоинств. Дочь английского короля говорит римскому папе, к которому она направлялась: “То был вот этот юноша, которого вы видите подле меня, нравы и доблесть которого достойны любой знатной дамы, хотя, быть может, благородство его крови не такое, как королевской”. В основе противоречивого сюжетного движения лежит здесь противоречие двух морально-бытовых принципов. Буржуазная мораль торжествует над феодальной. Но то же самое мы видим в той новелле об Алатиэли, о которой мы говорили раньше. Там тоже “грех” спадает как шелуха, оказывается пустяком перед торжествующей правдой плоти. Можно было бы без конца умножать примеры, показывая, как какие-то реальные жизненные противоречия раскрываются в противоречиях сюжетных ситуаций и в их движении. Уже из приведенных примеров видно, что новелла дает эти противоречия в сконцентрированном, как бы сведенном к резкому и отчетливому противопоставлению виде. И в романе мы всегда можем найти какие-то основные противоречия в той совокупности фактов и событий, которую показывает романист. Но в новелле нет такого детального развертывания каждого из членов этого противоречия, какое имеется в романе,— развертывания в широту и во времени. Здесь эти противоречия даны более “собранно”, сведены к какому-то сконцентрированному простому отношению. Новелла, если можно так выразиться, демонстрирует противоречие, в то время как роман раскрывает его с широтой и обстоятельностью. Новеллу о юноше, женившемся на дочери английского короля, так же как и новеллу об Алатиэли, можно сопоставить с элементарным любовным романом традиционной конструкции — “он” и “она” претерпевают злоключения, чтобы затем соединиться. Но чтобы такой роман был возможен, нужно, чтобы препятствующие обстоятельства (рок, общественные условности, случайности и т.п.) развернулись во много звеньев, чтобы они были изображены в самом их движении, развитии, новелла же ищет резкого, сжатого выражения этих жизненных противоречий. Как, почему возникает и развивается такой принцип художественного отражения действительности? Как мы сказали, короткое повествование знали и литература первобытного родового общества, и литература античная, и литература феодальная. Кроме того, куски, сюжетно чрезвычайно напоминающие новеллу, могли входить в самые различные литературные целые. Возьмем, например, сюжет “Эдипа”. Он новеллистически сжат, заострен. Но совсем не случайно самая тема противоречия рока и человека, власти рока над человеком нашла воплощение не в коротеньком рассказе, а в трагическом общенародном зрелище. Искусство здесь еще находится в ближайшем соседстве с мифологией и трактует большие “родовые” проблемы торжественно и значительно — в общенародном ли зрелище или в мифологическом предании. Многие эпизоды античной мифологии очень близки к новелле, но они все-таки не новеллы, а включены в циклы мифологических преданий. Только позднее, вместе с падением этих первоначальных условий, с ростом “светской” торговой культуры поздней Греции, из обломков этой мифологии возникает нечто близкое к новелле. Точно так же средневековые легенды о борьбе прилепившегося к богу человека с дьяволом принципиально отличны от новеллы именно в силу самой темы, самого отношения к действительности. Нужно было разрушение “заржавелых отношений, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями”, нужен был иной, гораздо более “трезвый” житейский и реалистический дух, чтобы возник рассказ, сначала устный, о “житейском” противоречии, о занимательном случае, о лицемерии попов и монахов, об изменах жен, о ловком обмане и пр. и пр. И, возникнув, этот рассказ втягивает в себя самый разнообразный материал мифологии, легенд, восточных сказок — словом, берет, не стесняясь, все, что “плохо лежит”, и все, что может быть использовано для такого короткого занимательного повествования. В “Фацетиях” Поджо Браччолини, как мы сказали, непосредственно видна связь с бытом, с живым устным рассказом о житейском случае. Кстати сказать, сюжет об “удачном ответе”, который так часто встречается в “Декамероне” и который оттесняется в позднейшей буржуазной новелле, весьма част в тех житейских историях, которые рассказывает Браччолини. Очень часто этой связи новеллы с живым устным повествованием придается решающее значение, в этом видят основу всех конструктивных особенностей новеллы — и ее размера, и композиционного строения, и языка. Но ведь прежде всего нужно выяснить особенности короткого рассказа и в буржуазном фольклоре и в письменной литературе, его смысл, значение. А сама по себе генетическая преемственность ничего объяснить не может. Связь с устным рассказом интересна с другой стороны, она дает возможность яснее понять нечто, имеющее одинаковое значение и для письменного повествования. В “Фацетиях” Поджо Браччолини под № 29 содержится следующее: “Другое чудо, рассказанное Уго из Сиены. Знаменитый Уго из Сиены, первый из врачей нашего времени, рассказывал мне, что в Ферраро родилась кошка о двух головах и что он ее видел” [Поджо Браччолини. Фацетии. М.—Л., “Academia”, 1934, стр. 110]. Это ни в какой мере не новелла, но это дает возможность понять некоторые особенности новеллы. Для того чтобы какой-то факт был отмечен и рассказан, нужно, чтобы он этого заслуживал. Он должен быть просто чем-то интересен, примечателен. В приведенном примере мы имеем некий конструктивный “прообраз” новеллы. Чем создается здесь интерес факта? Уклонением от “нормы”, его исключительностью, необычайностью. Мы имеем здесь противоречие между “нормальным”, “привычным”, “должным” и случившимся. Но то же самое, пусть и в иных формах, мы найдем в любой новелле “Декамерона”, каждая из них рассказывает о чем-то примечательном, находящемся в противоречии с “нормальным”. Вот величайший грешник, который обманывает исповедника и провозглашается святым, вот монах — обжора, пьяница, прелюбодей, вот жена, ловко обманувшая мужа, вот исключительное несчастье, постигшее влюбленных, и т.д., и т.д. “Норма” эта весьма многообразна и подвижна: это или закон природы, или обычай, или даже некий распространенный предрассудок, отвергаемый автором, некоторая обычная “видимость”, им разоблачаемая, причем сразу же видно, что это противоречие, проявляющееся уже в самом наличии факта, сообщаемого в новелле, нельзя понимать как “исключительность”, “редкость” факта. Обжорство монаха или обман мужа женою могли быть и не столь редкими, могли быть даже весьма распространенными. В них было уклонение не от нормы “сущего”, а от нормы “должного”. Как видим, “остроту” новеллистического материала нельзя понимать грубо. Это такая “острота”, которая может сводиться именно к поражающей и возмущающей обыденности, противоречащей с точки зрения писателя “должному”. Новелла в этом отношении не отличается от любого другого литературного вида. Можно вполне резонно возразить, что о любом факте рассказывают потому, что он заслуживает внимания, а что касается противоречия, то всякий факт проявляет противоречия действительности самим своим существованием в качестве единичного факта. Свести “исключительность” новеллы к этому основному и простейшему противоречию не имело бы смысла. Но дело в том, что новелла заостряет это противоречие. Очерк, например, движим познавательным интересом к подлинному, действительно случившемуся факту. Отсюда и особенности в выборе материала, в сочетании элементов сюжетных, описательных и публицистических. Басня связана дидактизмом, она демонстрирует какую-то моральную или публицистическую тезу. Новелла в этом смысле — “свободный” короткий рассказ о происшествии, которое интересно само по себе, помимо всех этих соображений. Поэтому уже в самом выборе факта проявляется стремление к “остроте” его. Опровергает ли это мысль о познавательных задачах новеллы, о “типичности” ее? Нисколько. “Острота” факта имеет весьма различные проявления — от внешней экзотичности и занимательности до познавательной выразительности. Типичность не есть срединность, заурядность. Но нам хотелось бы подчеркнуть, что новелла, раскрывая типичный характер, даже самый “заурядный”, все же ищет “острых” черт, эпизодов, резко и до некоторой степени “крайне” проявляющих противоречивое содержание действительности. Разве калоши, зонтик, чехольчики чеховского “Человека в футляре”, вся история с его женитьбой не имеют чрезвычайной остроты и даже “исключительности”? А история любви в “Даме с собачкой”, где нудность этих, казалось бы, радостных переживаний сгущена настолько, что кажется почти физически ощутимой? Этой “остротой” новелла обладает как целое. “Кошка с двумя головами” есть факт, существование которого как “целого” исключительно и примечательно, находится в противоречии с тем, что мы знаем. Но противоречие, “разность” с окружающей действительностью отражается и внутри самого факта. Самый факт только потому в противоречии с действительностью, что он внутри себя противоречив. “Кошка”, животное, обладающее определенными, всем известными признаками, вдруг, оказывается, имеет такое свойство, двухголовость, которое находится в противоречии с ее природой. Изобразим конструкцию художественного повествования в виде схемы А — б. Значение “связки” (—) здесь может быть весьма разнообразно. Это может быть сочетание какой-то сущности и ее проявления (черта характера, раскрывающаяся в каком-то эпизоде), поворот событий и т.д. Роман вовлекает нас в детали, в сложность, многосторонность связей, в самое содержание переходов. “Целое” существует в нем как внутренняя связь, как некая путеводная нить и восстанавливается в конце через оглядку на пройденный путь. Новелла дает А, б и связь между ними как нечто целое, воздействующее сразу. Но это означает вместе с тем особую сжатость, сконцентрированность противоречий внутри самой новеллы, их остроту. Начинаясь в основном познавательном содержании новеллы, это проявляется далее и в обрисовке характеров, и в сюжете, и в языке. Отсюда проистекает, например, та особенность новеллы, что она весьма часто показывает противоречия через одну какую-то вещь (сокол в 9-й новелле пятого дня Боккаччо и т.п.), через одно событие, поворачивающееся совершенно неожиданным образом, и т.п. Той же “цельности” и “остроты” достигает Чехов, сосредоточивая мировую историю на узкой площадке перед костром, сводя ее к простому резкому отношению, делая ее легко обозримой, воспринимаемой одним взглядом. Но острота, напряженность, “крайность” проявления противоречий и цельность, концентрация противоречий в одном лице, событий, предмете как бы создают предпосылки, незаметно переходят в прямую субъективную оценку рассказанного. Это проявляется в двух вещах — в тяготении новеллы, с одной стороны, к “философичности”, дидактичности и, с другой, — к лиричности. Взятое в своих основных и простых отношениях, противоречие реальной действительности или логически “досказывается”, разъясняется, или переживается лирически. Роман “выпирает” из формулы, он слишком явно шире ее (если он дан с реалистической широтой). Эмоциональное напряжение в романе распределено на большое пространство, обильно оттенками и переходами. Конечно, бывают романы с дидактической установкой и романы “лирические”. Но новелла, давая такие факты, в которых концентрируются противоречия действительности, дает особенно благоприятную почву и для дидактизма и для лиричности. Лиризм здесь понимается в очень широком смысле — как ярко выраженная эмоциональная оценка действительности. Мы прибавили бы сюда еще и комизм. Любопытно, что эпические формы еще меньшей величины уже в полной мере осуществляют то, что в новелле существует лишь как тенденция. Явно моралистична басня. Явно лирична баллада. Возьмем, например, “Анчар” Пушкина. Это короткое эпическое по своему строению произведение, но оно в той же мере и лирично. Его можно с полным правом назвать и лирическим стихотворением, к тому же до чрезвычайности напряженным. Мы не будем здесь более подробно разъяснять, почему прямое субъективное осмысление, резко выраженное субъективное отношение вырастает столь естественно на почве этого “малого эпоса”. Думаем, что это и так ясно. Не будем также доказывать примерами и ссылками на отдельных авторов морализм ранней буржуазной новеллы. Это факт общеизвестный. IV Одним из сильнейших аргументов против мнения о “реализме” новеллы представляется ссылка на новеллы романтиков. Возьмем, например, новеллы Гофмана. Не опустятся ли в бессилии руки у какого угодно теоретика, как только он подойдет к этим странным и причудливым созданиям поэтической фантазии? Закономерно ли противопоставлять новеллу сказке и легенде, если она у романтиков переполнена фантастикой и как будто непосредственно сливается со сказкой? К этим возражениям могут быть присоединены еще и другие. Не является ли этот пример доказательством того, сколь бесплодно всякое “теоретизирование”, всякие попытки обнаружить какую-то “сущность” новеллы? Не лучше ли “чистое” историческое рассмотрение, которое свободно от предвзятых теорий, не обязано отыскивать единство в явлениях и ни перед чем не остановится в затруднении? Нам хотелось бы возразить на это, что мы вовсе не гонимся за абстрактным “единством”, самим по себе. Но нам кажется, что только на основе этого единства можно понять и своеобразие явлений. Это очень хорошо видно на примере романтической новеллы. Смысл ее раскрывается тогда, когда мы возьмем ее на фоне истории новеллы в целом, когда мы увидим те реальные жизненные отношения, которые здесь фантастически “сдвинуты”. Мы говорили выше, что новелла в отличие от сказки и легенды характеризуется совершенно своеобразным отношением к действительности. Слово “реализм” здесь, впрочем, могло бы породить недоразумение. Это реализм не в смысле метода, это направленность на реальный окружающий мир, на быт, на чувства человека, на “житейское” в его самых различных сторонах и проявлениях. И романтическая новелла не находится с этим в противоречии. Прежде всего, вся ее беспорядочная и как будто разнузданная, повинующаяся лишь прихоти воображения фантастика на самом деле до чрезвычайности рационалистична и логична. Это не просто поток грез. Это фантастика в первую очередь разума и уже затем воображения. В “Серапионовых братьях” Гофмана собеседники делятся мнениями по поводу рассказанных и прочитанных новелл. Эти комментарии чрезвычайно поучительны. Вот что, например, говорит о фантастике один из собеседников, Лотар: “Какой бы фантастический бред ни пришел в голову автору, ему от этого будет очень мало пользы, если он не осветит его лучом рассудка и не сплетет предварительно разумного основания для всего произведения. Ясная, спокойная мысль, положенная в основу, нужней всего для такого рода произведений, потому что, чем свободнее и фантастичнее мечутся во все стороны образы, тем тверже должно быть заложено основное зерно. — Кто с этим спорит? — возразил Киприан” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II, 1896, стр. 222]. Это выступает с полной очевидностью уже в исходной, “установочной” новелле о пустыннике Серапионе. В горах Тироля в лесу живет человек. Его ожидала блестящая карьера. Но он бросил все и скрылся в лес. Его постигло странное душевное расстройство. “Ум его был вполне проникнут мыслью, что он пустынник Серапион, удалившийся при императоре Деции в Фиваидскую пустыню и затем принявший мученическую смерть в Александрии. Во всем прочем он сохранил совершенно свои прежние способности, свой веселый юмор, общежительный нрав и мог легко вести самые умные разговоры” [Там же, стр. 15]. Пустынник Серапион удивительно глубоко рассуждает о различных исторических событиях. Он объясняет это тем, что знает об этих событиях от их современников и участников, что к нему приходят беседовать Дант, Ариосто, Петрарка, отцы церкви и пр., и пр. Если бы это было дано без всякой мотивировки — это была бы чистая фантастика. Помешательство дает как будто мотивировку психологического порядка. Но не в ней суть. Автор устами пустынника Серапиона защищает какие-то более общие логические основания этой фантастики: “Я сражусь с вами вашим же оружием, т.е. оружием рассудка. Вы завели речь о безумии! Но если кто-нибудь из нас страдает этим ужасным недугом, то, по всем признакам, вы поражены им в гораздо сильнейшей степени, чем я... Вы говорите, что мученик Серапион жил за много веков и что потому я не могу быть им, причем вы, вероятно, основываетесь на убеждении, что время нашего земного странствования не может продолжаться так долго. Но... время такое же относительное понятие, как числа... Мы способны усваивать то, что происходит вокруг нас в пространстве и времени, только одним духом. Чем, в самом деле, мы слышим, видим и чувствуем? Неужели мертвыми машинами, называемыми глазом, ухом, руками и т.п., а не духом? Неужели дух, воспроизводя в себе, по-своему, формы обусловленного временем и пространством мира, может передать свои функции еще другому, существующему в нас началу? Явная нелепость! Потому, имея способность познавать события одним только духом, мы должны согласиться, что то, что им познано, действительно существует” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II. 1896, стр. 17—10]. Рассказ о пустыннике Серапионе — это рассказ на философскую тему: о “сомнительности” обыденной действительности и “реальности” субъективных видений. Противоречие между “безумным” и окружающими его людьми доведено здесь до философского противоречия объективного и субъективного. Стоит только признать, что “дух”, познающий (вернее, творящий) мир, может отделяться от тела, как открывается широчайшая почва для “логического” обоснования любой фантастики. В новелле о скрипаче Креспеле голос его дочери Антонии переселяется в скрипку. Антония не может петь, потому что пение угрожает ей смертью, но скрипка поет за нее. Когда Антония умирает, скрипка сама собою раскалывается. Здесь получила прямое вещественное выражение тема “объективности” творческого дара (а отчасти и смертоносности этого дара для его владетеля). В “Эпизоде из жизни трех друзей” Александру является призрак его тетушки — старой девы. Она когда-то была недолго невестой, но жених изменил ей. Покинутая девушка с тех пор ежегодно справляла “свадьбу” в урочный день: надевала подвенечное платье и ждала жениха. То же продолжала она делать и после смерти. Но когда впоследствии Александр женится и справляет свою свадьбу в этот же день, тетушка успокаивается. В той же новелле старик Неттельман проникает в душу Марцелла, раскачивая стакан с водою. “Для этого я беру этот прозрачный, наполненный дистиллированной водою стакан, — объясняет старик, — направляя внимание и мысль на то лицо, чьи тайны хочу узнать, и начинаю раскачивать стакан в известном мне одному направлении. В воде тогда появляется множество маленьких пузырьков, которые, скопляясь на поверхности, образуют точно зеркальную амальгаму, а на ней, когда я туда смотрю, совершенно ясно отражается как мое собственное внутреннее существо, так — еще более — существо того человека, на которого я направляю мои мысли” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II. 1896, стр. 102]. Рассказ в целом построен на идее противоречия “мечты” и “реальности”. Трое друзей видят девушку и влюбляются в нее. Каждый из них по-своему переживает “спуск” от первого восторженного впечатления к заурядной действительности. В “Артусовой зале” старик художник с дочерью как будто сходят с фриза этой залы, — так велико сходство между ними и лицами, изображенными на картине. Траугот бросает невесту, дела, становится сам художником, преследует девушку, едет в Италию и, наконец, узнает, что она жила все время недалеко от прежнего места, не в Сорренто в Италии, а на даче под названием “Сорренто”, и давно уже вышла замуж за уголовного советника Матезиуса. Тут же раскрывается и подлинный смысл всей этой погони. “Нет, я не потерял тебя, моя прежняя Фелицитата, — говорит Траугот. — Ты всегда будешь моей, потому что ты не что иное, как живущая во мне творческая сила. Теперь только узнал я тебя! Какое мне дело до уголовной советницы Матезиус? Ровно никакого!” [Там же, стр. 149]. В “Фалунских рудниках” моряку Элису Фребему является таинственный старик и зовет его всю свою жизнь посвятить рудному делу, рисуя величественные и потрясающие картины подземных глубин. Элису снится сон, он видит подземное царство и царицу его. Одержимый неодолимым влечением, он идет в Фалун. Ужасный вид горных работ пугает его. Но он встречается с дочерью хозяина Уллой Дальсе, влюбляется и остается работать в рудниках. Таинственный старик опять является ему, на этот раз с гневными речами и грозными предсказаниями: “Вечно будешь ты рыться как слепой крот, и никогда не полюбит тебя царь металлов! Да и там наверху не удастся тебе ничего! Ведь ты работаешь только затем, чтобы жениться на дочери Пэрсона Дальсе Улле! Любви и усердия к делу в тебе нет! Берегись, лукавый работник! Смотри, чтобы здешний царь, над которым ты издеваешься, не переломал о камни и не разбросал твои кости! Никогда Улла не будет твоею женою! Это говорю тебе я!” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II, стр. 165]. Перед самой свадьбой Элис, опять одержимый каким-то наваждением, спускается в шахту, чтобы найти и принести в подарок Улле “огненный сверкающий альмандин”. Происходит обвал, и Элис гибнет. Только через пятьдесят лет находят его труп, сохранившийся без всяких изменений, в подземном озере купоросной воды, его узнает Улла, уже дряхлая старуха, и умирает на нем. И опять тут же всей этой фантастике дается психологическое истолкование. “Многие замечательные поэты, — говорит Киприан, — часто изображали людей, погибших подобно Элису Фребему от такой же ужасной раздвоенности своего нравственного существа, производимой вмешательством каких-то посторонних таинственных сил. Теодор разработал именно эту канву, и мне она очень нравится по своей глубокой правде” [Там же, стр. 175]. Возьмем еще из “Музыкальных новелл” новеллу “Дон-Жуан”. Певица одновременно поет на сцене и разговаривает с рассказчиком. Это фантастично? И да и нет! Вот пояснение, обосновывающее эту фантастику: “Как счастливый сон соединяет самое странное и как благочестивая вера постигает сверхчувственное и свободно ставит его в ряд так называемых естественных проявлений жизни, так и я от близости этой удивительной женщины впал в своего рода лунатическое состояние, в котором постиг таинственную связь, так тесно соединявшую меня с нею, что она как будто не могла отойти от меня даже и тогда, когда появлялась на сцене” [Э.Т.Гофман. Музыкальные новеллы, 1922, стр. 97]. Это фантастическая реализация обыкновенного житейского выражения —“она как будто была со мною”. Такова же и новелла “Кавалер Глюк”, в которой умерший композитор является рассказчику, говорит с ним, играет ему. Но довольно примеров. Мир новелл Гофмана — это мир человеческой души. Самая реальная окружающая действительность воспринята и понята как только “часть” этого субъективного мира. Опираясь на субъективно-идеалистическую философию Канта и Фихте, художник объявляет “реальностью”, и даже высшей реальностью, все “внутреннее”, все творимое духом (ведь “реальный” мир, с его точки зрения, есть тоже творение духа). Конечно, художник, если бы даже он хотел, не может оторваться, уйти от материальной окружающей его действительности. И фантастика Гофмана сочетается с особо яркой “реальностью” и даже “обыденностью” в изображении обстановки, людей. Гофман сам говорит об этом. “Ты, вероятно, имел причину, — заметил Теодор, — избрать местом действия твоей повести Берлин и даже назвать улицы и места. Что до меня, то я нахожу чрезвычайно важным объяснить место действия. Это не только придает рассказу характер исторической верности, оживляющей скудную фантазию, но хорошо еще тем, что необыкновенно освежает весь сюжет в воображении тех, кто сам бывал в упоминаемых местностях” [Э.Т.Гофман. Собрание сочинений, т. II, стр. 126]. Очень живо, реально дан и основной, господствующий у Гофмана характер “энтузиаста”, мечтателя, фантазера в его противоречии с миром “филистеров”. Но, опираясь на логические рычаги субъективно-идеалистической философии, он смещает очертания этого мира, наделяет бытием продукты воображения, смешивает план реальный и план фантастический. Новеллы Гофмана чрезвычайно важны для истории и теории буржуазной новеллы. Они — проявление какой-то очень существенной линии буржуазной литературы. Гофману нельзя отказать в политическом радикализме. Он очень резко ощущает противоречия жизни. Но он стремится разрешить их, подняться над ними в мире субъективном. Главнейшим средством для этого является знаменитая романтическая ирония. Свойственное немецкому бюргерству конца XVIII — начала XIX века перенесение реальных жизненных противоречий в субъективный, чисто идеологический план отмечено и объяснено Марксом применительно к философии. Здесь нет надобности приводить эти хорошо известные суждения Маркса. Они в полной мере относятся и к творчеству Гофмана. Бюргерский радикализм его, критика феодальной затхлости тогдашней Германии сужены, ограничены. Буржуазную “свободу”, буржуазный “дух” он утверждает не в их реально-действенной практической форме, а мечтательно, в плане идеологическом, субъективном. Отсюда и совершенно специфические противоречия, положенные в основу его новелл, отсюда и самый способ их раскрытия. Индивидуализм, субъективизм буржуазной литературы, пусть в данном случае и политически радикальный, находит в новеллах Гофмана свое резкое выражение. Он проявляется не только в основном интересующем его противоречии филистерски “реального” и идеального, но и в форме его новеллы. Его новелла стремится быть “реальной”, даже в каком-то особом и “высшем” смысле. Как мы видели, все фантастическое в ней “обосновывается” даже довольно педантически. Есть в этих новеллах многое и от подлинного реализма — изучение и великолепное изображение отсталого немецкого быта того времени, характеров и нравов. Но горизонты здесь весьма ограниченны, реальные отношения сдвинуты, фантастически зашифрованы, большее значение придано “субъективному”, а не “объективному”. Новелла Гофмана остается еще новеллой, но она находится в ближайшем соседстве с фантастической сказкой, легендой (такова, например, легенда о Фалунских рудниках) и незаметно в нее переходит. Язык условных аллегорий оказывается для него часто более удобным оружием, чем язык прямого реального, концентрирующего в себе жизненные противоречия факта. V Крупнейшим мастером романтической новеллы, но уже с иным содержанием, является и Эдгар По... Особенно большое влияние имела детективная новелла Эдгара По. Заимствованная, размноженная и популяризированная Конан-Дойлем, она буквально затопила буржуазную новеллистику, причем имя ее создателя было оттеснено и заслонено именем его подражателя. Конан-Дойль не прибавил ничего к принципам детективных новелл Эдгара По, он только упростил их и “размножил” оттиски с них. В.Шкловский, разбирая детективную новеллу Конан-Дойля, называет ее новеллой тайн. Принцип указан здесь неверно даже в чисто формальном плане. Мы имеем у Конан-Дойля в несколько упрощенном и стандартизированном виде, но все же новеллу о разгадке тайны. Особенно ясно это видно, если обратиться к ее прототипу — детективной новелле Эдгара По. Новелла тайн и новелла о разгадке тайн — это далеко не одно и то же, и по своему внутреннему противоречию и по своей внешней структуре. Основная структурная схема детективной новеллы Эдгара По превосходно раскрывается в одном эпизоде. Дюпен и его друг долго молча идут по улице. Внезапно Дюпен произносит: “— Действительно, он совсем карлик, и больше годился бы для “Théâtre des Variétés”. — Без сомнения, — отвечал я машинально, не заметив в эту минуту, как странно эти слова согласовались с моими мыслями. Но тотчас же я опомнился, и изумлению моему не было границ”. Дюпен объясняет, как он разгадал мысли своего друга. Друга Дюпена толкнул продавец яблок, и он ушиб себе ногу о груду булыжников. Некоторое время он шел, сердито глядя на выбоины мостовой. Когда они дошли до улицы, вымощенной камнями, выражение его лица смягчилось. Он прошептал что-то. По движению его губ Дюпен угадал, что он произнес слово “стереотомия”, каким называются такого рода мостовые. Дюпен предположил, что это слово непременно должно привести на память слово “атомы” и затем создателя атомистической теории Эпикура. Так как еще недавно перед тем между ними был разговор о том, что изыскания Эпикура подтверждаются новейшей космогонией, Дюпен ожидал, что друг его взглянет на небо, на большое туманное пятно Ориона. Это действительно и случилось. Но в статье о Шантильи (сапожнике, неудачно выступившем в роли Ксеркса) был приведен стих, в котором говорилось об Орионе. “Представление об Орионе, — продолжает свое объяснение Дюпен, — должно было соединиться у вас с представлением о Шантильи. Что это сопоставление действительно мелькнуло у вас, я заметил по вашей улыбке. Вы задумались о фиаско бедняги сапожника. До сих пор вы шли вашей обычной походкой, теперь же выпрямились. Очевидно, вы подумали о малом росте Шантильи. Тут я прервал нить ваших мыслей, заметив, что он, Шантильи, действительно карлик и был бы больше на месте в “Théâtre des Variétés”. Такую же стройную цепь логических умозаключений представляет собой и разгадывание Дюпеном преступления. Мы не будем здесь разбирать эти новеллы, достаточно известные. Нам важно выделить в них основное: то, что героем их является торжествующий аналитический разум. Приведенная сцена почти целиком исчерпывает основное столкновение, в них данное: разбросанные, частично “скрытые” куски действительности, связь которых не ясна, объединяются могучим логически мыслящим умом в стройное и ясное целое. Наряду с острой наблюдательностью, для получения столь блестящих результатов требуется своего рода “логическое воображение”, предвидение всех возможностей, сочетающееся со строгой четкостью метода. Приведенная сцена вместе со всеми структурными особенностями детективной новеллы Эдгара По передает и всю присущую ей занимательность. Трудно без увлечения следить за этим блестяще обоснованным движением мысли, проникающей в самые запутанные сплетения действительности. Казалось бы, эта тема — сила и торжество разума — тема оптимистическая, общественно прогрессивная и близкая нам. Но есть нечто, лишающее подлинной силы и действенности этот холодный блеск раскрывающего тайны жизни разума, нечто, обесценивающее самый тип новеллы, созданной Эдгаром По. Дело в том, что деятельность разума превращена здесь почти в самоцельную игру, дело в том, что сила его хотя блестяща, но принципиально бесплодна. Здесь мало сослаться на то, что сам Дюпен не делает никакого практического употребления из своего разума. “Распутав трагическую загадку, связанную с убийством г-жи Л.Эспинэ и ее дочери, — пишет о нем Эдгар По в “Тайне Мари Роже”, — шевалье перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грез на окружающий мир”. Такой конец легко было бы отбросить и сделать Дюпена кипучим и жизнерадостным. Но есть то, чего подобным образом не исправишь. Работа логического ума в детективной новелле принципиально “формальна”. Все дело здесь в том, чтобы показать остроту, проницательность, блеск в распутывании какого-то сложного сплетения, а реальное содержание этой познавательной работы мелко и даже довольно безразлично. Преступление здесь берется потому, что оно привносит особую атмосферу ужаса, острого интереса, но, как мы говорили, может быть, еще ярче и эстетически прозрачнее выражены те же самые принципы и в разгадывании Дюпеном уличных размышлений своего приятеля. Представим себе научную новеллу — о разрешении каких-то теоретических, технических и прочих проблем. Пафос там был бы в преодолении действительных, всегда конкретных трудностей, в разгадывании действительных тайн, в овладении природой. Здесь же аналитический разум просто щеголяет логическим методом и силой этого метода. То, что детективная новелла Эдгара По была подхвачена и размножена в таком прямо ужасающем количестве под пером литературных ремесленников (таковым в значительной мере был уже и Конан-Дойль), объясняется, нам думается, и характером самой этой новеллы, принципиальным “формализмом” ее темы. Была найдена какая-то простая, стандартно-увлекательная схема “расшифровывания” тайн. Факты варьировались, но схема пребывала неизменной. В этом отсутствии реальных познавательных устремлений, при всей ее установке “на разгадывание”, в этом отсутствии пафоса преодоления реальных жизненных препятствий, при всей ее внешней действенности, как нам кажется, лежит основная причина бесплодности всей этой линии буржуазной новеллы. Один из наиболее талантливых продолжателей этой линии Честертон несколько изменяет самое схему, внося в нее мотивы религиозно-мистические и психологические. Но внутренняя познавательная бедность при внешней занимательности остается. Мы взяли детективную новеллу Эдгара По, так как она чрезвычайно характерна для “занимательной” буржуазной новеллы, является ее наиболее яркой и распространенной разновидностью. Она очень сюжетна, но не всегда сюжетность оказывается орудием глубокого раскрытия действительности. Сюжетность может превратиться в “игру”, в самодовлеющее сплетение событий. Эдгар По в данном отношении особенно интересен. Во-первых, он зачинатель особой разновидности новеллы и художник исключительной силы. Во-вторых, в его творчестве особенно ясно видна вся подоплека игры в разгадку тайн, которой развлекается уединенный, мечтательный и угрюмый ум. Кажется, что почти “из себя” строит он это хитрое сплетение событий, логически воспроизводя все звенья. Подобные же черты носит и научно-фантастическая новелла Эдгара По. В фантастике этой новеллы есть тоже железная логика. Разновидность эта менее “формальна”, чем детективная новелла, более способна к действительному, а не мнимому развитию. Но и здесь у Эдгара По тема — не в торжестве разума и воли человека, а скорее в страхе перед огромным и загадочным миром. Явно уж мистичны другие новеллы, как, например, “Черный кот”, которую с гораздо большим правом, чем детективную новеллу, можно назвать новеллой тайн. Человек, “одержимый демоном извращенности”, истязает кота и выбивает ему глаз. И вот начинается ужасная мистическая месть. Появляется другой кот, похожий как две капли воды на первого, но с каким-то знаком на лбу. “Демон” толкает героя на убийство жены. Труп убитой муж замуровывает в стене. К нему приходит полиция с обыском и ничего не находит. Одержимый тем же духом извращенности, он в сумасшедшей браваде стучит в стену, за которой скрывается труп. Оттуда раздается дикий вопль. Стену разламывают и обнаруживают ужасное зрелище: полуразложившееся тело и черного кота на нем. Эта мистическая новелла тайн не так уж далека от детективных и научно-фантастических новелл Эдгара По. В плане субъективно-творческом она гораздо прямее передает его действительное ощущение жизни, ту почву, на которой вырастает опьянение “логической игрой”. Самое творчество казалось Эдгару По одним из видов игры разума. Исключительный интерес представляет в этом отношении рассказ о том, как создавался “Ворон”. В изложении Эдгара По это звучит как рассказ о решении математической задачи. У Эдгара По, как и у Гофмана, очертания объективной действительности заслоняются, искажаются субъективными “страхами”, субъективной игрой, хотя содержание этой “субъективности” и различно в том и другом случае. Вовсе не думая исчерпать этими примерами всех форм “субъективности”, искажающей действительность, мы хотели только на этих особенно значительных в историческом смысле и особенно типичных явлениях показать, как отрыв от живого реального мира, живых реальных отношений обедняет новеллу и приводит ее к порогу, за которым царят фантастические и мистические призраки. VI Особенный интерес для нас во всем новеллистическом наследстве представляет реалистическая новелла XIX века, и в особенности такие крупнейшие ее представители, как Мопассан и Чехов. Реалистический метод в их руках достигает исключительной глубины и силы. Новеллы Мопассана, новеллы Чехова — это целый мир характеров и положений, глубоко типичных для буржуазного общества, как бы выхваченных с плотью и кровью из самой жизни. Исключительная познавательная глубина сочетается у них с предельным мастерством новеллистического изображения. Буржуазная новелла как жанр достигает в их творчестве вершины, конструктивные особенности новеллы — предельного и наиболее совершенного своего выражения. “Вокруг Гюи де Мопассана мы собрали круг достаточно хороших рассказчиков старых времен и современных. Так и подобало сделать. Гюи де Мопассан, без сомнения, один из наиболее искусных рассказчиков в той стране, где было создано столько рассказов и притом таких хороших” — пишет А.Франс в статье “Гюи де Мопассан и французские рассказчики” [А.Франс. Полное собрание сочинений, т. XX. М., 1931, стр. 335]. Это отзыв писателя о писателе. Не трудно найти примеры подобных же отзывов и о Чехове. Стоит вспомнить хотя бы оценку Чехова Толстым. Но освоение новеллистического наследства Чехова и Мопассана должно исходить из совершенно конкретного рассмотрения их творчества, его содержания и форм. Примером неправильной, как нам кажется, постановки этого вопроса является статья т. Альтмана “Творческая тема Мопассана”, напечатанная в № 9 “Литературного критика” за 1935 год. Тов. Альтман начинает с того, что называет “нелепостями” все, что писалось советской критикой о классовой природе Мопассана до появления его статьи. В этом еще нет ничего удивительного. Это почти установившийся обычай. Но, отбросив чужие объяснения, он так и оставляет вопрос открытым. Тов. Альтман говорит, что Мопассан одинаково резко критикует и дворянство и буржуазию. Далее он “разъясняет” романы Мопассана “Сильна как смерть” и “Наше сердце”. Действительная тема романов “Сильна как смерть” и “Наше сердце”, по его мнению, это трагедия творчества в буржуазных условиях. “Трагедия Оливье Бертэна заключается вовсе не в “узле любви”, не в “любви” сильной как смерть, а в утере художником творческих сил, в утере направления в творчестве, в утере смысла творческой жизни. Трагедия Бертэна — в творческой безыдейности. Вот подлинные основы его пессимизма, вот настоящая причина его смерти” [“Литературный критик”, 1935, № 9, стр. 63]. Но такова же и трагедия Мариоля. “Беда Мариоля (“Наше сердце”) в том, что, будучи блестящим дилетантом писателем, музыкантом и скульптором, имеющим успех на выставке, он не реализовал своего таланта, оставаясь богатым рантьером-аристократом, прожигателем жизни” [Там же, стр. 65]. Полная произвольность такого понимания темы этих романов бросается в глаза. Совершенно оставлена в стороне вся конкретная историческая обстановка, породившая эти романы, оставлены в стороне состав их образов, развитие сюжета. Произвольно вырвана какая-то близкая т. Альтману подробность (Бертэн и Мариоль — художники), “обобщена” и предложена читателю в качестве “творческой темы” Мопассана. Мудрено ли при таком методе обработки текста, что т. Альтман, не желая “отдавать” Мопассана аристократии и буржуазии, превращает его в идеолога “трудового крестьянства”. “Сколько Мопассан ни высмеивает мясника, часовщика — он на их стороне. И сколько ни высмеивает Мопассан крестьянина-фермера — он на его стороне. Здесь сохранилась еще вера в человеческие законы. Здесь сохранилась еще сила человека. Мопассан ощупью добирался до труда, как единственного здорового источника жизни” [Там же, стр. 71]. И еще: “Он (Мопассан) видит всю безысходность положения, он не видит перспективы для крестьянина; но если буржуа или аристократа — хочет он того или не хочет — он разоблачает и осуждает, то, разоблачая теневые стороны в характере крестьянина, он не забывает, что это — труженик, что он горбом зарабатывает себе право на жизнь...” [“Литературный критик”, 1935, № 9, стр. 73]. Для доказательства этого т. Альтман прибегает к приемам еще более упрощенным, чем указанные выше. Так, например, он пишет: “В “Истории служанки с фермы” муж, узнав о том, что у его жены был ребенок до брака, усыновляет его, чего не сделал бы ни один аристократ, описанный Мопассаном” [Там же]. Тов. Альтман просто не дает себе труда припомнить другие рассказы Мопассана, кроме того, о котором он в данный момент говорит. Вот первые пришедшие на ум противопоставления и параллели. Как отнесется т. Альтман к рассказу “Продажа”, где рассказывается, как крестьянин продает свою жену “на кубические метры”, для того чтобы определить ее объем, опускает в воду и топит? Или к хорошо известному рассказу о Целестине (“Признание”)? Или к рассказу “Ребенок”, очень похожему по своему сюжету на тот, о котором говорит т. Альтман? Новобрачные — “аристократы”. Его любовница умирает в день свадьбы от родов. Узнав об этом, он бежит к ней в брачную ночь, оставив молодую жену, потом приносит к ней ребенка, и та говорит: “Мы его вырастим, голубчика”. Те пятъ-шесть примеров, на которые ссылается т. Альтман для того, чтобы, насколько возможно, превратить Мопассана в нечто вроде французского Толстого, все таковы же. Тов. Альтман совершенно правильно стремится отойти от бесплодного “разоблачения” писателя, установить положительное, близкое нам в содержании его творчества, но делает он это, отрываясь от конкретного содержания и форм творчества, пускаясь в произвольные толкования. Можно заметить, впрочем, что т. Альтман еще скромен. Он мог бы теми же самыми средствами сделать Мопассана идеологом людей наемного труда. Не так трудно было бы найти у него несколько батраков и батрачек, нещадно эксплуатируемых. Хорошо еще, что т. Альтман, начав с темы “Художественного труда” в капиталистическом обществе, дошел только до трудового крестьянства и на этом остановился. Мы здесь не собираемся ставить во всей широте вопрос о социальной сущности творчества Мопассана. Скажем лишь, что резкая критика окружающего общества не предполагает обязательно, чтобы он стоял на передовых общественных позициях. Мы остановимся на той стороне дела, которая нужна для нашей темы, на том, что содержание творчества нельзя изучать изолированно от тех конкретных форм, в которых оно существует. Выясняя то внутреннее противоречие, на котором строится новелла, “тему” ее, мы тем самым выясняем и отношение писателя к действительности, угол зрения его на мир, тем самым глубже проникаем в объективно-познавательное содержание творчества. Совершенно правильно, что чрезвычайно большое число новелл Мопассана посвящено суровой, жестокой критике буржуазного общества, его характеров, нравов, морали... Именно это и делает его творчество особенно для нас ценным. Все так называемые “устои” буржуазного общества, которых касается писатель, оказываются чистыми фикциями, лживой видимостью, прикрывающей грязное и растленное содержание. В характерах и ситуациях чрезвычайной остроты и вместе с тем глубокой типичности раскрывает Мопассан эту изнанку буржуазного общества. Вот, например, семья. Родители находят своего брошенного “незаконного” сына грубым, отупевшим от непосильной работы (“Брошенный”). Сходная ситуация. Брошенный сын убивает своих родителей, которые не хотят его признать, чтобы не нарушить буржуазной благопристойности. Аристократ смертным боем избивает свою жену, вымогая у нее деньги. Сын, навеки ушибленный этим зрелищем, опускается, впадает в прострацию (“Человек, кружку пива”). Отец сходится со своей “незаконной” дочерью, не зная, что это его дочь (“Отшельник”). Буржуазный брак—-это прежде всего имущественная сделка, весьма часто просто надувательство. Нотариус женится по объявлению на девушке с приданым. Оказывается, что у нее четверо детей и что именно этим она и заработала себе приданое (“Развод”). Чиновник женится на провинциалке с приданым, везет ее в Париж, сбегает от нее, захватив деньги (“Приданое”). Нет надобности говорить, какую роль играет в буржуазном браке взаимная измена, ложь, обман. Требуется лишь, чтобы внешне благопристойность не нарушалась. Можно даже прямо заниматься проституцией и сохранять при этом светскость и респектабельность. Баронесса много раз продает у себя на квартире “редкое распятие”, ловя таким образом состоятельных любовников (“Баронесса”). Но если, хотя бы и не но своей вине, женщина нарушила этот внешний декорум — горе ей. В замечательной и поистине страшной новелле “Госпожа Батист” рассказывается, как девочку изнасиловал лакей и как этого не прощает ей окружающее “порядочное общество”, как ее травят, пока не доводят до самоубийства. Те, кто травят и судят ее, те, кто воплощают буржуазную парадную гражданственность, — плоть от плоти этого общества. Старый, всеми уважаемый судья оказывается садистом-убийцей (“Сумасшедший”). Чиновник, неожиданно возвысившийся (он был на побегушках у депутата, ставшего министром), попавший в сенаторы, — ничтожество, одержимое страстью покровительствовать (“Покровитель”), Уже совсем фарсом оборачивается новелла — “Получил орден”. Буржуа жаждет получить орден, пишет дрянные брошюрки, ездит с “научными поручениями”, дружит с депутатом. Приехав неожиданно домой, он видит в передней пальто с орденом в петлице. Жену, которая, выпроводив любовника-депутата, оставила это вещественное доказательство, осеняет вдохновение. Она говорит мужу, что это сюрприз, что это ему дали орден. И действительно, орден незамедлительно ему выхлопатывают. Но не только эти “верхи” общества изображает Мопассан в таких малопривлекательных чертах. Новеллы из крестьянской жизни тоже довольно безотрадны. Жадность, идиотизм деревенской жизни — вот на чем построено большинство этих новелл. Целестине жаль каждый раз платить кучеру почтовой тележки. Она расплачивается своим телом. Мать, узнав о ее беременности, бьет ее, а потом велит, по крайней мере, не говорить о случившемся и ездить бесплатно сколько возможно дольше (“Признание”). Старик крестьянин при смерти. Дочь и зять уже созывают знакомых, чтобы его хоронить. Но он никак не хочет умереть. Все ждут с нетерпением. Наконец старик умирает. Дочь вздыхает облегченно, ей досадно только, что она зря напекла пышек и что придется их снова печь (“Старик”). В “Веревочке” рассказывается, как старик крестьянин пожадничал, поднял веревочку на дороге, как его заподозрили в том, что он поднял кошелек (в тот день кем-то потерянный), и как он так и умер, не разубедив никого в своей “хитрости”. Примеров можно было бы привести еще много. Конечно, Мопассан не изображает жизнь крестьян, рыбаков и т.п. как сплошное зверство, оголтелую жадность (хотя этого в его новеллах очень много). Но то “светлое”, что там есть, тоже скорее проистекает от примитивности жизни, чем от чего-либо другого. Да, действительно, фермер берет в жены девушку с ребенком. Но это происходит оттого, что в крестьянстве женщина ценится прежде всего как домашняя работница и хозяйка. В этом внутренний смысл и такой новеллы, как “Возвращение”. Моряк, которого считали погибшим, возвращается после долгого отсутствия домой. Жена его вышла замуж. У нее дети и от первого и от второго мужа. “Так что же нам делать?” — спрашивает Левен (второй муж). Мартен (первый муж) отвечает: “Я сделаю так, как ты хочешь. Я не желаю обижать тебя... У меня двое детей, у тебя трое, каждому свои. Мать? Твоя ли она, моя ли она? Как хочешь, я согласен на все; но дом — он мой, мне его отец оставил, я в нем родился и на него есть бумаги у нотариуса”. Левену приходит мысль: их рассудит кюре. По дороге они заходят в кафе. “Они вошли, уселись в пустой еще комнате... И кабатчик с тремя рюмками в одной руке и с графином в другой, пузатый, жирный, красный, подошел и невозмутимо спросил: — А, ты вернулся, Мартен? Мартен отвечал: — Да, вернулся”. На этом рассказ кончается. Конец этот замечателен. Если видеть тему новеллы в передаче такого необычайного события, как два мужа при одной жене, тогда он совсем непонятен. Рассказ не окончен, у него нет развязки. Но тема здесь не во внешней “редкости” события, а в отношении заинтересованных лиц и окружающих к этому событию. И эта более глубокая тема сохраняет все особенности новеллистической темы, может быть даже имеет их в большей мере. В том спокойствии, с каким все рассматривают этот казус, есть подлинно новеллистическая острота. И приведенная выше концовка рассказа прекрасно замыкает движение темы. Спокойный вопрос трактирщика и столь же спокойный ответ Мартена как бы повторяют, концентрируют всю тему, одновременно и расширяя ее со стороны предметного содержания (отношение не только участников, но и окружающих) и вместе с тем сжимая словесное выражение до двух коротких фраз. М.А.Петровский, разбирая эту новеллу, говорит о “серости психики ее героев” [М.А.Петровский. Морфология новеллы. “Ars poetica”, I. Сборник статей под ред. М.А.Петровского, 1927]. Но тема здесь глубже. Это та же тема, которая проходит и через “Признание”, и через “Историю служанки с фермы”, и через ряд других новелл Мопассана о “простонародье”. Это тема о “простоте” взглядов, о главенстве экономических отношений в этой суровой и скудной жизни. Жизнь здесь проста, хотя внешне и кажется запутанной. “Дом мой, на него есть бумаги, дети мои, а что касается жены, то, как хочешь, можно так, можно этак, пойдем к кюре, — он решит”. Из других тематических циклов, может быть, следует специально упомянуть новеллы о проститутках: “Пышку”, “Дом Телье”, “Одиссею проститутки” и др. Первые две принадлежат к числу шедевров Мопассана. Они блестящи по своей разоблачительной силе, по своей новеллистической технике. Они достаточно хорошо известны, и нет надобности разбирать их здесь. Но где же в этом море жестокой, запутанной, пошлой, суровой жизни радостный остров? В чем же положительная тема Мопассана? Есть у Мопассана не только сатирические, но и “героические” новеллы. Но это героика патриотическая, очень ограниченная (“Мадемуазель Фифи”, “Дикая” и др.). Какие же более широкие, общезначимые ценности видит Мопассан в жизни? Неверно было бы спрашивать, какие “классы” он выдвигает, — это значило бы навязывать Мопассану нечто вроде “исторического материализма” в оценке жизни. Нет, в его собственном воззрении это “положительное” выступает как нечто абстрактное, не связанное с определенным социальным идеалом. Ценности эти состоят для него в “простых” человеческих чувствах. Молодость, жизнерадостное, пусть и не очень осмысленное упоение жизнью, любовь, материнство и т.д. и т.д. — вот это безусловное видит он в мире условных и фальшивых ценностей. И если что и хочет “раскопать” он из-под вороха жизненной пошлости, грязи, жестокости, то именно это. Подавляющее большинство новелл Мопассана “негативно”. В них дана только отрицательная тема, положительная дается лишь косвенно, как оборотная сторона отрицания. Но есть у Мопассана и более “открытые” в этом смысле новеллы. Охотник убивает самку-чирка. “Теперь самец не уйдет”, — говорит другой. “В самом деле, он не улетал, он кружился около нас и плакал. Никогда еще стоны и страдания не разрывали мне так сердце, как этот отчаянный зов, как этот жалобный упрек бедного животного, затерянного в пространстве... Он приближался, презирая опасность, привлекаемый своей любовью, любовью животного к другому животному, которое я убил”. Выстрел... Товарищ убивает птицу. “Я положил его, уже холодного, в ту же сумку... и в тот же день уехал в Париж” (“Любовь”). Умирает старая дева. Она бредит перед смертью о детях, которых у нее не было (“Королева Гортензия”). Аббат крестит племянника и, когда все веселятся, пробирается в комнату к новорожденному и плачет, лаская его теплое тельце (“Крестины”). Старый одинокий человек с сожалением и горечью вспоминает о любви, прошедшей мимо (“Сожаление”, “Полено”). Буржуазная семья — отец, мать, дочь и ее жених — выбирается на лоно природы. Река, соловьи. Молодые лодочники увозят женщин, заводят их в камыши. Женщины почти в беспамятстве от всей этой великой симфонии природы и отдаются слепо, испытывая ни с чем не сравнимое счастье, и навсегда сохраняют воспоминание об этих часах как о лучших в своей жизни. Вот лишь некоторые примеры, которые легко было бы умножить. С особенной отчетливостью выступает эта тема в романах Мопассана “Наше сердце”, “Жизнь”, “Сильна как смерть”. Запутавшийся в сложных и мучительных любовных чувствах, Мариоль находит утешение, частицу мыслимого на земле счастья в близости с простой любящей его девушкой. История безрадостной, горькой жизни Жанны кончается тем, что Жанна держит на коленях маленькое существо — дочь ее сына. Молодость, любовь воскресает перед Бертэном, приняв живой облик дочери его возлюбленной, так похожей на свою мать. Но она проходит мимо, прекрасная, равнодушная к нему, и, что бы он ни делал, ему не привлечь, не вернуть ее. Ему остается только умереть. Как видно уже из этого, “положительная” тема Мопассана таит в себе большую долю пессимизма. Все те ценности, которые он видит в жизни, преходящи, в самих себе таят начало гибели, бесперспективны. И Мопассан действительно приходит к отчаянию и пессимизму в таких новеллах, как “Le Horla”, “Кто знает?”. VII Мы сказали выше, что новеллы Мопассана достигают совершенства и в техническом отношении. Особенности новеллы как жанра раскрываются здесь с наибольшей полнотой, ясностью, четкостью. Мопассан очень остро ощущает противоречия жизни, его окружающей, и находит для этих противоречий предельно яркое и сконцентрированное образное выражение. Даже из тех немногих примеров, которые мы привели, видно, с каким искусством дает Мопассан “столкновение” тем, как он умеет на очень тесном пространстве показать противоречия явления. Стоит вспомнить хотя бы такой великолепный рассказ, как “Пышка”. Как искусно, остро, зло показаны там буржуа с их внешней добропорядочностью и внутренним скотством. Трижды раскрывается для нас их внутреннее существо. Презирая “Пышку”, они сначала “снисходят” до того, что съедают ее запасы. А замечательная сцена в гостинице, когда обнаруживается вся истинная цена их морали! И наконец, заключительная сцена, когда они пожирают свою пищу, равнодушные к страданиям “Пышки”. В противоположность им, в столь презираемой буржуазным обществом “потаскушке” обнаруживается подлинная человечность, добросердечность и истинная порядочность. Весь рассказ построен на этом острейшем столкновении “видимости” и “сущности” буржуазной добропорядочности. В этом рассказе Мопассан дает замечательно очерченные “типичные характеры” буржуазного общества. В очень большом количестве его новелл эта установка на изображение характеров преобладает. Но есть новеллы, где дело не столько в типичности характеров, сколько в глубине, типичности, смысловой значительности самой ситуации. Тов. Гоффеншефер в своей статье о новелле видит ее задачу в изображении “типических характеров”. В общей форме это, может быть, и верно. Но следует заметить, что общего требования изображать “характеры” еще совершенно недостаточно. Новелла достигает этого специфическим способом, специфическими средствами — и именно в этом и заключается суть вопроса. Противопоставить “изображение характера” формалистской “сюжетности” — это значит не сказать еще ничего определенного. А во-вторых, в огромном количестве новелл центр тяжести явно переносится с “характеров” на самое ситуацию. Именно в ней может концентрироваться глубочайшее содержание новеллы, а характеры оказываются намеченными довольно бегло и без особой новизны. Вообще говорить о “характерах” как исключительном содержании литературы — это значит искажать действительное положение вещей и незаконно ограничивать задачи литературы. Всю действительность, всю общественную жизнь во всем ее сложном содержании может и должна изображать литература. Из ряда новелл Мопассана, где особенно глубока и выразительна именно сама ситуация, мы напомним лишь две: “Брильянты” и “Ожерелье”. В первой — ироническое изображение буржуазного брака. Муж получает в наследство после умершей жены множество фальшивых драгоценностей. Всю жизнь она имела к ним странное, ничем не излечимое пристрастие. В трудную минуту муж решает их продать. Драгоценности оказываются настоящими. Он становится богачом, может бросить службу, зажить широко. Но вопрос: откуда и как добыты эти драгоценности? Впрочем, муж быстро приспосабливается к этому открытию и продает брильянты, испытывая лишь некоторое, весьма слабое чувство смущения. Изменяя при жизни, жена “позолотила” зато вдовство мужа. Мопассан негодует, бичует грешницу? Отнюдь нет. В мире заведомо фальшивом это, может быть, даже самый лучший исход. Он был счастлив при жизни жены, он богат и независим после ее смерти. И, замыкая, подчеркивая эту тему “брильянтовой” измены, Мопассан добавляет: “Через шесть месяцев он вторично женился. Его вторая жена была честная женщина, но тяжелого характера. Она его изрядно помучила”. С удивительной полнотой, остротой и силой выражена здесь мопассановская оценка “законного” буржуазного брака. Язвительность сочетается здесь с усмешкой по поводу тех поправок, которые вносит жизнь в схему “честного” брака в буржуазных условиях, и с слегка ироническим одобрением этих поправок. Все это выражено именно через ситуацию, через самый сюжетный “поворот” событий. Еще интереснее новелла “Ожерелье”. Небогатая дама берет у приятельницы ожерелье, чтобы надеть его на бал. На балу она имеет блестящий успех. Но, возвращаясь домой, она теряет ожерелье. Все поиски оказываются напрасными. Тогда она в кредит покупает у ювелира точно такое же ожерелье и в течение ряда лет живет в бедности, труде и постоянных лишениях, чтобы выплатить долг. Выплатив, она рассказывает все подруге. Та говорит, что напрасно она приняла столько мучений, потому что ожерелье было фальшивым. Ситуация здесь настолько глубока и выразительна, что, может быть помимо намерений Мопассана, вырастает в обобщение всего буржуазного общества с его фальшивыми ценностями, за которые приходится расплачиваться жизнью. Эта новелла стоит целых томов по своей обобщающей силе, по своей значительности. И опять достигается это необычайной выразительностью самого “случая”, его символической глубиной. “Характеры” здесь отступают на задний план перед “положением”. Если угодно, наиболее типичный “характер” здесь — у ожерелья, вокруг которого завязывается узел человеческих отношений. ...Мы уже говорили о том, что в новелле не так уж редко встречается фантастика. Но это особая фантастика, такая, которая хочет себя “реально”, “буднично” обосновать. Мы показывали, как это делается Гофманом. И у Мопассана есть рассказы, насыщенные фантастикой, такие, как “Le Horla”, “Кто знает?”. Таинственные невидимые существа, путешествующие вещи — иная сказка не доходит до такого фантазирования. Но любопытно для теоретического проникновения в сущность новеллы, в каком тесном сращении с очень реальным бытом, к тому же изображенным ярко и “густо”, дается эта фантастика. Любопытно также, что и там и здесь люди, причастные к этому фантастическому миру, оказываются в сумасшедшем доме. Можно ли говорить, что эти противоречия раскрываются в новелле в событиях “исключительных”? На примере новелл Мопассана, может быть, всего легче показать то, о чем мы говорили раньше. “Исключительность” факта и “обыденность” его, по внешности противоречащие друг другу, оказывается, вырастают на одном и том же основании, имеют внутри себя единый принцип. Огромное количество рассказов Мопассана явно говорят о чем-то “необычайном”, “редком”, “исключительном”. Есть тут и экзотика этнографическая (“Марокко”), и экзотика переживаний (преступления, душевные извращения), и экзотика причудливого сплетения событий. Но это лишь самое простое и прямое выражение более глубокой тенденции, которая находит себе проявление еще более примечательное в изображении внешне обыденного. Мы назвали это “остротой” новеллистического факта. Название это условное, и не на нем мы настаиваем, а на том смысле, который в него вкладывается. А смысл этот, думаем, достаточно ясен из разбора конкретного материала. Такая новелла, как “Возвращение”, начинается с “необычного”, “редкого”, “исключительного” события: вернулся муж к жене, которая без него вышла замуж за другого. Но оказывается, что не эта внешняя исключительность интересует здесь Мопассана. Тема рассказа — не в этом. Тема его — в том отношении, самом будничном, которое проявляют все к этому случаю. Но в этой-то “будничности” и проявляется подлинно новеллистическая и гораздо более глубокая острота. В эстетическом содержании этого рассказа даны сразу, сочетаются к внешняя исключительность, и противоречащая ей “обыденность”, и объединяющая и то и другое, проявляющаяся и в том и в другом “острота” факта. Сказанное относится и к проявлению характера и к сплетению событий. Специфически новеллистические сюжетные “неожиданности” есть лишь внешнее выражение острых внутренних противоречий изображаемых явлений. Но другая сторона “остроты” новеллистического факта — это его “цельность”, сжатость, концентрированность. Когда мы говорим об “остроте”, мы берем новеллистический факт в его соотношении с окружающей действительностью, говорим о том, что в нем с исключительной силой проявляется реальное противоречие. Но “острота” есть вместе с тем сконцентрированность противоречия в каких-то тесных, охватываемых одним взглядом границах. Здесь опять теория “одного эпизода”, “одного характера”, изображаемых в новелле, оказывается и узкой и внешней. Действительно, в большинстве новелл Мопассана все сконцентрировано вокруг какого-то одного эпизода, случая, события. Но это опять-таки наиболее прямое и простое выражение более глубокой тенденции, которая проявляется, может быть, еще убедительнее и интереснее в новеллах “многоэпизодных”. Вот, например, новелла Мопассана “Сестры Рондоли”. История, рассказанная в ней, сама по себе довольно пространна. Но весь длительный рассказ о любовной близости и неожиданной разлуке с первой из сестер как бы заключен в одни скобки и сопоставлен с последним эпизодом. Рассказчик возвращается на прежнее место, его встречает вторая сестра, такая же красивая, готовая столь же охотно разделить его досуг и его постель, и мать так же покровительствует им. “На днях я собираюсь снова посетить Италию, думаю при этом не без волнения и надежды, что у госпожи Рондоли есть еще две дочери”, — заключает рассказчик эту историю о семейной любовной щедрости и патриархальном материнском сводничестве. На более широком материале здесь проявляется та же конструктивная тенденция, что и в рассказах, построенных на одном эпизоде. Но та же тенденция обнаруживается в отдельных деталях. Здесь, может быть, особенно стоит отметить тенденцию, на которую мы уже указывали: наглядно концентрировать тему рассказа в каком-нибудь предмете, в какой-нибудь вещи. К таким новеллам принадлежали, например, новеллы Боккаччо о соколе, “Брильянты”, “Ожерелье”, “Веревочка”, “Полено”, “Кровать” Мопассана, многие новеллы Чехова, О’Генри и других новеллистов. “Вещь” становится здесь центром композиции. Но цельность, сжатость, концентрация проявляются не только в этих композиционных формах. Все это проявляется в художественном использовании любой детали, в художественной “нагрузке” ее. Отсюда — “многофункциональность” детали в новелле. Данное описательно, как предмет обстановки, ружье сюжетно “стреляет”, диалог оказывается и средством характеристики персонажа и вместе с тем стремительно двигает действие. Скажут, что все это может быть и в романе. Ну конечно. Но в новелле эти приемы получают особенное развитие, особенно ярко проявляются и бросаются в глаза. Недаром они — предмет постоянного внимания и практиков и теоретиков новеллы. Этим же объясняется и характер развертывания новеллы — стремительный ввод в действие, острая концовка. О новеллистической концовке, о ее pointe, писалось очень много. Дело здесь не в самом наличии концовки, — ее имеет и роман и вообще любое произведение, — а в ее особой природе. Как характерные черты ее обычно отмечают сжатость и неожиданность. Несколько новеллистических концовок мы разбирали выше и видели, что назначение их — в заключительном подчеркивании темы рассказа, что их нельзя отрывать от содержания. Сжатость концовки не требует после всего сказанного особых объяснений. Что же касается “неожиданности”, то когда она действительно есть, она является выражением все тех же специфически новеллистических резких поворотов темы. Нам думается, что, только исходя из общих тенденций новеллистического отражения действительности, можно понять и значение “рассказчика” в новелле. Чаще всего это значение “рассказчика” объясняют связью новеллы с устным повествованием. Но таким образом можно объяснить, откуда преемственно идет эта особенность, но нельзя объяснить, почему она сохраняется в новелле, почему она особенно важна для нее. Нам кажется, что “рассказчик” потому так часто встречается в новелле, что он дает возможность, во-первых, добавочно нагрузить рассказ путем сочетания повествовательной и характерологической сторон и, во-вторых, “субъективировать” повествование, внести в него лирику или мораль. Мы не даем подробного разбора всех этих специфических форм композиционного строения новеллы, не приводим многочисленных примеров только потому, что это чрезмерно загрузило бы нашу работу. А затем — обо всех этих особенностях по отдельности и в тех или иных сочетаниях много раз говорилось. Наша задача состоит не в том, чтобы повторять сказанное, а в том, чтобы попытаться обнаружить внутреннюю объективную логику всех перечисленных и еще ряда других особенностей новеллы. Мы начали статью с того, что привели ряд мнений о новелле, по преимуществу выдающихся ее практиков. Мы поставили перед собой задачу показать “истину”, в них заключающуюся. Как мог увидеть читатель, мы действительно не пытались эти мнения механически соединить, чтобы обрести истину более полную. Этого нельзя сделать еще, как мы указывали, и по той простой причине, что мнения эти явно разноречивы. Действительно ли житейски реалистична новелла? Но есть новеллы явно фантастические. “Лирична” ли новелла? Но есть новелла моралистическая. Действительно ли новелла живет “необычайным” и “исключительным”? Но есть новеллы, где предметом изображения является обыденное. Действительно ли новелла берет один эпизод, концентрируется около одного характера и т.д.? Но есть новеллы, охватывающие большое количество лиц и событий. Действительно ли новелла остросюжетна, драматична? Но есть новеллы без всякой сюжетной “стремительности”, описательные, “предметные”. И так далее, и тому подобное. Из всех этих “теорий” и возражений на них есть выход. Но выход не в расширении, не в умножении признаков, а в углублении их. Необходимо попытаться за внешней пестротой и несхожестью найти более глубокое и более общее основание. И тогда окажется, что внешне несходные вещи имеют внутреннее глубокое единство. VIII Все своеобразие конкретно-исторической обстановки Франции и России конца XIX века, все своеобразие социального положения Мопассана и Чехова проявляется и в их произведениях. Сами противоречия действительности, отраженные в их творчестве, иные у того и другого, иная “тема” и в положительной и в отрицательной ее части. Стоит сопоставить новеллы на внешне близкую тему — о семье, о любви, о крестьянстве, — чтобы убедиться в этом. Темы эти в некотором отношении даже противоположны. Вот, например, новелла Чехова “Учитель словесности”. Учитель Никитин ухаживает, женится. Жена его молода, красива. Он счастлив. Его не огорчает даже то, что “он еще не читал Лессинга”. Счастлив он перед женитьбой — и это лучшие дни его, — счастлив в первое время после брака. Но очень скоро семейная идиллия приедается ему, все кажется мелким, пошлым, скучным. “Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватывало бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны”. Ему чудится, будто ему говорят: “Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы отстали!” Рассказ кончается словами его дневника: “Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!” Мопассановская тема любовного наслаждения, чувственной страсти предстает здесь совсем в другом свете. Любовь эта отрицается как пошлость во имя идеальных стремлений к жизни прекрасной, духовной, деятельной. “Лессинг” здесь такой же символ высокой культуры, как “Москва” в “Трех сестрах”. Если Мопассана тяготит “избыток” культуры и он ищет “природы”, простоты и силы чувств, находит прибежище в “правде” биологической жизни, то Чехову отвратительна “животность”, которой так много в окружающей русской жизни, он жаждет гуманности, культурности. У извозчика Ионы умер сын. Он хочет поделиться своим горем. Но седоки равнодушны к нему. “Скоро неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем”. Приехав на постоялый двор, он идет к лошади, дает ей овса и начинает говорить о своем сыне. “Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей все” (“Тоска”). Очень сходен по построению рассказ “Ванька”. Ванька Жуков живет в мастерской у сапожника в мальчиках. Его бьют, помыкают им. Он пишет письмо своему деду, где изливает свое горе. Потом надписывает адрес: “На деревню дедушке. Константину Макарычу”, опускает письмо в ящик и счастливый засыпает. Иона и Ванька обращаются со своим горем в пустоту, в пространство, на ветер, их никто не слышит и не услышит. Именно в этом значение очень острых и неожиданных “концовок” в той и другой новелле. У лавочника дочь “актерка”. Когда она умирает, он подает просфору “за упокой рабы божией, блудницы Марии”. Дочь и была и осталась “пропащей” для него (“Панихида”). Бесплодно, никому не нужная, проходит жизнь интеллигента, пишущего фельетоны на литературные темы, и его сестры женщины-врача, равнодушной ко всему, вялой, только мечтающей о “большом деле” (“Хорошие люди”). Одна лишь вера и энтузиазм Лихарева притягивают сердца и чуть не увлекают случайно встреченную в дороге девушку, хотя Лихарев немолод, некрасив, бездолен (“В пути”). У врача умер единственный сын. К нему приезжает помещик Абогин, везет его к больной своей жене. Оказывается, что жена обманула мужа и скрылась в это время. И врач и Абогин оба несчастны, наносят друг другу незаслуженные оскорбления (“Враги”). Варька, замотанная до последней степени, не знающая отдыха и сна, душит плачущего ребенка, в котором для нее воплощается все зло, и засыпает (“Спать хочется”). Студент идет с приятелями к проституткам. Эти новые для него омерзительные и ужасные впечатления доводят его до припадка (“Припадок”), причем больше всего его угнетает именно “обыденность” всего этого. Он многого не понял в домах, души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайной, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие. “Порок есть, — думал он, — но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают, боже мой, боже мой”. “При чем же тут их гуманность?” — думает он о своих приятелях. Доктор Андрей Ефимыч Рагин годы заведует больницей и ничего не делает, чтобы искоренить творящееся в ней безобразие. “Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право”. Он сам попадает в палату для умалишенных, его бьют, издеваются над ним (“Палата № 6”). Художник влюбляется в девушку. Мать увозит ее. Вот лирическое заключение рассказа: “Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся... Мисюсь, где ты?” (“Дом с мезонином”). Лирический вздох этот очень типичен для Чехова с его резким отрицанием окружающей дикости, грубости, пошлости и неясной мечтой о жизни умной, честной, прекрасной. Тема дикости, материальной и духовной нищеты выражена и в рассказах Чехова о крестьянах (“Мужики”, “Новая дача”, “Злоумышленник” и др.) — в сочетании с темой сожаления, оправдания, человечности. “Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания” (“Мужики”). Это лишь некоторые примеры. Но они воспроизводят с достаточной полнотой господствующую чеховскую тему, такую специфическую и такую конкретную, вырастающую из конкретной обстановки русской жизни 80—90-х годов. Эти примеры показывают также достаточно ясно, не требуя особых пояснений, не только своеобразие чеховской новеллы, но и применимость к ней тех общих соображений о сущности и структуре новеллы, которые изложены выше. IX ...Выводы эти, конечно, до известной степени условны. Для того чтобы сделать их вполне обоснованными, необходимо было бы рассмотреть большое количество различных разновидностей буржуазной новеллы и перебрать много имен. Но количественный подход при рассмотрении истории новеллы, ее “подъемов” и “падений” сам по себе довольно сомнителен. “Расцвет” предполагает и качественную сторону. Говоря о “расцвете” новеллы, мы имеем в виду ее роль, ее место в литературе и ее особую художественную значительность. Если подходить к вопросу таким образом, тогда можно с большой уверенностью утверждать, что новелла особенно значительную роль в буржуазной литературе играла в начале ее развития и затем в конце, на исходе XIX столетия и в первых десятилетиях XX. Мы берем самое заметное, наименее спорное. Конечно, были и еще относительные “взлеты” новеллы на отдельных отрезках времени, в отдельных литературных направлениях. Точно так же и в последний из указанных периодов были колебания в относительной роли романа и новеллы. Но все же в общей форме указанное нами наблюдение может быть сделано. Рассматривая новеллу как своеобразное орудие художественного раскрытия действительности, чрезвычайно важно было бы объяснить причины, почему именно к этому орудию по преимуществу обращались в те или иные периоды. Если брать движение буржуазной новеллы в самых общих чертах, то его можно определить как путь от объективности и морализма ранней буржуазной новеллы к субъективности и лиричности новеллы поздней. Уже в новелле Мопассана психологизм и лирическая окраска проявляются весьма ярко. Интересно при этом, что в самом романе его чувствуется рука мастера новеллы: он имеет очень отчетливое членение, легко и стремительно развертывается. В русской литературе еще раньше Чехова можно указать на Тургенева. Он по преимуществу мастер рассказа. Это заметно и в его романах. Центром их является любовный эпизод. Такова история Рудина с Наталией, Базарова с Феничкой и Одинцовой, Нежданова с Марианной. Общественная сторона романов в отношении конструктивном является “приложением”. Тургенев явно психологичен и лиричен... Все эти черты еще более усиливаются у Чехова. И именно в этом психологизме, в этой субъективности и лиричности, усиливающихся чем дальше, тем больше, нам кажется, и следует искать объяснения развития новеллистики в поздней буржуазной литературе. Если на первых порах новелла служила гибким, подвижным средством осмеяния, моралистического разоблачения врага, то в последние десятилетия буржуазной литературы она становится средством импрессионистического дробления мира, концентрированного, но лирически замкнутого “переживания” его. Для большого эпоса нужна большая концепция, охватывающая связи объективного мира. Самый роман становится в буржуазной литературе замкнутым, своего рода изображением бури в стакане воды, как она выглядит под микроскопом. Одиссея новейшей буржуазной литературы — “Улисс” Джойса, этот “эпос души”, из которого ушла душа подлинного эпоса. Очень интересно наблюдать попытки широкой эпической формы у Чехова. “Степь” была задумана как большая вещь. Но она описательна, бездейственна, живет лишь количественным приращением. Герои этой вещи все едут и едут, им некуда “расти”, негде развивать большую человеческую активность, остается только перемещаться в пространстве. Толстой оперирует “народом”, целыми пластами жизни, противопоставляя их, отвергая или утверждая. Чехов оперирует малой по масштабам “тоской”, “скукой”, “пошлостью”, “мечтой”. Для большого эпоса необходима широта связей, необходимо ощущение факта как части какого-то более широкого целого. Буржуазная литература пошла по пути усложнения, детализации связей душевной жизни. В психологический этюд превращается и новелла, — по крайней мере, в господствующих ее проявлениях. Интересны в этом отношении ранние новеллы Джойса, собранные в его книге “Дублинцы”. Преобладающее их содержание — детальный анализ различных психологических изломов. Импрессионизм провозглашается как программа в новеллах Жироду. Субъективизм экспрессионистической новеллы опять-таки программен. Но та же тенденция обнаруживается в новелле по внешности “объективной”. В этом отношении интересны такие писатели, как Поль Моран и в особенности Хемингуэй. Хемингуэй ненавидит “психологизм”, он почти ничего не говорит о внутренних переживаниях, он весь “во внешнем”, и вместе с тем его новелла до предела психологична и импрессионистична. Стоит сопоставить хотя бы сходную по теме новеллу Мопассана “Сочельник” (о покойнике, положенном в хлебный ларь, потому что кровать нужна мужу и жене) с новеллой Хемингуэя “Альпийская идиллия” (хижина в горах, муж выносит умершую жену в сарай и потом настолько привыкает, что вешает на ее челюсть фонарь), чтобы ощутить, насколько импрессионистичнее Хемингуэй при всей своей кажущейся “объективности”. Или вот особенно интересна в этом отношении новелла “Кошка под дождем”. Муж и жена в комнате гостиницы. Незначительный разговор. Жена видит кошку под окном. Говорят о ней. Разговор опять уклоняется в сторону. Опять возвращаются к кошке. Приходит служанка. Опять незначительный разговор. Кончается новелла тем, что служанка приносит кошку. Тема здесь — атмосфера отчужденности двух людей, атмосфера разрыва. И вся тщательная, такая внешне нудная передача незначительных деталей имеет целью раскрыть эту тему. Предметность здесь только средство для раскрытия субъективно-лирической темы. Такова же замечательная новелла о юноше, вернувшемся с войны. Он опустошен, он мертв, он ко всему равнодушен. И скучные пустые разговоры об игре в мяч, разговоры с матерью, которыми наполнена новелла, — лишь средство не путем прямого называния, а косвенно — и потому, может быть, наиболее действенно — раскрыть эту тему. Эти вещи являются новеллами вовсе не потому, что они “объективны”, “эпичны” по способу изложения. Нет, как раз наоборот, по внешней структуре они скорее похожи на какие-то “картинки с натуры”, они целиком описательны. Новеллистическое напряжение создается, когда мы сквозь эту внешнюю кору достигаем внутренней психологической темы, когда эта тема предстает пред нами как концентрированное выражение реакции на обыденность и бескрылость “благополучной” семейной жизни, на опустошающее воздействие империалистической войны и т.п. X Мы переходим теперь к основной — если не по размеру, то по своему значению — части нашей работы: к вопросу о советской новелле, о ее особенностях, путях развития, о стоящих перед ней задачах. Оговоримся и здесь, что мы не ставим себе целью рассмотрение истории советской новеллы во всей ее широте. Как и раньше, нас будет интересовать прежде всего теоретическая сторона вопроса. Буржуазная новелла и в последние десятилетия XIX века и в первые XX переживала и переживает как будто расцвет, подъем. Мы найдем здесь и большое количество течений и имен и выдающееся мастерство. Но этот “расцвет” весьма своеобразен. По существу — это уход от больших социально-познавательных задач, это совершенствование способов, приемов передачи оттенков, нюансов душевной жизни, аспектов субъективного восприятия внешней “коры” явлений. Это утонченная техника, лишенная большого познавательного содержания. Мы подчеркивали в буржуазной новелле ее психологизм и субъективизм. Нам могут возразить, что это упрощает положение дела, что здесь имелись и имеются явления другого порядка. Стоит назвать такое крупнейшее имя недавнего прошлого, как О’Генри, или уже упоминавшееся — Честертона. Это великолепные новеллисты, — прекрасные мастера. Новелла их объективна, сюжетна, новелла О’Генри широка по своему социальному диапазону. Но мы уже говорили, что у Честертона объективность в значительной степени мнимая. Это “игра” реальными жизненными отношениями, иногда, как, например, в “Перелетном кабаке” и других подобных вещах, совершенно откровенная. Что касается О’Генри, то здесь дело несколько сложнее. У него мы можем отметить элементы своеобразной “формалистичности” в сюжетном строении. Причудливые сюжетные сплетения выступают на первый план, оттесняя задачи социальной характеристики. “Острота” сюжета, “неожиданность” поворотов достигают исключительного мастерства, но вместе с тем являются несколько внешними, облегченными, лишенными настоящей познавательной глубины. Блистательная техника новеллистических “противоречий” не соответствует у него подлинному проникновению в глубокие противоречия жизни. Более того — весь этот причудливый и увлекательный узор неожиданно поворачивающихся событий призван как бы прикрывать реальные противоречия. Эйль Дженнингс в своей книге “О’Генри на дне” рассказывает, как О’Генри перерабатывал реальный материал, смягчая жестокие факты в угоду “утешающим” выводам. Сколь типична, например, для О’Генри новелла о любящих муже и жене: муж продает свои часы, чтобы купить жене гребенки, жена продает волосы, чтобы купить цепочку для часов (“Дары волхвов”). Цепочка — одному, гребенки — другой не нужны теперь. Жертвуя, каждый из них тем самым делает бессмысленной жертву другого. Но что в том! Что в том, что они бедны, что их постигают невзгоды. Дорога нежность, любовь, выразившаяся в их подарках. Сама ловкость сюжетного построения новеллы кажется здесь ловкостью фокусника, занимающего зрителя немного грустной, но трогательной и утешительной игрой. Отметим, что на “формальность” подобных построений указывает и Эйхенбаум в своей статье “О’Генри и теория новеллы”. “Это почти чистая сюжетная схема, нечто вроде алгебраической задачи, под знаки которой можно поставить любые другие факты” [Б.Эйхенбаум. Литература. Л., “Прибой”, 1927, стр. 201], — пишет он. Итак, ограниченность буржуазного реализма, нарастающая, усиливающаяся к последним десятилетиям, столь же очевидна и в новелле, как и в других жанрах. 296 Но значит ли это, что мы должны отказаться от того познавательного содержания, которое заключено в буржуазной литературе, отбросить те жанровые формы, которые получили в ней такое развитие? Как это ни странно, но высказывалась в печати, в литературной полемике, даже такая мысль: если вы признаете роман (речь шла о романе, но все это целиком относится и к новелле) специфическим жанром буржуазной литературы (хотя роман знала античность, знало средневековье), то вы должны сделать вывод, что роман не может существовать в советской литературе. Дилемма эта совершенно бессмысленна. Можно считать и роман и новеллу характерными жанрами буржуазной литературы и вместе с тем вполне совместимыми с новым, социалистическим содержанием. Конечно, и роман и новелла приобретут при этом специфические черты, будут иметь существенные особенности, но все же можно говорить о наследовании, переработке и использовании романа и новеллы и как жанровых форм. Нам думается, что это объясняется вот чем. Буржуазная литература резко отличается своей обыденной повседневной тематикой, своей направленностью на познание реальных характеров и положений окружающей жизни. Буржуазный реализм в основном разрешил задачу ввода в литературу живой окружающей действительности. И буржуазный роман и буржуазная новелла были формами освоения этой действительности. Это завоевание мы целиком принимаем, принимаем и те жанровые формы, в которых совершалось освоение живой окружающей жизни. Но мы говорим об ограниченности буржуазного реализма, о неспособности его сплошь и рядом овладеть глубоким содержанием действительности. Но это значит, что в советской литературе самая форма романа и новеллы становится своеобразной. Характерно, например, приближение советского романа к формам большого эпоса. Какой же должна быть новелла и может ли она действительно у нас существовать? Впрочем, вопрос этот риторический, в большой мере праздный. Новелла у нас существует столь же давно, как и пролетарская литература, и уже в самых ранних художественно значительных ее явлениях обнаруживается глубокое своеобразие. У нас очень мало говорят о Горьком как мастере пролетарской новеллы. А между тем новеллистика его, в особенности, как нам кажется, ранняя (почему — об этом мы скажем дальше), имеет огромное значение и чрезвычайно поучительна и для новеллистической практики нынешнего дня и для теории новеллы. Есть подспудно существующая мысль, что это вообще “не новелла”, а что-то другое, например “рассказ”, являющийся особым жанром. Теория эта идет от формализма. Но и там она выражена очень условно. Рассматривая теорию новеллы, Б.Эйхенбаум пишет: “Конечно, я говорю в данном случае о новелле сюжетного типа, оставляя в стороне характерную, например, для русской литературы новеллу-очерк или новеллу-сказ” [Б.Эйхенбаум. Литература. Л., “Прибой”, 1927, стр. 171]. Как видим, и здесь сюжетная новелла выделена условно (хотя на ней и построена теория новеллы). Вообще невозможно понять, как отделить “новеллу” от “рассказа”. Тогда придется выключить огромное количество новелл Мопассана, почти всего зрелого Чехова, не говоря уже о множестве других новеллистов, только потому, что они не похожи на О’Генри. И в теоретическом отношении такое противопоставление не выдерживает никакой критики. Что касается новелл Горького, то недостаточно внимательное отношение к ним как к образцам новеллистического жанра тем более странно, что ряд из них отвечает всем требованиям даже “сюжетной” новеллы. Но особенно важны они тем, что в них ярко проявляются новые принципы пролетарской новеллистики. Назовем сразу же эти принципы, эти характерные черты ранней горьковской новеллы: 1) новая тема борьбы с капитализмом, с собственническим “свинством”, новое, более глубокое восприятие противоречий действительности, 2) объективность, широкий социальный характер изображаемых противоречий, 3) героичность, яркость положительной темы. Возьмем такую новеллу, как “Челкаш”. Вся она построена на противопоставлении жадности Гаврилы и “свободы” Челкаша. Тема борьбы с калечащими человека условиями капиталистического общества “задается” уже открывающей новеллу картиной работы порта. “Люди суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны, по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их” [М.Горький. Собрание сочинений, т. I, 1928, стр. 75]. Далее сюжет построен на том, что такой внешне “тихий” Гаврила оказывается человеком, из жадности, из собственнических мечтаний о своем хозяйстве способным на все, вплоть до убийства, а вор Челкаш проявляет великодушие и щедрость. Здесь можно найти и чисто новеллистическую сюжетную остроту, и сжатость, и “неожиданные” повороты. Но не это поражает в ней в первую очередь. В ней поражает бодрость, вера в жизнь, пафос утверждения. Это великолепный гимн возможностям, заключенным в человеке, его прекрасной сущности, искалеченной окружающими условиями. Было бы неверно говорить, что здесь Горький “воспевает босяка”, призывает к воровству и т.п. Лишь чрезмерной простотой или классовой злобой может быть продиктовано такое предположение. Это гимн человеку, его силе и красоте, а Челкаш здесь является лишь носителем некоторых из восхищающих писателя свойств. Конечно, мы можем и должны сказать, что здесь хотя и ясно обнаруживается борьба с капиталистическими условиями, но положительная тема дана еще в слишком общем, недостаточно конкретном виде. Здесь эта прекрасная человеческая сущность еще не дана в ее передовом, в ее наиболее исторически полном и правдивом воплощении — в образе борца-революционера. Однако от этой темы есть прямой путь к образу Павла в “Матери”. На этом пути отметим такой рассказ, как “Озорник”, где более конкретной становится и критика капиталистического общества и большую историческую типичность приобретает сам носитель отрицания. Однако и здесь наборщик, стихийно протестующий, “озорующий” над своим хозяином, — еще не “герой” в полном смысле слова. Вершины своей это движение к исторически типичному герою достигает в романе “Мать”. Возьмем теперь рассказ “Мальва”. По поводу его и других рассказов Горького много было написано о “реабилитации плоти”, о ницшеанстве и о прочем. В этом рассказе — противопоставление “мужицкого” косного, патриархального представления о женщине и “свободной” в своей любви Мальвы. Мальва говорит Василию: “Да я тебе что — жена, что ли?.. Привыкши бить жену ни за что, ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня и никого не боюсь” [М.Горький. Собрание сочинений, т. II, стр. 117]. Или в другом месте: “Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж итти. А замужем баба — вечная раба: жни, да пряди, за скотом ходи, да детей роди... Что же остается от нее самой? Одни мужевы побои да ругань” [Там же, стр. 120]. Мальва с увлечением читает, как “юноша — сын богатых и важных родителей, ушел от них и от своего счастья”. Мальва говорит о себе: “Я вот, когда одна и тихо... все плакать хочу... Или — петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать — стыдно” [Там же, стр. 132]. Когда Василий бьет ее, Мальва не может ему этого простить и уходит от него. Не с рассказами о “свободной любви”, столь распространенными в декадентской литературе, нужно сопоставлять “Мальву”, а хотя бы с таким очерком Горького, как “Вывод”, — очерком о том, как молодую женщину, “изменившую” своему мужу, раздетую, привязанную к телеге, тащат по деревням и всенародно избивают до потери сознания. Тогда мы поймем тему “Мальвы” — тему освобождения женщины от дикого рабства. О “Мальве” можно повторить все то, что сказано выше о Челкаше. И здесь мы имеем борьбу с ужасами “собственности”, героическое прославление человеческой силы и красоты. И здесь можно говорить об известной абстрактности, лишь о движении к подлинной глубокой конкретно-исторической типичности. Но, начавшись с новеллы, дальнейшее развитие привело Горького к широкой эпической форме. Здесь не место выяснять причины этого явления, так же как и причины господства большой эпической формы в пролетарской литературе вплоть до наших дней. Горький писал новеллы и позднее. Но значение их меньше, чем значение его романов и хроник той же поры. Основные свои художественные задачи он осуществлял с гораздо большей широтой, полнотой и силой именно в романах и хрониках. Новелла послужила средством острой и резкой демонстрации тех новых тем, какие принес Горький. Дальнейший широкий охват реальных общественных отношений происходил уже при помощи других жанровых средств. Интересно, что после Октябрьской социалистической революции в литературе попутнической, в различных ее звеньях, посвященных отображению новой революционной действительности, новелла приобретает тоже очень значительную роль. Этот период выдвинул, наряду со многими другими, такого замечательного новеллиста, как Бабель. Любопытно, что новелла Бабеля тоже пафосна и героична. Прикосновение к революционной действительности придало ей высокий пафос силы и подвига. Но героическая новелла Бабеля познавательно ограничена. Бабель в своей новеллистике многое воспринял от французской литературы — по преимуществу от Мопассана, в изобразительной части — от Флобера. В его “красоте безобразного” есть нечто похожее на восхищение Флобера золотой вошью, ползущей по платью нищего. Это эстетизация яркой и красочной поверхности вещей. С Мопассаном роднит его “чувство плоти”, острое ощущение телесной сочности травы, дерева, человека, всей жизни. Но Бабель доводит все это, как и свою героику, до “крика”. Есть мелкобуржуазная ограниченность в этом самодовлеющем преклонении перед избыточной плотью жизни и в этой особой трактовке героического. Пусть по-настоящему преданными революции, сильными, мужественными, не боящимися смерти выступают у него бойцы Конной армии, но они даны с оперной пышностью, с налетом внешней экзотики. Эти юноши, затянутые, как молодые девушки, по-восточному цветистые, движутся у него под звуки труб и фанфар среди природы пестрой, разубранной в синеву, в серебро лун, в ослепительное золото полудней. Насколько узко поняты Бабелем их цветущая сила и не знающая препятствий храбрость, видно из того, что она однозначна для него с силой и храбростью налетчика Бени Крика. И там и здесь его привлекают переливающие через край силы и красочность сами по себе, и там и здесь этим фанфарам юности противопоставляет он робкий заикающийся голос “четырехглазого” хилого телом и духом интеллигента. Героическая тема Бабеля лишена настоящей социальной глубины, так же как лишена подлинной активной силы его эстетика “избыточности” жизни. Своеобразием этой положительной темы является то, что в ней смешиваются и “высокое” и “грязное”. Такова героика Бабеля, такова прославляемая им красота. “Груды сладко воняющего человеческого мяса”, одетые в пестрое тряпье, — вот одна из характернейших для него черт не только при изображении пира на свадьбе сестры Бени Крика, но и при изображении “пира жизни” вообще. Создается очень острый контраст, подобный сочетанию “низкого” предмета и “возвеличивающей” манеры описания. Есть привкус тления, есть некая рафинированность в том великолепии, которое изображает Бабель. В конструктивном отношении новелла Бабеля примечательна тем, что она очень мало сюжетна. Она по преимуществу статична, хотя и сохраняет чрезвычайную напряженность. Создается эта напряженность острым противопоставлением различных сторон явления, различных фактов. Вот, к примеру, “Переход через Збруч”. Рассказчик останавливается на ночь в еврейской семье. На полу человек, прикрытый простыней. Утром оказывается, что это труп старика с перерезанным горлом. Он умер, не проронив ни слова. “Где вы найдете такого отца?” — говорит дочь. Все держится контрастами описания. Огромное значение в этих противопоставлениях имеет стилистика. Язык в новелле Бабеля приобретает композиционную роль, в контрастах описания раскрываются противоречия жизни. Мы думаем, что в этой статичности, описательности в данном случае проявляется тоже слабость писателя, замкнутость его в “лирической” сфере, преобладание субъективной окраски над объективной сущностью предмета. В этом отношении мы можем сопоставить Бабеля с другим крупным советским новеллистом, у которого эта власть субъективной лирической темы выступает еще заметнее, а именно — с Олешей. Противоречия жизни для Олеши — это прежде всего противоречия внутреннего мира, противоречия “высвобождения” из-под гнетущего наследства прошлого. Олеша хочет сохранить при этом “все свое ощущение красоты, изящества, благородства, все свое видение мира — от видения одуванчика, руки, перин, прыжка, до самых сложных психологических концепций” (из речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей) . “Ощущение любви” передано в новелле “Любовь”. Влюбленный Шувалов свой причудливый мир не хочет отдать за “синие груши” дальтоника. Для изображения душевного переживания Олеша прибегает здесь к своеобразной реализации “фантазий”: Шувалов летает “на крыльях любви”, внезапно вырастает абрикосовое дерево и т.п. В новелле “Цепь” передается ощущение “стремления вперед”, за гремящей бурей века — сначала в детском увлечении велосипедом, аэропланом, автомобилями, затем — уже в наши дни — в желании писателя идти вместе с революцией. В замечательной новелле “Лиомпа” изображено умирание человека, “уход” от него всех вещей. Если в “Любви” красота жизни приходит, то здесь она изображается уходящей, покидающей человека и тем более прекрасной. Тема “Вишневой косточки” — вопрос об искусстве в социалистическом обществе. Будет ли и там цвесть “красота жизни”, символизируемая вишневым деревом? Если новелла “Любовь” построена на той реализации субъективного, пример которой мы видели хотя бы у Гофмана, то “Цепь”, “Вишневая косточка” построены на “предмете”, вокруг которого завязываются противоречия. Так же построена и новелла “Альдебаран”. Старик ухаживает за девушкой. Она обещает ему прийти, если не будет звезд. Дождь. Но она не приходит. Оказывается, она была с машинистом Цвиболом в планетарии. Пусть шел дождь, но она видела звезды. Лирика старого и нового мира дана здесь через вещи. Катю смешит название звезды “Альдебаран”, Катя любит молодого машиниста, коммуниста Цвибола, и Советскую республику. “— Мы были в планетарии,— сказал Цвибол. — Техника,— вздохнула Катя. — Шел дождь, нужный Республике, — сказал Цвибол. — И нам, — окончила Катя. — И сверкали звезды, нужные нам, — сказал Цвибол. — И Республике, — закончила Катя”. Как это ни странно, но в каком-то смысле ряд замечаний, сделанных нами по адресу Бабеля, Олеши, имеет отношение и к третьему крупнейшему советскому новеллисту — Зощенке. Зощенко — мастер комической новеллы. Выше мы мало касались этой разновидности новеллы. Однако комизм имеет в новеллистике самое широкое распространение. Мы не будем здесь говорить о природе комизма. Отметим только, что было бы неправильно сводить его только к субъективному отношению к вещам. Нет, комизм имеет объективную сторону: оценка какого-нибудь явления как комического опирается на объективно присущие ему свойства. Однако это обнаружение комического в вещах может иметь разную степень широты и глубины. Тема Зощенки — это тема пошлости, невежества, глупости, духовной примитивности. Комизм создается кривым преломлением в сознании этого пошлого и невежественного обывателя явлений, которые “выше” его разума. “Наука” его заключена в границах “четырех правил арифметики”. “Я, говорит, человек просвещенный и депутат советский. Я, говорит, может, четыре правила арифметики насквозь знаю. Дробь, говорит, умею” (“Пациентка”). В лучшем случае это человек, “обремененный незаконченным средним образованием”. Но главное не в этом, главное — в почти зоологической примитивности его понимания жизни, его требований к ней. Чаще всего содержание рассказов Зощенки и состоит в описании “отношения” этого героя к какому-то событию, которое само по себе довольно незначительно. Крестьянину нужна к полевым работам жена. Он привозит “бабочку”, но у нее одна нога оказывается на полвершка короче. Он везет ее обратно и высаживает на полдороге (“Жених”). “Старый почтовый спец” товарищ Крылышкин тридцать лет принимал иностранные телеграммы, не зная языков, пока не “влип”, и не написал “Рачис” вместо “Париж”. Бабка принимает аэроплан за черта (“Черт”). Горожанин везет в деревню менять попугая на хлеб. Попугай дохнет (“Попугай”). Провинциальная публика принимает автора, поэта-имажиниста, пианистку и лирического поэта за трансформатора и устраивает бешеную овацию (“Случай в провинции”). При передаче этого “отношения” к вещам огромное значение приобретает не только манера так или иначе действовать, реагировать на факты, но и манера мыслить, манера выражения. Отсюда — зощенковский комический “сказ”. В постоянном словесном “непопадании”, в противоречии способа восприятия и обозначения с подлинным существом предмета весьма часто и заключается главная острота рассказа. “А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил... В театре-то все и вышло. В театре... она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с нею во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. — Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера? — Я, — говорит, — из седьмого. — Пожалуйста, — говорю, — живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?..” и т.д. (“Аристократка”). Это восприятие пошлости и духовной примитивности ярко и сильно, но оно все же кажется часто слишком субъективно-мизантропическим и лишенным пафоса подлинно социального отрицания. Особенно трудно отделаться от этой мысли, когда читаешь рассказы вроде “Пелагеи”.Пелагея, жена ответственного советского работника, неграмотна. Муж уговаривает ее научиться читать. Она не хочет. Случайно она находит в кармане мужнина пиджака пахнущую духами записку. Три месяца изо дня в день она сидит, за букварем и наконец добивается того, что может прочитать записку. Оказывается, коммунистка, товарищ ее мужа, пишет ему, настаивая, чтобы он подействовал на Пелагею и уговорил ликвидировать свою неграмотность. “Пелагея дважды прочла это письмо и, скорбно сжав губы и чувствуя какую-то тайную обиду, заплакала”. Это уже мизантропическое разоблачение “общечеловеческой” пошлости, низменности побуждений, лежащей в основе даже самых лучших поступков. Зощенковский герой — это не столько социальный тип, сколько примитивно мыслящий и чувствующий человек вообще. Ограничимся в своем рассмотрении только этими новеллистами. Мы не упомянули здесь даже по имени многих других не потому, что они заслуживали меньшего внимания. Нет, наша задача состоит в том, чтобы указать на некоторые типичные особенности советской новеллистики в ее разных звеньях и наметить те пути, которые нам кажутся более правильными и более соответствующими требованиям социалистического реализма. Новелла очень гибкое и острое оружие. Новелла отражает противоречия действительности в сжатом, концентрированном виде. Она подвижна, она мобильнее тяжелого на подъем романа. Новелла дает великолепную и благодарную форму для острой социальной характеристики, для изображения типических характеров и положений, для философского осмысления действительности и выражения эмоционального отношения к ней. Но подлинную действенную силу советская новелла будет иметь только в том случае, если она будет развивать те тенденции, которые намечены в ранних новеллах Горького. Она должна вырастать на глубоком понимании противоречий окружающей действительности, на внимательном изучении этой действительности. Наша жизнь, с ее стремительным ростом, подвижностью, с ее поистине исключительного значения сдвигами, происходящими на наших глазах, дает единственный и неповторимый материал для новеллы. Новелла должна быть не замкнутой в субъективно-лирической сфере, а объективной, социально типичной, используя и углубляя в этом отношении лучшее из наследства прошлого — раннюю буржуазную новеллу, Мопассана, Чехова. Новелла должна быть не только отрицающей, но и утверждающей, оптимистической и “героической”. Основной темой ее должны быть новый человек и новые отношения социалистического общества. И наконец, советская новелла должна дать эпизоды, положения, характеристики, сюжетные столкновения, наиболее типичные для взятого материала, наиболее отвечающие новым темам, которые приносит социалистическая литература. В последние годы в советской новеллистике происходит большая и разносторонняя работа. Новелла, в центре которой стоит борьба за социализм, за новые, социалистические отношения, вырастает из газетного очерка, из подчас еще довольно сырых и первоначальных зарисовок нового быта, новых характеров, новых положений. Можно было бы назвать немало имен более или менее “молодых” советских писателей (Габрилович, Герасимова, Левин, Лапин и др.), разрабатывающих форму новеллы. Но из весьма большого количества материала остановимся только на нескольких особенно типичных примерах. Одной из величайших опасностей, стоящих перед молодой советской новеллистикой, является заимствование пусть и “острых”, но чужих, вырастающих на основе совсем другого содержания, новеллистических столкновений и ходов. Вот, например, рассказ Г.Никифорова “Верность” (“Новый мир”, 1935, № 5). Наступление Юденича на Петроград. В красногвардейском отряде нет сестер. Красногвардеец Злыга приводит комиссара Бабаева к знакомым “гулящим девицам”, и те идут в отряд сестрами. Отряд частью истребляют, частью берут в плен. Белые добиваются узнать, кто комиссар. Спрашивают сестер. Арина Чугаева плюет в лицо поручику. Сестер вешают. Рассказ этот сильно напоминает мопассановские новеллы о проститутках. Но там действительно эти новеллы вполне выражали авторскую тему. Мопассан бьет по буржуазной лицемерной морали и по буржуазному представлению о проститутке как о существе внутренне порочном. Для нас же доказывать, что “и проститутки чувствовать умеют”, что революция и проститутку может поднять до высот героического подвига, — это значит ломиться в открытую дверь. Даже хуже: здесь как будто заранее дается вера буржуазному представлению о внутренне порочной падшей женщине, — представлению, которое нужно опровергнуть. Это бой на чужих позициях. Если к этому прибавить сведения, которые дает о девушках Злыга: “Другая с косой, Валька, по фамилии Перелет. Сиротинка несчастная, дочь убитого машиниста. Третья, которая посудой звякает, Ариша Чугаева. В городе от сохи на время”, — если учесть, что в качестве посетителя этих девушек дан единственно красногвардеец Злыга, любовник одной из них, тогда еще яснее видим всю случайность этих обстоятельств, отсутствие в них глубокой типичности, отсутствие глубокой мысли во всей этой истории. Возьмем еще новеллу Б.Левина “Голубые конверты”. В новелле этой есть лиризм, есть искусное построение, но и в ней чужая схема одолевает автора. Жена приносит мужу письмо. Прислал его гимназический поклонник ее, теперь инженер на крупном строительстве. Он до сих пор сохранил влюбленность в стройную милую девушку, ему одиноко, — и вот он пишет. Муж относится иронически к этим любовным мечтам, тем более что прежняя стройная девушка растолстела, опустилась, погрязла в хозяйстве. Он спрашивает жену, будет ли она отвечать. Та говорит, что конечно нет. Проходит некоторое время. Приходит второе письмо, еще более лирическое. Мужу становится жаль этого инженера. Ему хочется поддержать его, внести частицу поэзии в его жизнь. Он отвечает ему от лица жены. Завязывается переписка. Инженер счастлив, влюбляется все более, скучает, не получая писем, работа валится у него из рук. Наконец он решает, что им нужно встретиться, и пишет, что он приедет в Москву. Муж видит себя вынужденным раскрыть все. Он пишет “трезвое” письмо о потолстевшей, пошлой, вульгарной женщине, в которую превратилась прежняя “мечта”, он советует все забыть. Через некоторое время он уезжает в командировку. Возвращаясь домой, он разнеживается, мечтает, как его встретит жена, приходит к мысли, что она вовсе уж не так плоха, как он писал о ней, что она, правда, несколько опустилась, но не без его вины и т.п. Дома — никого. Он входит в комнату и находит на столе письмо в голубом конверте. Это письмо от жены, в котором она пишет о его несправедливости, о том, что это он довел ее до такого состояния, о том, что она уезжает от него с человеком, который ее любит и в нее верит, чтобы работать с ним, помогать ему. Новелла, как мы сказали, построена искусно, с неожиданными сюжетными ходами, неожиданной развязкой. Но искусность эта остается в значительной степени внешней. В самом деле, какова тема новеллы и как раскрыта она в этих сюжетных ходах? Сначала кажется, что это новелла о мужской дружбе, заменяющей розовые мечтания юности. “Ты любишь мою жену, ты не знаешь, какой она стала, ты страдаешь, ты работаешь над делом, которое дорого и мне, и я хочу тебе помочь” — вот как звучит начало. Последнее откровенное письмо мужа, предлагающее вместо юношеской мечтательной любви дружбу, как будто завершает эту тему. В теме этой есть нечто от джек-лондоновского “товарищества мужчин”, сурового, героического, но она вполне законна и может приобрести советскую специфику. Желательно лишь, чтобы она разрешалась не за счет принижения женщины, не за счет возвышения героического мужского начала над “слабым” женским. Но автор не останавливается на этом. Он опорочивает дружбу мужа, он показывает его как собственника в семейной жизни, он возрождает жену. Ну что ж — и такая тема возможна. Но что возрождает жену? Оказывается, та любовь, которую сохранил до сих пор ее девический поклонник. Тема об освобождении женщины, о ее возвращении к жизни общественно полноценной и лично увлекательной — великолепная тема. Но тот сюжетный ход, который реализует здесь эту тему, придает ей несколько мечтательно-юношеский оттенок. Идея о “возрождающей любви” имеет явный сентиментальный и, если можно так выразиться, альбомный привкус. Те общественные мотивы, которые должны бы быть главными, атмосфера увлекающего и поднимающего людей строительства новой жизни, новых отношений — все это имеет здесь боковые значения, не является главным сюжетным нервом, двигающим новеллу. Сюжетный “ход” не соответствует новому материалу и новой теме. Может быть, еще поучительнее этих двух рассказов рассказ Е.Каралиной “Стакан молока”. Стрелочник и его жена устраивают дом, заводят хозяйство, козу. Жена, всю жизнь работавшая батрачкой, радуется своему дому. Гражданская война. Приходят белые, опустошают все. Стрелочнику приходится скрыться. Проезжает мимо казачий отряд. Казак, озоруя, разрубает козу. Женщина не спит всю ночь. Наступает утро. Подходит поезд с красноармейцами. У нее просят молока. В вагоне раненый, он третий день живет одной водой. “Мы самогон давали — не принимает, мутит его с самогону...” Раненый просит пить. А бородатые бойцы смотрели на нее, как дети, — не веря в отказ, и женщина вдруг почувствовала себя сильной, какой и должна быть мать. Она схватила стаканчик, сбежала под насыпь, оттерла песком с водой неровные грани, заскрипевшие под пальцами; потом стиснула грудь, и молоко ее зажурчало в стеклянные стенки; но струйки были тонки и долго не наполняли стаканчика: со всей силой своих жестких рук она выдавливала то одну, то другую грудь до тех пор, пока красная капля не выступила на соске. Тогда она осторожно пошла к вагону и подала молоко раненому; зубы его нетерпеливо стукнули в толстую грань. Он пил, пил, прикрыв глаза, и каждый его глоток принимала женщина с наслаждением, никогда не испытанным в ее бедной жизни” [“Звезда”, 1935, № 4, стр. 105]. Рассказ этот сразу же приводит на память “Идиллию” Мопассана. Женщина едет в поезде. Она кормилица. Рядом с ней сидит молодой человек. Ее тяготит молоко, она мучится. “Я не давала груди со вчерашнего дня; у меня так кружится голова, как будто я готова потерять сознание”. Молодой человек предлагает облегчить ее страдания. Она дает ему грудь. Он жадно пьет, потом благодарит: оказывается, он уже два дня ничего не ел. Новелла эта замечательна по своей художественной силе. Тема ее — обычная для Мопассана: торжество цветущей, плодоносной плоти, “природы” над жалкими, ничтожными условностями. “Он встал перед нею на колени; а она наклонилась к нему и поднесла к его рту, обычным движением кормилицы, коричневый кончик груди. При движении, которое она сделала, взяв ее двумя руками, чтобы протянуть этому человеку, капля молока появилась на верхушке. Он ее быстро выпил, стиснул между губами, как плод, эту тяжелую грудь, и стал сосать жадно и размеренно. Он обхватил обеими руками талию женщины, прижал ее, чтобы приблизить к себе, и пил медленными глотками с таким же движением шеи, как и сосущие дети. Вдруг она сказала: “Эту довольно, теперь возьми другую”. Он послушно взял другую. Она положила обе руки на спину молодого человека и дышала теперь глубоко, с радостью, наслаждаясь запахом цветов в дуновениях воздуха, который движением поезда вносило в вагон. Она сказала: “Здесь хорошо пахнет”. Он не отвечал, продолжая пить из этого телесного источника и закрывая глаза, как будто для того, чтобы лучше чувствовать вкус”. Сцена эта нарисована изумительно. Здесь есть то, что романтики называли отражением бесконечного в конечном. Ни одна деталь (хотя бы, например, капля молока на груди) не пропадает, и сквозь них просвечивает тема великой плодоносящей матери-природы, питающей человека. Самый эмоциональный тон отдельных деталей здесь нужен, приобретает глубочайшее значение. Густой запах парного молока поднимается над этой сценой кормления человека, тяжелая питающая плоть ощущается руками. Случайный не совсем скромный эпизод вырастает в величественную картину. Тема Мопассана получает здесь художественно совершенное выражение. Но эта тема — не наша тема. Социалистическая литература приносит иное, более глубокое понимание и видение мира, это новое содержание она должна раскрыть в столь же насыщенных, столь же выразительных, столь же соответствующих этому новому содержанию картинах. Передвижка темы у Каралиной несомненна (нет надобности оговариваться, что не мастерство Мопассана и Каралиной мы собираемся здесь сопоставлять, это было бы ни к чему, мы хотим лишь проиллюстрировать некоторые общие положения о соотношении формы и содержания в новелле). Она хочет дать тему пролетарского материнства. Батрачка-стрелочница ощущает себя матерью этих красноармейцев и, как ребенка, кормит раненого своим молоком. Но эта тема не получает своего адекватного, равного себе воплощения в данном эпизоде. Тема пролетарского материнства включает такие стороны (и притом существенные, основные), имеет такой эмоциональный тон, которые не находят выражения в этой сцене кормления раненого своим молоком. Эпизод оказывается в значительной мере случайным, боковым для темы, не выражающим ее ядра, ее “сердца”, как это было у Мопассана. Он не “типичен” для данного содержания. Ведь физиологический “запах”, здесь имеющийся, — женское молоко, тощая грудь, капля крови на соске — все это случайно здесь, все это ни к чему, все это не раскрывает нужной для автора темы. Пролетарское материнство находит свое более полное адекватное выражение в других проявлениях. В каких? В том и состоит задача советской новеллистики, чтобы найти эти проявления нового содержания, чтобы найти те случаи, эпизоды, положения, сплетения событий, которые наиболее типичны для него, в которых, как в малой капле, отражается его бесконечная глубина. [1936] Текст дается по изданию: Виноградов И. О теории новеллы. // Виноградов И. Вопросы марксистской поэтики. Избранные работы. М.: Сов. писатель, 1972, с. 240-311