Свердликовы - Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна
advertisement
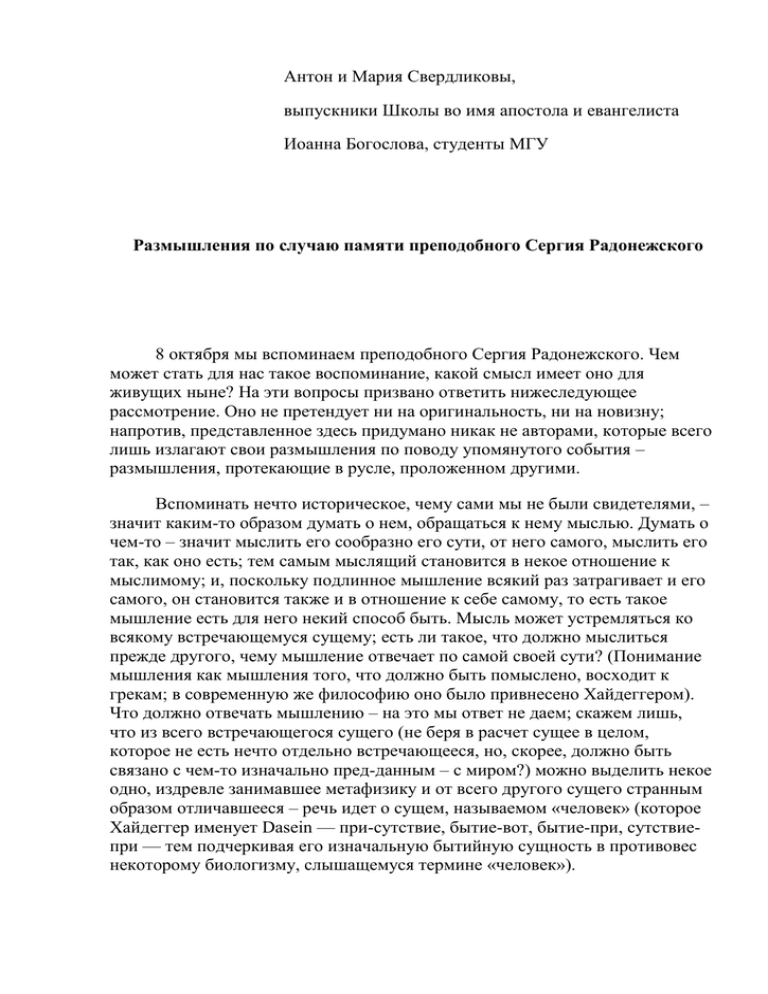
Антон и Мария Свердликовы, выпускники Школы во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, студенты МГУ Размышления по случаю памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября мы вспоминаем преподобного Сергия Радонежского. Чем может стать для нас такое воспоминание, какой смысл имеет оно для живущих ныне? На эти вопросы призвано ответить нижеследующее рассмотрение. Оно не претендует ни на оригинальность, ни на новизну; напротив, представленное здесь придумано никак не авторами, которые всего лишь излагают свои размышления по поводу упомянутого события – размышления, протекающие в русле, проложенном другими. Вспоминать нечто историческое, чему сами мы не были свидетелями, – значит каким-то образом думать о нем, обращаться к нему мыслью. Думать о чем-то – значит мыслить его сообразно его сути, от него самого, мыслить его так, как оно есть; тем самым мыслящий становится в некое отношение к мыслимому; и, поскольку подлинное мышление всякий раз затрагивает и его самого, он становится также и в отношение к себе самому, то есть такое мышление есть для него некий способ быть. Мысль может устремляться ко всякому встречающемуся сущему; есть ли такое, что должно мыслиться прежде другого, чему мышление отвечает по самой своей сути? (Понимание мышления как мышления того, что должно быть помыслено, восходит к грекам; в современную же философию оно было привнесено Хайдеггером). Что должно отвечать мышлению – на это мы ответ не даем; скажем лишь, что из всего встречающегося сущего (не беря в расчет сущее в целом, которое не есть нечто отдельно встречающееся, но, скорее, должно быть связано с чем-то изначально пред-данным – с миром?) можно выделить некое одно, издревле занимавшее метафизику и от всего другого сущего странным образом отличавшееся – речь идет о сущем, называемом «человек» (которое Хайдеггер именует Dasein — при-сутствие, бытие-вот, бытие-при, сутствиепри — тем подчеркивая его изначальную бытийную сущность в противовес некоторому биологизму, слышащемуся термине «человек»). Что значит мыслить человека из его сути? Как есть человек? Чем для нас может стать такое мышление и в какое отношение оно ставит нас к человеку и к нам самим? Какое отношение будет здесь правильным? Мы вспоминаем кого-то – то есть мы думаем о нем; вспоминая, мы представляем себе жизнь человека как нечто сбывшееся, а его самого – как прошедшего. В некую целость, оформляемую его жизнью, собирается все, с ним случавшееся, так что имя его соотносится с этой целостью; вот мы видим его в младенчестве, в юности, в старости; вот видим главные его деяния, за которые мы и помним его сейчас, и, если только мы в самом деле пытаемся представить их, то вместе с ними возникают и другие, сопутствующие им, и мы словно нащупываем жизнь того человека, давно умершего, в ее связи с тогдашним миром; мы можем пытаться представить себе, что чувствовал он тогда-то и тогда-то, чего хотел, о чем мечтал, чего боялся; мы представляем себе его еще не родившимся, мы можем обратиться мыслью к его предкам, раз за разом соединявшимся, чтобы он тоже пришел в мир, и мы представляем себе его последние минуты, последний взгляд на исчезающий уже мир, последний взгляд на прожитую жизнь – так можем мы думать о человеке, никогда не будучи в силах объять его мыслью вполне, но всегда способные как-то приблизиться к пониманию, к представлению. Но в таком представлении мы сами остались вовсе не безучастными зрителями – следуя за своей мыслью, мы всё больше и больше сами открывали в себе нечто – так, что, возвращаясь теперь от этого бывшего к себе, мы вдруг обнаруживаем человеческое и в себе; мы очерчивали его жизнь, чтобы представить ее как целое, указывая на которое, можно было бы сказать: «Вот человек», но, вернувшись к себе, мы вдруг сможем обнаружить то же самое человеческое и в себе, с той лишь разницей, что наша жизнь еще не прошла, что мы всё еще становимся, что мы пока еще есть в мире. Человеку не свойственно всегда помнить себя как человека; большей частью он потерян, внимание его приковано к конечным и, в общем-то, маловажным вещам, иногда необходимым для его выживания, а иногда просто увлекшим его почему-то. Того же, кто он, человек не помнит, как не помнит и своего удела, своей смертности, своего бытийного предназначения. Но бывает так, что человеку всё же удается себя обнаружить; бывает так, что человек остается вдруг сам с собой, со своей личностью, со своим Я, с возможностью быть, которая была всегда ему придана; он может вдруг увидеть бесконечное в своем существе, потерявшемся в конечном, и ужаснуться тому, насколько сильно здесь несоответствие между тем, кто он есть в действительности – и кем он может быть, кем ему должно быть. Такое обнаружение-себя занимало многих; Хайдеггер и Кьеркегор через него объясняли состояние ужаса, когда человек остается один на один со своим бытием, упуская прочь от себя все сущее, и то, что его ужасает – есть самая возможность быть, «бесконечная возможность мочь»; обнаруживает себя Иван Ильич, когда вдруг начинает думать, что, может, вся его жизнь была «не то»; Землемер, оставшийся во дворе гостиницы возле пустых саней Кламма, ощущает себя совершенно свободным, но свободным бесцельно и бессмысленно. Для нашего рассуждения важно здесь то, что такое обнаружение себя человеком может начинаться с воспоминания о другом; именно в этом, экзистенциальном значении воспоминание оказывается важно для вспоминающего; оно выступает здесь как раскрывающее мышление человека, возвращающее от другого к самому себе так, что мыслящий оказывается поставленным перед самим фактом своего существования, перед своей экзистенцией. Человек, который уже прошел, – в некотором роде сбылся; обращаясь к нему мыслью, мы всегда воспринимаем его как завершившего вверенную ему возможность; но совсем иначе обстоит дело с нами. Мало просто обнаружить себя в своем одиночестве, в брошенности в мире; такое самовосприятие не доходит до конца, оно лишь ужасается самому себе, не идя дальше. Если же кто-то пожелал бы пойти дальше, он бы в этом открывающем само-обнаружении увидел бы, что самое страшное состоит в том, что он еще не есть, что он не сбылся; и что, вместе с тем, он всегда имеет возможность сбыться, хоть и всегда ее упускает. Человек, оказавшийся перед сознанием своего Я, не может вместе с тем не заметить странной безосновности этого Я, взявшегося неведомо откуда и не отсылающего ни к чему (в рассказе Everything and nothing Борхес приводит иллюстрацию идеи такой безосновности, присущей всякому Я, когда человек, задавая себе вопрос: «Кто я?», не находит никакого ответа, и вынужден признать, что он никто, что ничего не скрывается за его именем и тем человеком, кого у других принято считать им, словно он лишь сон, выдуманный кем-то). Вопрос «Кто?» таинственен: всякий, задававшийся им, вынужден признать непонятную, удивительную трудность, сокрытую здесь; наверно, одной из возможностей ответить было бы пред-положение личности, откуда совсем недалеко до идеи пред-шествования личности миру, словно личность лишь заточена в мир, данный уже после нее; но мы не хотим здесь идти так далеко и уклоняться от рассмотрения только лишь сущего. Для нас важна сложность, встречающая в вопросе «Кто?», важна безосновность Я, ощущаемая им самим. Кьеркегор пишет, что Я, хоть и отданное самому себе, всё же положено было не самим собой, а потому и не в его власти быть самим собой. Здесь снова возникает вопрос «Кто?», несколько видоизмененный: теперь мы не ищем основания Я, но спрашиваем, что значит для Я быть самим собой, что значит для человека быть тем, кто он есть. И снова мы не будем приводить ответы, предлагавшиеся различными мыслителями, для нас важно лишь подойти здесь к осознанию этого условия человеческого существования – человек, поскольку он есть, есть всегда своя возможность, которую он большей частью упускает, таким образом он не является тем, кто он есть (не является собой перед Богом – так определял это Кьеркегор). Человек во всякое время своего бытия имеет перед собой это бытие открытым (пусть и большей частью неявно); кроме того, это бытие есть для него возможность сбываться, на которую он либо осмеливается – и тогда он сбывается, либо нет – и тогда он падает, и, оставаясь в падении, попрежнему имеет перед собой эту возможность сбываться, не становящуюся его действительностью. Вновь вернемся назад, к тому, с чего мы начали: с воспоминания о другом, о человеке, имеющем к нам отношение историческое. Обращаясь мыслью назад, мы ищем созвучия. Мы любим одних поэтов и равнодушны к другим, нам почему-то оказывается близок тот или другой из ранее живших – потому ли, что такое созвучие делает нас менее одинокими, или потому, что мы ищем в нем подмогу, опору в своем существовании? Опору, не снимающую с нас нашей бытийной ответственности, не упрощающую нам доступ к собственному бытию, но всё же как-то нас поддерживающую, указующую нам нас самих в нашей оставленности и, через это, дающую нам некую надежду (нечто подобное переживает прустовский Сванн, когда слышит на одном из вечеров сонату Вентейля – человека, которого он не знал и которого к тому времени уже не было в живых, но чья музыка осталась и способна потрясти до самой глубины кого-то, живущего ныне). Таким образом, вспоминая другого и тем самым обнаруживая себя, мы никогда не обнаруживаем себя в одиночестве, как голый, оторванный ото всех субъект, лишенный мира и замкнутый в своем бытии, – нет, здесь, одновременно с постановкой человека перед собственной возможностью, т.е. с его уединением в его самости, выявляется и изначальное его равенство с другим; открывая свой удел, он открывает его не только как именно свой (хотя и именно так в первую очередь), но и как удел всякого другого, он обнаруживает себя не только самим собой в возможности быть собой, но – самим собой в истории рода, в ряду других, из которых всякий был таким же, как и он, – то есть был одинок в своей возможности сбыться и был вместе с другими. Бытие индивида открывается как таковое, в своей индивидуальности, и как изначально совместное бытие. Мы говорили о поиске созвучия, которым ведОма вспоминающая мысль. Что меняется, когда человек, о котором мы думаем, – святой? Быть может, именно здесь бытийная подмога, которую мы ищем, оказывается явлена в наиболее своей форме? Обращаясь к тому, кто чувствовал что-то похожее на то, что чувствуем мы, мы идем не до конца; до конца же мы пойдем, когда испытаем тоску по наибольшей бытийной возможности, той, которая пред-дана всякому и через которую всякий только и может сбываться. Обращаясь к святости, мы ищем не одну из многих возможных нот, мы всматриваемся в главный способ быть, который есть способ быть собой перед Богом. В тот момент, когда индивид перенесся в свою возможность, она стала его действительностью, а значит – сразу исчезла бывшая здесь двойственность, когда человек уже был, но никак еще не осуществил человеческое. Мысль о святости отсылает нас к наивысшей возможности бытия; обращаясь к святому, мы ищем того единственно важного, что только и делает возможным наше спасение (Кьеркегор называл это религиозной стадией существования, когда индивид через веру отрекается от самого себя чтобы погрузиться в Силу, его полагающую, – и отсюда, растворившись в этой Силе, он вдруг вновь обретает себя того же самого, и впервые становится здесь собой). Мы вспоминаем Сергия Радонежского. Что открывает нам такое воспоминание? Мы говорили о бытии индивида, никак не затрагивая в нем исторического, но лишь вскользь отметив его изначальное отношение с другими; но воспоминание о преподобном Сергии сразу же определяет нас более полно, не как тех, кто только лишь есть и не сбывается, но и в нашем историческом бытии. Говоря о возможности быть, которой обладает всякий индивид, мы эту возможность никак не проясняли, почитая ее самостью, запертой внутри человеческой экзистенции; но никакой индивид не есть свободно парящая самость, он всегда занимает определенное место в истории, что значит – его бытие исторично; и пусть даже жизнь и смерть его окажутся никому неизвестны – его бытие все равно всегда было историчным, и только из такого его осознания сможет он осуществить себя. Чтобы решить о возможности – нужно обратиться к Началу; то, чему дОлжно явиться сейчас, определяется не человеком, хотя только через него и может являться. Человек тогда предстает вслушивающимся в то, чему дОлжно быть, и его осуществляющим; человек приставлен осуществлять открытость, то есть – приставлен к событию истины (что и составляет основу Хайдеггеровской мысли о человеке как хранителе бытия и истины бытия, которая — согласно своему греческому смыслу — есть открытость непотаенного). Осознание себя как вплетенного в историю, как живущего на этой земле, в тех же местах, в которых жили наши предки, в ряду которых мы выделяем сегодня преподобного Сергия Радонежского, отсылает нас к нашей исторической возможности; сбывающаяся возможность происходит из Начала, которое всегда исторично; и, вместе с тем, таковая возможность всегда есть нечто единичное, и само Начало оказывается от нас сокрыто, потаено, так что его событие не может по сути быть всеобщим, но также всегда оказывается единичным. Указанный парадокс определяет историческое бытие индивида. Оторванность от Начала грозит опасностью потеряться в бесчисленном множестве возможностей, никакая из которых не есть возможность быть, но всякая есть возможность не быть. Такая оторванность есть потерянность, отрешенность, отчужденность, лишающая человека его места в ряду других; но только из обретения места проглядывает возможность сбываться. Начало от нас потаено. Мы лишь оглядываемся назад, чтобы приметить его, но нам никогда это не удается вполне. Здесь Сергий Радонежский предстает для нас как символ, отсылающий к истокам Руси, где мы надеемся увидеть, разглядеть ее, где можно словно бы знать, что это такое – русскость. Спроста ли для русского человека Россия всегда становится тайной, загадкой; спроста ли он вновь и вновь задумывается о ней, но никогда не оказывается в силах эту тайну разрешить? Внутренней тайной светится картина «Явление отроку Варфоломею», на которой кроме будущего подвижника перед нами предстает загадочный схимник с сокрытым лицом, про которого мы не знаем ничего: лишь на один день появился он в истории, дабы исполнить в ней свое предназначение; тайным символом всей судьбы России становится Куликовская битва, в которую столетия спустя с мистическим трепетом будут всматриваться Александр Блок и Андрей Белый, от которых эта символичность не была сокрыта; но над самой битвой видим мы преподобного Сергия, заранее знавшего ее исход и давшего свое благословение князю Димитрию. Съедутся на Куликовом поле русский инок Александр Пересвет и татарский богатырь Челубей, и погибнут оба, память же об их поединке останется живой на века — но и за поединком увидим мы старца Сергия, отпустившего Пересвета на бой, словно причастного к намного большей тайне, чем та, которой станет для нас поединок. И вот – видим мы Россию, раскинувшуюся с Запада на Восток, и видим себя, далеких потомков тех людей, что пришли шестьсот лет назад на Куликово поле, за которых молился преподобный Сергий Радонежский; и мы спрашиваем, как нам быть и от чего должно нам быть? Нельзя быть, не ведая Начала; Начало же до сих пор окутано тайной, а мы будто оказываемся ее хранителями, приставленными к ней, но неспособными ее разрешить и, вместе с тем, только из нее могущими быть. Пока что мы только оглядываемся назад и раз за разом всматриваемся в то, что от нас еще сокрыто; мы не можем его назвать, но и не видеть его не можем. Мы вспоминаем преподобного Сергия – и всякий раз оказываемся перед присутствием той самой тайны, которая касается прежде всего нас, без которой нам нельзя здесь существовать; когда мы читаем его житие, когда приходим паломниками в основанную им Лавру, или когда смотрим на преподобного Сергия на иконах, или когда просто думаем о нем – всегда, всегда оказываемся мы перед тайной, всегда Сергий Радонежский предстает нам не только как великий святой, но и как хранитель нашей земли, и всегда, обращаясь к нему, чувствуем мы себя приближающимися к чему-то непомерно важному, к чему-то, относящемуся к нам самим, из чего только и можем мы начинать; словно за каждого из нас заступничает преподобный Сергий Радонежский перед Богом.