Наука в зеркале философской рефлексии
advertisement
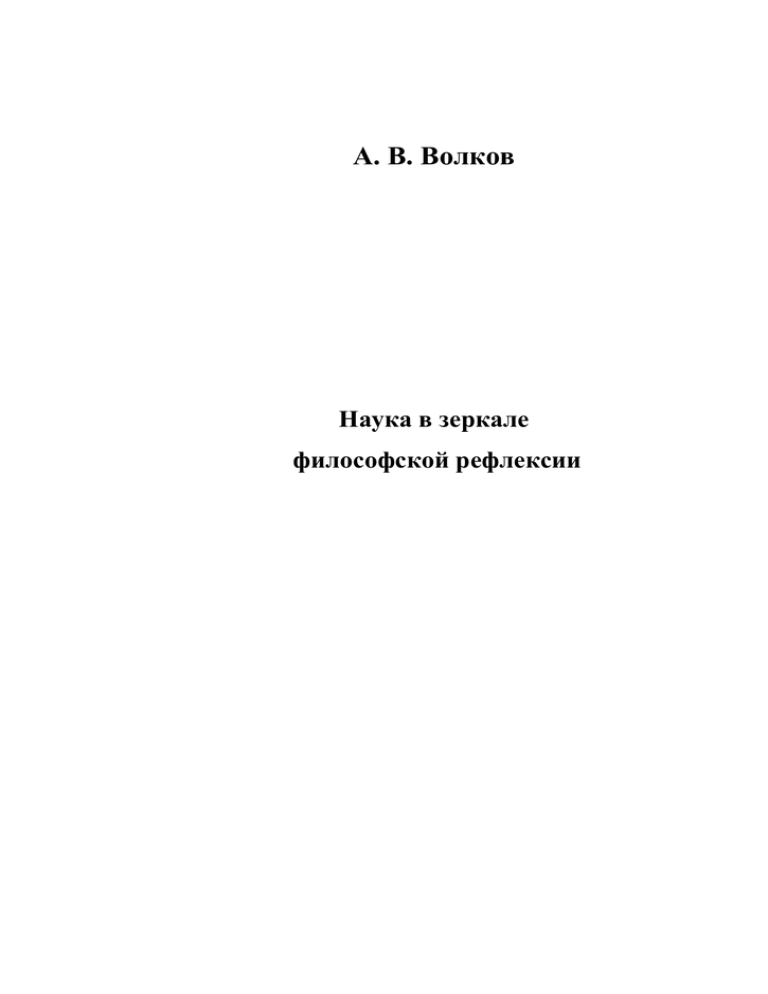
А. В. Волков Наука в зеркале философской рефлексии Министерство образования и науки Российской федерации Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» А. В. Волков Наука в зеркале философской рефлексии Петрозаводск 2006 Специфика научного познания, его происхождение и развитие остается и сегодня актуальной для философии темой. Работа посвящена выявлению разнообразных предпосылок научного познания. Показана связь науки с биологическими, социокультурными факторами. Работа использована как учебное пособие для аспиранта. Печатается по решению редакционно-издательского совета университета Рецензенты: Докт. филос. наук Б.В. Марков (СПб.ГУ), Докт. филос. наук А.М. Сергеев (ПетрГУ) может быть Оглавление Введение……………………………………………………………………………. 5 Глава I. Предпосылочная природа человеческого познания .................................. 9 Глава II. Природа и роль внутринаучного предпосылочного знания .................. 26 Глава III.Социокультурные и биологические предпосылки научного познания ..................................................................................................................... 59 Заключение ................................................................................................................ 92 Список использованной литературы ....................................................................... 97 Введение Полагаю, не будет большим преувеличением сказать, что на сегодняшний день одним из самых важных и актуальных объектов для изучения является наука. И это понятно. С того времени как начался процесс широкого применения научного знания в технике, технологии, а случилось это во второй половине XIX века, наука стала непосредственной производительной силой общества. Все, что столь сильно изменило условия жизни целых поколений, - будь то железная дорога и компьютер – основано на познании законов мироздания, т.е. в конечном итоге на науке. Кроме того, расширяющееся XX век может использование науки быть в охарактеризован самых различных как все областях социальной жизни. Наука начинает все активнее применяться в различных сферах управления квалифицированных социальными экспертных процессами, оценок и выступая принятия основой управленческих решений. Эту новую функцию науки иногда характеризуют как превращение ее в социальную силу. Соединяясь с властью, наука начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального развития. Вместе с тем, обращает на себя внимание и другой факт. С прогрессом науки и основанной на ней техники связывают не только самые существенные надежды человечества, но и тревоги за свое будущее. Так, в начале 60-х годов XX века было осознано, что бурный научно-технический прогресс порождает различного рода негативные последствия в сфере экологии - истощение природных ресурсов планеты, растущее загрязнение воздуха, воды, почв. В 70-е годы широкий резонанс вызвали результаты и перспективы биомедицинских и генетических исследований в связи с их потенциальной опасностью для генетической конституции ныне живущих организмов. В высшей степени характерными являются и современные дискуссии, связанные с так называемой «компьютерной революцией». Бурный прогресс микроэлектроники, внедрение ее в самые разные сферы жизни человека и общества, ставит немало неожиданных и острых вопросов о свободе и суверенности личности, о судьбе демократических общественных институтов. В силу этих и многих других обстоятельств наука сегодня оказалась под перекрестным вниманием многих дисциплин - истории, социологии, психологии. Но особое место в этом ряду принадлежит философии науки. Что такое философия науки? Обычно, говоря о науке, мы подразумеваем под ней некое множество элементов. Это, как уже говорилось, и производительная сила общества, и социальный институт, и система профессиональной подготовки и переподготовки кадров, но, прежде всего наука – это производство знания. Знание – это то, без чего наука существовать не может. Так вот, философия науки и пытается ответить на вопрос о том, что такое научное знание, какова его структура и методы, каковы закономерности формирования и развития научного знания. Именно это в первую очередь интересует философию науки. Далее, рассматривая науку как деятельность, направленную на производство знания, следует принять во внимание историческую изменчивость самой научной деятельности, научной традиции. В процессе развития науки происходит не только накопление нового знания и перестройка ранее сложившихся представлений о мире. В этом процессе изменяются все компоненты научной деятельности: изучаемые ею объекты, средства и методы исследования, особенности научной коммуникации, формы разделения и кооперации научного труда. Учет историчности науки позволяет несколько уточнить понимание предмета философии науки. Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их историческом развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте (В.С. Степин). Таким образом, философия науки рассматривает научное знание как социально-исторический, социокультурный феномен. И исследование того, как исторически меняются способы формирования научного знания, и каковы механизмы воздействия социокультурных факторов на этот процесс, является одной из важных ее задач. Ясно, что для того чтобы выявить общие закономерности развития научного знания философия науки должна опираться на материал истории науки вообще и конкретных наук в частности. Все это обуславливает тесную связь философии науки с историко-научными исследованиями. По замечанию одного из крупных специалистов в области философии науки – И. Лакатоса, философия науки без истории науки пуста, история науки без философии науки слепа. В этой работе мы хотели бы привлечь внимание читателя к одному из аспектов науки – к структуре и динамике научного знания. Традиционным и распространенным является мнение о том, что научное знание состоит из фактов, полученных путем наблюдений и экспериментов, с одной стороны, и, законов, теорий, прошедших многократное подтверждение опытноэкспериментальными данными, т.е. фактами, с другой. При этом, считается, что одна научная теория сменяет другую научную теорию просто потому, что новая теория лучше, чем ее предшественница согласуется с опытноэкспериментальными данными, фактами. Не порывая в целом с этим соответствующим здравому смыслу мнением, философия науки в то же время вносит в него существенные уточнения и коррективы. Последнее обстоятельство, надо заметить, напрямую связано со спецификой самой философии. Еще с древности, от Платона и Аристотеля идет мысль о том, что философия начинается с удивления. Эта греческая идея, впоследствии находит продолжение у многих мыслителей. Например, ярким образом ее выразил немецкий философ И. Кант. Лейтмотивом его философии был вопрос «как нечто возможно»? Например, как возможно математическое, естественнонаучное знание и т.д.? Несколько позже, уже в XX веке, «греческое удивление» эхом отозвалось в хайдеггеровском вопросе «Почему вообще есть нечто, а не ничто?», вопросе, который сам М. Хайдеггер называл основным, судьбоносным для западноевропейской цивилизации. Думается, что Платон, Кант, Хайдеггер и многие другие мыслители приподнимают завесу, скрывающую специфику философского мышления. Удивляясь и задаваясь вопросом типа «как нечто возможно?», мы настраиваемся на поиск фундаментальных начал, предпосылок того или иного явления (например, научного познания) и наш настрой, в этой связи, приобретает философское звучание, становится философичным. Как известно любые предпосылки, в виду их непосредственной близости к тому, кто из них исходит, часто остаются не замеченными. Поясним это на простом примере. Человек, постоянно пользующийся очками, не видит, не замечает стекол – для их обнаружения необходимо зеркало. Ученый, принявший определенную картину мира и действующий в своей науке некоторыми методами, считает их самоочевидными, «прозрачными» и не замечает подобно стеклам в очках, поэтому фиксация методов познания осуществляется с помощью «зеркала» философской рефлексии. В этой связи, специфика философского анализа как раз и состоит в том, что философия делает предпосылочный компонент научного знания явным, заметным для самой науки. Целью данной работы, таким образом, является экспликация предпосылок научного познания, выявление их значения для понимания специфики научной деятельности и места науки в культуре. Надеемся, что предлагаемая работа поможет начинающему специалисту глубже понять специфику научной деятельности, и в то же время будет стимулировать выход за рамки собственных исследовательских интенций, сформировавшихся в пределах узкой предметной проблематики, ставших уже естественными и само собой разумеющимися. Предпосылочная природа человеческого познания Познание как активный, интерпретативный процесс. Разговор о предпосылках научного познания и предпосылочном знании в науке целесообразно предварить размышлениями о природе познания как такового и специфике одного из главных его модусов – восприятия. Пребывая в мире, человек ежесекундно совершает акты восприятия, но при этом, однако, мало задумывается о том, благодаря чему он вообще видит то многое, что он собственно видит. Часто думают, будто та или иная вещь становится нам доступной просто потому, что некое я как субъект соотносится с неким объектом. Событие видения разыгрывается в неком пустом пространстве, между человеком – носителем сознания и миром – суммой готовых и определенных объектов. Но так ли это на самом деле? Действительно ли механизм восприятия сводится к воздействию внешних, объективных качеств вещей и их отражению в материале наших естественных, психических способностей? Мысль о том, человеческое познание представляет собой отражение внешнего, окружающего мира общеизвестна. Между тем, следует заметить, что сам термин отражение является не совсем удачным, ибо вызывает представление о познании как о следствии причинного воздействия предмета на пассивно воспринимающего это воздействие субъекта. В действительности, однако, познание даже на уровне восприятия представляет собой активный, конструктивный процесс сбора информации о внешнем мире, предполагающий использование различного рода «гештальтов», «схем», «когнитивных карт», «конструктов», «фреймов» и т.д. Подобного рода представления мы можем обнаружить уже у древних философов. Вероятно, первым, кто в истории философской мысли сформулировал принцип человеческого познания, был Платон. Он считал, что для того чтобы мы могли нечто познать, нам необходимо то с помощью чего это нечто познается. С точки зрения Платона, человек ошибается, когда думает, что то или иное сущее он видит и познает глазами. В действительности, наши глаза подобны окнам и никому в голову не придет утверждать, что он «видит окном», обычно мы говорим, что «смотрим в окно», «наблюдаем через окно» и т.д. В этом смысле, познание осуществляется при участии глаз, и других органов чувств, но видим и познаем мы не ими, а с помощью иных «инструментов». Платон называл их «идеями», «эйдосами». Мы видим и познаем что-либо только в свете «идей», утверждал Платон. Конечно, платоновское учение об «идеях» нагружено известной долей условности, символичности и, тем не менее, при рассмотрении его в контексте определенного эмпирического материала, в нашем случае им является материал истории науки, оно проясняется, становится понятным. В истории науки можно найти массу примеров, когда ученые, столкнувшись «лицом к лицу» с новым явлением, тем не менее, прошли мимо него, оставили это явление без внимания. «Смотрели, но не видели» - так обычно говорят в подобных случаях. Очень показательна в этом смысле, например, история открытия позитрона – частицы с массой электрона и положительным зарядом. Как известно, экспериментаторы на протяжении нескольких лет просто выбрасывали фотографии со следами «странной частицы», поскольку исходили из представлений о том, что в мире существует два вида электричества – положительное и отрицательное – и им соответствуют частицы протон и электрон. Новая частица не укладывалась в привычные схемы и потому не могла восприниматься в качестве реальной. Лишь отказ от исходной теоретической установки привел к включению позитрона в структуру реального микромира. Как показывает этот и другие подобные примеры, ученый, в ходе своих наблюдений, экспериментов, никогда не воспринимает всего, того, что ему навязывает чувственное восприятие. В действительности его восприятие избирательно, оно всегда, так или иначе, организовано и структурировано: какие-то объекты стоят в центре внимание, какие-то отодвинуты на периферию, какие-то вообще остались за границами внимания. Эту избирательность, организованность и структурированность в наблюдения вносит теория - умозрение. Она подразделяет содержание наблюдения на существенное и несущественное, задавая тем самым направленность взгляду исследователя. В этой связи, в платоновском эйдосе можно видеть некий прообраз теоретической компоненты научного знания, компоненты, которая не столько выступает результатом наблюдения, сколько предваряющей его установкой, предпосылкой осмысленного, упорядоченного видения. В XX веке акцент на активной природе человеческого процесса восприятия стал общим местом для многих психологических и философских концепций. Убедительным примером в этом отношении является гештальтпсихология и ее демонстрации с переключением зрительного гештальта. Речь идет об известных психологических опытах с картинками, которые могут представляться взгляду по разному, например, то как утка, то как кролик. Размышляя над этими и другими примерами, психологи и философы приходят к выводу о том, что процессы восприятия и интерпретации воспринятого, неразделимы. Вопреки распространенному мнению о том, что роль чувств связана со сбором сырья для высших способностей разума, современная когнитивная психология настаивает на том, что процесс восприятия – это процесс категоризации, осмысления воспринятого. В этом смысле, показательным является название одной из работ по психологии восприятия – «Визуальное мышление» (Р. Арнхейм). Психолог У. Найссер, разделяя мысль об активной, конструктивной природе восприятия, полагает, что центральным звеном перцептивного цикла является «схема». «Схема — это та часть полного перцептивного цикла, которая является внутренней по отношению к воспринимающему, она модифицируется опытом и тем или иным образом специфична в отношении того, что воспринимается. Схема принимает информацию, как только последняя оказывается на сенсорных поверхностях, и изменяется под влиянием этой информации; схема направляет движение и исследовательскую активность, благодаря которым открывается доступ к новой информации, вызывающей в свою очередь дальнейшие изменения схемы»1. Наблюдается определенная аналогия схемы с форматом, который определяет, к какому виду должна быть приведена информация, чтобы можно было дать ей непротиворечивую интерпретацию, при этом другая информация будет либо игнорироваться, либо вести к бессмысленным результатам. Информация, не соответствующая формату, остается неиспользованной, что соответствует избирательному характеру восприятия. Перцептивные схемы - это планы сбора информации об объектах и событиях, получения новой информации для заполнения формата. С точки зрения Найссера схемы формируются по мере накопления опыта, а также самого актуально разворачивающегося цикла. Психолог убежден, что, начиная с младенческого возраста, в жизни человека нет такого периода, когда он был бы полностью лишен схем. В философско-психологической литературе встречается также такое близкое к «схеме» понятие, как «конструкт». Отталкиваясь от того факта, что жизнь необходимо подразумевает способность отражения живым существом окружающей действительности, автор данного термина - Дж. Келли, замечает, что у человека это отражение носит характер построения системы конструктов, через призму которых он воспринимает мир. Келли понимает под конструктом обобщенное средство интерпретации, прогнозирования, селекции и оценки воспринимаемых событий. Конструкт обеспечивает организацию поведения субъекта, а динамика восприятия открывается при этом как создаваемая им адекватная система конструктов, тесно связанная со структурой личности. Особого внимания заслуживает и другое обстоятельство. То, что человек видит, зависит не только от того, на что он смотрит, но и от того, что его научил видеть предварительный визуально-концептуальный опыт. Широко известен эксперимент, в котором психологи Дж. Брунер и Л. 1 Найссер У. Познание и реальность / У. Найссер - М.: Прогресс, 1981. С. 71. Постмен попросили испытуемых распознать за короткое и фиксированное время серию игральных карт. Большинство карт были стандартными, но некоторые были изменены, например красная шестерка пик и черная четверка червей. Каждый экспериментальный цикл состоял в том, что испытуемому показывали одну за другой целую серию карт, причем время показа карт постепенно возрастало. После каждого сеанса испытуемый должен был сказать, что он видел, а цикл продолжался до тех пор, пока испытуемый дважды не определял полностью правильно всю серию показываемых карт. Даже при наикратчайших показах большинство испытуемых распознавали значительную часть карт, а после небольшого увеличения времени предъявления все испытуемые распознавали все карты. С нормальными картами распознавание обычно протекало гладко, но измененные карты почти всегда без заметного колебания или затруднения отождествлялись с нормальными. Черная четверка червей, например, могла быть опознана как четверка пик либо как четверка червей. Без какого-либо особого затруднения испытуемый мгновенно приспосабливался к одной из концептуальных категорий, подготовленных предшествующим опытом. Этот и подобные ему эксперименты навели психологов на мысль о том, что предпосылкой самого восприятия является некий стереотип2. В принципе сказанного достаточно, чтобы понять, что сенсорные данные, будучи результатом воздействия предмета на органы чувств, не являются собственно познавательным образом, знанием как таковым. Сенсорные данные – это лишь материал, в котором субъекту презентируется предметное содержание и который в процессе восприятия подвергается различным способам переработки уже не отражательного характера – выбору, категоризации, интерпретации и т.д. Принципиальным в этом случае оказывается то, что познание предстает в системе гипотетико-селективной, Цит. по: Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 103. 2 творчески-проективной, интерпретирующей деятельности, не сводимой к пассивному «копированию» действительности. Но в таком случае на передний план выступают уже не физиологические механизмы зрения, а система культурно-исторических, социальных предпосылок, участвующих в процессах интерпретации, категоризации и т.д. Социокультурная природа познания. В середине XX века в медицине были освоены операции катаракты – помутнение хрусталика, резко ухудшающее зрение, и многие взрослые, слепые от рождения из-за катаракты получили возможность восстановить зрение. Дж. Янг описал впечатление людей, ставших зрячими: «Что увидит такой человек; что он скажет, впервые увидев новый для него мир? В нашем мире эта операция была осуществлена многократно, и можно привести систематические и точные сведения об этом. Пациент, впервые открывая глаза, не получает никакого удовольствия, на самом деле, эта процедура оказывается для него довольно болезненной. Он говорит только о вращающихся массах света и цветов и оказывается совершенно неспособным зрительно выделить объекты, распознать или назвать их. Он не имеет представления о пространстве и расположенных в нем объектах, хотя ему все известно об объектах и их названиях на основе осязания»3. Не сложно догадаться, о чем повествует данный пример. Очевидно, что зрительное восприятие, которое, как считается, дает нам факты наиболее непосредственно, - результат обучения, а не способность, приобретаемая автоматически. Мы учимся смотреть, культивируя определенный способ восприятия. Акт видения оказывается актом культурным. Дж. Янг превосходно описывает те трудности, с которыми сталкивается прооперированный больной, стремящийся научится пользоваться зрением. Такой человек не замечает деталей очертаний самопроизвольно, как зрячие люди. Он не обучился правилам видения, не знает, какие черты важны и Цит. по: Голдстейн М. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания / М. Голдстейн, И.Ф. Голдстейн. – М.: Знание, 1984. – С. 39. 3 полезны для распознавания объектов и в обыденной жизни. Например, «один пациент, научившись зрительно распознавать яйцо, помидор и кусок сахара, не смог узнать их, когда их осветили желтым светом. Кусок сахара он узнавал, когда тот лежал на столе, но не узнавал, когда его подвешивали в воздухе на нитке»4. Подобные трудности, как свидетельствуют методологи науки, сопровождают и научное видение, образование. Взглянув на контурную карту, студент видит линии на бумаге, картограф – картину местности. Посмотрев на фотографию, сделанную в пузырьковой камере, студент видит перепутанные и ломаные линии, физик – снимок внутриядерных процессов. Таким образом, научиться «видеть» и реагировать на видимое так, как реагирует ученый можно лишь после длительного специализированного обучения. На протяжении XX века было поставлено множество интересных психологических экспериментов, демонстрирующих связь человеческого восприятия с таким фактором как обучение. О некоторых из них есть смысл напомнить в рамках интересующей нас проблематики познания и науки. Речь идет прежде всего об экспериментах с псевдоскопами и инвертоскопами - оптическими устройствами, позволяющими создавать у испытуемых на сетчатке обращенные, зеркальные и перевернутые "вверх ногами" изображения объекта. Приведем конкретную иллюстрацию. Дж. Петерсон, надев бинокулярно переворачивающие очки, следующим образом описывал свои впечатления. «Я видел мою стопу, приближающуюся ко мне по коврику, который находился где-то передо мной. Я впервые столкнулся с таким странным зрительным впечатлением, как я сам, идущий к себе. Блюда на столе выворачивались так, что превращались в холмики, и было очень странно видеть, как ложка движется к верхушке жидкости, снимая ее,— и ничего не разливается. Когда я вошел в длинный коридор, я обнаружил, что пол выглядит мысом, по обеим сторонам которого опускаются вниз стены. Это было тем более 4 Там же. С. 40. странно, что я мог коснуться стен руками. Торцовая стена в конце коридора выглядела выдвинувшейся ко мне, а стены — удалившимися от нее, хотя я их трогал руками»5. Характерной чертой этих и подобных экспериментов было то, что неприятные ощущения у испытуемых через несколько дней прекращались, и потом испытуемый просто не замечал переворачивающих линз, чувствовал себя в обращенном мире вполне свободно, как если бы родился с этими линзами. О чем это говорит? Видимо, о том, что формы пространственного восприятия не являются «врожденными» и готовыми, скорее они представляют собой результат обучения и привычки. В самом деле, известный своими работами по детской психологии Ж. Пиаже в своих исследованиях показывает, что дети приходят к понятиям Евклидовой геометрии в сравнительно позднем возрасте, идя от топологических представлений (ближе, дальше, выше, ниже и др.). При этом на их способность к схематическому отображению пространства существенно влияет степень освоения ими языковых символов и знаков, предназначенных для этой цели. Отсутствие последних в культурной традиции, как у большинства первобытных народов, делает невозможным схематическое воспроизведение сложных пространственных отношений. Принципиальными «нагруженности», соображения, для осознания предпосылочности высказанные в факта человеческого рамках социокультурной познания философской стали герменевтики. Философская герменевтика – это учение о понимании, истолковании продуктов культуросозидающей деятельности человека, главным образом текстов. Основной вопрос философской герменевтики состоит в том, что такое понимание, и как оно сбывается на фундаментальном уровне. Пытаясь ответить на этот непростой вопрос, Г.-Г. Гадамер выдвинул тезис о принципиальной предпосылочности любого акта понимания, Цит. по: Демидов В. Е. Как мы видим то, что видим / В. Е. Демидов. – М.: Знание, 1987. – С. 192. 5 осуществляемого человеком. Чтобы пояснить свою мысль Гадамер обращается к привычному для человека способу обращения с текстом. Обычно человеку представляется, что то, что он понял находится «тут же», в самом тексте. Однако Гадамер напоминает, что человек никогда не рассматривает предмет своего внимания с позиции чистого, незаинтересованного сознания, напротив, рассматриваемый предмет человек невольно видит в терминах уже имеющегося у него знания и поэтому не существует ничего просто «вот тут». С точки зрения Гадамера, все, что высказывается о тексте уже так или иначе определено некими антиципациями, т.е. предвосхищениями. Принимая данный факт во внимание, Гадамер указывает на две важные вещи: во-первых, основу любого акта понимания составляет так называемый «пред-рассудок». Под предрассудком понимается не ложная предвзятость, а та культурно-историческая традиция, в которой живет и мыслит человек и которая определяет характер его осмысления действительности задолго до того, как сам человек начинает это замечать и обдумывать. А во-вторых, сама эта культурно-историческая традиция седементируется и транслируется в языке, языком же заданы как возможности, так и границы мышления6. Откликом на мысль Гадамера служит сформулированная американским философом М. Полани концепция «неявного знания». В основе концепции Полани лежит различие между двумя типами знания (и соответственно между двумя областями сознания): явным, или эксплицитным, локализованным в центральной области сознания, и неявным, имплицитным, периферическим. В каждом познавательном акте фокусное сознание направлено на объект, в то время как средства познания, его инструментарий, находятся на периферии сознания. «Фокус и периферия сознания являются взаимоисключающими. Если пианист переключает внимание с исполняемого произведения на движения своих Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.-Х. Гадамер. — М: Прогресс, 1989. — 443 с. 6 пальцев, он сбивается и прекращает игру. Это происходит всякий раз, когда мы переносим фокус внимания на детали, которые до этого находились на периферии на шего сознания»7. Если изложить это положение в терминах части и целого, то окажется, что фокусное сознание концентрируется на проникновении в целое, в то время как составные части системы осознаются периферическим сознанием. Применительно к познавательной деятельности введенное понимание конкретизируется следующим образом. Интеллектуальным инструментом являются обыденный язык и языки научных теорий. Воспитание, традиция, включенность в культуру формирует смысловые поля всех понятий языка как обыденного, так и теоретического. Усвоив эти языки, человек начинает пользоваться ими автоматически, не анализируя правила соотнесения понятий языка и объектов реальности. Между тем эти правила, оставаясь на периферии сознания, образуют систему неявных предпосылок сознания. Неявные предпосылки задают основные расчленения картины мира, способы интерпретации данных опыта. Большинство этих предпосылок мы усваиваем, когда учимся говорить на определенном языке, содержащем названия разного рода объектов, которые позволяют классифицировать эти объекты, различать прошлое и будущее, мертвое и живое, здоровое и больное и тысячи других вещей. Предпосылки становятся как бы продолжением человеческого тела, человек отождествляет себя с ними и не формулирует их эксплицитно. Прекрасной иллюстрацией к тому, о чем говорят Полани и Гадамер может послужить тезис о неопределенности радикального перевода, высказанный американским философом, логиком У. Куайном. Радикальным называется перевод с совершенно незнакомого нам языка, грамматическая структура, словарь которого нам неизвестны. Поясняя свой тезис, Куайн приводит следующий мысленный эксперимент. 7 Полани М. Личностное знание / М. Полани. — М.: Прогресс, 1985. — С. 87. Некий туземец и лингвист-европеец, изучающий язык туземца, гуляют по лесу и видят, как мимо них пробегает заяц. Туземец издает звукосочетание «гавагай». Разумеется, лингвист предполагает, что на его родном языке «гавагай» обозначает зайца, хотя полной уверенности у него нет. И в самом деле, а вдруг «гавагай» относится не к зайцам, а ко всем быстро движущимся предметам, или может быть «гавагай» - это заяц, но не всякий, а лишь быстро бегущий. Для того чтобы проверить свои догадки лингвист расширяет круг наблюдений, в частности, он указывает на другие быстро движущиеся предметы, на спокойно сидящего зайца и произносит при этом «гавагай», наблюдая за реакцией членов племени. В конечном итоге, по этим реакциям лингвист приходит к выводу, что туземцы относят звуки «гавагай» к тому же самому объекту, который он называет зайцем и переводит «гавагай» как «заяц». Между тем, говорит Куайн, даже этот перевод не является определенным. Дело в том, что, переводя «гавагай» как заяц, лингвист опирается на аналогию с европейским языком и полагает, что как в европейском языке слова именуют отдельные целостные объекты, также это происходит и в языке туземца. Однако если отказаться от европейского стандарта и допустить, что язык туземца иначе расчленяет, классифицирует мир, то можно предположить, что слово «гавагай» относится не к зайцу как целостному объекту, а, например, к его частям, проекциям, которые в зависимости от случая попадают в поле нашего зрения8. Как можно догадаться, суть примера Куайна выходит за рамки лингвистики, она выводит на некую сквозную для гуманитарных наук проблему - проблему понимания того смысла, который вкладывает в свой текст, представитель другой культуры, эпохи Куайна направлены на то, чтобы и т. д. При этом, усилия показать, что само понимание осуществляется не tabula rasa, т.е. не с «чистого листа», а с позиции некоторого уже имеющегося знания, которое задает фон, направленность 8 Куайн У. Слово и объект / У. Куайн. – М.: Наука, 2000. – 470с. нашего понимания. В этой связи исследователь нередко видит в тексте то, что он настроен увидеть, что ему подсказывает видеть это фоновое знание. Например, европейский языковой стандарт неявно настраивает, направляет исследователя переводить «гавагай» как «заяц». Роль языка как фундаментальной предпосылки нашего видения, мышления подчеркивает гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Суть ее в следующем. Считается привычным полагать, что структура языка, например деление слов на существительные и глаголы, является производной от изначально существующей и универсальной для всех народов структуры мира. Например, некоторые слова является существительным просто потому, что они обозначают предметы, а другие слова является глаголами, так как они обозначают действия. Исследователь Б. Уорф, однако, обратил внимание на то, что уже простые примеры, почерпнутые из европейских языков, показывают трудности в этом отношении. Например, если слово «бежать» - это глагол, так как оно обозначает действие, тогда почему слово «пламя», «молния» и т.д. – существительные, ведь они тоже обозначают действия? Более того, анализ языка племени хопи показывает, что в нем деление слов на существительные и глаголы осуществляется не на основе предметов и действий, а исходя из длительности событий. Например, слова «молния», «волна», «пламя» - это глаголы, ибо представляют собой события краткой длительности. А в языке племени нутка вообще о доме можно сказать так же как и о пламени, т.е. наряду с выражениями «пламя имеет место» и «горит», можно сказать «дом имеет место» и «домит». Таким образом, уже сам факт, что слова типа «пламя», «дом» являются в некоторых языках глаголами, свидетельствует о том, что какого-то пред-заданного, универсального деления мира на предметы и действия не существует. Каждый язык сам строит свое деление, свою картину мира и то, что в одной языковой картине является предметом (обозначается существительным), в другой может оказаться действием (обозначаться глаголом). Короче говоря, картина мира всегда относительна языка9. Последнее обстоятельство с точки зрения Уорфа имеет исключительно важное значение для современной науки, ибо из него следует, что никто не волен описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны с определенными способами интерпретации уже тогда, когда считаем себя наиболее свободными. Приведем на этот счет один пример. Когда в XIX веке было открыто световое и другие виды электромагнитного излучения, то многие физики по началу полагали, что электромагнитные волны представляют собой колебания некой субстанции, называемой «эфиром» и придумывали различные механические модели, объясняющие действия эфира. На данный эпизод, как нам кажется, можно посмотреть с позиции того, как людей иногда пленяет грамматика того языка, на котором они говорят. Субъектно-предикатная структура наших предложений склоняет думать, что если нечто случается, то за этим обязательно должна стоять сущность, отдельная от события, например, если имеются волновые движения, то они непременно должны быть движением чего-то. Подобные (квантовой) физики размышления, расцениваются однако, как не с позиции современной вполне корректные. Э. Шредингер, например, предлагал рассматривать электромагнитные волны как самостоятельные образования, а частицу как то «место» волны, в котором сосредоточена наибольшая ее энергия. В завершении разговора о социокультурной природе познания, обратим внимание на такой ее момент как тесное переплетение в процессе познания актов описания и оценки, фактических утверждений и ценностных суждений. Убедиться в этом можно на примере самых банальных утверждений. Например, американский философ Х. Патнэм предлагает проанализировать предложение «кошка – на коврике». Тот, кто делает это Уорф Б. Наука и языкознание / Б. Уорф // Новое в лингвистике. — Вып.1. — М.: Наука, 1960. — С. 92—106. 9 суждение, использует концептуальные ресурсы – понятия «кошка», «на», и «коврик», - предоставляемые определенной культурой, присутствие и распространенность которых сообщают нам кое-что об интересах и ценностях этой и почти каждой культуры. Так, мы имеем категорию «кошка», потому что мы расцениваем разделение мира на животных и неживотных как существенное, и нам, далее, немаловажно, к какому виду данное животное принадлежит. Релевантно, что на этом коврике находится кошка, а не просто вещь. Мы имеем категорию «коврик», потому что мы расцениваем разделение неодушевленных вещей на артефакты и неартефакты как существенное, и нам, далее, немаловажны назначение и природа конкретного артефакта. Важно то, что кошка находится именно на коврике, а не на чем-то. Мы имеем категорию «на», потому что нам важны пространственные отношения. В итоге, как видим, фактическое утверждение «кошка на коврике» ценностно нагружено. Для сознания, не обладающего диспозицией расценивать категории одушевленность / неодушевленность, цель и пространство как значимые, замечание «кошка на коврике» носило бы столь же иррациональный характер, что и реплика «число шестиугольных объектов в этой комнате - 76», произнесенное в разгар встречи молодых влюбленных 10. Не менее показательный пример приводит другой философ Р. Нидэм. Он предлагает пример, состоящий из пяти предложений. Вот эти пять предложений: 1. Это - роза. 2. У розы пять лепестков. 3. Роза красна. 4. Роза приятно пахнет. 5. Роза красива. Предложение (1) является констатацией эмпирического факта и обладает всеми свойствами предложения эмпирического базиса, а именно 10 Патнэм Х. Разум, истина и история / Х. Патнэм. – М.: Праксис, 2002. – 296 с. является простым безоценочным описанием и совершенно бесспорно. Предложение (5) есть чистая оценка. Оно субъективно и потому спорно. Оба предложения образуют как бы два полюса, которым соответствуют два противоположных статуса суждений. Между ними располагаются предложения (2), (3) и (4). Можно сказать, что (2) тяготеет к (1), а (4) к (5). Однако провести четкую демаркационную линию, разграничивающую эти пять предложений на предложения факта и предложения оценки, невозможно. Например, предложение (2) включает оценку того, что является лепестком, а что, скажем, пестиком, недоразвившимся лепестком и проч. Далее, смысл этого предложения зависит от контекста. Оно может быть понято как относящееся к данной конкретной розе или к данному виду роз. То, в каком смысле мы поймем это предложение, может влиять на его истинность, ибо конкретная роза вида, который должен иметь пять лепестков, может иметь их 4 или 10. Предложение (3) зависит от субъективной оценки в еще большей степени. Кому-то красная роза может показаться скорее розовой или малиновой. Кроме того, отдельные лепестки могут различаться по оттенку. Возможно, что розу такого вида просто принято описывать как красную, несмотря на оттенки цвета ее лепестков. В таком случае окажется, что (3) не эмпирическое предложение, не констатация факта, а нормативное суждение. Но самая интересная черта данного примера заключается в том, что эти предложения можно рассматривать и в обратном порядке. Надо только представить себе культуру, в которой предложение (5) выступает как объективное суждение об объективном факте. В ней роза выступает как образец красивого предмета. Поэтому в таком обществе суждение «роза красива» будет восприниматься всеми как очевидная и бесспорная констатация. Для них оно будет столь же очевидно, как для нас утверждение, что снег бел. В силу своей достоверности и очевидности предложение (5) будет восприниматься в данной культуре как объективное описание факта. То же будет относиться и к предложению (4). Хороший запах является в описываемой культуре социально-признанным свойством розы. Запах розы имеет определенную химическую основу и в этом смысле является фактом. Для описания этого факта в данной культуре принято выражение «приятный запах». Предложение (3) будет в известной мере конвенциональным, если о розах различных оттенков принято говорить, что они - красные. Оно будет зависеть и от индивидуальной оценки цвета, то есть будет менее достоверным и объективным, чем (5). Что касается предложения (2), то мы уже упоминали о возможных источниках его недостоверности. Но при этом оно продолжает выступать как суждение факта. А вот предложение (1) вовсе не обязано быть таковым. Оно может выступать результатом интерпретации геральдического знака, символа или рисунка. Если посетитель музея рассматривает рисунок на гербе или старинном оружии и высказывает предложение (1), то оно является его интерпретацией увиденного, предполагает, может быть, обращение к сложной исторической информации и оценку этой информации и потому вполне может быть ошибочным. Зачастую интерпретация старинного рисунка как розы требует понимания символического смысла рисунка. Поэтому предложение (1) будет выступать как оценка. Смысл же всего примера, по утверждению Нидэма, состоит в том, что возможен любой порядок этих пяти предложений, и никакое из предложений в этом наборе не является утверждением факта либо суждением оценки по своей сущности. Нет и не может быть единственно правильного деления предложений на фактуальные эмпирические констатации и суждения оценки. Все зависит от того, какие цели преследуются и в каком контексте производится суждение11. Подведем итог сказанному. Обращение к проблеме познания и восприятию как одному из главных его модусов показало: во-первых, мы видим и познаем мир не природой данными нам органами, но органами, возникшими и ставшими в пространстве социокультурной культурными жизни. Познание традициями, с необходимостью конвенциями, языком, обусловлено имплицирующим семантические каркасы мира (способы членение, описания, категоризации действительности в зависимости от выразительных ресурсов). во-вторых, познание не начинается с ничего – с tabula rasa, т.е. с чистого листа. Оно основывается на рассуждении, связывающем внешние факты с предшествующим знанием и, вследствие этого, как ни странно это звучит, попросту не имеет начала. Видимо, нет никакой возможности начинать познание ab ovo; есть лишь возможность продолжать его, отправляясь от исходных знаний. в-третьих, восприятие, познание, предполагая соответствие сенсорных данных параметрам объекта, вместе с тем зависит от имеющихся у субъекта наборов категорий, объект-гипотез, перцептивных установок и предвосхищающих когнитивных схем. Все эти средства обеспечивают процедуру интерпретации, или осмысления, в результате чего сенсорные данные получают предметные смыслы, а восприятие, таким образом, оказывается тесно связанным с процессом мышления. в-четвертых, будучи совокупность интенциональных актов, познание избирательно. представленном Познание в оперирует ценностно некоторым окрашенном срезом пространстве предмета, смыслов, координатами которого выступают для каждого конкретного случая Цит. по: Сокулер З. А. Проблема обоснования знания / З. А. Сокулер. – М.: Наука, 1988. – 176 с. 11 специально устанавливаемые субъективно значимые значения параметров объективной реальности. в-пятых, социокультурная опосредованность познания различного рода конвенциями, рассматриваться традициями, как форма оценками, бытия стереотипами невербализованного, может но структурированного неявного знания, «формулы умолчания». Таким образом, человек не просто отражает как в зеркале, некий неочеловеченный мир, но делает это при помощи человеческих процедур и операций, которые незримо присутствуют и в результатах такого отражения. Результат такого отражения – физическая реальность – оказывается не просто идеальной копией внечеловеческого мира, а конструкцией, имеющей двуединую - объективно-субъективную, материально-идеальную природу. Высказанные относительно природы человеческого познания и восприятия соображения позволяют перейти к познания как такового. рассмотрению научного Природа и роль внутринаучного предпосылочного знания Начнем наше повествование с описания устоявшегося, ставшего уже традиционным представления о структуре научного знания. Традиционно в науке выделяются эмпирический и теоретический уровни познания. Эмпирический уровень. На этом уровне ученый получает знания об определенных событиях, выявляет свойства интересующих его объектов, процессов, фиксирует отношения и, наконец, устанавливает эмпирические закономерности. В целом, на эмпирическом уровне можно выделить несколько типов исследовательской деятельности: во-первых, это деятельность по выявлению эмпирических фактов, средством которой является наблюдение и эксперимент. во-вторых, это деятельность, которую можно назвать описанием фактов, т.е. выражение данных наблюдения в существующем концептуальном аппарате. В результате выявления и описания фактов возникают так называемые фактофиксирующие эмпирические суждения (высказывания). Например: «в момент времени t стрелка амперметра отклонилась от нулевого деления на 10 единиц вправо». в-третьих, эта деятельность, связанная с измерением. В зависимости от специфики науки фактофиксирующие суждения могут быть качественными, т.е. не связанными с результатами измерения, или количественными, т.е. предполагающие применение математического аппарата, количественную оценку данных. Наконец, в-четвертых, на эмпирическом уровне существует слой исследований, направленный на логическую обработку данных, полученных в результате наблюдения и эксперимента. Деятельность по логической обработке эмпирических данных связана уже не с ассимиляцией этих данных в системе принятых в науке абстракций и обозначений, а с получением нового, более высокого слоя знания на основе обобщений, классификаций, установления зависимостей между переменными, эмпирических законов. Вместе с тем, характеризуя эмпирический уровень познания в целом, необходимо заметить следующее: как бы ни усложнялись систематизации и классификации эмпирических данных, какие бы сложные корреляции между значениями переменных математический аппарат ни устанавливались, какой бы сложный ни применялся, все, что ученый получает на эмпирическом уровне познания – это соотношения между внешними параметрами исследуемых явлений. Для понимания же глубинных, сущностных параметров исследуемых явлений, их связей и соотношений требуется переход с эмпирического на качественно иной - теоретический уровень научного познания. Обратимся теперь к характеристике этого уровня научного познания. Теоретический уровень. Само название теоретического уровня говорит о том, познание окружающего мира осуществляется путем построения научной теории. Характеризуя этот уровень научного познания, необходимо заметить следующее: любая научная теория строится таким образом, что описывает окружающую действительность не прямо и непосредственно, а косвенным, опосредованным образом, через систему абстрактных, идеальных объектов. Например, в классической механике абстрагируются от длины, ширины, высоты тела, считая их несущественными, но сохраняют массу. Таким образом, вводится идеальный объект – «материальная точка». Или, например, в термодинамике отвлекаются от взаимных столкновений молекул и принимают во внимание лишь кинетическую энергию, зависящую от температуры газа. В итоге вводится такой идеальный объект как «идеальный газ» и т.д. Идеальные объекты, абстракции, как необходимый элемент научной теории вводятся не только в естествознании, но и в социогуманитарных науках. Например, хорошо известная историку марксистская трактовка социально-исторического процесса как последовательного развития и смены определенных общественно-экономических формаций («первобытной» - «экономической» - «коммунистической») является идеальной моделью, а вовсе не теорией о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются. отличаются Известно, у Существуют: Маркса что общественно-экономические способом производства первобытнообщинный, формации материальных рабовладельческий, благ. феодальный, капиталистический способы производства. В то же время во всех обществах за исключением первобытного существует, как правило, не один, а несколько способов производства. Это означает, что на уровне теории Маркс сознательно абстрагируется от многоукладности и выделяет только один способ производства, тот, который является доминантным, господствующим. Таким образом, общественно-экономическая формация – это тоже абстракция, ибо «чистых» феодализмов и капитализмов никогда в истории не существовало. Надо сказать, что идеальные объекты играют колоссальное значение для теоретического уровня познания в частности и для научного познания в целом: во-первых, создание идеального объекта позволяет науке упростить изучаемый объект, выделить существенные его стороны. во-вторых, использование идеальных объектов позволяет применить для их описания математический аппарат, выразить эмпирически найденные закономерности в форме строгих математических зависимостей. в-третьих, идеализация делает возможным построение формализованных языков с их свойствами строгости и однозначности. Наконец, в-четвертых, идеализации способствуют процессу роста, обогащению знания. Речь идет о том, что идеальные объекты, модели позволяют получать на их основе теоретические результаты, не прибегая непосредственно к опыту. Например, молекулярно-кинетическая модель газа, предполагающая отвлечение от размера молекул позволяет вывести теоретическим путем соотношения между основными свойствами газа (закон о соотношении давления и объема идеального газа). Далее, говоря о теоретическом уровне и его основе – системе идеальных, абстрактных объектов, следует обратить внимание на еще один важный момент. На теоретическом уровне введение идеальных объектов представляет собой конструктивный, творческий процесс. Фактически ввести в теорию можно любую идеализацию, лишь бы она удовлетворяла закону противоречия. В тоже время, очевидно, что чрезмерно отвлеченная схема может вступать в острый конфликт с познаваемой реальностью. В этой связи, само введение в теорию идеализаций регулируется некоторыми правилам. К ним относятся так называемые правила соответствия и операциональные определения. Правила соответствия, представление о которых ввел немецкий философ Р. Карнап, говорят о том, что у идеальных объектов, абстракций, введенных в теорию, должна быть, пускай и сложная, опосредованная, проекция на эмпирию. Например, физик, использующий молекулярнокинетическую модель газа, связывает движение молекул с эмпирически наблюдаемыми величинами – температурой, объемом, давлением12. Учитывая, что в науке термин «наблюдаемое» имеет гораздо более широкое значение, чем в обыденной, повседневной жизни, в частности термин «наблюдаемое» относится ко всем величинам, которые могут быть измерены сравнительно простым, непосредственным путем, физик и философ П.-У. Бриджмен утверждал, что именно измерительные процедуры являются теми операциональными определениями, которые связывают ненаблюдаемое с наблюдаемым. Например, сила электрического тока фактически не наблюдается, но когда амперметр включают в цепь, то замечают, что его стрелка отклонятся. Таким образом, операциональное выражение неясного теоретического понятия «сила тока» выглядит Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки / Р. Карнап. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 360 с. 12 следующим образом: сила тока есть числовое показание, отмечаемое стрелкой на шкале специального прибора – амперметра. Следует, таким образом, еще раз подчеркнуть всю важность для теоретического уровня правил соответствия или операциональных определений. Их наличие предохраняет теорию от опасности оторваться от эмпирической действительности и превратиться в некий самозамкнутый, самодостаточный мир. Таков традиционный, хрестоматийный образ структуры научного знания. Между тем, для того чтобы этот хрестоматийный образ стал полным и адекватным реальному положению дел в науке, необходимо, как уже говорилось, выявить еще один элемент - предпосылочное знание, которое пронизывает как эмпирический, так и теоретический уровни научного познания. Без выявления этой предпосылочной компоненты понять специфику научного знания невозможно. Многие исследовательские процедуры, например, наблюдение и эксперимент, построение и проверка научной теории, восприниматься наконец, само превратным, развитие научного искаженным знания образом, будут выглядеть упрощенными. Кроме того, без выявления предпосылочного знания крайне сложно увидеть историчность многих имеющих место в науке представлений. Итак, что из себя представляет это так называемое предпосылочное знание? Философские предпосылки в структуре научного знания. Обращение к истории философской мысли показывает, что вероятно одним из первых, кто в явной форме сформулировал идею предпосылочности научного знания, был немецкий философ И. Кант. В своей философии Кант вел речь о так называемых априорных, т.е. предшествующих всякому конкретному научному познанию принципах. При рассмотрении кантовской идеи априори обычно, прежде всего, обращают внимание на его учение об априорных формах чувственного созерцания и категориях - априорных элементах рассудочной деятельности. Однако в плане анализа, собственно научного познания наибольший интерес представляет его концепция априорных основоположений рассудка. При этом Кант уделяет особое внимание априорным основоположениям естествознания, поскольку, с его точки зрения математические основоположения носят очевидный характер и не нуждаются в доказательстве их правильности. Итак, в предисловии к «Критике чистого разума» Кант пишет, что всякое наше познание начинается с опыта, но тут же добавляет, что отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вводя это противопоставление – «с опыта», но не «из опыта», Кант собственно, и обращает наше внимание на наличие так называемой априорной компоненты в структуре научного знания. Спрашивается, каким смыслом наделяет Кант эту априорную компоненту научного знания? В переводе с латинского apriori означает «предшествующий». Учитывая, что в «Критике чистого разума» Кант заявляет, что никакое познание не предшествует опыту во времени13, можно сделать вывод о том, что apriori,о котором ведет речь немецкий философ, носит логический характер14. Думается, что мысль Канта сводится в данном случае к следующему: конечно, верно, что научное познание начинается с опыта и, тем не менее, определенные принципы (имеющие фундаментальное, основополагающее значение) мы должны принять еще до опыта, в противном случае познание просто потеряет свой смысл. В самом деле, разве имело бы научное познание смысл, если бы объект познания – природа - представлял собой совокупность явлений, в которых нет ничего устойчивого и постоянного, если бы явления были бы изолированы друг от друга и не были бы связаны никакими закономерностями? Очевидно, что нет. В этой связи, Кант прав. Приступая к научному познанию природы, мы еще до специального ее (природы) Кант И. Критика чистого разума / И. Кант // И. Кант. Сочинения: В 6 т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1964. — С. 105. 14 Абрамян Л. А. Кант и проблема обоснования знания / Л. А. Абрамян. — Ереван: ЕГу, 1978. — С. 150. 13 изучения принимаем, что в ней, в природе должны иметь место: а) некое постоянство (субстанциальность), б) некая закономерность и в) некое взаимодействие. А вот, что именно и в каком количестве в природе остается постоянным, а так же какие именно типы взаимодействий и закономерностей в ней существую, это мы узнаем из опыта. Существует, по крайней мере, три априорных основоположения, которые Кант включил в структуру естественнонаучного (физического) знания. Это: 1) «Все явления содержат в себе постоянное (субстанцию) как самый предмет и изменчивое в качестве лишь определения предмета, т.е. способа его существования»15. 2) «Все изменения происходят по закону причины и действия»16. 3) «Все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии»17. Как нам кажется, до Канта похожую мысль высказывал Аристотель. Как известно, с точки зрения греческого философа метафизика – первая философия предшествует физике – второй философии. Напомним, что центральными понятиями аристотелевской метафизики являются материя и форма. Материя – это то, из чего состоит сущее, его основа, субстрат. Форма – это, то, что придает сущему определенность, то, что связывает многое в одно. Вероятно, не будет большой натяжкой провести следующую эпистемологическую параллель: материя – это «кирпичи» мироздания – электроны, протоны, нейтроны и т.д., а форма – это существующие между ними закономерности, благодаря которым мироздание предстает в виде упорядоченного целого – космоса. При таком сравнении предшествование метафизики физике уже не выглядит странным, а напротив является вполне обоснованным. В самом деле, вопрос о том какие именно элементы составляют основу существующего, мы можем решить только физическим путем, через наблюдения и эксперименты, но то, что такая основа вообще Там же. С. 770. Там же. С. 258. 17 Там же. С. 274. 15 16 должна быть – это мы обязаны допустить еще до того, как приступим к наблюдениям и экспериментам, в противном случае мы лишаемся самой цели, в направлении которой движется познание. То же самое можно сказать и относительно формы. О том, какими именно закономерностями связаны элементы мироздания друг с другом, можно узнать только опытным, физическим путем, но то, что такие закономерности вообще существуют можно и должно допустить еще до опыта, ибо познание хаоса просто не имело бы смысла. В целом, говоря об априорных основоположениях, особое внимание следует обратить внимание на то, что их предшествование эмпирическому изучению природы нельзя интерпретировать по аналогии с тем, как, например, гипотеза предшествует изучению экспериментального материала: гипотеза может быть, и подтверждена, и опровергнута, в то время как благодаря априорным основоположениям любая экспериментальная процедура впервые только и получает свой смысл и становится возможной. В тоже время априорные основоположения нельзя смешивать и с «суждениями опыта», выражающими конкретные законы науки. По этому поводу Кант замечал, что «мы должны отличать эмпирические законы природы, всегда предполагающие особые восприятия, от чистых или всеобщих законов природы, которые, не основываясь на особых восприятиях, содержат лишь условия их необходимого соединения в опыте»18. Итак, подводя итог сказанному, отметим, что в понятии априорных основоположений естествознания представление неких о впервые фундаментальных находит свое отправных выражение предпосылках построения конкретного научного знания – теорий, гипотез, законов и т.д. Эта кантовская идея, надо заметить, оказалась созвучной и современным представлениям о структуре научного знания. С точки зрения современных методологов в системе научного знания действительно существуют Кант И. Критика чистого разума / И. Кант // И. Кант. Сочинения: В 6 т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1964. — С. 105. 18 некоторые элементы, которые выполняют специфическую роль и могут рассматриваться в качестве «относительного априори» (Л.Б. Баженов). Этими элементами являются, прежде всего, так называемые «философские основания науки». По свидетельству специалистов, философские основания науки, делятся на онтологические и гносеологические и наиболее явно заявляют о себе на теоретическом уровне научного исследования, особенно в переломных точках развития науки, в периоды научных революций. Воспользуемся в проиллюстрируем этой связи специфику примерами философских из истории оснований на науки и материале квантовой теории. Онтологические основания. Как известно, одна из последних научных революций была связана с проникновением человека в область микромира, т.е. элементарных частиц - электронов, протонов, нейтронов и т.д. Наука, которая изучает эти элементарные частицы, называется квантовой механикой. Так вот, в этой науке была зафиксирована следующая парадоксальная ситуация: если мы знаем точно координату элементарной частицы, т.е. где эта частица находится, то компоненту ее импульса нельзя определить вполне точно. И наоборот. Если мы точно знаем, каков ее импульс, то мы не можем точно указать, где находится частица. Данная ситуация получила название принцип неопределенности, а сформулировал его в 1927 году немецкий физик В. Гейзенберг. Грубо говоря, принцип неопределенности утверждает, что некоторые пары величин, называемые «сопряженными», в принципе невозможно одновременно измерить с высокой точностью. По проблеме интерпретации данной ситуации и квантовой теории в целом возникла дискуссия, участниками которой стали два виднейших ученых-физика А. Эйнштейн и Н. Бор. Эйнштейн высказал мнение о том, что каждая элементарная частица одновременно обладает определенными значениями импульса и координаты. Однако поскольку квантовая механика не имеет исчерпывающей информации об элементарных частицах, т.е. является неполной теорией, постольку она и не может одновременно измерять импульс и координату частиц, хотя в действительности они существуют, но как скрытые параметры (скрытые в рамках квантовой теории). Бор предложил другой вариант истолкования этой же самой ситуации. По его мнению, квантовая теория полна, а то обстоятельство, что мы не можем одновременно точно знать координату и импульс, отражает саму специфику элементарных частиц, а не меру нашего незнания. Из данного примера ясно видно, что в споре Эйнштейна и Бора отчетливо столкнулись не только физические, но и философские, в данном случае, онтологические принципы. В частности, Эйнштейн исходил из того, что в мире все однозначно определено и если теория, например квантовая, оперирует вероятностями, то вероятность носит чисто субъективный характер, т.е. обусловлена недостатком знания о структуре реальности. Бор, напротив, настаивал на том, что вероятностные законы квантовой механики не являются результатом незнания. Они выражают саму структуру микрореальности, ибо, по мнению Бора, неопределенность – это фундаментальный атрибут физической микрореальности19. Приведем еще один пример. В 1935 г. рядом ученых (А. Эйнштейном, Н. Розеном, Б. Подольским) была предложена следующая экспериментальная квантовая ситуация (сначала мысленная, а впоследствии и реальная): некая элементарная частица самопроизвольно распадается на две частицы, которые расходятся на столь большое расстояние друг от друга, что физическое взаимодействие между ними исключается. Однако, измерения, производимые над одной частицей (А) приводят к тому, что вторая частица (В) скачком переходит из одного состояния в другое, причем одновременно с измерением, производимым над первой частицей (А). Панченко А. И. Философия, физика, микромир / А. И. Панченко. — М.: Наука, 1988. — С. 184. 19 Подобная ситуация, демонстрирующая «фантастическое действие на расстоянии», была расценена Эйнштейном и др. как парадоксальная, доказывающая неполноту квантовой механики. Бор снова предложил иную трактовку ситуации. По его мнению, так называемый парадокс может рассматриваться как результат абсолютизации некоторых онтологических допущений – «причина всегда предшествует по времени следствию» (диахронный аспект причинности), «квантовый объект, подобно любому макрообъекту - это сложенное из частей целое». Если же, наоборот, исходить из того, что «причина и следствие могут выступать одновременно» (синхронный аспект причинности), а «квантовый объект - это единая, целостная система, не сводимая к механическому разложению его на составные части», тогда взаимосогласованное поведение частиц не выглядит парадоксальным20. Итак, как явствует из приведенных примеров, онтологические основания включат в себя допущения, касающиеся предельно общих принципов строения действительности. Эти общие допущения не выводятся из какого-либо конкретного опыта, а предшествуют ему в качестве схем осмысления. Гносеологические основания. Гносеологические основания включают в себя множество допущений о природе познавательного процесса, которые подобно фону, оттеняют условия постановки и решения внутренних научных проблем. Необходимость экспликации гносеологических оснований выявилась в квантовой механике в связи с проблемой интерпретации ее предмета. Можно предложить, по крайней мере, два ответа на вопрос, о том, что, собственно, изучает квантовая механика (КМ)? Первый – КМ описывает свойства внутренне присущие элементарным частицам и второй ответ - КМ описывает свойства, которые появляются у элементарных частиц лишь во взаимодействиях с приборами. 20 Там же. С. 88. Как видно, из самих ответов обсуждение на первый взгляд чисто физической проблемы предполагает обращение к философской доктрине, раскрывающей природу познавательного процесса. В основе первого ответа лежит представление о том, что наблюдение не влияет на наблюдаемый объект, а если и влияет, то все эти влияния можно учесть и в итоге познать объект так, как он есть сам по себе. В основе второго ответа лежит обратное допущение - процесс наблюдения объекта меняет состояние этого объекта, так что наблюдаемый объект как бы «творится» в процессе самого наблюдения. Как известно, на сегодняшний день господствует вторая позиция, получившая обоснование в трудах В. Гейзенберга и Н. Бора. Последний, в частности писал: «Согласно квантовому постулату, всякое наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие последних со средствами наблюдения, которым нельзя пренебречь. Соответственно этому невозможно приписать самостоятельную реальность в обычном физическом смысле ни явлению, ни средствам наблюдения»21. В целом, анализ философских оснований науки, ведет ко вполне определенному выводу, а именно: научное исследование действительно предполагает некоторый исходный взгляд на мир, предшествующий познанию данной области явлений. В основе научного исследования всегда лежат некоторые обобщенные представления о природе познавательного процесса, о предмете исследования, о том каким предмет должен выступать в системе научного знания. Вместе с тем, внимательный анализ структуры научного знания позволяет выявить не только фундаментальные, но и более конкретные исходные установки и предпосылки, выполняющие функцию своеобразного априори как на уровне эмпирического, так и теоретического исследований. Поясним это на примере анализа таких традиционных для научного познания методов исследования как наблюдение, эксперимент, описание, измерение. 21 Бор Н. Избранные научные труды: В 2 т. – М.: Наука, 1971. – Т. 2. – С. 31. Наблюдение. Кажется вполне естественным, что научное познание действительности осуществляется возможность наблюдать, ее только тогда, когда экспериментировать с мы нею. имеем Данное представление о научном познании вполне соответствует здравому смыслу, в нем, несомненно, имеются определенные основания и, тем не менее, оно нуждается в уточнении. Дело в том, что то с чем сталкивает человека, ученого наблюдение представляет собой бесчисленное многообразие постоянно изменяющихся явлений, каждое из которых по-своему уникально и неповторимо. В этом смысле, никакая попытка отобразить, «снять копию» с этого пестрого многообразия никогда бы не могла увенчаться успехом. Известный философ, методолог науки К. Поппер вспоминает, как однажды он начал лекцию, сказав студентам: «Возьмите карандаш, бумагу, внимательно наблюдайте и описывайте ваши наблюдения!». Произошла заминка. Указание показалось слишком странным, ибо осталось неясным, что именно нужно наблюдать. Откликом на мысль Поппера звучат рассуждения современных психологов о том, что на человеческий глаз за 0,1 с. падает около 1 млн. единиц информации и если бы глаз попробовал всю ее воспринять, то он бы попросту ничего не увидел. Данные обстоятельства, таким образом, еще раз возвращают нас к кантовской мысли: для того чтобы наблюдение могло состояться и не выродиться в лишенное смысла занятие ему должна предшествовать некая структурирующая, организующая его форма. Польский философ, микробиолог Л. Флек предложил называть эту форму «стилем научного мышления», а Т. Кун, развивший впоследствии соображения Флека, «парадигмой». В своей книге «Возникновение и развитие научного факта» Флек предлагает проанализировать типичное фактофиксирующее предложение – «В поле микроскопа сегодня появилось 100 больших по размеру, желтоватых и непрозрачных колоний и 2 меньшего размера, более светлые и непрозрачные колонии». Он говорит, что только на первый взгляд кажется, будто это предложение является результатом «чистого наблюдения». Начать с того, что нет и двух совершенно одинаковых колоний; поэтому можно сказать, что под микроскопом исследователь имеет 102 различные колонии. Это означает, что когда ученый среди 102 колоний видит 2 отличающиеся от других и не обращает внимание на различия между 100 остальными, то он уже сделал выбор какие различия считать существенными, а какие нет. А это в свою очередь зависит от принятых им теоретических представлений. Далее, в питательном бульоне, где выращивается бактериальная культура, наряду колониями имеются всякие случайные образования – зерна, точки и т.д. В этой связи, когда биолог говорит о том, что в поле микроскопа появилось 102 колонии, то он уже руководствуется соображениями, которые предохраняют его от того, чтобы принять ложное за истинное, т.е. случайные образования за колонии. Короче говоря, и в этом случае сам выбор предмета исследования содержит определенные предпосылки. Учитывая данные обстоятельства, Флек делает вывод о том, что «данные наблюдения», «факты» – это результат избирательного, направленного восприятия, называемого «стилем научного мышления»22. В понятие «стиль мышления» входят общепризнанные в рамках того или иного мыслительного коллектива способы отбора и интерпретации опытных данных. Мысль Флека о «стилевом» мышлении ученого развивает другой известный философ, историк науки – Т. Кун. В своей книге «Структура научных революций» Кун вводит понятие «парадигма», под которой он подразумевает общепризнанные в рамках того или иного научного сообщества теоретические достижения, методы постановки и решения научных проблем и т.д. С точки зрения Куна в истории науки имеется масса примеров зависимости наблюдения, его результатов от исходных Флек Л. Возникновение и развитие научного факта / Л. Флек. — М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1998. — С. 107. 22 парадигмальных установок. Одним из таких примеров является истории запоздалого открытия кислорода. Из истории химии известно, что несколько человек могут претендовать на открытие кислорода. В 1777 году французский химик А.Л. Лавуазье пришел к выводу, что газ, получаемый после нагревания красной окиси ртути, представляет собой один из компонентов, составляющих атмосферу – кислород. Однако несколькими годами раньше, а именно в 1774 году, другой химик Дж. Пристли получил тот же самый газ, правда, идентифицировал его как смесь азота с флогистоном. Возникает вопрос: если в сосуде у Пристли и Лавуазье был один и тот же газ, то, что, спрашивается, одному из них помешало, а другому, наоборот, помогло увидеть в нем кислород. Краткий ответ на этот вопрос такой – парадигмальные установки, которыми руководствовались оба ученых. Пристли и Лавуазье роднило внимание к процессу горения. Пристли придерживался распространенной в его время флогистонной теории горения. Согласно этой теории процесс горения представляет собой распад вещества с выделением из него начала горючести – флогистона. Отталкиваясь от этих представлений, Пристли и усмотрел в экспериментально полученном кислороде смесь азота и флогистона. Что касается Лавуазье, то он с самого начала рассматривал процесс горения не как выделение из вещества чего-то, например, флогистона, а, напротив, как добавление к веществу чего-то. В частности, Лавуазье исходил из того, что решающее значение для теории химии имеет исследование механизма горения в воздухе. Это и подсказало Лавуазье то, что он уже был готов открыть – кислород, который при горении поглощается из атмосферы23. Итак, из примеров Л. Флека, Т. Куна ясно видно, что любые научные наблюдения установок, предполагают которые наличие направляют предварительных внимание теоретических исследователя, отделяют Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С.90. 23 существенное от несущественного, задают определенные гипотетические ожидания. Без «стилей» и «парадигм» никакое научное наблюдение не могло бы даже начаться. Последнее обстоятельство относится также и к такому методу эмпирического познания как эксперимент. Эксперимент. Как известно, главной функцией эксперимента в научном познании является проверка теории. Традиционно процесс проверки изображается как сопоставление теории с опытно-экспериментальными данными, т.е. фактами. Считается, что, если теория сталкивается с противоречащим ей опытным фактом, то она отбрасывается. Между тем, следует заметить, что это традиционное представление не совсем соответствует реальному положению дел в науке. Дело в том, что для того чтобы факты могли вообще что-либо говорить о теории («за» или «против»), они должны быть еще интерпретированы, и вот здесь необходимо обратить внимание, по крайней мере, на три обстоятельства: во-первых, в зависимости от этой интерпретации одни и те же экспериментальные данные, факты могут свидетельствовать в поддержку разных теорий. Возьмем для примера случай со специальной теорией относительности А. Эйнштейна (СТО, 1905г.). Обычно считается, что создание СТО было результатом эксперимента Майкельсона – Морли. До этого эксперимента существовала теория о наличии некой абсолютной системы отчета – эфира, заполняющего пустое пространство и несущего электромагнитные волны, в том числе и световые. Из теории следовало, что при движении нашей планеты в космическом пространстве относительно этого эфира должен иметь место «эфирный ветер», т.е. сопротивление эфирной среды. Однако эксперименты, проведенные Майкельсоном и Морли, этот «эфирный ветер» не зафиксировали, поэтому и теория эфира должна была уступить место теории относительности. В действительности, однако, история была более сложной. Дело в том, что результат эксперимента Майкельсона – Морли можно было истолковывать по-разному и при этом необязательно в пользу теории относительности. Например, ученый Фицджеральд предложил гипотезу (контракционная гипотеза), которая заведомо предсказывала отрицательный результат опыта Майкельсона – Морли и тем самым позволяла сохранить теорию эфира. во-вторых, процесс проверки теории экспериментальными данными осложняется еще и тем, что сама проверяемая теория тоже вовлечена в интерпретацию этих экспериментальных данных и таким образом как бы участвует «в вынесении собственного приговора», в том смысле, что формирует опытные данные «под себя». Это обстоятельство в философии и методологии науки получило название "теоретической нагруженности фактов". Возьмем для примера случай с общей теорией относительности А. Эйнштейна (ОТО, 1916г.). В 1929г. американский астроном Э. Хаббл открыл интересную закономерность: линии спектров всех галактик (за исключением нескольких из числа самых близких по отношению к нам) испытывают так называемое «красное смещение», что свидетельствует о факте удаления от нас галактик, причем скорость их удаления прямо пропорциональна расстоянию, на которое они удалены от Земли. Как известно, красное смещение обычно расценивается как факт, подтверждающий ОТО. Стоит, однако, обратить внимание на структуру самого подтверждения. Для того чтобы факт разбегания галактик мог подтверждать ОТО, его нужно интерпретировать. Разбегание галактик можно понимать так, что галактики «разбегаются» в некотором «неподвижном» пространстве, или так, что разбегание галактик есть расширение самого пространства. Как известно, ОТО настаивает на втором. Но трактовка разбегания галактик как расширение самого пространства означает, что мы пользуемся определенной теорией пространства, в частности той, в которой пространство – это не самостоятельная сущность, а аспект гравитационного поля. В свою очередь эта теория пространства, как известно, и лежит в основе ОТО. Таким образом, получается, что «красное смещение» подтверждает ОТО, будучи интерпретированным в ее же свете24. Подводя итог сказанному, отметим следующее: то обстоятельство, что экспериментальные факты являются «теоретически нагруженными» и в зависимости от интерпретации могут поддерживать разные теории, свидетельствует о том, что в процессе проверки теории ученые руководствуются не только эмпирическими факторами. Требованию опытноэкспериментальной подтверждаемости они предпосылают ряд внеэмпирических требований, таких как требование простоты и удобства научной теории, ее эстетическое совершенство и т.д. Почему, например, Эйнштейн не последовал за гипотезой Фицджеральда? Потому, что считал, что научная теория должна объяснять как можно большее количество явлений на основе как можно меньшего и простого набора принципов, тогда как Фицджеральд усложнял теорию эфира – вносил в нее дополнительные допущения. Как замечают исследователи, теория покоящегося эфира отступила на задний план потому, что при всей ее близости к СТО ей недостает того великого, простого, общего принципа, обладание которым сообщает СТО известную импозантность. Свойство импозантности принимается в расчет специалистами и при выборе между ОТО и ее конкурентками, и это несмотря на ограниченность экспериментальных подтверждений ОТО. «Сегодня, пишет Т. Кун, общая теория относительности Эйнштейна действует главным образом благодаря своим эстетическим данным. Привлекательность подобного рода способны чувствовать лишь немногие из тех, кто не имеет отношения к математике»25. Наконец, в-третьих, на что следует обратить внимание в связи с описанием процедуры экспериментальной проверки научной теории. Как уже отмечалось, для того чтобы экспериментальные данные могли что-либо говорить о теории («за» или «против»), они должны быть предварительно Чудинов Э. М. Природа научной истины / Э. М. Чудинов. – М.: Наука, 1977. – С. 108. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 236. 24 25 осмыслены, интерпретированы. Дело, однако, в том, что любая такая теоретическая интерпретация тоже основывается на ряде теорий, называемых обычно интерпретационными, вспомогательными. Мы могли бы спросить: на чем основывается эти интерпретационные теории? Конечно, на фактах, но и у интерпретационных теорий, то же есть свои предпосылки, которые требуют обоснования. Для того чтобы, однако, процесс обоснования не ушел в бесконечность, некоторые теоретические положения ученые просто соглашаются считать бесспорными, по крайней мере, на время проверки научной теории. Последнее обстоятельство означает, что в эмпирический базис науки встроен так называемый конвенциональный (от лат. «conventio» соглашение, договоренность) элемент. В свою очередь сам факт присутствия в структуре научного знания конвенций (т.е. решений, которыми проверяемая научная теория отграничивается от того теоретического знания, которое ученый будет считать исходным и относится к нему некритически) еще раз свидетельствует о том, что беспредпосылочного знания о мире не существует26. Присутствие предпосылочного знания заявляет о себе и при обращении к такой процедуре научного исследование как измерение. Как показывает развитие научного знания, предпосылки измерения формируются на основе предельно общих представлений об объекте познания, взаимодействующем с субъектом познания, прибором. В классической физике в соответствии с механической картиной мира вводились следующие предпосылки измерения: координаты и импульс измеряемого объекта могут быть строго определены в любой момент времени; пространственные и временные свойства часов и линеек не зависят от движения и влияния окружающих тел; воздействие прибора на измеряемый объект может быть учтено и проконтролировано. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. — М.: Наука, 1995. — С. 36. 26 Иные допущения лежат в основе релятивистской и квантовой физики. Учитывается, что транспортировка часов и линеек приводит к изменению эталонов в различных системах отсчета. Вместе с тем принимается допущение о независимости скорости света от направления светового луча движущегося источника. Поэтому при установлении одновременности событий пользуются не транспортировкой часов, а световыми сигналами. Еще более сложными выглядят предпосылки измерения и описания в квантовой механике: физические объекты подразделяются на приборы, описываемые на языке классической физики, и микрообъекты, не допускающие такого описания; взаимодействие микрообъектов между собой и с приборами символизируемый носит дискретный планковским квантом (целостный) действия; характер, микрообъекты обладают абсолютными характеристиками, присущими им самим по себе, и относительными, которыми они обладают только в определенных экспериментальных определяются ситуациях; типом относительные приборов, используемых зависимости между результатами статистический характер экспериментальной в при измерении; наблюдений имеют существенно соответствии установке характеристики могут с тем, иметь что в место данной различные индивидуальные квантовые процессы 27. При рассмотрении процедуры измерения актуальной становится и тема конвенций. Особенно остро тема конвенций возникает в связи с использованием и геометрии математики в частности в научном (физическом) познании. Актуальным этот вопрос стал с тех пор как, в середине XIX века появилась так называемая, неевклидова геометрия и перед учеными-математиками возникла проблема о том, какая из двух геометрий Алексеев И. С. Квантовая механика и идеал физического объяснения / И. С. Алексеев // Идеалы и нормы научного исследования. – Минск: Изд-во БГУ, 1981. – С. 235. 27 (евклидова или неевклидова) является истинной, т.е. соответствует нашему миру? Как известно, обе геометрии различаются в своих основаниях (аксиоматиках) лишь формулировкой одной аксиомы – о параллельных. Аксиома Евклида (его пятый постулат) утверждает, что через точку в плоскости, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. Соответствующая аксиома геометрии Лобачевского гласит, что через эту точку можно провести более одной прямой, не пересекающей данную, а геометрия Римана утверждает, что вообще не существует непересекающихся прямых. Казалось бы, ответ на вопрос о том, какая из двух геометрий является истинной, должен дать опыт с физическими объектами, служащими реализацией геометрических понятий в пространстве. Одним из первых, кто вскрыл нереализуемость идеи опытноэкспериментальной проверки геометрии, стал французский математик А. Пуанкаре. Свой тезис о невозможности опытно-экспериментальной проверки геометрии Пуанкаре доказывал следующим образом. Во-первых, чтобы связать геометрию с опытом, геометрическим понятиям необходимо противопоставить физические явления. Например, геометрическое понятие прямой может быть физически интерпретировано в виде траектории светового луча. В этой связи, проверяя геометрию опытом, мы проверяем не геометрию саму по себе, а систему «геометрия + физика». А во-вторых, одни и те же опытные данные могут рассматриваться как свидетельства в пользу разных теорий. Пуанкаре приводит следующий пример. Допустим, опыт, наблюдение показывает, что распространяющийся в пространстве луч света искривляется. С одной стороны, из этого факта можно сделать вывод о том, что наша гипотеза о евклидовости пространства не верна, ибо физические законы говорят о том, что в евклидовом пространстве лучи света не отклоняются никакими силами и всегда распространяются по прямой. Но, с другой стороны, мы можем сохранить представление о евклидовости пространства, несколько скорректировав наши физические законы, скажем, признав, что в евклидовом пространстве на луч света действуют некие силы, которые и заставляют его искривляться. Таким образом, корректируя систему «геометрия + физика», мы можем одни и те же факты совместить с разными интерпретациями. Суммируя сказанное, обратим внимание на тот вывод, к которому приходит в итоге А. Пуанкаре. Как известно, ученый, прежде чем интерпретировать результат эксперимента, связанного с измерением, должен уже предварительно выбрать ту или иную геометрию – он должен знать, какой принцип равенства он использует, сравнивая, например, измеряемый отрезок с эталоном длины. Но поскольку, все геометрии в фактуальном отношении равноправны, т.е. ни одна из них не может считаться более истинной, чем другая, то и сам выбор геометрии для описания реального мира – это дело конвенций, т.е. условных соглашений. При этом выбор самой конвенции, т.е. решения о том, какую геометрию использовать при интерпретации опытно-экспериментальных данных, осуществляется, по мнению Пуанкаре, в терминах простоты и удобства28. Наглядной иллюстрацией к размышлениям Пуанкаре может послужить случай с ОТО А. Эйнштейна. В 1919г. учеными, в частности А. Эддингтоном было зафиксировано следующее событие: луч света, идущий к Земле, проходя мимо Солнца, испытывал отклонение, как бы отодвигаясь от Солнца. Данный факт ставил Эйнштейна перед выбором: либо преобразовать геометрию – евклидову на неевклидову и сохранить законы физики, которые говорят, что свет всегда распространяется по прямой и не искривляется гравитационным полем, либо, наоборот, сохранить геометрию - евклидову, но преобразовать физические законы, в частности принять положение о том, что в гравитационном поле происходит отклонение светового луча от прямой траектории. Как известно, Эйнштейн выбрал первое. 28 Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре. — М.: Наука, 1983. — 560 с. Методологи науки, в частности Р. Карнап, анализируя деятельность Эйнштейна, расценивают его выбор как конвенциональный, мотивированный соображениями простоты и удобства. Речь идет о том, принятие неевклидовой геометрии избавляло от необходимости введения новых физических законов (законов искривления световых лучей, сжатия твердых тел и т.д.). Более того, значительно проще становились старые законы, например, определяющие формы орбит планет вокруг Солнца. Наконец, сами гравитационные силы исчезали из картины мира и заменялись геометрической структурой четырехмерной системы пространства-времени29. Описание. Наконец, перейдем к такому методу эмпирического познания как описание. Под описанием подразумевается выражение и фиксация данных наблюдения в языковой форме, в существующем концептуальном аппарате. В результате выявления и описания фактов возникают так называемые фактофиксирующие эмпирические суждения (высказывания). То обстоятельство, что знание и в том числе научное существует в языковой форме, представляется очевидным и само собой разумеющимся. А вот мысль о том, что язык может рассматриваться как одна из априорных компонент научного знания требует особого внимания и специального рассмотрения. Пожалуй, первыми кто обратил внимание на эту идею, были философы, участники Венского кружка, так называемые логические позитивисты. Анализируя структуру научного знания, логические позитивисты разделили все имеющие познавательный смысл высказывания на две группы: синтетические высказывания и аналитические высказывания. Синтетические высказывания – это высказывания, истинность которых устанавливается опытным путем. Таковыми прежде всего являются естественнонаучные высказывания. Что касается аналитических Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки / Р. Карнап. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — С. 225. 29 высказываний, то это высказывания, истинность которых не зависит от опыта, а вытекает только из значения составляющих их терминов. Таковыми являются высказывания логики и математики. Далее неопозитивисты произвели еще одно различие, связанное с аналитическими и синтетическими высказываниями, которое с их точки зрения имело решающее значение. Если синтетические высказывания (т.е. высказывания естественных наук) несут некое знание о мире, то аналитические лишь по видимости выступают носителями знаний, а в действительности, являются своего рода «языком», с помощью которого осуществляется выражение и изложение знания о мире. Здесь-то и обнаруживается еще одна априорная, на это раз «языковая», предпосылка научного знания. Язык как система логических формул и уравнений задает допустимые преобразования научных высказываний и в этом смысле предшествует самим высказывания – утверждениям об объектах, т.е. является априорным. Редуцировав математику к логике, неопозитивисты говорили о языке логики как о начале, детерминирующем мир познающего субъекта. Наверное, ярче всех об этом писал Л. Витгенштейн – один из вдохновителей неопозитивистов, участников Венского кружка (М. Шлика, Р. Карнапа и д.р.). Предложения логики, по словам Витгенштейна, составляют как бы «строительные» леса, «сетку», задающую допускаемые формы отображения мира. Соответственно, то, что логически невозможно, не может отображаться в языке посредством предложения. «…Мы просто не могли бы сказать о «нелогичном» мире, как он будет выглядеть», - замечает Витгенштейн 30. Итак, логика априори устанавливает границы «возможных положений дел» в мире и ситуацию, нарушающую логическую «сетку» помыслить нельзя. Однако вполне возможно поставить вопрос о Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I / Л. Витгенштейн. — М.: Гнозис, 1994. — С. 10. 30 единственности «сетки», налагаемой логическим языком на мир. Витгенштейн писал: можно осуществлять описание поверхности, покрывая ее сеткой из квадратных ячеек, а можно из треугольных или шестиугольных. Различным сеткам соответствуют различные описания мира31. Опыт создания неклассических логик заставил логических позитивистов обратить внимание на то, что возможны различные «сетки» или как выражался Р. Карнап различные «языковые каркасы» для конструирования «картины мира». Мысль о существовании математик и логик, отличных от традиционно существующих, классических, появилась давно. Так еще XIX века У.Р. Гамильтон высказал идею о том, что в математике могут существовать такие величины, для которых не выполняется известный каждому школьнику коммутативный закон умножения, согласно которому от перемены мест сомножителей произведение не меняется (ab = ba). «Озарение на него нашло в некий октябрьский день 1843 г., когда, проходя по мосту в Дублине, он открыл кватернионы»32. Как пишут историки математики, необходимость существования математических величин, состоящих из четырех компонентов (кватернионов), стала очевидной для Гамильтона в связи с изучением умножения комплексных чисел (комплексные числа состоят из двух компонентов – действительного и мнимого). А то обстоятельство, что коммутативное умножение комплексных чисел приводит к некоммутативному умножению кватернионов, обнаружилось в связи с геометрической интерпретацией умножения комплексных чисел33. Что касается неклассической логики, то ее история берет начало в трудах отечественного логика Н.А. Васильева, но особенно интенсивная фаза развития приходится на время становления квантовой механики и Там же. С. 67. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1969. — С. 238. 33 Аронов Р. А. Пифагорейский синдром в науке и философии / Р. А. Аронов // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С.138. 31 32 связана с именами Г. Биркгоффа, Дж. Фон Неймана, М. Штрауса, Г. Рейхенбаха. Мы привыкли считать, что человек, задавая природе вопросы, получает на них ответы, имеющие определенное истинностное значение – «да» или «нет», «истинно» или «ложно», причем в соответствии с законами классической логики отрицание ответа с одним истинностным значением есть утверждение ответа с другим истинностным значением. Однако эксперименты в квантовой механике породили сомнения: всегда ли диалог человека с природой удовлетворяет этому условию, выраженному законом исключенного третьего? В квантовой механике мы можем, например, задать природе такой вопрос: «Является ли данный квантовый объект корпускулой?» И природа не ответит нам однозначно. Оказывается, что в одних случаях этот объект ведет себя как корпускула, а в других вовсе нет. Если мы не будем связывать определенность такого ответа с рядом уточняющих условий (эксперимента), то окажется, что квантовый объект – это и корпускула, и ее противоположность, т.е. волна (иначе говоря, похоже, что нарушается закон противоречия классической логики), или и не корпускула, и не волна, а что-то совсем иное (иначе говоря, похоже, что нарушается классический логический закон исключенного третьего). Семантический и синтаксический анализ подобных квантовофизических ситуаций дал повод многим ученым в XX столетии говорить о наличии квантовой неклассической логики. Учитывая факт множественности математик и логик, обратим внимание на то, как решается вопрос о принятии того или иного «языкового каркаса». С точки зрения логических позитивистов (в частности, Р. Карнапа) выбор «языкового каркаса» осуществляется на основе практической целесообразности, простоты и удобства, т.е. в конечном итоге определяется прагматическими соображениями.34 Например, некоммутативную алгебру Карнап Р. Эмпиризм, семантика и онтология / Р. Карнап // Р. Карнап. Значение и необходимость. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – С. 311. 34 удобнее применять в квантовой механике, а вот что касается неклассической логики, то вопрос о целесообразности ее применении в квантовой механике среди философов, методологов науки остается дискуссионным. Сошлемся в этой связи на высказывание канадского логика Б. К. ван Фраассена: «Конъюнкция высказываний „электрон находится в точке х" и „электрон имеет импульс р" бессмысленна для Бора и Гейзенберга, всегда неопределенна или ложна для Рейхенбаха, плохо сформулирована для Штрауса и всегда ложна для Биркгоффа и фон Неймана»35. В то же время отметим, что большинство физиков (в том числе представители копенгагенской школы квантовой механики, и в первую очередь ее лидер Н. Бор) отрицали (и отрицают) необходимость введения в квантовофизическое познание некоей новой, отличной от классической логики. Так, например, Н. Бор полагал, что описание и сообщение экспериментальных результатов должно производиться на обычном человеческом языке, подчиняющемся классической логике высказываний, иначе коммуникация будет крайне сложной, а то и просто невозможной. Вместе с тем, следует заметить, что с наибольшей очевидностью «языковая предпосылочность» проявилась в социогуманитарных науках. В 70-х годах на наличие своеобразного «языкового априори» обратила внимание историческая наука, в частности одно из новых ее направлений «новая интеллектуальная история» (Х. Уайт, Л. Гозман, Д. Лакапра, Л. Минк, Г. Келлнер и др.). Наиболее ярким представителем этого направления является американский философ, историк Х. Уайт. В 1973 году он издал книгу под названием «Метаистория»36, которая породила массу дискуссий в западной, а в последствие и в отечественной литературе. В целом, суть концепции Уайта можно выразить в двух главных тезисах: Цит. по: Панченко А. И. Философия, физика, микромир / А. И. Панченко. — М.: Наука, 1988. — С. 128. 36 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Х. Уайт. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2002. – 528 с. 35 1) язык, который использует историк в своих исследованиях, вовсе не является просто нейтральным средством выражения мысли, напротив, он активен и задает, предопределяет смысл выражаемого. Иначе говоря, то, что рассказывается, напрямую зависит от того, как рассказывается. 2) любое исторической исследование содержит в себе литературный, поэтический компонент, причем не в качестве украшения или дополнения, а в качестве своего структурного, конститутивного компонента. Рассмотрим эти два тезиса более подробно. Как известно, задача историка состоит в том, чтобы изучать прошлое, описывать его, объяснять. Разумеется, делать это историк может только косвенным путем, обращаясь к историческому источнику. И вот здесь Уайт обращает внимание на один важный момент: то, что предлагает вниманию историка источник представляет собой массу разнообразных событий, сведения о которых во многом отрывочны и фрагментарны. Может показаться, что задачей историка является описать все эти события в той хронологической последовательности, в которой они в действительности происходили. Однако, описывая все, истории не получишь, получишь – хронику. История же начинается с того, что из всей массы событий, о которых говорит источник, историк производит отбор: одни события он выдвигает на передний план, считая их началом, другие – ставит в середину, считая их переходными, а третьи – в конец, видя в них кульминацию. Сами же основания, по которым историк упорядочивает события в единую линию, заданы языком. Уайт обращает наше внимание на то, что поскольку история разворачивается в форме повествования, т.е. рассказа, то и основаниями для упорядочения событий в историю выступают некие модели, называемые сюжетными модусами повествования. В частности из литературоведения известно о существовании четырех модусов сюжетного повествования – роман, комедия, трагедия и сатира. Роман представляет собой драму двух сил – темной и светлой, злой и доброй. При этом – это обязательно драма освобождения светлых сил из-под гнета темных, победа над ними. По мнению Уайта, роман как сюжетный модус повествования использовал для построения своей истории Жюль Мишле (1798-1877). Ярким тому примером служит его сочинение «История французской революции» (1847-1853). В нем народ Франции изображается как светлая сила, прорывающаяся навстречу свободе, равенству, братству, а существующая политическая система с ее сословными структурами выступает неким темным началом – источником препятствий на пути к этой цели. Сама же Французская революция трактуется как развязка этой борьбы, как реакция справедливости против тирании. Использование романтического сюжета для построения истории сказывается и на понимании ее смысла. История интерпретируется Мишле как восстановление истины, а задачу историка Мишле видит в то, чтобы хранить эту истину. Под истиной в данном случае понимается память об освободивших себя силах свободы и справедливости. Комедия. Как и роман, комедия тоже представляет собой драму сил, но исход этой драмы - не уничтожение одной и победа другой силы, а их примирение, некое гармоничное разрешение. По мнению Уайта, комедию как сюжетный модус повествования использовал для построения своей истории Леопольд фон Ранке (1795-1886). Героями исторической драмы Ранке являются народы европейской цивилизации. Борьба и конфликты между ними происходят главным образом из-за попыток отдельных народов возвысить свои формы церковной и политической организации до уровня универсальных. Примером тому служит Средневековье с его феноменами «римского католичества» и «священной империи германской нации». Эпоха же Возрождения и Реформации интерпретируется как поворотный пункт в этой драме, именно тогда появляется идея нации – т.е. представление о том, что у каждого народа своя уникальная историческая судьба и адекватные ей формы политической и церковной организаций. В итоге весь последующий период (примерно 800 лет) Ранке интерпретирует как процесс постепенного примирения европейских народов на базе идеи нации. Использование комедийного сюжета для построения истории сказывается и на понимании ее смысла. Смысл истории Ранке усматривает в создании саморегулирующихся наций-государств, а задачей историка считается такое понимание истории, которое бы придало силу принципу национальности как единственному гаранту от впадения в варварство. Трагедия. По отношению к комедии трагедия тоже представляет собой драму сил, которая завершается примирением, но примирение это в целом носит мрачноватый характер. Это примирение человека, который переоценил свои силы, борясь с обстоятельствами, и теперь вынужден признать условный характер своих побед. По мнению Уайта, трагедию как модус повествования использовал для построения своей истории – Алексис де Токвиль (1806-1859). Ярким примером тому служит его произведение «Старый порядок и революция» (1856). В нем французский народ борется с несовершенством старой монархической системы, но революция – развязка в этой борьбе, породила нечто новое и ужасное, далекое от того, что грезилось ее зачинщикам. Наихудшие элементы прошлого сохранились на гранях нового настоящего. Использование трагедийного сюжета для построения исторического повествования склоняет Токвиля интерпретировать смысл истории как вечное состязание человека с самим собой и возвращение к себе. Сатира. Фактически сатира – это драма обреченности, это ощущение того, что все возможности упущены, и ничто более не имеет смысла. По мнению. По мнению Уайта, сатиру как сюжетный модус повествования использовал для построения своей истории – Якоб Буркхард (1818-1897). Персонажами исторической драмы согласно Буркхарду являются культура и ее с некими порабощающими ее силами. Сначала, в период Средневековья, культура была подчинена императивам религии, потом, в Новое время стала подчиняться государству и императивам политической власти. И только Ренессанс интерпретирует Буркхардом как «свободная игра» культуры в паузе между двумя тираниями. Буркхард отказывается видеть в истории не только прогресс, но даже циклическое развитие. За упадком, который связывается с эпохой Нового времени не идет возрождение. Культура, существовавшая в эпоху Ренессанса, утрачена безвозвратно. Использование сатиры в качестве сюжета для построения исторического повествования накладывает отпечаток на понимание Буркхардом смысла исторического процесса. Единственная истина, которой учит история – это меланхолическая истина: общественное благоденствие, добродетель человеческой природы – все это иллюзии и свою задачу в качестве историка Буркхард видел в разрушении этих иллюзий, в возвращении человеческого сознания к своей конечности и неспособности когда-либо найти в этом мире счастье. Такова в общих чертах концепция Уайта. Излагая свои взгляды на работу историка, Уайт по сути стремится подчеркнуть одно: исследовательская практика историка выглядит не так, что источник доставляет исследователю уже готовые данные (факты), в которых надо только «найти», «опознать», или «раскрыть» историю, но скорее так, что к тому, что содержит источник, исследователь подходит избирательно, т.е. он упорядочивает эмпирические данные, используя для этого языковые средства (сюжетные модусы повествования, тропы). В итоге же то, с чем имеет дело историк – это не само прошлое, но рассказ о нем, модель, или как говорит Уайт, нарратив. При этом в зависимости от того, каким из литературных тропов пользуется историк, таким и будет его нарратив, модель истории. Соображения Уайта в свою очередь заставляют еще раз подчеркнуть идею предпосылочности, пронизывающую научное знание как таковое. Присутствие в структуре научного знания онтологических, гносеологических постулатов, парадигмального, конвенционального элементов говорит о том, что знание не является продуктом некоего «естественного взгляда на мир», всякий раз оно оказывается результатом задействования тех исходных установок и предпосылок, которые принимает познающий субъект. Определенность этих исходных посылок и своеобразие конструкции позиции научной познающего установок позволяет выявить субъекта, рациональности состоящее неизбежно носят в том, что «конечный» характер, имеют пределы своей применимости в реальности. В процессе освоения предмета познание вполне может столкнуться с феноменами, которые не смогут быть познавательных установок. промоделированы в системе исходных Социокультурные и биологические предпосылки научного познания Внимательное рассмотрение процесса научного познания позволяет выделить наряду с когнитивными еще, по крайней мере, два вида предпосылок, опосредствующих данный процесс. Тот факт, что наука делается человеком – существом биосоциальным, говорит о том, что кроме когнитивных предпосылок существуют социокультурные и биологические предпосылки научного познания. Социокультурные предпосылки. Без выявления социокультурных предпосылок невозможно объяснить ни появления науки как таковой, ни процесс смены одной научной теории другой. Широко распространенной и доказательной является точка зрения, о том, что подлинной колыбелью науки стала античная Греция, культура которой в период своего расцвета (VI – IV вв. д.н.э.) породила науку. Однако надо заметить, что помимо Греции существовали и другие великие цивилизации, накопившие гигантский и по-своему глубокий, своеобразный опыт производственных навыков, ремесел и знаний. Так, например, в технологическом плане Поднебесная империя Китая ощутимо обгоняла западноевропейскую цивилизацию вплоть до XV века. Китай дал миру порох, компас, книгопечатание, механические часы, технику железного литья, фарфор, бумагу и многое другое. Китайцы смогли развить великолепную технику вычислений и применить ее во многих областях практики. По мнению известного английского историка Дж. Нидема, между I в. до.н.э. и XV в. н.э. с точки зрения эффективности приложения человеческих знаний к нуждам человеческой практики китайская цивилизация была более высокой, чем западная. Однако науки как таковой китайская империя все же не создала. Причины этого во многом определялись характером социально- политического устройства древневосточных стран. В Китае, например, жесткая стратификация общества, отсутствие демократии, равенства всех перед единым гражданским законом приводило к «естественной иерархии» людей, где выделялись наместники неба (правители), совершенные мужи («благородные» - родовая аристократия, государственная бюрократия), родовые общинники (простолюдины). В странах же Ближнего Востока формами государственности были либо откровенная деспотия, либо иерократия, означавшие отсутствие демократических институтов. Антидемократизм в общественной жизни не мог не отразиться на жизни интеллектуальной, которая также была антидемократической. Пальма первенства, право решающего голоса, предпочтение отдавались не рациональной аргументации и интерсубъективному доказательству, а общественному авторитету, в соответствии с чем, правым оказывался не свободный гражданин, отстаивающий истину с позиции наличия оснований, а наследственный аристократ, власть имущий. Отсутствие предпосылок общезначимого обоснования, доказательства знания приводили к его фетишизации. Субъектами знания или людьми, которые в силу своего социального статуса репрезентировали «ученость», были жрецы, высвобожденные из материального производства и имевшие достаточный образовательный ценз для интеллектуальных занятий. Знание же, хотя и имеющее эмпирико-практический генезис, оставаясь рационально необоснованным, пребывая в лоне эзотерической жреческой науки, освященной божественным именем, превращалось в предмет поклонения, таинство. Иная ситуация была в Древней Греции. Следует обратить внимание на то, что сама политическая форма греческого общественного устройства рабовладельческая демократия - предполагала необходимость участия в политической жизни (народные собрания, публичные обсуждения, голосования) каждого из свободных граждан, формируя тем самым отношение к общественному закону не как к слепой силе, продиктованной свыше, а как к демократической норме, принятой большинством в результате выявления ее гражданского совершенства в процессе всенародного обсуждения. Коль скоро инструментом проведения закона оказывалась сила довода, аргумента, критицизм, возрастал удельный вес слова аргументации, умение владеть которыми становилось формой и политической и интеллектуальной деятельности. Именно этот сложившийся в античной культуре идеал обоснованного мнения был перенесен на научные знания (в греческой математике мы встречаем изложение знаний в виде теорем «дано… требуется доказать», но в древнеегипетской и вавилонской математике такая форма не принята, здесь мы находим только нормативные рецепты решения задач: «Делай так!»… «Смотри, ты сделал правильно!»)37. Таким образом, древнегреческих сам полисов факт того, проводили что много свободные времени в граждане публичных выступлениях и прениях способствовал формированию столь необходимого для науки аппарата логического рационального обоснования. Именно с опорой на познание в форме доказательства путем апелляции к реально удостоверяемым причинам построены планиметрия Гиппарха Хиосского, медицина Гиппократа, история Геродота, геометрия Евклида и т.д. Говоря об античности, обратим внимание и на другой факт. Сформировав средства для перехода к собственно науке и первой предложив образцы конкретно-научных теорий, античная цивилизация, тем не менее, не включила в науку экспериментальное изучение природы в качестве органического дополнения теории и ее обоснования38. При объяснении данного факта экспериментов необходимо предполагает, принять как во внимание, правило, что постановка предметно-вещественную деятельность, конструирование разного рода механических приспособлений и т.п., а между тем, греки жестко различали деятельность свободной игры ума с интеллектуальным предметом и производственно-трудовую деятельность с облаченным в материальную плоть предметом. В греческом Степин В. С. Специфика научного познания и социокультурные предпосылки его генезиса / В. С. Степин // Наука и культура. – М.: Наука, 1984. – С. 250. 38 Рожанский И. Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1980. – С. 15. 37 обществе, культуре только первого рода деятельность считалась достойной занятия свободного гражданина и именовалась наукой, вторая же приличествовала рабу и звалась ремеслом. Показательно, что Архимед, известный не только своими математическими работами, но и приложением их результатов в технике, считал эмпирические и инженерные занятия делом низким и неблагородным и лишь под давлением обстоятельств (осада Сиракуз римлянами) вынужден был заниматься совершенствованием военной техники и оборонительных сооружений. Таким образом, не экспериментальный характер античного научного знания во многом объясняется отсутствием соответствующих социальных санкций. Средневековая культура закрепила идущую от античности традицию презрительного отношения к предметно-вещественной деятельности, ремеслу. К высшим семи "свободным искусства", преподававшихся в средневековых университетах, относились 1) грамматика, 2) диалектика, 3) риторика, 4 ) астрономия, 5) арифметика, 6) геометрия, 7) музыка. Все виды производства материальных вещей относились к низшим «механическим искусствам». И только в эпоху Нового времени появились социокультурные предпосылки, способствующие разрушению барьера между сферами «свободных» и «механических искусств». Одной из таких предпосылок явился протестантизм. В качестве одного протестантизм, из направлений христианского вероучения отталкивался от идеи ущербности, поврежденности человеческой природы, но настаивал на том, что эта поврежденность имеет место, как в низших, так и высших сферах человеческой природы, а потому и занятия, связанные с этими высшими сферами, не имеют большей ценности по сравнению с низшими видами деятельности. Почему, спрашивал М. Лютер, «твое тело, твоя жизнь и честь так свободны, а мои нет, хотя мы одинаково являемся христианами, одинаково крещены, имеем единую веру, одинаковые души и все остальное у нас одинаково? Откуда происходит столь большое неравенство среди одинаковых христиан? Не исключительно ли из- за людских выдумок и законов?»39. Таким образом, Лютер и другие реформаторы лишили религиозной санкции идею неравенства людей и сфер деятельности. Этим протестантизм создал благоприятные социально психологические условия для контакта между "академически воспитанными учеными" и "верхним слоем ремесленников". В итоге же протестантская идея равенства всех сфер деятельности, всех видов труда изменила и общественную оценку занятий "механическими искусствами", а вместе с ними и экспериментальной деятельности. В Новое время механика становится эталоном естественнонаучного идеала, а эксперимент характерной чертой науки. Вместе с тем, расширяя сказанное, следует заметить, что социум и культура не играют по отношению к научному знанию только лишь роль благоприятствующих факторов или препятствий, сдерживающих развитие знания. Социокультурная сфера отпечатывается, отражается и на самом содержании и структуре научного знания. Например, историки античной культуры провели целый ряд исследований, показывающих, что для Греции характерно перенесение социополитических образцов на природу. Как уже говорилось, неотъемлемым элементом полисной системы политического строя было народное собрание, периодически созывающееся на площади для разрешения всех вопросов полиса. В свою очередь участие в народном собрании, в словесных баталиях, в состязании аргументов предполагает отношение равенства. И здесь следует обратить внимание на то, что принцип равноправия (isonomia) охватывает практически все виды знания. Так, греческие астрономы, например, Анаксимандр локализуют землю в центре мира, добавляя при этом, что если она пребывает неподвижной в определенном месте, не нуждаясь в какой-либо опоре, то это происходит потому, что, будучи равноудаленной от всех точек в пространстве, она не нуждается в том, чтобы двигаться вниз или вверх, в ту Цит. по: Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени / Л. М. Косарева. – М.: Наука, 1989. С. 134. 39 или другую сторону. Соответственно, для того чтобы понять почему люди могут вполне безопасно ходить по земле и почему сама земля не падает, как все предметы на ее поверхности, достаточно знать, что все радиусы небосвода равны между собой. В медицине Алкмеон определяет здоровье как равновесие сил – влажного и сухого, холодного и теплого, горького и сладкого и т. д. Соответственно болезни есть следствие «единовластия» одного из этих элементов над остальными, ибо исключительное господство отдельно взятого элемента губительно. Наконец, математика как учение о пропорциях, симметриях тоже несет на себе «следы» полисной социальной конструкции с ее проблемой как совместить, уравновесить сталкивающиеся интересы разных общественных групп40. Прекрасной иллюстрацией к тезису о социальной «нагруженности», научного знания может послужить и опытно-экспериментальное знание Нового времени. Так, по мнению М. Фуко матрицей для образования эмпирических наук о природе стала юридическая техника опроса-дознания, разработанная еще в средневековых институтах, в частности, таких как суд с его инквизиционным дознанием. Опрос-дознание – это процедура установления знаний о действиях людей прежде всего в ходе юридического разбирательства. Эта процедура расставляет людей в определенную диспозицию, предписывая одним играть роль истца, другим – ответчика, определяя при этом функции судьи, свидетеля и т.д. Все эти роли или функции связываются определенными правилами взаимодействия, цель которых - установление истины о поведении или событии (сделал ли такой-то то-то тогда-то или же нет). Но при исследовании природы роли исполняют не столько люди, сколько приборы и механические устройства - наклонные плоскости, коромысла весов, грузы, жидкости, измерительные устройства и т. п. Приборы, измерительные установки и т. п. можно, и не без оснований, уподобить юридическим свидетелям, ибо они подтверждают или опровергают Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Вернан Ж.-П. — М.: Прогресс, 1988. — 224 с. 40 предполагаемое о вещах, подлежащих экспериментальному исследованию, судьей же, в конечном счете, выступает сам экспериментатор: он выносит окончательный вердикт, долженствующий раскрыть истину о вещах, вовлеченных в процесс эксперимента. Примечательно, что само слово «опрос» (enquete), утверждает Фуко, происходит от латинского inquire, что означает «разыскиваю», и «инквизиция» буквально означает «розыск». «Опрос» конституируется прежде всего как судебная процедура, нацеленная на извлечение знания строго определенным путем. Знание может существовать только благодаря наложению «решетки» вопросов, ограничений и т. п. на «сырой» материал действительности. «Опрос», в частности, в сфере юриспруденции в средние века строился по такой схеме: (1) кто что сделал? (2) имеет ли содеянное общественное значение? (3) каковы доказательства и примеры содеянного? (4) имело ли место признание? Именно эти методы извлечения знаний из сознания людей, считает Фуко, были перенесены на способы извлечения знаний о природе из природы. Недаром основоположником учения об эмпирическом методе в естествознании, родоначальником новых эмпирических наук о природе стал Ф. Бэкон – юрист и государственный деятель41. Далее, не только факт зарождения, но и развития науки не может быть адекватно понят без выявления предпосылок социокультурного характера. Одним из первых, кто обратил внимание на то, что процесс оценки и отбора фундаментальных научных теорий обусловлен не только и даже не столько "когнитивными факторами", но зависит от человеческих пристрастий, авторитетов, мировоззрений, а также от многих других «внешних» по отношению к науке воздействий социокультурной среды, был американский историк науки Т. Кун. Отправным пунктом концепции Куна выступает представление о науке как социальном институте, т.е. деятельности носителем которой является не Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. – М.: Ad marginem, 1999. 476 с. 41 ученый-одиночка, а научное сообщество. В свою очередь деятельность самого научного сообщества определяется т.н. парадигмой. Под парадигмой Кун подразумевает признаваемые всеми членами научного сообщества теории, методы постановки и решения научных проблем, а так же язык их описания. Исследование в рамках научного сообщества Кун называет периодом «нормальной» науки. Цель нормальной науки ни в коем случае не состоит в создании новых теорий, открытии новых фактов. По образному выражению Куна, ученые, работающие в нормальной науке, постоянно заняты наведением порядка, т.е. проверкой и уточнением уже известных фактов, или сбором фактов уже предсказанных парадигмой. В целом, деятельность ученого в рамках нормальной науки напоминает решение задач-головоломок: есть образец решения (парадигма), известно, что задача разрешима. На долю ученого выпадает попробовать свою личную изобретательность при заданных условиях. Однако нормальная наука это только один период в развитии науки. Наряду с ним существует еще один период, называемый экстраординарным, который связан с научными революциями. Суть его в том, что на одном из этапов развития нормальной науки появляются аномалии, т.е. такие факты, которые расходятся с предсказаниями существующей парадигмы. И когда таких аномалий накапливается достаточное количество, нормальное течение науки прекращается, наступает состояние кризиса, характеризующееся становлением новой парадигмы, вступающей в спор, в борьбу со своей предшественницей, при этом самое главное в этом споре то, что он не может решиться исключительно и только на основе внутринаучных факторах, таких как – наблюдения, эксперименты, логика и т.д. Конечно, было бы удобно думать, что старая парадигма отбрасывается и заменяется новой просто потому, что сталкивается с противоречащими ей фактами. Однако это не соответствует реальной истории науки. Кроме того, еще в начале 50-х г. американский логик, философ У. Куайн высказал логический аргумент против возможности однозначной и радикальной фальсификации теории противоречащим ей фактом. В частности, Куайн подчеркнул так теоретического называемую знания. Он холистскую, утверждал, т.е. что целостную наши природу теоретические представления переплетены друг с другом подобно нитям ткани, и в виду такого системного характера научной теории достаточно ввести специальное допущение в какой-то части системы, после чего теория в целом перестанет противоречить факту. Так вот, опираясь на размышления Куайна, Кун, показывает, что ученый, сталкиваясь с противоречащим парадигме фактом, не отбрасывает парадигму, но модифицирует ее, например, вводит в нее так называемые ad hoc гипотезы, устраняющие противоречия парадигмы с этим конкретным фактом. При этом с логической точки зрения процесс модификации парадигмы перед лицом противоречащих ей фактов не является ограниченным. Иллюстрацией модификации парадигмы может послужить пример с геоцентрической теорией Птолемея. Ее основная идея, как известно, заключалась в том, что Солнце, планеты и звезды вращаются по круговым орбитам вокруг Земли. В течение длительного времени эта система давала возможность рассчитывать положения планет на небосводе. Однако чем более точными становились астрономические наблюдения, тем более заметными оказывались расхождения между вычисленными и наблюдаемыми положениями планет. Для устранения этих расхождений в теорию было введено специальное предположение о том, что планеты вращаются по вспомогательным кругам — эпициклам, центры которых уже вращаются непосредственно вокруг Земли. Так было получено объяснение, почему при наблюдении с Земли может казаться, что иногда планета движется в обратном направлении по отношению к обычному. Далее, бесперспективным считает Кун ориентироваться при сопоставлении парадигм на количество решаемых ими проблем. Во-первых, новая парадигма вначале своего существования обычно решает очень мало проблем и неизвестно способна ли она на большее. А во-вторых, старая и новая парадигмы решают вовсе не одни и те же проблемы. То, что было проблемой в старой парадигме, может оказаться псевдопроблемой с точки зрения новой; проблема, которая считалась важной сторонниками одной парадигмы, может показаться тривиальной приверженцам другой. Наконец, необходимо иметь в виду, что хотя конкурирующая и старая научная парадигма содержат одни и те же термины, тем не менее, сами эти термины, как правило, употребляются в разных значениях и это тоже ограничивает возможность выбора парадигмы на сугубо эмпирических, логических внутринаучных основаниях. В итоге на вопрос о том, чем же обусловлен выбор между научными парадигмами, Кун отвечает, что этот выбор зависит во многом от внешних самой науке факторов. Например, ученый может настаивать на той теории, которая более согласуется с его мировоззрением, социокультурным духом эпохи, наконец, потому, что ее поддерживает другой авторитетный ученый. Короче говоря, причины выбора научной теории лежат во многом в области социо-психологических, социокультурных факторов42. Показательна в этом отношении история с возникновением гелиоцентрической теории Н. Коперника. Теории Птолемея и Коперника долгое время противостояли друг другу как две, по существу, законченные, равные системы. Как отмечает историк науки М. Полани, в течение 148 лет, с момента публикации труда Коперника "Об обращениях небесных сфер" любой известный факт мог объясняться с позиции как той, так и другой теории43. Более того, в отношении метода представлений движения планет коперниканская теория не была лучше, чем птолемеевская и плюс ко всему с Венерой и Меркурием у Коперника дело обстояло еще сложнее, чем у Птолемея. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 228. 43 Полани М. Личностное знание / М. Полани. — М.: Прогресс, 1985. — С. 205. 42 Далее, как известно после появления на свет теория Коперника подверглась яростной внутринаучной атаке. Сторонники Птолемея доказывали невозможность движения Земли, апеллируя к абсурдности допущения такового. По их мнению, оно повлекло бы за собой потерю Землей атмосферы, заставило падающие с высоты предметы отклоняться к западу, привело к возникновению ураганных ветров и самое главное - из теории Коперника следовало существование годичного параллакса неподвижных звезд, которого, однако, не наблюдалось. Любопытно, что с чисто научной точки зрения Коперник не смог снять этих возражений (они были сняты позже, главным образом, теорией Ньютона, а звездный параллакс удалось наблюдать только в XIX веке). Спрашивается: чем был обусловлен выбор Коперника в пользу гелиоцентризма? Ответ - во многом именно мировоззренческими факторами и разного рода неэмпирическими критериями. Например, Коперник говорил, что из двух состояний - неподвижности и неустойчивости, изменчивости более благородным и божественным является первое, нежели второе. В самом деле, Бог – идеал и по природе своей таков, что не имеет в себе чего-то еще не реализованного, к чему он мог бы стремиться, «двигаться». Так неужели, вопрошал Коперник, состояние неподвижности, характеризующее идеальную природу Бога, должно приписываться грешной, несовершенной Земле? Скорее, более адекватным для нее будет состояние изменчивости, неустойчивости, т.е. подвижности. Или еще один аргумент мировоззренческого характера. Коперник обращал внимание на то, что Священное писание говорит о том, что природа проста, а в теории Птолемея она изображается весьма сложной для описания траектории одной планеты надо вводить огромное число эпициклов. Получается, что если Птолемей прав и природа действительно непроста, то в таком случае не право Писание. Ясно, что со вторым выводом Коперник примириться не мог, он верил в правоту Священного писания, и это воодушевляло его на ревизию геоцентризма44. Наконец, Коперник настаивал на гелиоцентризме, так как считал, что гипотеза, которая положена в его основу более простая, чем птолемеевская. В самом деле, так как масса Солнца несравненно больше земной массы, то гораздо проще заставить вращаться Землю вокруг Солнца, чем всю Солнечную систему вокруг Земли. Заметим, что и в данном случае аргумент Коперника "от простоты" не является опытным, эмпирическим. В контексте анализа процесса замены геоцентризма на гелиоцентризм определенный интерес представляет и оценка деятельности такого последователя Коперника как Г. Галилей. Дело в том, что традиционным является мнение о том, что одним из центральных и неоспоримых аргументов в поддержку гелиоцентризма были телескопические наблюдения Галилея (апрель 1611). Между тем, как свидетельствуют некоторые историки науки, в частности П. Фейерабенд, данное мнение далеко от истины. В своей работе «Против методологического принуждения» Фейерабенд поясняет, что в действительности успех галилеевского телескопа не вызывал сомнений лишь на Земле, при наблюдении же с его помощью небесных светил он порождал проблему телескопического видения. Дело в том, что на поверхности Земли с такими объектами как корабли, здания и т.д. телескоп будет работать хорошо, ибо все окружающие нас вещи хорошо нам знакомы, и мы всегда можем отделить истинные черты объекта от того, что вносит в образ телескоп. Однако в случае с наблюдениями неба этот компенсаторный процесс не работает. Мы не знаем, как выглядят звезды вблизи. Поэтому при их наблюдении в телескоп мы не можем опереться на нашу память для устранения возможных искажений. Для того чтобы обосновать правильность своих телескопических наблюдений Галилею требовались вспомогательные теории – новая метеорология, новая физиология, описывающая сложные процессы, происходящие между глазом и объектом и еще более сложные процессы, 44 Ильин В. В. Критерии научности знания / В. В. Ильин. — М.: Высш. шк., 1989. — С. 110. связывающие роговицу глаза с мозгом, а также новая динамика, устанавливающая, каким образом движение Земли может влиять на физические процессы, происходящие на ее поверхности. Между тем, как отмечает Фейерабенд, во времена Галилея эти вспомогательные науки еще не были сформированы, а существовавшие оптические теории не давали удовлетворительной теоретической основы для понимания телескопических наблюдений и вызывали сомнения в надежности их результатов. В свете высказанных соображений Фейерабенд отмечает слабость внутринаучной аргументативной базы Галилея, и связывает успех гелиоцентрической социокультурными теории главным факторами. образом Чрезвычайно с вненаучными, важным представляется Фейерабенду возвышение нового капиталистического строя, буржуазии с новым взглядом на мир и глубоким презрением к схоластической науке, ее методам и результатам. Варварская латынь схоластов, духовное убожество университетской науки, ее оторванность от реального мира, обрекающая ее на бесплодие, ее связь с церковью – все эти элементы объединились с аристотелевско-птолемеевской космологией. Объединение астрономических идей с историческими и классовыми тенденциями породило твердую преданность гелиоцентрической концепции, имя Коперника стало символом идеалов нового класса, который в прошлом видит классическую эпоху Платона и Цицерона, а в будущем – свободное и плюралистическое общество45. Следует отметить, что наряду с научной революцией XVII века, социокультурной интерпретации подвергаются и современные события в науке, например, квантово-релятивистская революция в физике. Возьмем для примера специальную теорию относительности А. Эйнштейна (СТО,1905г). Обычно считается, что создание СТО было результатом опыта Майкельсона – Морли. До этого опыта существовала Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. — М.: Прогресс, 1986. – С. 296 . 45 теория о наличии некой абсолютной системы отчета – эфира, заполняющего пустое пространство и несущего электромагнитные волны, в том числе и световые. Из этого учения следовало, что при движении нашей планеты в космическом пространстве относительно этого эфира должен иметь место «эфирный ветер», т.е. сопротивление эфирной среды. Однако опыты Майкельсона – Морли этот «эфирный ветер» не зафиксировали, поэтому и теория эфира должна была уступить место теории относительности. Данное описание есть классический пример мнения о том, научная идея является результатом исключительно и только внутринаучных факторов, таких как наблюдение и эксперимент. Между тем, на случай с теорией относительности можно посмотреть и из более широкой перспективы, включающей социокультурные факторы. Во-первых, как уже отмечалось, сам результат опыта Майкельсона – Морли можно было истолковывать по-разному и при этом необязательно в пользу теории относительности. Например, ученый Фицджеральд предложил гипотезу (контракционная гипотеза), которая заведомо предсказывала отрицательный результат опыта Майкельсона – Морли и тем самым позволяла сохранить теорию эфира. Между тем, сам Эйнштейн не последовал за этой гипотезой, так как считал, что научная теория должна объяснять как можно большее количество явлений на основе как можно меньшего и простого набора принципов, тогда как Фицджеральд усложнял теорию эфира – вносил в нее дополнительные допущения. Но не менее важным и интересным является другое обстоятельство. Неприятию абсолютов и утверждению идеи относительности чрезвычайно способствовала и та социокультурная атмосфера, которая составляла непосредственное окружение А. Эйнштейна. Он принадлежал к кружку людей, настроенных весьма радикально. Выходцы из демократических слоев общества, они эмигрировали в Швейцарию (по тем или иным причинам) из других стран, в связи с чем чувствовали себя в известном смысле изгоями и охотно противопоставляли свои взгляды и убеждения официальной культуре и научному истеблишменту46. Кроме того, любопытно, что исследователи жизни и творчества А. Эйнштейна утверждают, что одним из наиболее читаемых им авторов был американский экономист и социолог конца XIX—начала XX в. Т. Веблен, идеи исторического релятивизма которого Эйнштейн находил конгениальными своим политическим взглядам. Эйнштейна привлекали те высказывания Веблена, согласно которым каждый этап социальной эволюции имеет свои собственные социологические законы, и законы экономики не являются универсальными для всех систем 47. Наконец, следует обратить внимание и на более широкий социокультурный контекст, в котором появляется теория относительности. Идеи релятивизма, как говорят буквально «носились в воздухе». Так, один из лидеров нововенской школы в музыке, А. Шенберг, создает построения, разрушающие привычный музыкальный строй, — тональную систему, просуществовавшую (с различными модификациями) в европейской музыке с эпохи Возрождения до начала XX в. В атональной музыке, Шенберга исчезает понятие центра, рушатся устойчивые связи между элементами системы. К этому же времени относятся творческие поиски кубистов в живописи (Ж. Брак, П. Пикассо), выразившиеся, в частности, в попытках передать одновременно, на одной плоскости все аспекты изображаемого объекта. Предмет дробился, разлагался на мелкие грани, четко отделяющиеся друг от друга, предметная форма как бы распластывалась на холсте; в результате исчезало понятие превалирующей точки зрения на предмет; все аспекты его (и все точки зрения) становились равноправными. В это же время М. Жакоб и Г. Аполлинер стремились создать кубистическую поэзию, передать динамическое ощущение сдвигов и взаимопроницаемости предметов. Все сказанное позволяет предположить, что на процесс Мамчур Е. А. Проблема социокультурной детерминации научного знания / Е. А. Мамчур. — М.: Наука, 1987. — С. 56. 47 Там же. С. 57. 46 выдвижения идеи относительности влияли не только внутринаучные, но и внешние, социокультурные факторы. Наконец, выразительным примером на эту же тему может послужить квантовая механика. Напомним, что, в ней в 1927 г. была зафиксирована парадоксальная ситуация: если мы знаем точно координату элементарной частицы, т.е. где эта частица находится, то компоненту ее импульса нельзя определить вполне точно. И наоборот. Если мы точно знаем каков ее импульс, то мы не можем точно указать, где находится частица. Данная ситуация получила название соотношение неопределенностей, а сформулировал его В. Гейзенберг. В принципе соотношение неопределенностей допускало различные интерпретации: например, можно было предположить, что неопределенность – это следствие нашего ограниченного, неполного знания элементарных частиц, тогда как в действительности каждая элементарная частица одновременно обладает точными значениями импульса и координаты, или наоборот, можно было допустить, что квантовая механика – это полная теория, а неопределенность – это атрибут самих элементарных частиц, а не мера нашего знания о них. Как известно, победила вторая интерпретация, связанная с именами Н. Бора и В. Гейзенберга. Некоторые современные историки науки стремятся выявить социокультурную подоплеку этой интерпретации. Так, в начале 70х годов 20 века американский исследователь Пол Форман написал книгу «Веймарская культура, причинность и квантовая теория. 1918-1927: адаптация немецких физиков и математиков к враждебному интеллектуальному окружению», в которой проводил мысль о том, что идеи индетерминизма, неопределенности, вероятностности были следствием социокультурных процессов в интеллектуальном окружении немецких ученых. В частности Форман предлагает обратить внимание на тот социокультурный, интеллектуальный контекст, в котором совершался выбор одной из двух интерпретаций квантовых представлений. В то время Германия переживала глубокое разочарование после поражения в первой мировой войне. И это разочарование подорвало веру в старую довоенную культуру, вместе с ценностями классической науки, утверждающей, что в мире господствует строгая определенность, детерминизм. Доминирующим культурным течением в веймарских академических кругах стала неоромантическая, экзистенциальная философия жизни, характеризующаяся антагонизмом по отношению к рациональности вообще и точным наукам в частности. Наиболее яркое воплощение эти настроения нашли в философии О. Шпенглера, «Закат Европы» которого, оказал огромное влияние на культурную жизнь послевоенной Германии. Таким образом, имевшие место в послевоенной Германии социокультурные условия, как бы подталкивали ученых-физиков принять вторую интерпретацию соотношения неопределенностей, утверждающую вероятностность как фундаментальный атрибут самой микрореальности. Выбор этой интерпретации, говорит Форман, был попыткой адаптировать физическую науку к существующей социокультурной, интеллектуальной среде48. В контексте разговора о социокультурных основаниях квантовой механики небезынтересно вспомнить и позицию А. Эйнштейна. Как известно, знаменитый физик настаивал на том, что каждая элементарная частица одновременно обладает определенными значениями импульса и координаты, однако, поскольку квантовая механика не имеет исчерпывающей информации об элементарных частицах, т.е. является неполной теорией, потому она и не может одновременно измерить значения импульса и координату частицы, хотя в действительности они существуют. Любопытно, что в спорах с Бором и Гейзенбергом Эйнштейн часто произносил фразу, которая свидетельствовала о сугубо мировоззренческих Цит по: Мамчур Е. А. Проблема социокультурной детерминации научного знания / Е. А. Мамчур. — М.: Наука, 1987. — С. 125. 48 основаниях защищаемой им интерпретации. "Господь Бог, говорил Эйнштейн, не играет в кости", имея в виду, что в мире сотворенном всемогущим, всеведущим интеллектом, Богом просто не может быть места для какой-то неопределенности, вероятности, в нем все однозначно и строго определено49. Говоря о социокультурных предпосылках научного знания, обратим внимание на вопрос о характере их воздействия на научное знание. Идет ли речь о социокультурной детерминации или социокультурной обусловленности научного знания? Обычно под детерминацией одного явления другим подразумевают, что одно явление выступает причиной другого явления. Думается, что такого рода зависимость между социокультурным окружением и развитием научного знания является слишком жесткой и неоправданной. Вероятно, более правильным было бы считать, что социокультурные факторы принимают участие в формировании научного знания, но наряду с когнитивными факторами, что свидетельствует о социокультурной обусловленности, а не о детерминированности научного знания. К разряду социокультурных предпосылок научного знания можно отнести и ценностные ориентации субъекта научного познания. По мнению Л. А. Микешиной, истоки проблематики «наука и ценности» восходят к идеям И. Канта, высказанным им в «Критике чистого разума». Кантовские рассуждения о различии конститутивных и регулятивных принципов, о «максимах разума», под которыми он понимает «все субъективные основоположения, взятые не из интереса разума природы объекта, а из в отношении некоторого возможного совершенства познания этого объекта» в отношении некоторого возможного совершенства познания этого объекта»50, имеют непосредственное отношение к пониманию механизмов включения ценностного отношения в научное знание. Кант Данин Д. С. Вероятностный мир / Д. С. Данин. – М.: Знание, 1981. С. 188. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант // И. Кант. Сочинения: В 6 т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1964. — С. 567. 49 50 подчеркивает, что необходимо учитывать «различие интересов разума, вызывающее расхождение в способах мышления... Так, на одного умствующего философа имеет большее влияние интерес многообразия... а на другого — интерес единства... Каждый из них воображает, будто черпает свое суждение из знания объекта, а на самом деле основывает его на большей или меньшей приверженности к одному из этих двух основоположений, которые опираются не на объективные основания, а только на интерес разума...»51. За этим стоит, по сути дела, тот факт, что регулятивное знание в отличие от конститутивного определяется не только объектом, но существенно зависит от субъекта и его ценностных ориентаций. Одним из плодотворных способов содержательной конкретизации ценностей и ценностных ориентаций в науке явилась их интерпретация как исторически изменяющейся системы норм и идеалов познания. Такого рода ценности лежат в основании научного исследования, и можно проследить достаточно определенную взаимосвязь собственно познавательных установок с социальными идеалами и нормативами; вместе с тем можно установить зависимость познавательных идеалов и норм как от специфики объектов, изучаемых в тот или иной момент наукой, так и от особенностей культуры каждой исторической эпохи. Поясним сказанное примером. Известный естествоиспытатель XVIII столетия Ж. Бюффон, знакомясь с трактатами натуралиста эпохи Возрождения У. Альдрованди, выражал крайнее недоумение по поводу ненаучного способа описания и классификации явлений. Например, в трактате о змеях Альдрованди наряду со сведениями, которые и естествоиспытатели последующих эпох отнесли бы к научному описанию (виды змей, их размножение, действие змеиного яда и т.д.), включил описание чудес и пророчеств, связанных с тайными знаками змеи, сказания о драконах, сведения об эмблемах и геральдических знаках, созвездиях Змеи, Змееносца, Дракона и связанных с ними астрологических предсказаниях и т.п. 51 Там же. С. 568. Между тем, такие способы описания - отголоски познавательных идеалов, характерных для культуры средневековья. Они были порождены доминирующими в ней мировоззренческими установками, которые определяли восприятие, понимание и познание человеком мира. В системе таких установок земной, человеческий мир (микрокосм) представлялся как воплощение божественного архетипа - "мира высших сущностей" и воспринимался как "уменьшенное воспроизведение" универсума (макрокосма). Сущность мира усматривалась в акте его творения, а познание мира трактовалось как расшифровка смысла, вложенного в вещи и события актом божественного творения. Последние же рассматривались как дуально расщепленные вещи и события - их природные свойства воспринимались одновременно и как знаки божественного помысла, воплощенного в мире. В соответствии с этими мировоззренческими предпосылками формировались идеалы объяснения и описания, принятые в средневековой науке. Описать вещь или явление - значило не только зафиксировать признаки, которые в более поздние эпохи (в науки нового времени) квалифицировались как природные свойства и качества вещей, но и обнаружить "знаково-символические" признаки вещей, их аналогии, "созвучия" и "перекличку" с другими вещами и событиями универсума. Отсюда же в описаниях и классификациях средневековой науки реальные признаки вещи часто объединяются в единый класс с символическими обозначениями и языковыми знаками. С этих позиций вполне допустимо, например, сгруппировать в одном описании биологические признаки змеи, геральдические знаки и легенды о змеях, истолковав все это как различные виды знаков, обозначающих некоторую идею (идею змеи), которая вложена в мир божественным помыслом52. Приведем другой пример. Привычным является тот факт, что специфика научного знания заключается в его доказательности - опытноСтепин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного поиска / В. С. Степин // Идеалы и нормы научного исследования. – Минск: Изд-во БГУ, 1981. – С. 250. 52 экспериментальной обоснованности и логической аргументированности. К этому, однако, необходимо добавить тот факт, что сами правила, управляющие этими технологиями доказательства, не являются однородными, одними и теми же на все времена и случаи, напротив, они гетерогенны, т.е. специфичны для каждой исторической эпохи, культуры, общества. Сказанное можно проиллюстрировать на примере деятельности первых академий – Лондонского Королевского общества, Парижской Королевской академии наук. Принятые в те времена способы проведения доказательств являлись по сути результатом соглашения между знанием и властью – соглашения, организованного вокруг хорошо подготовленного спектакляэксперимента. Если ученый-экспериментатор хотел, чтобы высказываемое им мнение пользовалось определенным доверием, то свидетелями его опытов должны были выступать люди избранные, высокого социального положения. В зависимости от ситуации и места происходящих событий свидетелями выступали представители духовенства, джентльмены или члены аристократического общества53. Сходная ситуация имеет место и в отношении интеллектуальных средств, которыми пользуется ученый для изложения своих результатов. Вообще, всякое изложение научных результатов имеет многочисленные функции: эвристическую, демонстрационную, дидактическую, рефлексивную, философскую и относительный вес каждой функции меняется в зависимости от места и аудитории к которой это изложение адресовано. Ян Голински, например, говорит о том, что можно построить настоящую историю кодов доказательств, которые используются в трудах различных ученых для убеждения различных аудиторий. Например, речевые приемы Паскаля будут отличаться от приемов Р. Бойля или Кулона. Там, где Паскаль прибегал к господствующему приему силлогизма для представления Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. — СПб. РХГИ, 2001. - 240 с. 53 полученных экспериментальным путем результатов, Бойль применял способ точного и обстоятельного повествования (с тем, чтобы создать у читателя впечатление визуального присутствия при ряде опытов), а Кулон убеждал аудиторию, представляя пример соответствия искусно подобранных эмпирических результатов простым, общим универсальным законам, которые, как предполагалось, характеризуют устройство мира54. Следует заметить, что с особой силой ценностные предпосылки заявили о себе в современной науке, когда примерно в середине XX века человеческая цивилизация вступила в качественно новое состояние ситуация изменилась. Одним из показателей этого состояния стал факт укрупнения масштабов практико-преобразующей постепенно превратилась минерального вещества, в деятельности планетарную открытие силу. новых человека, которая Перемещение химических масс реакций, трансформация рельефа, связанное с возрастающей нагрузкой на ландшафты их преобразование, перестройка естественной гидрографической картины, изменение энергетических, тепловых и т.д. процессов – все это обусловило становлением так называемой «человекоразмерной реальности» (В.С. Степин), характеризующейся взаимопроникновением естественного и искусственного, природного и технологического. В то же время по мере того, как техногенное влияние на среду обитания человека подошло к критической черте, незамедлительно обнаружилась и та призма ценностей, сквозь которую познающий субъект смотрит на окружающий мир, природу. В той форме, которую приобрела наука, начиная с эпохи Нового времени, природа не рассматривалась как нечто самоценное, она ценна лишь как объект человеческих манипуляций и операций, а субъект научно-технической цивилизации ориентирован на возможно большее обладание материальными ценностями, на то, чтобы «иметь», а не «быть» (Э. Фромм). Цит по: Пестр Д. Социальная и культурологическая история науки: новые определения, новые объекты, новые практики / Д. Пестр // Вопросы истории естествознания и техники. – 1996. – № 4. – С.51. 54 В настоящее время, однако, когда интенсификация глобальных техногенных процессов достигла такого уровня, что человеку остается подсчитывать шансы на выживание, отношение к природе лишь как к объекту исчерпало себя. Все чаще раздаются призывы к тому, что человек в своей деятельности должен ориентироваться не только на «собственные смыслы», но также учитывать внутренние «смыслы» самой природы. Ив самом деле, если наука не просто познает мир, но познает его для человека, ибо мир без человека ничто, то чрезвычайно актуальным становится открытость ценностных предпосылок для критической рефлексии, замена потребительского, своекорыстного отношения к природе, новым мировидением, на основе и посредством учета экоценностей, в которые вводится этический принцип уважения к живому. Не менее остро проблема ценностных предпосылок заявляет о себе в медицине, особенно в связи с введением в нее экспериментального метода (здесь было бы уместно вспомнить название работы Клода Бернара - «Введение в изучение экспериментальной медицины» 1865). Понятно, что экспериментальный метод открыл дорогу и к экспериментам на человеке, к манипуляции им, пусть даже в нейтральном смысле. Взять хотя бы банальный пример с получением и применением нового лекарства. Ясно, что оно не может быть основано только на предварительной теоретической информации, показывающей его ожидаемую эффективность и отсутствие опасности, сообщающей о противопоказаниях или побочных эффектах, недостаточно также масштабных лабораторных экспериментов на животных. Неизбежно наступает момент, когда необходимо испытать его на людях (пациентах или добровольцах). Здесь то и обнаруживаются ценностные по существу представления о человеке (например, должно ли рассматривать его как средство или как цель), которые направляют наши исследовательские стратегии. Не менее ярко эти представления проявляются, скажем, в ситуации с эвтаназией и пр., где окончательная позиция носит четко выраженный характер выбора определенной альтернативы, на который влияют фундаментальные представления о свободе человека, его ответственности и т.п. Биологические предпосылки. Вместе с тем, как уже отмечалось, человек, будучи субъектом научного познания, является существом биосоциальным и в этой связи необходимо рассматривать научное познание не только в контексте социокультурной жизни, но и в сфере воздействия генетических, психофизиологических факторов. На сегодняшний день биологические предпосылки человеческого познания (и в том числе научного познания) эксплицируются в рамках эволюционной эпистемологии – нового, быстро прогрессирующего направления философской мысли. Впервые идею биологической обусловленности человеческого познания высказал К. Лоренц - австрийский зоолог, один из основателей этологии – науки о поведении животных. В своей пионерской работе «Кантовская концепция apriori в свете современной биологии» (1941) он называет великим и фундаментальным открытием мысль Канта о том, что человеческое мышление и восприятие обладают определенными функциональными структурами до всякого опыта55. Считая кантовскую идею априори принципиально важной для исследования мироориентации живых существ, Лоренц приводит ряд любопытных биологических сравнений. Он обращает внимание на то, что форма плавника рыбы или копыта лошади заданы уже до всякого взаимодействия отдельного, конкретного малька с водой или лошади с грунтом т.е. априори. Абсолютно такая же ситуация имеет место и с человеком. А именно: те формы и категории, в которых человек мыслит и воспринимает реальность, тоже заданы априори, т.е. до всякого контакта отдельного частного индивидуума с окружающей реальностью, ибо они предопределены самой конституцией человека как биологического вида. В этой связи, Лоренц говорит о существовании так называемого Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии / К. Лоренц // Эволюция. Язык. Познание: Сб. науч. статей / Отв. ред. И. П. Меркулов. — М: Языки русской культуры, 2000. — С. 15. 55 «филогенетического априори», смысл которого состоит в том, что всякое живое существо и в том числе человек строит свое отношение к окружающей среде на основе генетически унаследованной, предопределенной программы. Ясно, что если формы нашей интуиции и категории мышления “приспособлены” к реально-сущему аналогично тому как «ступни наших ног приспособлены к полу или рыбий плавник к воде» (Лоренц), то значит они, как и любой другой орган, прошли проверку практикой биологической борьбы за выживание и сохранение рода. В этой связи, априори, понимаемое как наследственная предрасположенность воспринимать и мыслить в определенных формах и категориях, возникает, с точки зрения Лоренца (а так же других представителей эволюционной эпистемологии – К. Поппера, Д. Кэмпбелла, Г. Фоллмера) в процессе эволюции и служит целям адаптации и сохранения вида56. Надо заметить, что до появления нейрофизиологических данных все доводы в пользу возможного проявления генетической запрограммированности работы когнитивной системы человека оставались сугубо рабочими гипотезами. Однако открытие межполушарной церебральной асимметрии и связанных с функциональной активностью левого и правого полушарий мозга когнитивных типов мышления – знаковосимволического (логико-вербального) и пространственно-образного – не только подтвердило правомерность этих предположений, но и позволило существенно конкретизировать механизмы когнитивной эволюции и эволюции ментальности, связав их со сменой доминирующих способов обработки когнитивной информации. В 60-х годах XX века американский нейрофизиолог Р. Сперри и его коллеги из Калифорнийского технологического института, преследуя сугубо практическую цель – вылечить больных-эпилептиков, страдавших большим судорожным припадком – решились на смелую операцию. Они предприняли попытку разрезать мозолистое тело, соединяющее левое и правое полушария, 56 Там же. С. 18. надеясь, что в результате хотя бы одно из полушарий не будет подвержено постоянным приступам. И действительно, после этой операции частота и интенсивность приступов значительно уменьшились, но выявленные в ходе дальнейших исследований когнитивные закономерности функционирования мозга оказались куда более интересными и многообещающими. В частности опыты Р. Сперри показали, что левое полушарие полностью сохраняет способность к письму и речевому общению, оно свободно оперирует знаками, цифрами, математическими формулами, но в то же время испытывает серьезные затруднения при выполнении задач на распознавание сложных образов (например, идентификацию человеческих лиц). Но с этими тестами на пространственно-образное восприятие гораздо успешнее справляется правое полушарие, которое способно к очень ограниченной речепродукции и в состоянии справится лишь с весьма элементарными аналитическими задачами. Впоследствии исследования здоровых людей (с помощью метода электроэнцефалограммы и позитронно-эмиссионной тамографии) подтвердили наличие функциональной асимметрии мозга и адекватность когнитивных характеристик правополушарного и левополушарного мышления. Однако, как показали дальнейшие эксперименты, различия между функциями полушарий не определяется только формами репрезентации обрабатываемой информации (т.е. тем, представлена ли эта информация в словесно-знаковой или образной форме). Исследователи пришли к выводу, что различия между функциями полушарий и, соответственно, когнитивными типами мышления касаются главным образом способов извлечения, структурирования и переработки информации, принципов организации контекстуальной связи стимулов. Пространственно-образное мышление характеризуется целостностью восприятия и холистической стратегией обработки многих параметров поступающей информации - оно как бы работает с несколькими выходами, несколько напоминая аналоговую ЭВМ. В результате происходит одновременное выявление соответствующих контекстуальных связей между различными смыслами образа или между целостными образами, "гештальтами" и создание на этой основе многозначного контекста. Со своей стороны, ориентированное на выявление жестких причинно-следственных связей, логико-вербальное мышление перерабатывает информацию, вербальную и невербальную, по мере ее поступления путем отбора и сопоставления лишь немногих, существенных для анализа параметров, образуя тем самым более или менее однозначный контекст, необходимый для социального общения и взаимопонимания людей. Весомый вклад в исследование взаимоотношений биологической и культурной обусловленности познания внесла современная социобиология и в частности теория геннокультурной коэволюции Ч. Ламсдена и Э. Уилсона. В своей работе «Гены, сознание и культура» эти авторы выдвинули концепцию так называемых эпигенетических правил, утверждая в частности, что в психике человека имеются некоторого рода врожденные ограничительные начала, которые направляют наше мышление, наши когнитивные, поведенческие характеристики. К настоящему времени социобиологам действительно удалось выявить перечень некоторых врожденных предрасположенностей. Это, например, врожденное различение четырех основных цветов (синий, зеленый, желтый, красный), врожденная способность детей улавливать в человеческих звуках фонемоподобные образования, врожденное селективное предпочтение ребенком сахара и активное неприятие соли и горького, врожденная предрасположенность людей мыслить оппозициями, рассматривая одну вещь как нечто противоположное другой и т.д. С точки зрения Ласмсдена и Уилсона в эпигенетических правилах закодированы предрасположенности, обеспечившие человечеству в ходе его исторического развития решающие адаптационные преимущества и относящиеся к овладению культурой и обучению. Это обучение происходит благодаря геннокультурной трансляции, т.е. передачи геннокультурной информации, в процессе которой врожденные эпигенетические правила с большей вероятностью используют одни, а не другие культургены. Культурген – это весьма условная единица культурной информации, соответствующая какому-либо артефакту, поведенческому образцу, ментальной конструкции и т.д. Таким образом, эпигенетические правила предрасполагают к выбору некоторых направлений развития сознания, направления развития культуры – именно предрасполагают, а не однозначно детерминируют – настаивают Ламсден и Уилсон57. Результаты, полученные в рамках этологии, нейробиологии, эволюционной эпистемологии в целом имеют важное значение для философии науки, стремящейся понять специфику научного знания, его происхождение и развитие. Во-первых, на сегодняшний день есть достаточно веские основания полагать, что филогенетически «первичное», архаическое мышление людей это по своим когнитивно-информационным характеристикам преимущественно образное, правополушарное. Для наших далеких предков оно, видимо, было главным способом восприятия мира. Культура собирательства и охоты, а также аграрная культура, на основе которой сформировались древние и некоторые современные восточные цивилизации ориентируют людей на целостное, нерасчлененное восприятие мира, на созерцание и приспособление к нему как неизменной данности. Вместе с тем, давление окружающей среды, потребность людей в более совершенной коммуникации, в передаче сложной информации, в детальном анализе ситуации способствовало развитию у предков современного человека мощного аппарата логико-вербального мышления, которое оказалось привязанным к левому полушарию. И если в качестве примера взять современную научно-техническую культуру, то нетрудно обнаружить, что в ее основе лежит ценностная ориентация на анализ жестких причинноЛамсден Ч. Нуждается ли культура в генах? / Ч. Ламсден // Эволюция. Познание. Культура: Сб. науч. Статей / Отв. ред. И. П. Меркулов. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 128 - 138. 57 следственных связей и устремленность на активное изменение мира, которые определяются возможностями доминирующего логико-вербального (знаковосимволического) мышления и которые, в свою очередь, способствуют его дальнейшей эволюции. Во-вторых, если учесть, что знание как таковое и научное знание в частности может порождаться лишь теми способами и средствами, которые заданы биологической конституцией человека, то можно сделать вывод о том, что все познавательные результаты в науке имеют явное человеческое измерение. В этой связи, занимаясь наукой, мы должны не забывать о различии между «миром для нас» и «миром самим по себе». В философии и методологии науки это различие отражено (частично) в понятиях «мир» и «научная картина мира», «объективная» и «физическая» реальность, соответственно. В-третьих, научное знание, будучи, знанием о мире, должно соответствовать этому миру, быть истинным. Учитывая, что когнитивный аппарат, с помощью которого мы познаем окружающий мир, является результатом эволюции, т.е. сформировался в ходе приспособления к этому миру, можно сказать, что наши знания соответствуют миру. Однако поскольку приспособление организмов к окружающему миру никогда не бывает идеальным, постольку и соответствие наших знаний миру является приближенным, частичным, неполным. В-четвертых, следует обратить внимание на еще одно обстоятельство. В ходе эволюционного процесса у нас сформировались формы и категории для восприятия прежде всего тех аспектов реальности, считаться с которыми было императивом выживания нашего рода. Между тем, мы вполне можем и даже обязаны допустить, что у реальности имеется и множество других аспектов, знание которых не имеет непосредственного жизненно важного значения, и для познания которых имеющиеся у нас формы и категории не являются достаточными и адекватными. Так, в частности, происходит в физике и химии, когда они вторгаются на субатомный уровень. Там не только нарушаются интуитивные формы пространства-времени, но и категории причинности, субстанциальности, количества и т.д. Проиллюстрируем данный тезис на примере. Как известно, начиная с Г. Галилея понятие числа, величины, а также использование математики прочно входит в «тело» современной науки. По поводу данного обстоятельства Н. Бор писал: «Галилеева программа, согласно которой описание физических явлений должно опираться на величины, имеющие количественную меру, дала прочную основу для упорядочения данных во все более и более широкой области» 58. Между тем, в начале XX века произошел один любопытный случай. Немецкий физик В. Гейзенберг, один из основателей квантовой механики, обнаружил, что при попытке представить в теории ряд фундаментальных свойств квантовых объектов нарушается коммутативный закон умножения, согласно которому ab = ba. По воспоминаниям современников, Гейзенберг, обнаружив некоммутативность, чрезвычайно встревожился и решил, что это неизбежный конец квантовой теории и от нее надо отказываться59. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что на самом деле обнаруженная некоммутативность свидетельствовала о том, что в квантовой механике наука столкнулась с существованием границ области применимости коммутативных математических величин. То же самое можно сказать относительно способности наглядного восприятии и вообще форм наглядности в науке. Наша способность к наглядному восприятию формировалась в процессе приспособления к жизни в окружающем нас мире. Мир, к которому приспособился наш познавательный аппарат и возможности наглядного восприятия, составил когнитивную нишу человека, так называемый «мезокосмос» (мир средних размеров) по выражению Г. Фоллмера. Между тем, мы не должны считать, что мир повсюду выражается в наглядных структурах. В когнитивных 58 59 Бор Н. Избранные научные труды: В 2 т. – М.: Наука, 1971. – Т. 2. – С. 526. Дирак П. Воспоминания о необычайной эпохе / П. Дирак.- М.: Наука, 1990. С. 19. нишах, отличных от мезокосмических наши возможности наглядного восприятия могут отказывать, или быть только приблизительными. Именно это со всевозрастающей ясностью продемонстрировала современная наука. Приведем пример. Один из головоломных вопросов, над которым бились теоретики квантовой механики - науки о движении электронов в атоме был, вопрос о том какова траектория движения электрона в атоме. Многие ученые, исходя из уравнений электродинамики, пытались найти эту гипотетическую траекторию, но безуспешно. Напряженные искания физиков разрешились догадкой, высказанной В. Гейзенбергом. На вопрос о том, какова траектория электрона в атоме ответить невозможно, ибо никакой траектории в атоме нет, а сам вопрос является «незаконным», ибо навеян понятийным аппаратом классической механики, поставляющей неадекватные специфике микромира наглядные образы – «электрон – маленький шарик», «движение шарика осуществляется по некой орбите»60. Следует заметить, что синтез биологических и философских идей находит отражение во многих философских концепциях науки современности. В частности, одним из первых, кто построил эволюционную, концепцию развития научного знания, широко используя для этого метафоры, аналогии и модели из биологии, был К. Поппер. Воспользуемся концепцией этого автора в качестве иллюстрации синтеза эволюционной эпистемологии и философии науки. Идея синтеза идей эволюционной эпистемологии и философии науки была выдвинута Поппером в рамках концепции «трех миров». По мнению Поппера важно различать три мира: первый – мир физических явлений и процессов; второй – мир психических процессов; третий мир – мир объективного содержания таких психических актов как, вера, понимание, Пономарев Л. И. Под знаком кванта / Л. И. Пономарев. — М.: Сов. Россия, 1984. — С. 105. 60 знание. Если в отношении первых двух миров особых вопросов не возникает, то смысл «третьего мира» требует некоторого пояснения. Итак, третий мир – это знание, взятое в его объективности и автономности, т.е. независимости от процесса его производства индивидуальным субъектом. Автономию объектов «третьего мира» Поппер доказывает с помощью двух «мысленных экспериментов». В первом мы должны представить себе, что люди вдруг забыли все, что знали о технике, и что исчезли все машины и орудия. Но при этом сохранились библиотеки и книги, а также способность людей к обучению по ним. Суть предположения состоит в том, что в головах людей содержания книг в этот момент нет, но оно осталось в самих книгах. Поэтому, в конечном счете, утверждает Поппер, все забытое и утерянное можно будет полностью восстановить. Смысл примера, таким образом, заключается в том, что содержание книг, которые никем не прочитаны, тоже оказывается в каком-то смысле существующим, ибо обладает реальной способностью воздействия на сознание и поведение людей. Они изучат книги и воспроизведут всю утраченную технику и технологию. Из этого следует, что содержание книг само по себе способно определять процессы, происходящие в индивидуальном сознании, а также диспозиции индивидов к действию. Согласно второму эксперименту, уничтоженными оказываются не только техника и технология, но также все книги и библиотеки. В этом случае утраченное становится уже невосполнимым. Индивидуальные знания и поведение индивидов будут развиваться совсем не так, как в первом случае61. Ясно, что попперовская идея третьего мира, т.е. знания взятого в его отвлечении от продуцирующего это знание индивидуального субъекта, представляет собой абстракцию. Какие задачи решает эта абстракция? Обратим внимание на то, что наиболее важными обитателями третьего мира, 61 Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. — М.: Прогресс, 1983. — С. 441. наряду с содержанием журналов, книг и библиотек, являются рациональные дискуссии, критические рассуждения, споры. Думается, что одна из идей, которую выражает в данном случае Поппер, состоит в следующем. Как известно, наукой занимаются люди. Однако в то же время существуют правила и закономерности развития науки, которые не зависят от происходящих в сознании индивидуальных субъектов процессов. Главным таким правилом, по мнению Поппера, является требование включать в определение научности знания критику любого логического (теоретического, интеллектуального вообще) построения извне, со стороны «самих вещей» или «природы». В самом деле, люди могли бы и не заниматься наукой вовсе, но заниматься ею и при этом исключать возможность опровержения научного знания извне, со стороны реальности, абсурдно. В этой связи, требование критикуемости является одной из априорных предпосылок, которая впервые только и придает научному познанию смысл и которую индивидуальные субъекты должны принять заранее, еще до того, как они начнут любое конкретное научное исследование. Вместе с тем, своеобразие попперовской концепции «трех миров» состоит в том, что, связывая себя с принципом критикуемости, ученый в действительности следует принципу самой жизни. Нечто иное, как биологическая эволюция является, по мнению Поппера, основанием этой априорной предпосылки. С точки зрения Поппера процесс развития научных теорий происходит по определенной схеме, имеющей следующий вид: Р1—ТТ—ЕЕ—Р2. Поппер эту схему описывает так: «Мы начинаем с некоторой проблемы Р1 переходим к предположительному, пробному решению или предпочтительной, пробной теории ТТ, которая может быть (частично или в целом) ошибочной, в любом случае она должна быть подвергнута процессу устранения ошибки ЕЕ, который может состоять из критического обсуждения или экспериментальных проверок; во всяком случае, новые проблемы Р 2, возникают из нашей собственной творческой деятельности, но они не являются преднамеренно созданными нами, они возникают автономно из области новых отношений, появлению которых мы не в состоянии помешать никакими действиями, как бы активно ни стремились сделать это 62. Наличие в схеме пункта ЕЕ — элиминации ошибок — собственно и позволяет Попперу уподобить процесс развития науки эволюционному развитию биологических видов. Пробные решения представляют собой мутации, а критические дискуссии и данные опыта аналогичны факторам естественного отбора, которые элиминируют неудачные теории. Таким образом, интеллектуальная эволюция является продолжением эволюции биологической. Поппер считает, что от амебы до Эйнштейна закономерности роста остались теми же самыми: происходит выдвижение пробных вариантов и элиминация ошибочных решений. Различие между амебой и Эйнштейном лишь в том, что Эйнштейн сознательно ищет элиминации ошибок, он критичен по отношению к своим теориям. В то же время «третий мир» знаменует собой замечательное эволюционное достижение. Он заменяет борьбу людей борьбой идей: «Ученые пытаются устранить свои ошибочные теории, они подвергают их испытанию, чтобы позволить этим теориям умереть вместо себя. Правоверный же сторонник своих убеждений, будь то животное или человек, погибает вместе со своими ошибочными убеждениями» 63. 62 63 Там же. С. 455. Там же. С. 459. Заключение Завершая наше исследование, подчеркнем еще раз исходную мысль: научное знание представляет собой сложное структурированное целое, включающее в себя ряд исходных допущений и предпосылок. Как мы постарались показать, эти предпосылки находят широкое применение в научном исследовании. На них опираются отбор и интерпретация наблюдаемых явлений, формирование теоретических объяснений, процессы обоснования и проверки знания. В итоге, любой результат научного познания внечеловеческого оказывается мира, а не просто конструкцией, идеальной имеющей копией двуединую – объективно-субъективную природу. Понимание данного обстоятельства является важным не только для методолога науки, но и для самого ученого. Общеизвестно, что целью научной рациональности является получение достоверного знания об окружающем мире. Теперь, однако, можно с полной уверенностью добавить, что рационально действует тот ученый, который, решая свои проблемы по выработке знания о предмете, отдает по возможности отчет в тех установках и предпосылках, которыми он руководствуется. Не отдавая себе ясного отчета в наших субъектных установках, мы становимся их заложниками и сплошь да рядом сваливаем на сложности внешней реальности слабости и ограниченности наших собственных позиций. Вероятно, нелишним будет напомнить, что ревизия классической науки (галилеевско-ньтоновского естествознания) была связана именно с рефлексией и переоценкой двух само собой разумеющихся предпосылок – идеи непрерывности энергетических процессов (М. Планк) и представления о том, что пространственные и временные свойства часов и линеек не зависят от движения и влияния окружающих тел (А. Эйнштейн). Как мы постарались показать, процесс оценки и отбора теорий обусловлен не только когнитивными факторами, он зависит от человеческих пристрастий, авторитетов, мировоззрений, а также от многих других «внешних» по отношению к науке воздействий социокультурной среды. Присутствие кроме когнитивных, социокультурных предпосылок, регулирующих процесс развития научного знания, позволяет сделать вывод о том, что демаркационная граница между наукой и другими формами культуры достаточно подвижна. Понимание данного обстоятельства важно по нескольким обстоятельствам: Во-первых, всяческие попытки провести чрезмерно жесткие, однозначные границы между наукой и не наукой чреваты сциентизмом, редукционизмом, т.е. такими явлениями, которые, как показывает опыт, разрушительны не только для культуры в целом, но и для самой науки. Во-вторых, в современной науке происходит становление новой парадигмы, получившей название «постнеклассической» (В.С. Степин) Постнеклассический этап развития науки характеризуется освоением так называемых «человекоразмерных» объектов - комплексы "человек-машина", "человек-машина-производственная среда", "человек и биосфера", объекты генной инженерии и т.д. Экспериментирование с такого рода объектами может привести к радикальной трансформации человекоразмерной системы, создавая опасность ее разрушения, а значит, угрожая самому существованию человека. В этих условиях ученый не имеет право мыслить узко, напротив, от него требуется мировоззренческая рефлексия, размышления над основаниями культуры и ценностными предпосылками своей деятельности, представлениями о ведь именно человеке с («каким ценностными он должен по существу быть») ученый конструирует человекоразмерную реальность. Наконец, идея предпосылочности научного знания заключает в себе мощный антидогматический заряд: любая концепция, если она действительно хочет быть рациональной, не может претендовать на возможность полного освоения предмета, на который она направлена в своих рамках и на своих основаниях. В поле ее предметности надо быть готовым к встрече с феноменами в принципе не укладывающимися в ее рамки. Последовательное проведение данного положения создает прочную основу для перехода на позиции диалогического сознания, готовности и способности работать в пространстве различных соревнующихся между собой на равных идейных позициях, каждая из которых открыта для критики. В этой связи, быть может, главное чему учит анализ идеи предпосылочности научного познания – это фаллибилистскому навыку восприятия научного знания. Фаллибилизм представляет собой учение о принципиальной погрешимости человеческого знания, которое всегда остается открытым для пересмотра и улучшения. Примечательна в этой связи позиция уже упоминаемого нами К. Лоренца. Как биолог он обращает внимание на универсальный закон, которому подчиняются как физические, так и интеллектуальные структуры и который справедлив как для протоплазмы и простейших одноклеточных, так и для категориальных форм человеческого мышления. А именно: начиная с самых примитивных форм в царстве простейших, жесткая структура – такое же необходимое и всеобщее свойство живой материи, как и ее пластическая свобода. Вместе с тем всякая жесткая структура, будучи необходимой основой органической системы, несет с собой и нежелательный побочный эффект: своей жесткостью она лишает систему определенной степени свободы. Символом организмов с максимумом высокодифференцированных фиксированных структур может служить лобстер, плотно и туго закованное в свой панцирь создание, способное к движению лишь в определенных местах сочленения своей брони, обладающее строго ограниченными степенями свободы. Подобная ситуация, по мнению Лоренца, имеет место и в мире человеческого интеллекта. С одной стороны, верно, что без жестких структур никакая интеллектуальная организация немыслима, но, с другой стороны, справедливо и то, что повышение уровня жесткости всегда и везде влечет опасную тенденцию сковывать интеллект. Всякая мыслительная система, настаивающая на своей неизменной «абсолютности» дает эффект оцепенения, а ученый, уверовавший в непогрешимое совершенство своей системы начинает чем-то напоминать лобстера. Более того, стремление обезопасить свою интеллектуальную постройку путем объявления ее «абсолютной» приводит к обратному от задуманного результату: именно та «истина», в которую догматически уверовали, рано или поздно приводит к революции, в ходе которой подлинно истинное и ценное содержание старой теории весьма просто отвергается и забывается заодно с отжившими предрассудками, препятствующими прогрессу. Сказанное, таким образом, еще раз возвращает нас к следующей мысли: основополагающее свойство всякой подлинной науки заключается в способности к росту и самообновлению, тогда все, что соответствует в науке жестким структурам, например, научные теории должно восприниматься как нечто предварительное, временное, способное к изменению, т.е. как гипотеза. Библиография Абрамян Л. А. Кант и проблема обоснования знания / Л. А. Абрамян. — Ереван: ЕГу, 1978. — 386 с. Аронов Р. А. Пифагорейский синдром в науке и философии / Р. А. Аронов // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С.138 – 146. Бор Н. Избранные научные труды / Н. Бор. Т. 2. - М.: Наука, 1971. – 675 с. Брунер Дж. Психология познания / Дж. Брунер. — М.: Прогресс, 1977. — 413 с. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.-П. Вернан. — М.: Прогресс, 1988. — 224 с. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I / Л. Витгенштейн. — М.: Гнозис, 1994. — 612 с. Гутнер Л. М. Философские аспекты измерения в современной физике / Л. М. Гутнер. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. —148 с. Данин Д. С. Вероятностный мир / Д. С. Данин. – М.: Знание, 1981. - 208 с. Демидов В.Е. Как мы видим то, что видим / В. Демидов. – М.: Знание, 1987. – 240 с. Дирак П. Воспоминания о необычайной эпохе / П. Дирак.- М.: Наука, 1990. 205 с. Захаров В. Д. Физика как философия природы / В. Д. Захаров. – М.: Едиториал УРСС, 2005. 232 с. Иванов В. Г. Физика и мировоззрение / В. Г. Иванов. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. —136 с. Ильин В. В. Критерии научности знания / В. В. Ильин. — М.: Высш. шк., 1989. —128 с. Ильин В. В. Природа науки / В. В. Ильин, А. Т. Калинкин. — М.: Высш. школа, 1985. — 230 с. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант // И. Кант. Сочинения: В 6 т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1964. — 799 с. Карнап Р. Значение и необходимость / Р. Карнап. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 382 с. Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки / Р. Карнап. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 360 с. Кезин А. В. Эволюционная эпистемология: современная междисциплинарная парадигма / А. В. Кезин // Вестник Моск. Ун-та. – серия 7. – философия. – 1994, № 5. – С. 5 – 11. Концепции современного естествознания: учебник / Под. ред. С. И. Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 448 с. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени / Л. М. Косарева. – М.: Наука, 1989. - 160 с. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 365 с. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. — М.: Наука, 1995. — 236 с. Ламсден Ч. Нуждается ли культура в генах? / Ч. Ламсден // Эволюция. Познание. Культура: Сб. науч. Статей / Отв. ред. И. П. Меркулов. – М.: ИФРАН, 1996. – 167 с. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая / В. А. Лекторский. — М.: Едиториал УРСС, 2001. — 256 с. Лоренц К.. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии / К. Лоренц // Эволюция. Язык. Познание: Сб. науч. статей / Отв. ред. И. П. Меркулов. — М: Языки русской культуры, 2000. — С. 15—42. Малкей М. Наука и социология знания / М. Малкей. — М.: Прогресс, 1983. — 253 с. Мамчур Е. А. Проблема социокультурной детерминации научного знания / Е. А. Мамчур. — М.: Наука, 1987. —125 с. Марков Б. В. Проблемы обоснования и проверяемости теоретического знания / Б. В. Марков. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. —155 с. Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания / Л. А. Микешина. — М.: Наука, 1990. — 380 с. Микешина Л.А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности / М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 240 с. Найссер У. Познание и реальность / У. Найссер - М.: Прогресс, 1981. – 232 с. Наука и культура: Сб. науч. статей / Отв. ред. В. Ж. Келле; М.: Наука, 1984. – 335 с. Нидем Д. Общество и наука на востоке и западе / Д. Нидем // Наука о науке: Сб. науч. статей / Отв. ред. В. С. Швырев. — М: Наука, 1966. — С. 149—177. Панченко А. И. Философия, физика, микромир / А. И. Панченко. — М.: Наука, 1988. — 192 с. Пестр Д. Социальная и культурологическая история науки: новые определения, новые объекты, новые практики / Д. Пестр // Вопросы истории естествознания и техники. – 1996. – № 4. – С.40-59. Полани М. Личностное знание / М. Полани. — М.: Прогресс, 1985. — 344 с. Пономарев Л. И. Под знаком кванта / Л. И. Пономарев. — М.: Сов. Россия, 1984. — 352 с. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. — М.: Прогресс, 1983. — 605 с. Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре. — М.: Наука, 1983. — 560 с. Роуз Дж. Что такое культурологические исследования научного знания? / Дж. Роуз // Вопросы истории естествознания и техники. – 1994. – № 4. – С. 23-41. Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. — СПб. РХГИ, 2001. - 240 с. Сокулер З. А. Проблема обоснования знания / З. А. Сокулер. – М.: Наука, 1988. – 176 с. Степин В. С. Философская антропология и философия науки / В. С. Степин. — М.: Высш. школа, 1992. —191 с. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. - М.: Наука, 1969. - 250 с. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Х. Уайт. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2002. – 528 с. Уорф Б. Наука и языкознание / Б. Уорф // Новое в лингвистике. — Вып.1. — М.: Наука, 1960. — С. 92—106. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. — М.: Прогресс, 1986. – 544 с. Флек Л. Возникновение и развитие научного факта / Л. Флек. — М.: ИдеяПресс, Дом интеллектуальной книги, 1998. — 220 с. Фуко М. Надзирать и наказывать / М. Фуко. — М.: Ad marginem, 1999. — 476 с. Хюбнер К. Критика научного разума / К. Хюбнер. — М.: Рос. акад. наук, Инт философии, Центр по изуч-ю немецкой философии и социологии, 1994. — 326 с. Чудинов Э. М. Природа научной истины / Э. М. Чудинов. — М: Наука, 1977. — 298 с. Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность / В. С. Швырев. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 176 с. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В. С. Швырев. — М.: Наука, 1978. — 382 с. Эволюционная эпистемология: проблемы и перспективы: Сб. науч. статей / Отв. ред. И. П. Меркулов. — М: РОССПЭ, 1996. —197 с. Эйнштейн А. Физика и реальность / А. Эйнштейн. - М.: Наука, 1965. 359 с.