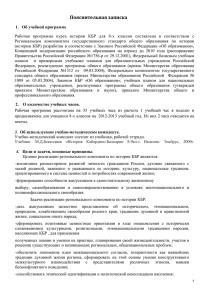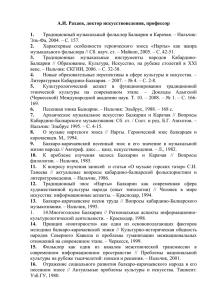Балкария в XV - начале XIX вв
advertisement
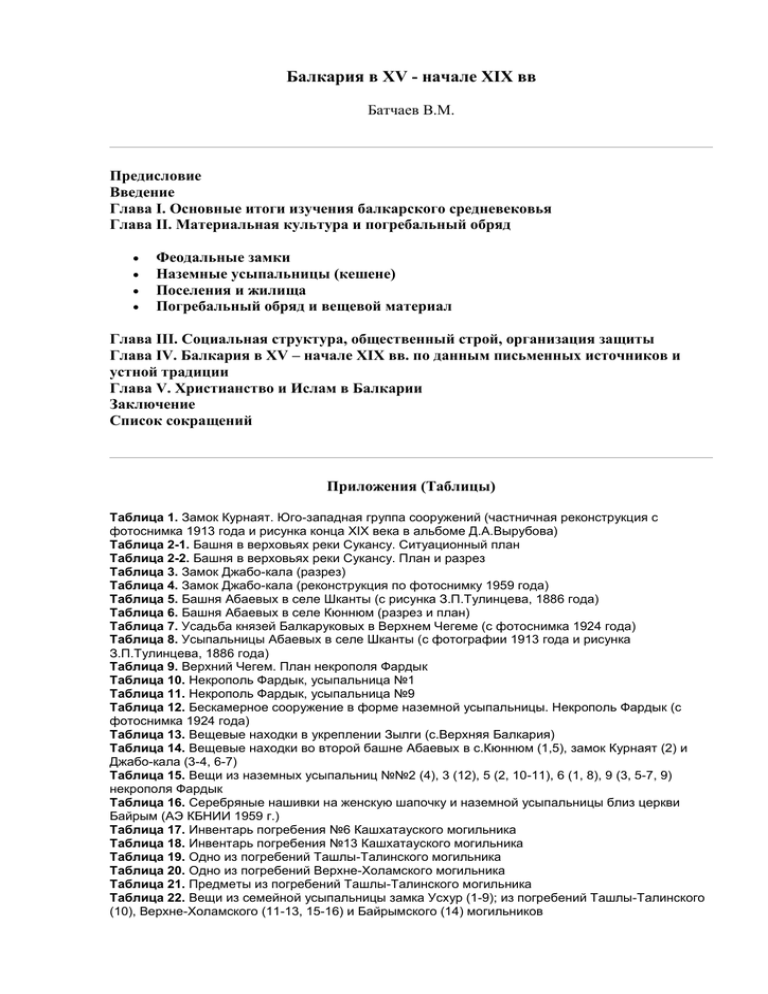
Балкария в XV - начале XIX вв Батчаев В.М. Предисловие Введение Глава I. Основные итоги изучения балкарского средневековья Глава II. Материальная культура и погребальный обряд Феодальные замки Наземные усыпальницы (кешене) Поселения и жилища Погребальный обряд и вещевой материал Глава III. Социальная структура, общественный строй, организация защиты Глава IV. Балкария в XV – начале XIX вв. по данным письменных источников и устной традиции Глава V. Христианство и Ислам в Балкарии Заключение Список сокращений Приложения (Таблицы) Таблица 1. Замок Курнаят. Юго-западная группа сооружений (частничная реконструкция с фотоснимка 1913 года и рисунка конца XIX века в альбоме Д.А.Вырубова) Таблица 2-1. Башня в верховьях реки Сукансу. Ситуационный план Таблица 2-2. Башня в верховьях реки Сукансу. План и разрез Таблица 3. Замок Джабо-кала (разрез) Таблица 4. Замок Джабо-кала (реконструкция по фотоснимку 1959 года) Таблица 5. Башня Абаевых в селе Шканты (с рисунка З.П.Тулинцева, 1886 года) Таблица 6. Башня Абаевых в селе Кюннюм (разрез и план) Таблица 7. Усадьба князей Балкаруковых в Верхнем Чегеме (с фотоснимка 1924 года) Таблица 8. Усыпальницы Абаевых в селе Шканты (с фотографии 1913 года и рисунка З.П.Тулинцева, 1886 года) Таблица 9. Верхний Чегем. План некрополя Фардык Таблица 10. Некрополь Фардык, усыпальница №1 Таблица 11. Некрополь Фардык, усыпальница №9 Таблица 12. Бескамерное сооружение в форме наземной усыпальницы. Некрополь Фардык (с фотоснимка 1924 года) Таблица 13. Вещевые находки в укреплении Зылги (с.Верхняя Балкария) Таблица 14. Вещевые находки во второй башне Абаевых в с.Кюннюм (1,5), замок Курнаят (2) и Джабо-кала (3-4, 6-7) Таблица 15. Вещи из наземных усыпальниц №№2 (4), 3 (12), 5 (2, 10-11), 6 (1, 8), 9 (3, 5-7, 9) некрополя Фардык Таблица 16. Серебряные нашивки на женскую шапочку и наземной усыпальницы близ церкви Байрым (АЭ КБНИИ 1959 г.) Таблица 17. Инвентарь погребения №6 Кашхатауского могильника Таблица 18. Инвентарь погребения №13 Кашхатауского могильника Таблица 19. Одно из погребений Ташлы-Талинского могильника Таблица 20. Одно из погребений Верхне-Холамского могильника Таблица 21. Предметы из погребений Ташлы-Талинского могильника Таблица 22. Вещи из семейной усыпальницы замка Усхур (1-9); из погребений Ташлы-Талинского (10), Верхне-Холамского (11-13, 15-16) и Байрымского (14) могильников Таблица 23. Некоторые разновидности средневековых каменных надгробий (1 - Жанхотеко; 2 Безенги; 3 - Верхний Холам; 4 - Хабаз) Таблица 24-1. Христианская церковь на реке Гестенты (с фотоснимка 1913 года) Таблица 24-2. Разновидности крестов на каменных надгробиях и стенах архитектурных сооружений Таблица 25. Обследованный участок средневекового водопровода в селе Верхний Холам Предисловие История народов Северного Кавказа давно стала объектом изучения, но по многим важным проблемам и частным вопросам историки движутся вперед медленно и наошупь, не находя однозначных ответов и споря. Кавказоведение – наука относительно молодая и подобное положение вполне естественно при трудностях роста и ограниченности источников. Последнее, особенно характерно для северокавказских народов, не располагавших собственной письменностью и, соответственно, не создавших своей летописной традиции. К числу таких недостаточно изученных и во многом дискуссионных проблем кавказоведения относится и средневековая история балкарцев и карачаевцев. Неясность и запутанность проблем этногенеза, культурогенеза и ранней истории этих народов способствует появлению околонаучных, дилетантских, зачастую спекулятивных теорий и концепций, получающих поддержку и широкое хождение в Балкарии и Карачае. На наших глазах происходит процесс подмены науки, научных знаний об истории края паранаукой, читателю внушаются идеи о глубочайшей древности и историческом величии своего народа, о его связи с великими цивилизациями древности. Эти «детские болезни» искаженного исторического сознания и самоидентификации в той или иной степени присущи современной историографии всех республик Северного Кавказа и можно не сомневаться в том, что данный феномен в будущем станет предметом специального объективного исследования. Но сейчас, как ни печально об этом говорить, казалось бы, далекая от современных животрепещущих проблем история стала по существу идеологией, ангажированной политиками в политических целях. Опираясь на свойственную кавказским народам глубину исторической памяти и искреннее уважение к деяниям предков, подмастерья от науки наводняют книжный рынок и периодическую печать, телевидение «патриотической» наукообразной пропагандой. В этих условиях «гласности» без берегов очень важно предоставить читателю возможность ознакомления и с иными, более строгими в научном отношении непопулистскими концепциями, основанными на объективных фактах и их непредвзятом анализе. Любой народ, в том числе балкарский, должен знать свою подлинную историю, историю без грима и бутафорских декораций, какими внешне привлекательными они бы ни казались. Как тут не вспомнить слова А.С.Пушкина – «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Современному «возвышающему обману» должно быть противопоставлено научное исследование, а внимательному читателю – возможность сравнить и оценить позиции научных оппонентов. Предлагаемая монография балкарского ученого, кандидата исторических наук В.М.Батчаева посвящена истории Балкарии XV - начала XIX веков – эпохе, очень слабо освещенной источниками и также слабо изученной. Между тем она поистине судьбоносна для балкарцев, а научное значение работы, вобравшей в себя острейшие проблемы социогенеза, глоттогенеза и культурогенеза не вызывает сомнений. Сразу же подчеркнем и острую дискуссионную направленность работы: не подверженный каким-либо конъюнктурным соображениям и модным «патриотическим» веяниям, В.М.Батчаев занимает строго научные позиции. Монография В.М.Батчаева, написанная фундировано (в рамках существующих материалов), в то же время читается легко, интересно и доступна любому читателю, интересующемуся историческим прошлым балкарского народа. Давая труду В.М.Батчаева общую положительную оценку, остановимся на некоторых наиболее заметных бесспорных и спорных положениях автора. К числу первых я бы отнес отстаиваемую исследователем концепцию социогенеза – общественного строя балкарцев XIV-XVIII вв., которой посвящена глава III. В настоящее время это, пожалуй, наиболее аргументированное и взвешенное изложение данной проблемы. Однако, на наш взгляд, здесь не хватает более обстоятельного и развернутого экскурса автора (возможно теоретического) о горском феодализме и его специфике в особых условиях кавказского высокогорья и безземелья. Это кажется тем более целесообразным на фоне утверждения В.М.Батчаева о синтезе на балкарском материале двух типов феодализма: степного тюркского и оседло-земледельческого. Данный тезис настолько значителен для дальнейших штудий по кавказоведению, что его было бы желательно в дальнейшем развернуть в специальное исследование, которое мы вправе ожидать от автора. Вместе с тем отмечу неудачное, но часто повторяющееся в работе словоупотребление «балкарское средневековье», не разъясненное читателю. Речь идет о терминологической нечеткости выражения, ибо говорить следует о горском феодализме и его специфических особенностях в условиях Балкарии. Нельзя не согласиться с заключением автора о необходимости шире использовать данные, предоставляемые нам устной, т.е. фольклорной традицией. В условиях острого дефицита письменных источников фольклорные тексты, несмотря на их нарративный характер, способны нести ценнейшую историческую информацию. И эту информацию следует извлекать, критически обрабатывать, оценивать и предоставлять ей статус дополнительного (иногда и основного) источника. Подобная практика давно существует в историографии Древней Руси (В.Я.Пропп, Б.А.Рыбаков, М.М.Плисецкий и др.). Сам В.М.Батчаев интересно и убедительно препарировал фольклорные Верхне-Чегемский и Верхне-Балкарский тексты. Очевидно, также исторически обоснована интерпретация преданий о маджарцах – выходцах из крупного золотоордынского города XIV в. Маджары на р. Куме, принесших с собой в горы огнестрельное оружие и ставших в Балкарии и Дигории местными феодалами благодаря тому же оружию. Хронологически эти вполне реальные события могут быть приурочены ко времени нашествия Тимура 1395 г. и разрушения Маджар, т.е. к началу XV в. Появление первого, примитивного огнестрельного оружия на севере Кавказа к концу XIV в. вполне вероятно (через посредство генуэзцев), но следует заметить, что этот вопрос еще специально не изучен. В.М.Батчаев вводит в научный оборот новый этникон «маджарцы», подразумевая под ним тюркоязычное население Предкавказья, смешавшееся с ираноязычными аланами. Эта этнонимическая новация фольклорного происхождения нуждается в дополнительном осмыслении и проверке временем, но сейчас хотелось заметить, что автор излишне категорично отмежевывается от старых предположений о причастности к данному сюжету средневековых мадьяр – венгров. Дело в том, что не только Гильом Рубрук достоверно встречал в стране алан венгров (Гильом Рубрук. Путешествие в восточные страны. М., 1957, с.106,117),но генеалогические предания о венгерском происхождении зафиксированы в осетинском фольклоре, ряд осетинских фамилий, по В.И.Абаеву, имеет венгерское происхождение, отмечены явные языковые связи между осетинским и венгерским. Кроме того, версии В.М.Батчаева противоречит упоминание племени маджар византийским императором Константином Багрянородным в первой половине X в. – задолго до появления в степях Юго-Восточной Европы половцев. Безусловно, это факты, от которых нельзя отмахнуться. Они требуют объяснения. Представляя исследование В.М.Батчаева читателю, я позволил себе остановиться лишь на некоторых построениях и выводах и дать ему общую положительную оценку. Естественно, что работой В.М.Батчаева история балкарского народа не исчерпывается и не завершается, в ней остается много нерешенных и неясных вопросов, над которыми будут работать новые поколения историков, ищущих ответа на вопрос – «откуда есть пошла балкарская земля»? Вместе с тем книга В.М.Батчаева в наше время острой идеологической борьбы, происходящей под флагом исторической науки, является весьма своевременным ответом на поток околонаучных спекуляций. Прав В.М.Батчаев, когда он пишет: «Реальная действительность средневековья была намного сложнее и разнообразнее, чем это представляется сторонникам однозначных решений». Мне кажется очевидным, что публикуемый труд В.М.Батчаева знаменует большой шаг в единственно верном направлении, ведущем к объективному познанию истории балкарского народа. В.А.Кузнецов, доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Российской федерации. Введение За период, истекший со времени возвращения балкарцев из изгнания и начала подготовки национальных кадров научной интеллигенции, был издан ряд сводных и монографических работ по истории этого народа, написанных как отдельными исследователями, так и авторскими коллективами. В целом они способствовали расширению наших представлений о далеком прошлом, и внесли существенный вклад в разработку узловых проблем балкарской истории. К настоящему времени наши знания о предмете уже заметно полнее, чем, скажем, в довоенные годы. Но сказанное не подразумевает однозначно-позитивную оценку предшествующего, и особенно современного этапа балкароведения; наряду с неоспоримыми успехами здесь приходится констатировать и пробелы, и нарастание негативных тенденций. К сожалению, многие из имеющихся пробелов связаны с отсутствием информативно полноценных письменных источников и, следовательно, невосполнимы. Но это еще не самое худшее. Худшее состоит в том, что отсутствие конкретной информации по тем или иным вопросам в прошлые десятилетия легко «компенсировались» официальными установками «марксистско-ленинской научной методологии», а в последние годы с еще большей легкостью «компенсируется» популистскими откровениями национал-патриотов от науки. Более того, при активном содействии властных структур заведомо антинаучные концепции внедряются в учебники и учебные пособия по истории края. Таким образом, тема средневековой Балкарии продолжает оставаться в числе наиболее актуальных. В работе, предлагаемой вниманию читателя, рассмотрены лишь некоторые из малоизученных аспектов темы. Например, вопрос о средневековой «политической» истории горских обществ как предмет специального изучения даже не ставился в науке. В настоящей работе делается попытка хотя бы отчасти восполнить этот пробел. При том дефиците источников, о котором говорилось выше, это представляет собой задачу почти неразрешимую. Неудивительно, что ее игнорирование стало такой же особенностью балкарской историографии, как и всеобщее увлечение этногенезом. Но так не может продолжаться без конца. Очевидно, это тот случай, когда даже самое неудачное начало предпочтительнее полного информационного вакуума. Недостаточно полно разработан в литературе вопрос об особенностях социогенеза, локальной специфике и уровне развития балкарского феодализма. В большинстве случаев он рассматривается на материалах XVIII-XIX вв., а единичные экскурсы в эпоху средневековья поверхностны и небезупречны с точки зрения научной методики. Общим недостатком этих публикаций можно счесть чрезмерную архаизацию социальной структуры горцев. К числу вопросов, затрагиваемых чаще всего вскользь, относятся также вопросы о христианстве и исламе в Балкарии, функциональных особенностях оборонных сооружений и т.д. Между тем концентрация всего наличного фонда источников и наработок с привлечением незаслуженно забытых (или сознательно замалчиваемых) экскурсов, содержащихся в работах дореволюционных кавказоведов В.Миллера, М.Ковалевского, первого балкарского историка М.Абаева, а также анализ материала в свете наметившихся в последние годы новых подходов к решению общетеоретических проблем северокавказской медиевистики в целом – все это позволит устранить хотя бы наиболее очевидные просчеты прошлого и настоящего, конкретизировать или даже пересмотреть отдельные выводы, наметить новые направления поиска в разработке сложных и малоизученных аспектов темы. Это и поставлено целью настоящего исследования. Работа написана на основе археологических, письменных, отчасти этнографических и фольклорных источников, опубликованных в изданиях различных лет, хранящихся в музеях и архивах КБР и России, а также добытых автором в ходе полевых археологических экспедиций 1970-2005гг. Выражаю также глубокую признательность М. Баразбиеву и Б. Кучмезову, ознакомившим меня с рядом интересных документов по истории Балкарии конца XVIII – начала XIX вв. Слова особой признательности Бияслану Хакимовичу Атабиеву – директору ООО «Институт археологии Кавказа». Глава I. Основные итоги изучения балкарского средневековья Начальные этапы историко-археологического и этнографического изучения Центрального Кавказа связаны с мероприятиями Российской Академии наук, приступившей к ознакомлению с краем еще в конце XVIII – начале XIX вв. Хотя эти мероприятия были обусловлены задачами преимущественно политического характера, по существу именно они объективно способствовали становлению и развитию новой отрасли знаний – кавказоведения. Ввиду географической труднодоступности высокогорных районов они тогда еще не могли быть обследованы в той же мере, как, скажем, Кабарда или адыгское Причерноморье. Поэтому относящиеся к Балкарии сведения в ранней кавказоведческой литературе крайне редки. К тому же, полученные, как правило, «из вторых рук», они предельно лаконичны, поверхностны, не всегда точны, и носят главным образом справочный характер (территория, население, хозяйство и т.д.). Историографический интерес их, за единичными исключениями, невелик. Скорее их следует отнести к категории письменных источников, которые ввиду известной консервативности социально-бытового и экономического уклада так называемых «горских обществ» могут быть экстраполированы (разумеется, с соответствующими поправками и оговорками) на более ранние этапы их истории; в качестве таковых они и использованы в настоящей работе. С окончанием Кавказской войны возможности изучения региона резко расширились, но не всегда и не везде эти возможности использовались с одинаковой полнотой. При всей значимости отдельных успехов, связанных с изысканиями таких видных кавказоведов, как, например, В.Ф.Миллер и М.М.Ковалевский, нельзя все же не признать справедливость замечания А.Н.Генко, по словам которого целый ряд районов высокогорной полосы – и, прежде всего Балкария – продолжали оставаться «как бы вне рамок цеховой академической науки» [1]. После свержения царского режима в октябре 1917 г. изучение древней и средневековой истории народов нашей страны было признано одной из важнейших задач отечественной науки. Но о создании фундаментальных обобщающих работ на известной к тому времени источниковой базе – во всяком случае, по истории балкарцев и карачаевцев – в те годы, конечно, не могло быть и речи. По сути дела весь довоенный период (1917-1941 гг.) – это своего рода «подготовительный этап»: предстояла большая предварительная работа по выявлению письменных, археологических и иных источников, их систематизации, осмыслению и апробации связанных с ними выводов. Тем не менее, при всей нехватке материала и кратковременности данного этапа историография Балкарии все же пополнилась рядом публикаций, представляющими значительный интерес постановкой тех или иных вопросов, поисками путей их решения и даже определенными концепциями. Начавшаяся вскоре Великая Отечественная война и последующее выселение балкарцев в Среднюю Азию прервали этот едва наметившийся процесс почти на два десятилетия – вплоть до конца 1950-х годов. Третий – современный – этап балкарской историографии охватывает период от 1959 года (когда в г. Нальчике была проведена Всесоюзная научная сессия по проблеме происхождения балкарцев и карачаевцев) до наших дней. Именно на данный этап приходится наибольшее количество публикаций – от статей, очерков и заметок по отдельным вопросам средневековья, до обобщающих изданий по истории КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии, подготовленных авторскими коллективами. Правда, нельзя сказать, чтобы тематический диапазон их был очень обширен, так как освещение целого ряда проблем предполагает привлечение таких источников, отсутствие которых невозможно компенсировать. Скажем, отсутствие собственной письменной традиции и крайняя малочисленность упоминаний о Балкарии в русских и грузинских документах почти совершенно исключает изучение таких разделов первостепенной важности, как политическая и социально-экономическая история народа. За исключением тех немногих случаев, когда сравнительное разнообразие тематики предполагается уже самим характером коллективной обобщающей работы, весь круг рассматриваемых вопросов сводится главным образом к этногенезу, значительно реже – социогенезу, и лишь в нескольких статьях рассматриваются отдельные исторические эпизоды. Несколько лучше обстоит дело с изучением материальной культуры, так как фонд археологических памятников хотя и медленно, но все же продолжает накапливаться. Рассмотрим вкратце историю изысканий по каждой из указанных проблем в отдельности, - за исключение лишь этногенеза, не имеющего прямого отношения к данной работе. *** История изучения феодальной формации на материалах Балкарии связана с разработкой главным образом двух наиболее важных аспектов проблемы: 1) генезис феодализма; 2) конкретный характер, уровень и особенности классовой дифференциации, феодальные институты. Едва ли не единственным источником по вопросу о возникновении феодальных отношений в Балкарии служили исследователям вначале данные устной традиции. И особое внимание в этой связи неоднократно привлекало распространенное в кругах балкарской и дигорской знати предание о братьях Басияте и Бадиляте. Суть его, в общих чертах, сводится к тому, что еще во времена хана Джанибека (середина XIV столетия) из золотоордынского города Маджар на р. Куме отправились вверх по Тереку сыновья маджарского вельможи (по другой версии – самого Джанибека) братья Басият и Бадилят, которые, в благодарность за оказанную ими помощь простым маджарцам (прибывшим в горы несколько ранее) в покорении «демократического» (бесклассового) местного населения были признаны князьями: Басият в Балкарии, Бадилят – в Дигории. От этих двух братьев, якобы, и ведут свое происхождение балкаро-дигорские феодальные династии. В числе первых интерпретаторов предания были В.Ф.Миллер, М.М.Ковалевский, И.И.Иванюков. Немаловажное значение они придавали факту более или менее широкого распространения различных версий указанного предания среди простого населения Балкарии, а также исторической достоверности некоторых реалий (хан Джанибек, аборигены «дигорцы, осетины» и т.д.). «Чегемские предания говорят... о феодальном гнете, как о чем-то привнесенном извне и чуждом туземному населению – пишут В.Ф.Миллер и М.М.Ковалеский, - еще определеннее выступает тот же факт из балкарских преданий. (...) итак, феодальная система отношений, в частности, сословные различия, не известны были туземцам до поселения в их среде чужеродцев». [2] Отсюда вывод об экзогенности балкарского феодализма с констатацией также и определенной роли влияния Кабарды [3]. Почти той же точки зрения придерживался и В.Я.Тепцов. В физическом облике Чегемских таубиев он отмечал преобладание «осетинских» черт, в то время как представителей безенгийской знати он склонен был сближать с «татарами» (тюрками) [4]. Интересны представления автора о процессе феодализации: «Каким образом большинство населения изменило себя коренным образом под влиянием меньшинства? Ответ на этот вопрос станет понятным, если мы вспомним, что это меньшинство были завоеватели и князья, руководившие издавна всем населением. На помощь князьям-татарам явились магометанская религия и язык. (...) Татарство прежде всего одержало полную экономическую победу. Во всех горских обществах лучшие земли и угодья очутились в руках князей и каракишей-татар. Родовое же население очутилось в крепостной зависимости...». [5] Вслед за В.Ф.Миллером и М.М.Ковалевским о бесклассовом строе дотюркского населения Балкарии писал и Н.П.Тульчинский. Становление феодальных отношений он также связывал с «появлением среди них родоначальников таубиев – выходцев из стран с аристократическим строем жизни». [6] Но, принимая во внимание отсутствие монголоидной примеси в антропологическом типе балкарцев (и, в частности, у аристократической верхушки общества), автор, в отличие от своих предшественников, считал этих пришельцев выходцами из сопредельных с Балкарией районов Кавказа – Кабарды, Осетии, Сванетии, Имеретии и т.д. Наряду с тем он не отрицал также значение собственно балкарской (в более широком смысле – общекавказской) действительности в процессе дальнейшей феодализации общества. Речь, в частности, идет о набегах в соседние районы края с целью захвата пленных, обращения их в рабов, а затем – в сословие крепостных крестьян. Немаловажное значение в феодализации общества придается также связям с Кабардой. [7] В целом, характеризуя подход исследователей к данной проблеме в досоветской кавказоведческой литературе, следует отметить, можно сказать, общепринятую установку на экзогенное происхождение горского – в данном случае балкарского феодализма. Единственным основанием для этого служило тогда упомянутое выше феодальногенеалогическое предание, но в наши дни правомерность такого подхода подтверждается и другими соображениями, о чем будет сказано ниже. В довоенные годы (1917-1941 гг.) вопросы генезиса балкарского феодализма в кавказоведческой литературе затрагивались крайне редко и поверхностно, а делаемые при этом выводы не всегда убедительны. Например, в работах П.Раджаева [8] и У.Алиева [9] проводится тезис о социально-экономическом строе Балкарии в начале XIX века как о патриархально-родовом с зачатками феодальной формации. Разумеется, с этим трудно согласиться. В 1933 г. в журнале «Революция и горец» были опубликованы довольно противоречивые и путаные заметки И.Тамбиева по истории Балкарии. Говоря о миграции предков балкарцев в высокогорную зону края, автор верно констатирует неизбежность определенной деградации в социальной структуре общества. Однако, рассматривая феодалов как выходцев из Крыма, Абадзехии, Дигории и т.д., автор затем внезапно обрушивается с критикой на С.Воробьева и Н.Сарахана за ту же самую мысль. Еще более неожиданно автор приходит к выводу о том, что балкарская «Община разлагалась, и на ее развалинах появились рабы и рабовладельцы». [10] Неудивительно, что построения И.Тамбиева были подвергнуты резкой критике со стороны ведущих кавказоведов тех лет. [11] Особый интерес в рассматриваемом плане представляет краткий экскурс, содержащийся в одной из работ Б.Е.Дегена. Пожалуй, впервые в историографии балкарского средневековья интересующий нас вопрос автор попытался рассмотреть – пусть и в самой общей форме – на основе имевшихся к тому времени представлений об особенностях всего предшествующего исторического развития Балкарии, начиная со времен весьма отдаленных. Методологической удачей было уже то, что автор четко различал «горский» феодализм в собственном смысле слова от феодализма предгорноплоскостной зоны, и рассматривал особенности их генезиса и эволюции в непосредственной связи с экологическими условиями среды обитания. Но выводы, к которым приходит Б.Е.Деген на основе этой объективной установки, все же трудно счесть бесспорными. По мнению Б.Е.Дегена, приблизительно со II тыс. до н.э. намечается определенный разрыв в темпах экономического (а тем самым и социального) развития населения высокогорных и плоскостных районов края. В кобанскую эпоху эта тенденция начинает приобретать характер четко выраженной закономерности, а уже в позднем средневековье конечный итог неравномерного развития этих двух «обществ» получает наглядное воплощение в Кабарде и Балкарии: в первом случае мы имеем дело с обществом, «свободно проходящем все стадии классообразования вплоть до порога капитализма», во втором – сумевшем «к моменту русского завоевания дойти лишь до ранних ступеней феодализма» [12]. Причину отставания «горских обществ» автор вполне правомерно видит в узости производственной базы: высокогорные пастбища недостаточны для полного оборота годового производственного цикла, а тем самым – и для расширенного воспроизводства как непременного условия социально-экономического прогресса. Отчасти указанный дефицит компенсировался периодическим выгоном скота на зимние пастбища на плоскости, однако прочной гарантии в стабильности такой системы, в сущности, никогда не было. Такая природно-экологическая ситуация в принципе как будто исключает эндогенность феодализма в высокогорной зоне, что, кстати, подтверждается и результатами новейших исследований. [13] Но поскольку феодализм в Балкарии все-таки был, то это противоречие следовало как-то объяснить. Ни внешними влияниями, ни миграцией в горы значительных по численности групп пришлого (некавказского) населения с более высоким уровнем производственных отношений объяснить это было невозможно ввиду господствовавшей в тогдашней науке концепции И.Я.Марра о «стадиальности автохтонного развития». Поэтому автор счел возможным допустить вероятность исконно местного происхождения балкарского феодализма, с той лишь оговоркой, что ввиду охарактеризованных выше обстоятельств развитие этой формации в горах происходило чрезвычайно замедленными темпами. Очевидно, однако, что пример, выбранный автором в качестве своеобразной «модели» горского феодализма, т.е. социальная структура средневековой Балкарии, - наименее удачный. Ибо значительная роль некавказских по происхождению этнических компонентов в их этногенезе – алан, болгар и кипчаков с их феодальным строем и даже различными стадиями раннефеодальной государственности исключает анализ балкарского феодализма как «эталона» этой формации в условиях высокогорной зоны. Более показательна в этом отношении социальная структура тех горнокавказских групп, в средневековой этнической истории которых чужеродные элементы не играли столь огромной роли, как у балкарцев или осетин – например, вайнахов, хевсур, сванов высокогорья, мохевцев и т.д. Как известно, рассматриваемая ступень социально-экономического развития так и не получила у них сколько-нибудь отчетливых и стабильных форм. При всей очевидности имеющихся в ней неувязок и натяжек, концепция Б.Е.Дегена в конечном счете, возобладала во всей последующей историографии данного вопроса, в том числе и современной. Правда, следует оговорить, что, во-первых, не во всех случаях сходство позиций может свидетельствовать о знакомстве того или иного автора именно с указанной работой Б.Е.Дегена [14], оно может оказаться и случайным; во-вторых, наряду с аналогичными установками спорадически выдвигались и иные точки зрения. Но все же в целом в кавказоведческой литературе настоящего времени доминирующим остается установка на эндогенность «горнокавказского» феодализма, обладающего ярко выраженными чертами самобытности. С конца 1950 - начала 1960-х годов вновь появляются публикации, в которых прямо или косвенно затрагиваются вопросы балкарского феодализма. Одной из таких работ, в которых социально-экономическое развитие Балкарии рассматривается как часть общерегиональной проблемы, является I-ый том издания «Народы Кавказа» из серии «Народы мира». В параграфе, посвященном социально-экономическому строю народов Северного Кавказа в XVIII – начале XIX вв. [15] социальная структура горских обществ рассматривается суммарно, без акцентирования узколокальных особенностей. В нем отмечается преимущественное значение скотоводства (главным образом овцеводства), носившего отгонный характер, в хозяйстве горной полосы Центрального Кавказа, констатируется экстенсивное развитие скотоводства, когда поголовье и состав стада почти целиком зависели от погодно-климатических условий и от площади пастбищ. Интенсивные формы хозяйствования были свойственны лишь земледелию, но ввиду малоземелья в горах оно не играло существенной роли в экономике. При рутинной технике, географической изоляции и господстве натурального хозяйства изменения в экономике горцев происходили чрезвычайно медленно, что в свою очередь обусловило и относительную отсталость социальных отношений. Последнее выражалось не только в тех или иных особенностях феодальной формации, но и в многочисленных пережитках предшествующих стадий развития (кровная месть, левират, побратимство и т.д.). В разделе, посвященном Балкарии, об общественном строе говорится предельно лаконично («существовал феодально-патриархальный строй») [16], а вопросы социогенеза не затрагиваются вообще. В целом же, из контекста двух упомянутых разделов ясно, что авторы издания исходят из установки на местное происхождение горского – в том числе и балкарского – феодализма. В более обстоятельной форме рассмотрен этот вопрос в первой обобщающей работе по истории Балкарии, изданной в следующем, 1961 году. Касаясь упомянутого выше цикла преданий о происхождении балкарской знати, авторы как будто не отрицают достоверности отдельных реалий, и в частности, вероятности отражения в них тех или иных этапов этнической истории [17]. Однако фольклорную версию происхождения княжеских династий (а тем самым и феодальной формации в целом) авторы отвергают категорическим образом, считая ее «сочиненной феодальной верхушкой» с целью «выделиться из общей массы соплеменников и идеологически обосновать свое превосходство». [18] При всей своей убежденности в важном значении фольклорных источников для изучения истории младописьменных народов, авторы пришли к столь категорическому заключению о разрешающей способности указанных преданий не путем их тщательного и всестороннего анализа, а выдвигают его сугубо декларативно. Авторы считают, что балкарский феодализм – явление исконно местное, и рассматривают промежуток времени XVI – XVIII вв. как «переходный период от патриархально-родовых порядков к феодальным отношениям». Подобная же установка лежит в основе монографического исследования К.Г.Азаматова. [20] Не касаясь вопроса о времени становления феодальных отношений в Балкарии, автор отмечает факт эволюции имущественного неравенства в неравенство социальное, и приводит такие факторы социогенеза, как наделение феодалом крестьян земельными участками при условии их службы, практика аталычества, широко распространенное явление захвата земель, влияние Кабарды и т.д., а специфически балкарской чертой процесса феодализации считает существование фамильной частной собственности, ограничивавшей продажу земель. В случае ее продажи преимущественным правом купли пользовались родственники, затем – соседи, и лишь в последнюю очередь любой желающий. [21] Несколько иначе подошел к данному вопросу Л.И.Лавров. [22] Исходя из установки на местный генезис интересующей нас формации, автор вместе с тем подчеркивает, что процесс феодализации местного общества неизбежно должен был ускориться как наличием этого строя у основного этнического компонента в этногенезе балкарцев – алан, так и притоком в их среду кипчаков, у которых в XII – XIII вв. также отмечается процесс феодализации. [23] Серию работ так называемому горскому феодализму народов Кавказа посвятили З.Анчабадзе и А.Робакидзе. [24] Определение «горский» употребляется авторами в слишком широком смысле, так как оно подразумевает также и феодализм плоскостных районов края – Кабарды, Кумыкии. Они считают, что во всех случаях, относящихся к Северному Кавказу и горной полосе Грузии, речь может идти только о раннефеодальных отношениях. Конкретный же уровень развития в рамках раннефеодальной формации дифференцируется ими на три основные ступени: низшую, среднюю и высшую. Низшей ступенью развития характеризуется социальная структура «вольных обществ» Дагестана, вайнахов и некоторых осетинских общин; средней – балкарцев, карачаевцев, дигорцев, адыгских «демократических» племен, тагаурцев, ханств нагорного Дагестана; высшей – кумыков, кабардинцев, адыгейских «аристократических» племен, равнинной части Табасарана и Кайтага. Основополагающими признаками горского феодализма авторы считают: становление феодального уклада в процессе разложения общины, минуя рабовладельческую формацию; исключительная роль пережиточных явлений – большой семьи, патронимии, общинных социальных институтов; элементы военнодемократического уклада (комплексы из укрепленных башенных жилищ, эволюционирующих впоследствии в «сооружения замкового типа»); внеэкономическое принуждение путем обращения в рабство военнопленных, завуалированную эксплуатацию соплеменников и т.д. О значительном воздействии алан и кипчаков на социальное развитие предков балкарцев говорится в работах А.И.Мусукаева: «Общественное развитие алан и кипчаков, ... - вот ключ к решению интересующего нас вопроса». [25] Правда, трудно согласиться с определением «первобытные отношения», употребляемым автором для характеристики социального строя аборигенов. Ведь в другой своей работе он сам же подчеркивает: «Пришельцы, т.е. кипчаки, не принесли с собой феодализм, а только ускорили общий и ранее намечавшийся процесс смены одной формации другой, ...». [26] Ряд существенных пробелов в изучении данной проблемы восполняет статья В.Б.Виноградова «Генезис феодализма на Центральном Кавказе» [27]. Автор вполне обоснованно констатирует факт наименьшей охваченности изучением социогенеза центральной части северных склонов Кавказа, т.е. Осетии, Балкарии, Карачая, ЧеченоИнгушетии. Нельзя не согласиться также и с акцентировкой «тюркского фактора» в социальной истории горцев, причем необязательно только балкарцев и карачаевцев. Интересна также мысль о влиянии Грузинской феодальной монархии на процесс классообразования в различных районах Центрального Кавказа; вероятнее всего, она приемлема и в отношении Балкарии, хотя в данном случае это влияние сказалось не в генезисе, а в укреплении и развитии этой формации. Вызывает возражение лишь утверждение автора о феодализации всей нагорной полосы края «без больших локальных различий в темпе и способах». [28] Отмечая эколого-демографические особенности гор (малоземелье, скудность природных ресурсов вообще, перенаселенность), автор приходит к заключению о чрезвычайно замедленных темпах социального развития горских обществ. Такое положение, выдвигавшееся, как уже говорилось и ранее, ныне является наиболее распространенным в кавказоведческой литературе, но отнюдь не единственным. Так, не отрицая в принципе социодифференцирующих тенденций (а тем более имущественного неравенства) в горской среде последних столетий, Г.А.Меликишвили, тем не менее, предлагает заменить термин «раннефеодальный» на «дофеодальный» или же «протофеодальный». [29] Еще более определенно сформулирована позиция Р.М.Рамишвили, изложенная в докладе на Душетской научной конференции, посвященной проблеме взаимоотношений между горными и равнинными регионами: «В силу законов внутреннего развития и ограниченности хозяйственных возможностей гор, там не происходили радикальные социальные сдвиги, которые способствовали бы процессу внутренней феодализации региона». [30] Подобная точка зрения изложена и в одной из моих публикаций, в которой цепь построений Б.Е.Дегена – теперь уже не вступающая в противоречие с концепциями вроде «стадиальности автохтонного развития» – доведены до своего логического конца, а именно – к отрицанию возможности внутренней самостоятельной феодализации горских обществ. Факт же наличия феодализма в Балкарии интерпретируется в непосредственной связи с этнической историей народа и, в частности, значительной ролью алан и кипчаков – половцев в этногенезе балкарцев и карачаевцев. [31] В другой работе, посвященной интерпретации цикла «маджарских» преданий, этот тезис находит дополнительное обоснование в материалах фольклора. Предание о братьях Басияте и Бадиляте рассматривается как «беллетризированное» указание на экзогенное происхождение феодализма в Балкарии и Дигории. [32] Не обойдена вниманием рассматриваемая здесь проблема и в книге И.М.Мизиева «Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII – XVIII вв.» Вслед за Л.И.Лавровым, И.М.Мизиев вполне справедливо упрекает авторов издания «Очерки истории балкарского народа» за противоречивое освещение указанной проблемы. Но определенной непоследовательности все же не удалось избежать и ему. Так, вначале автор констатирует, что у предков балкарцев и карачаевцев (алан) уже были налицо все признаки «сформировавшегося раннефеодального общества». [33] Последующие столетия (XIV-XV вв.) признаются им «если не эпохой развитого феодализма, то, во всяком случае, временем дальнейшего развития феодальных отношений». [34] Но когда он переходит к конкретной характеристике социальных процессов, то выясняется, что развитой феодализм – это ничто иное, как «... распад родовых устоев и выделение мощных патриархальных семей». [35] Все же безусловной удачей автора следует счесть его анализ архитектурного наследия балкарцев в аспекте социогенеза. В большинстве рассмотренных публикаций затрагиваются главным образом вопросы генезиса горского феодализма. Что касается развернутой характеристики социальной структуры Балкарии в средневековье, то она довольно затруднительна ввиду отсутствия информативно полноценных источников, а единичные упоминания «владельцев», «мурз», «мужиков», «помещиков» и «крепостных крестьян» дают лишь самое общее представление о предмете. В работах В.Миллера, М.Ковалевского и некоторых современных авторов этот пробел отчасти компенсируется сведениями устной традиции и гипотетической экстраполяцией материалов XIX века на предшествующие столетия. Хотя такой метод и сопряжен с вероятностью отдельных ошибок, в целом он оказался плодотворнее умозрительных построений с ориентацией на некие абстрактнотеоретические схемы, в результате чего были выдвинуты версии о «патриархальнофеодальном» строе XVII-XVIII вв. Подробнее этот аспект проблемы рассмотрен в соответствующем разделе книги. В последние годы издано несколько содержательных работ, посвященных различным аспектам социальной и общественной структуры карачаево-балкарских «обществ», а также роли «кабардинского фактора» в социальной истории региона. В монографии Е.Г.Битовой [36] дается развернутая характеристика балкарской сельской общины, всех тех ее структурообразующих параметров и функциональных особенностей, которые обусловили ее жизнестойкость и способность к адаптации в новых исторических условиях. Особый интерес для нашей темы представляют разделы об органах самоуправления и судебно-правовой системе, о социальной стратификации общества и месте в нем феодальной элиты. Одно из главных достоинств работы видится в преодолении стереотипных установок как ориентиров типологической идентификации общины, в выявлении признаков ее локального своеобразия; при некоторой спорности отдельных частных моментов основной вывод автора о невозможности отнести балкарскую общину «ни к одному «чистому типу» общества на той или иной стадии развития» [37] звучит достаточно убедительно. Первый опыт обращения к чрезвычайно актуальной, давно назревшей теме взаимоотношений Кабарды с горцами представляет кандидатская диссертация З.А.Кожева [38]. Работа (с которой я имел возможность ознакомиться по автореферату) написана на материалах, главным образом, XVIII века, но с некоторыми оговорками и поправками ее выводы, очевидно, могут быть экстраполированы и на предшествующие столетия. Глубокий и всесторонний анализ этнополитического, социального и экономического аспектов кабардино-горских связей позволили прийти к ряду интересных выводов относительно специфики вассалитета. Нельзя не согласиться с мнением автора, что на деле этот институт означал инкорпорацию горской знати в феодальную иерархию Кабарды, что наиболее «подготовленными» к такому союзу оказались те из горских обществ, в которых соответствующий уровень социальной стратификации имел место еще «до появления кабардинцев на Центральном Кавказе» [39] – например, балкарцы, карачаевцы, дигорцы, абазины. В свете такого вывода очевидна откровенная нелепость встречающегося по сей день тезиса о господстве в средневековой Балкарии неких «патриархально-родовых отношений с зачатками феодализма». К числу немногих упущений автора можно отнести, пожалуй, лишь недифференцированный подход к вопросу о степени зависимости балкарских обществ. Документы XVII-XVIII вв. позволяют говорить о совершенно особом положении Малкарского общества в системе балкаро-кабардинских этносоциальных связей. Вопросы социальной истории и потестарно-политической культуры горцев рассмотрены в фундаментальном исследовании Р.Т.Хатуева «Карачай и Балкария до второй половины XIX века: власть и общество» [40]. В нем обрисована довольно полная картина общественного строя и сословных отношений, гражданского управления, судебноправовой системы горских обществ и т.д. Не вызывает возражений один из основополагающих тезисов автора: о раннеклассовой формации со сформировавшейся феодальной знатью, социальный статус которой был четко закреплен и идеологически, и развитой системой материальной, вербальной, ритуально-обрядовой, этической и иной атрибуции. В целом работа является полезным подспорьем в изучении отдельных аспектов средневекового прошлого карачаевцев и балкарцев. Но, не отрицая в принципе бесспорные достоинства монографии, нельзя в то же время не отметить и ряд положений, либо оставляющих место для сомнений, либо требующих разъяснения ввиду своей противоречивости. Так, если на с.67 автор пишет о «более глубокой степени... сословной дифференциации» в Балкарии (по сравнению с Карачаем), то на с.174 говорится уже о «более сложной структуре» феодальных отношений в Карачае. Быть может, здесь и нет противоречия, если предположить некоторое ускорение в социальном развитии, скажем, с переселением карачаевцев на Кубань. Но в работе этот момент никак не прокомментирован. Трудно не обратить внимание, что целый ряд ответственейших выводов и заключений почти целиком строится на показаниях информаторов. Я отнюдь не склонен отрицать значимость этих показаний, но ведь в доверии к устной информации современников, очевидно, должен быть и какой-то предел. Едва ли не насторожит, например, то обстоятельство, что о наличии в прошлом тёре 6 или 7 уровней и разновидностей мы узнаем только сейчас, хотя в публикациях М.Абаева, Б.Шаханова, Ф.Леонтовича и других упоминались тёре только 2-3 уровней. Более веской аргументации требуют, на мой взгляд, и некоторые другие положения – скажем, о «раннегосударственной организации» карачаево-балкарского общества, о наличии в нем отдельного слоя наемных дружин воинов-профессионалов, о даннических связях населения Черекского ущелья с брагунами, об отсутствии преемственности в общественном строе алан и карачаево-балкарцев. Но, как уже отмечено выше, за вычетом подобного рода спорных моментов, работа Р.Т.Хатуева все же знаменует явный сдвиг в изучении проблем средневековых горских обществ. Суммируя все изложенное, можно отметить, что изучение так называемого горского феодализма – в том числе и балкарского – в последние десятилетия заметно активизировалось, и при наличии отдельных недоработок и упущений все же в целом увенчалось рядом существенных сдвигов. Значительно больше внимания стало уделяться, например, экологическому аспекту темы, в результате чего наметилась тенденция к признанию решающей (в большинстве случаев) роли внешнего фактора в процессе феодализации горских обществ Кавказа. Теперь уже эта тенденция обусловлена не безоговорочным доверием к устной традиции (как в досоветском кавказоведении), а, прежде всего, на изучении производственного цикла экологической ниши, возможностей расширенного производства в суровых условиях высокогорья, социогенного потенциала чрезвычайно ограниченного жизненного пространства. Удалось выявить некоторые из наиболее значимых закономерностей социогенеза в различных районах края и ряд локальных особенностей этого процесса, а выдвинутый еще в досоветской литературе тезис об отсутствии в горах феодальной собственности на землю как основе производственных отношений все чаще ставится под сомнение современной наукой. Расширению традиционного круга представлений способствовали и попытки отдельных авторов дифференцировать горский феодализм на несколько «ступеней» с максимальным охватом конкретного материала. При всей условности предложенных формулировок они все же устраняют нивелировочный подтекст самого понятия «горский феодализм». Но дальнейшие изыскания предполагают более тщательный подбор критериев и более глубокий анализ локальных особенностей. В частности, недооценка роли тюрок в социальной истории Балкарии породила в свое время одну из грубейших ошибок, не преодоленную по сей день. Это ссылки на слабое распространение крепостничества как на доказательство «недоразвитости» феодальных отношений. А между тем, как известно, ни один из степных народов средневековья не знал крепостничества, хотя уровень их социального развития порой был значительно выше, чем у балкарцев. Для кочевников характерны совершенно иные формы феодальной зависимости, а социальная структура горских обществ Балкарии представляла собой синтез двух форм феодализма, характерных для оседлых и кочевых народов. В тюркском компоненте этногенеза – ключ к пониманию не только специфики местного феодализма, но и многих других реалий балкарского средневековья. Впрочем, глобального закрепощения крестьян не было даже в Западной Европе (подробнее см. в главе III). *** Историю археологического изучения края принято дифференцировать на два основных периода: дореволюционный и советский. Говоря о дореволюционной археологии чаще всего принято акцентировать ее негативные стороны – такие, как спорадичность и бесплановость экспедиций, отсутствие четкой научной программы и координации работ, низкий уровень методики раскопок и их полевой документации, равнодушие исследователей к бытовым памятникам и т.д. Во всех этих констатациях, безусловно, есть доля истины, и отрицать их было бы явно неправомерно. Нельзя не отметить лишь некоторое сгущение красок. Не в последнюю очередь здесь сказалась заидеологизированность науки, предполагавшая противопоставление всего советского всему дореволюционному. Недостатки досоветской археологии действительно ощутимы, но они были связаны не со спецификой буржуазного строя (как то прямо или косвенно подразумевается авторами историографических экскурсов), а, прежде всего с уровнем тогдашней археологии, пока еще не оформившейся окончательно как особая отрасль исторической науки со всем комплексом присущих ей особенностей. К тому же, можно отметить и отдельные случаи, когда полевое изучение местных древностей проводилось и на достаточно высоком для своего времени научном уровне (например, раскопки художника И.А.Владимирова). В довоенный период улучшилась методика полевых археологических изысканий, расширился круг конкретных научных задач, впервые было начато исследование на различном уровне – от сбора подъемного материала до раскопочных работ – бытовых памятников Кабардино-Балкарии (правда, преимущественно древних и раннесредневековых). Удалось также наладить музейное дело и систему охраны памятников. К сожалению, этот период кабардино-балкарской археологии оказался очень кратковременным, а последующие события отодвинули изучение местных (в частности, балкарских) древностей почти на два десятилетия. Сравнительно результативным является лишь период с конца 1950-х годов по настоящее время. По общему объему раскопочных работ, количеству и разнообразию исследованных древностей, а также глубине и обстоятельности интерпретации их в специальной литературе данный период превосходит не только дореволюционный, но и довоенный этапы местной археологии. Рассматриваемый период отличается также появлением национальных кадров, ведущих археологические исследования в республике в тесном сотрудничестве с археологами Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и соседних республик Северного Кавказа. Средневековые балкарские древности представлены тремя основными видами памятников: архитектурными (башни, остатки часовен, наземные усыпальницы), погребальными и бытовыми. Для удобства изложения целесообразным представляется рассмотреть историю изучения каждого из этих видов памятников дифференцированно. Как уже отмечено, наиболее доступными для изучения всегда являлись архитектурные объекты. Закономерно поэтому, что ознакомление русских и иностранных путешественников и исследователей с балкарскими древностями началось именно с них. В 1849 г. на Северном Кавказе проводил археологические разведки К.Фиркович [41]. В число обследованных им районов вошли и четыре ущелья Балкарии. Здесь им были осмотрены остатки христианских часовен и церквей (с. Верхний Чегем, Безенги, Холам), боевых башен (с. Верхняя Балкария, Былым, Безенги, Холам, Усхур), наземных каменных усыпальниц (Холам, Безенги, Верхний Чегем). К сожалению сведения, опубликованные автором об этих памятниках, носят характер беглых путевых заметок и потому не дают достаточно ясного представления о них, тем более что никаким иллюстративным материалом эта публикация не сопровождается. Местоположение и характеристика памятников чаще всего неопределенны, приблизительны, размеры ориентировочны, а о результатах своих раскопок склепа в с. Верхний Чегем автор упоминает лишь вскользь. [42] Все же наблюдения К.Фирковича представляют определенный интерес хотя бы потому, что им был зафиксирован ряд памятников, которые к настоящему времени уже не сохранились. Особенно интересно упоминание не сохранившейся ныне церкви в с. Безенги, на стенах которой им были отмечены следы фресковой живописи и грузинских надписей. [43] Главное же значение этой публикации состоит в том, что автор ее был едва ли не первым из тех, кто не только описал архитектурные памятники Балкарии, но и попытался датировать их – пусть суммарно и в самой общей форме. Автор дифференцирует башенные сооружения на две основные группы. Первую группу башен, расположенную, как правило, на труднодоступных высотах горного склона, автор считает «древнейшей» (без уточнения конкретной даты). Вторую он относит к XVI-XVII столетиям, отмечая локализацию ее в низинах, в черте поселений, лучшее качество кладки и большую этажность. [44] Несмотря на то, что в своих выводах К.Фиркович руководствовался не столько специальным анализом объектов, сколько данными устной традиции, предложенная им дифференциация, как мы увидим ниже, в целом вполне приемлема. В 1867 году на Кавказе побывали братья Нарышкины. Конкретной целью их путешествия были археологические разведки в Сванетии, поэтому вкратце упомянуты лишь те балкарские древности, которые расположены в Баксанском ущелье, по которому пролегал маршрут путешествия к месту назначения (Ференк-кала, склеп Камгута, Былымская башня и пр.). Ряд памятников христианства, обследованных до этого времени К.Фирковичем, был к тому времени уже разрушен – не только временем, но и местным населением, подвергшимся интенсивной исламизации в те десятилетия. Интересно, что если данные устной традиции о более ранней дате высотных укреплений были записаны К.Фирковичем в Черекском ущелье, то аналогичные сведения Нарышкины получили у местного населения в верховьях Баксана. [45] Кроме того, ими упомянуты и некоторые виды средневекового балкарского доспеха и оружия – в том числе и импортного. Помещены изображения нескольких кабардинских и балкарских склеповых сооружений. Описывая прямоугольные и многогранные мавзолеи у слияния рек Гунделена и Баксана близ Заюкова, авторы ограничились констатацией их мусульманской атрибуции (судя по арабским эпитафиям, ориентации окошек-лазов и пр.). Однако впоследствии, в работах других исследователей подобные наблюдения послужили основанием для более категоричных обобщений. Например, В.Я.Тепцов, осмотревший в 80-х годах прошлого века аналогичные усыпальницы в с. Верхний Чегем, прямоугольные в плане мавзолеи считал архитектурными дериватами христианских часовен (по восточной ориентации лазов и сходству архитектуры), а многоугольные включал в круг памятников мусульманского зодчества (по южной – в сторону Мекки – ориентации лаза) [46]. Усыпальницы ВерхнеЧегемского некрополя, по его мнению, в общем, синхронны, а сосуществование в границах одного некрополя мусульманских и христианских памятников автор объясняет строительством их в тот промежуточный период местной истории, когда «христианство мирно уживалось с магометанством и принявшие магометанство упокаивались в христианском кладбище». [47] Как мы увидим ниже, подобная интерпретация – особенно в описании многогранных мавзолеев – с некоторыми изменениями и дополнениями продолжает существовать в кавказоведческой литературе и по сей день. В те же 80-е годы в Балкарии работала экспедиция В.Ф.Миллера и М.М.Ковалевского. Изучением архитектурных сооружений занимался преимущественно В.Ф.Миллер, изложивший свои наблюдения в специальной публикации. [48] Ознакомившись с башенными сооружениями в Чегемском, Хуламо-Безенгиевском и Черекском (Балкарском) ущельях, автор констатировал типологическую близость их к соответствующим памятникам Осетии (за исключением башни Балкаруковых в с. Верхний Чегем, которая, как известно, сванского типа). Датировка отдельных башен не всегда конкретна, но в целом ориентировочные установки автора в этом вопросе, пожалуй, не вызывают особых возражений. Вслед за К.Фирковичем и Нарышкиным он склонен счесть наиболее ранними памятники, сооруженные на труднодоступных скальных высотах, например, замок Джабоевых, Усхур. [49] Другие же башни, локализованные в черте поселений – башня Балкаруковых, две башни Абаевых и прочие – автор датирует столь же ориентировочно, но исходя из данных феодальной генеалогии: первую приблизительно началом XVIII века, две другие – XVI столетием. К «еще более отдаленному времени» автор относит сооружения, построенные до миграции сюда тюрок. Какие именно – не уточняется, но судя по контексту, это вероятнее всего такие комплексы, как Зылги, Малкар-кала, Болат-кала. [50] Ценность публикации В.Ф.Миллера состоит и в том, что она снабжена изображениями архитектурных памятников, в том числе и таких, которые к настоящему времени уже не сохранились. [51] Исследователем были осмотрены также три наземные усыпальницы – кешене Абаевых в с. Шканты (Верхняя Балкария): одна прямоугольная в плане, две другие – многогранные. Одновременно с В.Ф.Миллером опубликовал свои впечатления о поездке в Балкарию другой участник экспедиции – Н.Харузин. Мнение его об относительной дате балкарских башенных сооружений в общих чертах совпадают с точкой зрения В.Ф.Миллера. [52] Между 1887 и 1898 гг. неизвестными лицами для начальника Нальчикского округа полковника Д.А.Вырубова были выполнены 12 макетов и около двух десятков зарисовок различных архитектурных объектов Балкарии – башен, мавзолеев, христианских часовен и т.д. [53] К сожалению, некоторые из рисунков выполнены очень небрежно, а часть зарисовок и макетов плохо паспортированны, что несколько снижает их научную ценность. Но с другой стороны, этот материал значительно расширяет возможности типологической классификации памятников, так как в альбоме Д.Вырубова зафиксированы и такие объекты, которые к настоящему времени уже не сохранились. Указанные рисунки и макеты были введены в научный оборот уже в наши дни публикациями Л.И.Лаврова. [54] Большую ценность представляют также зарисовки В.И.Долбежева, воспроизводящие фресковую живопись несохранившихся ныне христианских храмов в Балкарии, а также некоторые усыпальницы Кабарды. Впоследствии эти рисунки были опубликованы в работе А.А.Иессена. [55] Изучение памятников балкарского зодчества продолжалось и в довоенные годы. Правда, основные усилия археологов были сосредоточены в тот период на обследовании памятников в зоне новостроек, поэтому высокогорные районы не могли быть охвачены исследовательскими работами с желаемой полнотой. Так, в 1924 году совершил 5-дневную поездку в Верхнюю Балкарию сотрудник ГАИМК А.А.Миллер. Тяжелая болезнь и недостаток средств сильно ограничивали возможности разведочных изысканий А.А.Миллера, и потому поездка оказалась менее результативной, чем можно было бы ожидать. В опубликованном им кратком отчете содержатся сведения о церквушках и усыпальницах в с.с. Курнаят, Шканты, Кашхатау, а также некоторых боевых башнях. Отмечено сходство их с памятниками Дигории. [56] Кратким описанием и фотофиксацией архитектурных сооружений занимались также основатель Кабардино-Балкарского краеведческого музея М.И.Ермоленко, и несколько позже (в 1939 г.) фольклорно-лингвистическая экспедиция Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. [57] К сожалению, значительная часть собранного этой экспедицией материала была утеряна в годы Великой Отечественной войны. В 1939 г. на Верхне-Чегемском некрополе Фардык побывал ленинградский этнограф Л.И.Лавров. Им впервые были зафиксированы точные размеры наземных усыпальницкешене, предложена четкая типологическая классификация всех видов имеющихся здесь погребальных сооружений, обоснована мысль о местном горском происхождении прямоугольных гробниц. [58] Вопрос о генезисе многогранных мавзолеев автор оставил открытым, но много позже – уже в последние десятилетия, он касался его неоднократно, хотя и вкратце. Так, в публикациях 1960 и 1969 гг. он подчеркивал, что, несмотря на мусульманскую атрибуцию усыпальниц обоего типа (датируемых в Кабарде эпитафиями XVIII века), по своему происхождению балкарские мавзолеи не связаны с распространением ислама, и являются сугубо местными памятниками; в Кабарде такие усыпальницы появляются под влиянием балкарцев в XVII-XVIII вв. [59] Правда, в последней своей работе (изданной посмертно), автор, кажется, склонен был допускать и некоторое влияние азербайджанского зодчества. [60] Последней из наиболее значительных публикаций довоенного времени, в которой затрагиваются вопросы башенно-склепового зодчества Балкарии, является обзорный очерк А.А.Иессена «Археологические памятники Кабардино-Балкарии». [61] Башенные сооружения автор (как и некоторые из его предшественников) делит на две основные группы. В первую входят те, которые сооружены преимущественно на труднодоступных высотах: Зылги, Малкар-кала, Усхур и др. Их автор относит приблизительно к XIII-XV вв., опираясь в этом не только на ранние публикации, но и на некоторые новые материалы – например, подъемную керамику. Остальные сооружения подобного рода датируются автором в пределах XV-XVII вв., а такие памятники христианского зодчества, как церкви в Былыме, Верхнем Чегеме, Холаме, Курнаяте и Кашхатау он относит к XI-XV вв. [62] Что же касается усыпальниц-кешене, то первый их тип – прямоугольные в плане с двускатным перекрытием – он считал наиболее ранним, воспроизводящим тип христианской часовни; нижняя дата таких усыпальниц им не установлена, верхняя – начало XVIII века. Многогранные в плане склепы (2-й тип) автор связывает с исламизацией края и датирует в пределах XVII-XVIII вв. [63] В 1960 г. был опубликован обширный очерк Э.Б.Бернштейна о жилищном зодчестве балкарцев (по материалам, собранным автором еще в довоенные годы). [64] Это была первая и наиболее обстоятельная научная работа по балкарскому жилищу, не утратившая своего значения до сих пор. Однако проблема башенно-склепового зодчества была вне круга научных интересов автора, и потому связанные с ней краткие экскурсы трудно счесть удачными. Речь, в частности, идет о значительно меньшей распространенности башен в Балкарии по сравнению с Осетией, Чечено-Ингушетией и т.д. Исходя из в корне неверной интерпретации кавказских башен только как феодальных замков, автор приходит к выводу, что в Балкарии «жилища знати обычно не имели характера домов- замков, подобно галуанам Осетии. Очевидно, независимо от того, когда по времени возникли селения Балкарии, формирование их происходило в условиях более ранней стадии развития социально-экономических отношений, нежели те, которые имелись в Осетии». [65] Здесь все поставлено с ног на голову. Генетически башенная культура горного Кавказа – атрибут не феодального, а патриархально-родового строя. [66] А поскольку уровень классовой дифференциации в Балкарии, вопреки мнению Э.Б.Бернштейна, был ничуть не ниже, чем в Осетии, [67] то крайняя малочисленность башен на данной территории объясняется однозначностью их социальной атрибуции: в отличие от Осетии, где башни могла строить любая «сильная фамилия», здесь их строили только феодалы. Кстати, изыскания самих осетинских исследователей также подтвердили, что в обществах, «где феодализация достигла высокого уровня, башен намного меньше,...». [68] В том же 1960 г. в одном из выпусков ученых записок КБНИИ была помещена статья П.Г.Акритаса, О.П.Медведевой и Т.Б.Шаханова о башенно-склеповых постройках Балкарии. Основное ее достоинство состоит в сравнительной полноте охвата материала, обстоятельной и дифференцированной характеристике каждого памятника в отдельности, в привлечении аналогий с территории Осетии и Сванетии. Были произведены архитектурные обмеры, фотофиксация памятников, сняты планы построек. [69] Правда, от сколь-нибудь широких исторических выводов авторы воздержались, а предлагаемые ими датировки не всегда обоснованы должным образом. Планы сооружений вычерчены по линейке и циркулю (что не всегда соответствует реальной конфигурации памятников), нет разрезов. В 1959 г. Е.П.Алексеева произвела раскопки в Верхне-Чегемском некрополе Фардык с целью фиксации погребального обряда захоронений в наземных усыпальницах-кешене и датировки этой категории памятников на конкретном археологическом материале. Ею было вскрыто два захоронения – одно в прямоугольной и другое в многогранной усыпальнице. Раскопки позволили несколько дополнить сведения о конструктивных особенностях усыпальниц, а также имевшихся внутри их могильных сооружений. Но, к сожалению, оба захоронения оказались ограбленными, а кости погребенных перемешаны и частично извлечены из могил, что исключает возможность уверенных выводов относительно погребальной обрядности и хронологии исследованных комплексов. Первым монографическим исследованием по архитектурным памятникам, в котором было обобщено и развито все конструктивное в изучении темы, явилась работа И.М.Мизиева, изданная в 1970 году. [71] В ней учтены многие башенно-склеповые сооружения Балкарии и Карачая, приведены сведения об их локализации, конструкции, размерах, затронуты вопросы генезиса и эволюции архитектурных форм, излагаются соображения о типологии и датировке памятников и т.д. Некоторые аспекты данной тематики неоднократно затрагивались также в работах грузинских исследователей. Делаемые ими выводы не всегда бесспорны, но интересны постановкой вопроса о наличии (помимо широко известной в литературе Балкаруковской башни) ряда башенных сооружений сванского типа в Балкарии и Карачае. [72] На мой взгляд, такая постановка не лишена оснований, хотя ареал подобных памятников, пожалуй, несколько преувеличен. А главное – само сходство архитектурных форм может свидетельствовать не только о влияниях, как полагают авторы. Очевидно, не исключена и вероятность существования единого для Сванетии, Карачая и западной Балкарии локального варианта башенного зодчества горного Кавказа (не говоря уже о сходстве, обусловленном инфильтрацией самих сванов в балкарскую этническую среду). Изучением техники строительства наземных мавзолеев Кабардино-Балкарии и Карачая в связи с вопросом генезиса архитектурных форм занималась в последние годы Л.Н.Нечаева. По наблюдениям автора, двускатные и пирамидально-шатровые перекрытия мавзолеев возведены на растворе с применением деревянных опалубков-шаблонов, которые оставались не демонтированными. Эти наблюдения – сами по себе весьма ценные – автор пытается использовать для дополнительного обоснования существующего тезиса о появлении многогранных (а по Л.Г.Нечаевой и прямоугольных) мавзолеев в XVII-XVIII вв. как следствие исламизации края и влияния пришлых восточных строителей [73]. Но такая версия не выдерживает критики: применение раствора и опалубки было известно горцам Кавказа задолго до исламизации края, а генетическая связь прямоугольных наземных мавзолеев с подземными склепами раннего средневековья достаточно наглядно прослеживается по археологическим данным; неубедительна и мысль о «мусульманском» генезисе многоугольных усыпальниц. [74] В монографии, посвященной христианскому зодчеству Алании, В.А.Кузнецовым обобщены и обстоятельно охарактеризованы соответствующие древности с территории Балкарии – остатки церквей, часовен и т.д. [75] Правда, вопросы хронологии этих древностей почти не разработаны (что признает и сам автор), а поэтому безоговорочное включение в данную категорию памятников практически всех известных христианских построек, пожалуй, не совсем оправдано. Ведь массовая исламизация Балкарии имела место никак не ранее XVIII века, а раз так, то вероятность сооружения некоторых из рассмотренных автором церквей в послеаланский период (между XIV и XVIII вв.) отнюдь не исключена. Вопросы генезиса склеповых и башенных сооружений горного Кавказа неоднократно затрагивались в публикациях этнографа В.П.Кобычева. Им, в частности, впервые выдвинуто вполне обоснованное, на мой взгляд, предположение о степном тюркском происхождении многоугольных в плане наземных кешене с пирамидально-шатровым перекрытием. [76] Наконец, определенная работа по полевому изучению и интерпретации рассматриваемого круга древностей проделана автором настоящей работы. В ходе археологических экспедиций 1983-1987 гг. были дополнительно обследованы практически все башенносклеповые сооружения Балкарии. При этом помимо архитектурных обмеров, удалось внести уточнения в планы сооружений, в большинстве случаев впервые начерчены общие и ситуационные планы архитектурных комплексов, сняты их разрезы, произведена шурфовка объектов на предмет их датировки, выявлены новые памятники (например, башня в верховьях р. Сукан-Су) и т.д. [77] Кроме того, в ряде публикаций приводится развернутая аргументация тюркского происхождения многоугольных усыпальниц, а также дополнительные данные (по материалам раскопок 1977-1978 гг.) в пользу существующей версии о возникновении укрепленных жилищ – прототипов башен – в эпоху бронзы, пересматривается типологическая классификация балкарских башен, а в социологическом отношении башни и склепы рассматриваются как отражение того промежуточного (по М.И.Джандиери и Г.И.Лежава) этапа, когда по своей архитектуре они все еще повторяют родовые башни и склепы, но функционально представляют уже резиденции («замки») и «мавзолеи» феодалов. [78] В заключение несколько слов о полевых археологических работах, связанных с изучением погребальных и бытовых памятников позднего средневековья. В этой сфере балкароведения также достигнуты определенные успехи, хотя в целом состояние дел все же довольно далеко от желаемого. В досоветский период никто из археологов-кавказоведов не ставил своей целью поиски и изучение собственно балкарских древностей данной категории. Несколько грунтовых и подкурганных захоронений близ с. Зылги (Верхняя Балкария) были выявлены случайно, в ходе изучения более ранних памятников [79]. К тому же, отсутствие сколь-нибудь обстоятельных сведений об этих комплексах затрудняет их четкую датировку и определение этнокультурной атрибуции; в республиканском своде древностей они включены в список позднесредневековых памятников условно. [80] Отсутствие квалифицированных специалистов по археологии продолжало сказываться и в довоенные годы. Местный любитель-энтузиаст М.И.Ермоленко, создатель и первый директор Кабардино-Балкарского краеведческого музея, занимался преимущественно сбором у местного населения вещевых находок из случайно разрушенных погребений (среди которых, впрочем, почти не было балкарских). Этот пробел предполагалось восполнить силами сотрудников ГАИМК, снарядивших ряд экспедиций в Кабардино-Балкарию. Однако, согласно единому комплексному плану исследовательских работ, полевые изыскания были начаты в соответствии с хронологией самих древностей, в связи с чем раскопками были охвачены наиболее древние объекты в окрестностях г. Нальчика. К тому же, много сил и времени отнимали новостроечные раскопки в зоне БаксанГЭСа. Поэтому до начала Великой Отечественной войны удалось провести лишь рекогносценировочное ознакомление с горными районами на предмет составления плана полевых археологических изысканий на будущее. Практические мероприятия по изучению балкарских древностей были начаты, по существу, лишь с рубежа 50-60-х годов. В течение трех полевых сезонов (1959-1961 гг.) археологами КБНИИ и КЧНИИ П.Г.Акритасом, Г.И.Ионе, О.Л.Опрышко и Е.П.Алексеевой в районе сс. Верхний Чегем, Нижний Чегем и Актопрак было выявлено и обследовано (в различной степени) городище Лыгыт, три грунтовых могильника, остатки железоплавильни, наземные усыпальницыкешене, несколько христианских церквушек и часовен и т.д. Хронологический диапазон древностей сравнительно широк. [81] Научное значение этого обильного и разнообразного материала трудно переоценить. Правда, не все из исследованных памятников введены в научный оборот с желаемой полнотой. Не во всем оказались безупречными и предложенные авторами раскопок датировки, определение видов памятников и антропологического типа погребенных. По этим пунктам впоследствии были внесены отдельные уточнения, [82] но в целом возможности интерпретации материала пока еще далеко не исчерпаны. В 1959 г. серию рекогносценировочных раскопок провел в бассейне р. Черек-Балкарский В.А.Кузнецов. По несколько средневековых захоронений исследовано им в с.с. Бабугент и Верхняя Балкария. [83] В 1965-1971 гг. раскопочные работы на средневековых балкарских памятниках велись преимущественно И.М.Мизиевым. Им частично обследованы такие бытовые и погребальные памятники, как Нижне-Чегемское, Булунгуевское и Эль-Журтское городища, а также Курнаятский могильник в Верхней Балкарии и Ташлы-Талинский в верховьях реки Хазнидон. [84] По несколько захоронений в каменных ящиках исследованы автором настоящей работы в Ташлы-Тала и на двух могильниках в заброшенном селе Холам. Здесь же, в Холаме, расчищен участок средневекового водопровода из керамических труб. [85] Нельзя не отметить серию уникальных древностей, выявленных в ходе земляных работ в окрестностях с. Жанхотеко в 1977 г. Это обломки 20 монументальных надгробных крестов, изготовленных из розового туфа и украшенных нарезными и рельефными узорами. И.М. Чеченов датирует кресты XIV – началом XV вв. [86] Интересные данные по эпохе позднего средневековья добыты в последние годы новостроечными экспедициями Института археологии Кавказа (г. Нальчик). В 2003 г. им начаты раскопки внутри башен, замков и наземных княжеских усыпальниц. Конечно, вещевые находки из этих объектов (давно заброшенных и многократно грабившихся) не могут впечатлять ни количеством, ни разнообразием. Но главное здесь не количественная сторона дела. Ведь вплоть до последнего времени изучение указанной категории памятников почти целиком сводилось лишь к фиксации их архитектурных особенностей, в то время как в соседних республиках раскопки на таких объектах велись уже многие десятилетия. Теперь же, с началом аналогичных исследований в Кабардино-Балкарии, можно говорить о сдвигах принципиальной значимости. Впервые удалось выявить материал, ранее практически неизвестный, дающий представление хотя бы о некоторых особенностях средневекового быта и культуры феодальных кругов (Материалы пока не опубликованы; некоторые из них см. на табл. XIII-XV). Добавлю, что в том же 2003 г. в районе с. Кашхатау обнаружены захоронения XVII-XVIII вв., в инвентаре которых наиболее примечательны ранние образцы женских «национальных» поясов (табл. XVII-XVIII). Следует отметить, что число погребальных памятников, прямо или косвенно связанных с балкарской историей, продолжает возрастать не только вследствие полевых археологических изысканий, но и в результате переосмысления этнокультурной атрибуции ряда известных ранее могильников. Таковы, вкратце, некоторые итоги изучения балкарского средневековья. Подводя итог, можно отметить, что наряду с успехами имеются еще отдельные недоработки по такому важному вопросу, как генезис горского (в данном случае – балкарского) феодализма, особенности его развития и сословной дифференциации средневекового общества. Значительно лучше изучена сословная структура края по материалам XIX столетия. Но не во всех случаях поздние наблюдения могут быть экстраполированы на прошлое. Здесь еще предстоит восполнить ряд существенных пробелов. Несколько отстают от желаемого уровня и темпы изучения археологических памятников. В последние десятилетия усилия специалистов были направлены преимущественно на исследование и введение в научный оборот памятников, находившихся под угрозой уничтожения в зонах новостроечных работ, и по своей этнокультурной атрибуции не связанных с темой балкарского средневековья. Но по мере возможности параллельно изучаются и балкарские древности, причем в ряде случаев полевые изыскания увенчались заметными успехами. Выявлены новые памятники, продолжены раскопки на некоторых из известных ранее объектов, оживился интерес к «протобалкарским» древностям предгорной зоны, уточнены даты и атрибуция отдельных комплексов. В числе наиболее существенных сдвигов можно назвать и тенденцию к восполнению пробелов в географии полевых научных изысканий – в частности, начавшееся с конца 1980-х годов обследование древностей Суканского ущелья, до этого совершенно не изученного в археологическом отношении. В конечном счете, на сегодняшний день мы все же располагаем определенной совокупностью археологических источников, обладающих более или менее ощутимым информативным потенциалом. Примечания к главе I. 1. А.Н.Генко. Задача этнографического изучения Кавказа. СЭ, № 4-5, М-Л., 1936, с.18. 2. В.Ф.Миллер, М.М.Ковалевский. В горских обществах Кабарды. ВЕ, IV, СПб., 1884, с. 570. 3. Там же, с. 570; И.Иванюков, М.Ковалевский. У подошвы Эльбруса. ВЕ, I, 1886, с. 104105. 4. В.Я.Тепцов. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, XIV, Тифлис, 1892, с. 196. 5. Там же, с. 196-197. 6. Н.П.Тульчинский. Пять горских обществ Кабарды. ТС, V, Владикавказ, 1903, с. 164. 7. Там же, с. 164-167. 8. П.Раджаев. Экономический быт горцев Нальчикского округа, ЗХТО, I, Владикавказ, 1920. 9. У.Алиев. Карахалк. Ростов-на-Дону, 1927. 10. И.Тамбиев. Заметки по истории Балкарии. РГ, № 1-2, Ростов-на-Дону, 1993, с. 67. 11. Б.Е.Деген-Ковалевский. Обзор литературы по этнографии и археологии Кавказа за три года СЭ, № 4-5, М-Л., 1935, с. 286. 12. Б.Е.Деген. Курганы в Кабардинском парке города Нальчика. МИА, 3, М-Л., 1941, с. 293. 13. Р.М.Рамишвили. Основные проблемы изучения взаимосвязей между горными и равнинными регионами. ДНКППВМГРР, Тбилиси, 1984, с. 9. 14. Сборник, в котором была помещена статья Б.Е.Дегена, был издан непосредственно накануне Великой Отечественной войны (в 1941г.) и не успел поступить в продажу. Затем, с выселением балкарцев в Среднюю Азию, весь тираж сборника «был утерян». Его удалось «обнаружить» только в конце 1950-х годов, но известность он получил преимущественно среди археологов, редко обращающихся к проблеме горского феодализма. 15. Коллектив авторов. Народы Кавказа, т.I, М., 1960, с. 88-96. 16. Там же, с. 288. 17. Коллектив авторов. Очерки истории балкарского народа. Нальчик, 1961,с.27. 18. Там же, с. 31. 19. Там же, с. 33. 20. К.Г.Азаматов. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в первой половине XIX века. Нальчик, 1968. 21. Там же, с. 33-36. 22. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX века. КЭС, IV, М., 1969, с. 85. 23. Там же. 24. З.Анчабадзе, А.Робакидзе. К вопросу о природе кавказского горского феодализма. ВНСПИПАЭИ - 70, Тбилиси, 1971, с.56-59; А.И. Робакидзе. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе. ТДСПИПЭАИ - 74-75, Душанбе, 1976, с. 11-12; его же. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе. ГОЭОПОРФНСК, Махачкала, 1980, с. 3-5; и др. 25. А.И.Мусукаев. Балкарский «тукум». Нальчик, 1978, с. 32. 26. А.И.Мусукаев. О Балкарии и балкарцах. Нальчик, 1962, с. 37. 27. В.Б.Виноградов. Генезис феодализма на Центральном Кавказе. ВИ, I, М., 1981, с. 3550. 28. Там же, с. 44. 29. Г.А.Меликишвили. К вопросу о характере древних закавказских и средневековых горских северокавказских классовых обществ. Ж-л «История СССР», № 6, 1975, с. 52. 30. Р.М.Рамишвили. Ук. соч., с. 9. 31. В.М.Батчаев. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1986, с. 38-40. 32. В.М.Батчаев. «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел? – сб.: Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа. Черкесск, 1988, с. 160-180. 33. И.М.Мизиев. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Нальчик, 1991, с. 102. 34. Там же. 35. Там же, с. 103. 36. Е.Г.Битова. Социальная история Балкарии XIX века. Сельская община. Нальчик, 1997. 37. Там же, с. 135. 38. З.А.Кожев. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (XVIII в.). Автореф. канд. дис., М., 1998. 39. Там же, с. 23. 40. Р.Т.Хатуев. Карачай и Балкария до второй половины XIX века: власть и общество. – В сб.: Карачаевцы и балкарцы. Этнография. История. Археология. М., 1999, с. 5-198. 41. К.Фиркович. Археологические разведки на Кавказе. ЗИАО, IX, СПб., 1857, с. 392-403. 42. Там же, с. 396. 43. Там же, с. 400. 44. Там же, с. 401. 45. Отчет г.г. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ (Сванетию) с археологической целью в 1867 году, ИИРАО, VIII, вып.4, СПб., 1877, с. 331. 46. В.Я.Тепцов. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, XIV, Тифлис, 1892, с. 161-162. 47. Там же, с. 162. 48. В.Ф.Миллер. Терская область. Археологические экскурсии. МАК, I, М., 1888, с. 77-83. 49. Там же, с. 77. 50. Там же, с. 78-80. 51. Там же, табл. XVIII, а-б; с.82, рис. 74-75. 52. Н.Харузин. По горам Северного Кавказа. Путевые очерки. ВЕ, VI, СПб. 1888, с. 186. 53. Ныне хранятся в Санкт-Петербургском Государственном музее антропологии и этнографии. 54. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария.. , рис. на с. 98-104, 114, 117; его же. Альбом и макеты Д.А.Вырубова по этнографии и археологии Кабардино-Балкарии. СМАЭ, XXXIV, Л., 1978, рис. 2-5, 9, 14-20. 55. А.А.Иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии. МИА, 3, М-Л, 1941, рис. 9-10. 56. А.А.Миллер. Краткий отчет..., с. 73-81. 57. Некоторые из фотоматериалов экспедиции см.: Архив КБНИИ, инв. № 1051. 58. Л.И.Лавров. Из поездки в Балкарию. СЭ, № 2, М-Л, 1939, с. 178-181. 59. Л.И.Лавров. Об арабских надписях Кабардино-Балкарии. УЗКБНИИ, XVII, Нальчик, 1960, с. 116-118; его же. Эпиграфические памятники Северного Кавказа, ч.2, М., 1968, с. 122. 60. Л.И.Лавров. Этнография Кавказа. Л., 1982, с. 61. 61. А.А.Иессен. Ук. соч., с. 30-33. 62. Там же, с. 30-31. 63. Там же, с. 31. 64. Э.Б.Бернштейн. Народная архитектура балкарского жилища. МНС-59, Нальчик, 1960, с. 186-217. 65. Там же, с. 188. 66. М.И.Лежава, Г.И.Джандиери. Народная башенная архитектура. М., 1976. 67. З.Анчабадзе, А.Робакидзе. К вопросу о природе..., с. 58. 68. Р.Г.Дзаттиаты. Культура позднесредневековой Осетии по письменным и археологическим источникам. Автореф. докт. дис., Владикавказ, 2001, с.15. 69.П.Г.Акритас, О.П.Медведева, Т.Б.Шаханов. Архитектурно-археологичес-кие памятники горной части Кабардино-Балкарии. УЗКБНИИ, т.XVII, Нальчик, 1960, с. 67-96. 70. Е.П.Алексеева. Археологические раскопки в районе села Верхний Чегем в 1959 году. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с. 193-195. 71. И.М.Мизиев. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая. Нальчик, 1970. 72. А.Робакидзе. Форма поселения в Балкарии. МЭГ, XI, Тбилиси, 1960 (на груз.яз.; машинописн. текст. русск. перевода см.: Архив КБНИИ, инв. № 192); Т.Ш.Мибчуани. Этнокультурные связи горцев Грузии (сванов) с балкарцами и карачаевцами. Автореф. канд., дис., Тбилиси, 1978, с. 20. 73. Л.Г.Нечаева. О мавзолеях Северного Кавказа. СМАЭ, XXXIV, Л., 1978, с. 94-112. 74. Подробнее см.: В.М.Батчаев. Из истории..., с. 119. 75. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977, с. 121-129. 76. В.П.Кобычев. Типы жилища у народов Северо-Западного Кавказа в середине XIX века. КЭС, V, М., 1972, с. 155, примечание 28. 77. В.М.Батчаев. Отчеты об археологических экспедициях КБНИИ за 1983-1985, 1987 гг. Архив КБНИИ, инв. №№ 2332, 2343, 2393. 78. В.М.Батчаев. Из истории..., с. 14-21, 116-122; его же. Некоторые особенности башенно-склепового зодчества в Балкарии и Карачае. КЧ-XIV, Орджоникидзе, 1986, с. 6465. 79. Д.Вырубов. Раскопки кургана Хусанты близ поселка Зылги в местности Рахты. ТИМАО, М., 1900, с. 195-196; ОАК за 1897 г., СПб., 1900, с. 143; В.Ф.Миллер. Терская область, с. 80-81. 80. И.М.Чеченов. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969, с. 68-69, 94-95. 81. П.Г.Акритас. Археологические исследования Чегемского ущелья в 1959 г. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с. 177-192; Е.П.Алексеева. Ук. соч., с. 193-204; Г.И.Ионе. ВерхнеЧегемские памятники VI-XIV вв. УЗКБНИИ, Нальчик, 1963, с. 183-208; О.Л.Опрышко. Раннехристианский могильник в с. Верхний Чегем КБАССР. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с. 217-221; и др. 82. И.М.Чеченов. Древности..., с. 79-84, 118; В.П.Алексеев. Происхождение народов Кавказа. М., 1974, с.112, примечание 1; В.А.Кузнецов. Актуальные вопросы истории средневекового зодчества Северного Кавказа. СКДСВ, М., 1980, с. 165-166. 83. В.А.Кузнецов. Археологические разведки в Кабардино-Балкарии и районе г. Кисловодска в 1959 г. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с. 205-216. 84. И.М.Мизиев. Нижне-Чегемское поселение, УЗКБНИИ, XXV, Нальчик, 1967, с. 172176; его же. Средневековые каменные ящики в Верхней Балкарии. СА, 4, 1971, с.242-250; его же. Могильник у селения Ташлы-Тала. АЭС, I, Нальчик, 1974, с. 110-121; его же. Балкарцы и карачаевцы в памятниках истории. Нальчик, 1981, с. 26-31, 46-55. 85. В.М.Батчаев. Отчет об археологических работах 1977г. в районе с.с. Былым и Холам. Архив КБИГИ, №2275, с. 25-29. 86. И.М.Чеченов. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа. АИНКБ, т.3, Нальчик, 1987, с. 77-99. Глава II. Материальная культура и погребальный обряд Материал, характеризующий средневековую культуру Балкарии, представлен такими категориями древностей, как феодальные замки и наземные усыпальницы-кешене, остатки поселений и жилищ, могильники и погребальный инвентарь, надгробные каменные кресты и т.д. Значительная часть этого материала в общих чертах уже описана в литературе, однако допущенные при этом неточности, отдельные расхождения в вопросах интерпретации, а главное – появление новых материалов в ходе последних археологических экспедиций и архивных изысканий обусловили необходимость повторного обращения к теме. Феодальные замки Так называемое башенно-склеповое зодчество - специфический компонент средневековой материальной культуры горного Кавказа, стало привлекать внимание исследователей уже с первых шагов отечественного кавказоведения, но ряд связанных с ним вопросов все еще остается дискуссионным. Конкретные задачи данного раздела работы не предполагают обращение к проблеме горно-кавказского зодчества в целом, но некоторые ее аспекты так или иначе соприкасаются с рассматриваемым ниже кругом вопросов. Употребляемое здесь понятие «замок, замки» может показаться натяжкой, так как ни по размерам, ни по архитектуре, ни по количеству и составу их обитателей рассматриваемые памятники не сопоставимы с «классическими» замками Европы. Все дело в том, что в данном случае подразумеваются вовсе не «классические», а менее известные европейские соответствия, относящиеся к иной – раннефеодальной – эпохе, когда весь «замок» мог состоять лишь из одного-двух примитивных сооружений. По характеристике А.Л.Ястребицкой, «В X веке замок – это деревянная прямоугольная в плане башня (донжон), возведенная на естественном или насыпном холме». [1] К аналогичным выводам приходят авторы, посвятившие данному вопросу специальные исследования: на большей части Старого Света исходной формой феодальных замков служили укрепленные жилища (так называемые «дома-крепости») или просто башни, «объединявшие в одном лаконичном объеме все функции (жилья, обороны, хозяйственных помещений) и эволюционировавшие в сторону увеличения числа помещений». [2] Только по прошествии ряда столетий они превращаются в «великолепные замковые ансамбли». [3] Достичь такого уровня развития резиденции балкарской знати, конечно, не могли. Но в стадиальных пределах раннефеодальной формации они все же претерпели определенную эволюцию. При этом и функционально, и по своим социальнонормативным параметрам они всегда относились к числу тех категорий материальной культуры, которые призваны были подчеркнуть особый социальный статус владельцев. В этом смысле представляется достаточно обоснованным как наименование их «замками», так и сопоставление их с древнейшими замками Европы. Судя по письменным источникам, срубные постройки вертикальных пропорций прототипы каменных башен, получили на Западном Кавказе достаточно широкое распространение еще в древности [4]. Конечно, античные авторы имели в виду, прежде всего лучше известные им районы Причерноморья. Тем не менее, близкое сходство археологических культур на южных и северных склонах Большого Кавказа предполагает такое же сходство в сфере архитектуры, что подтверждается и результатами экспедиции 1977 г. В том году в окрестностях Былыма удалось выявить остатки срубной постройки эпохи бронзы, интерпретируемой именно как прототип средневековых каменных башен [5]. Между прочим, это древнейший из всех известных, и пока что единственный для всего горного Кавказа памятник подобного рода. По мере истребления лесных массивов, горцы все шире осваивали навыки каменного зодчества, и появившиеся здесь впоследствии аланы переняли у них если не все, то очень многое. Распространенные в аланскую эпоху подземные склепы зачастую представляют собой незаурядные образцы каменного зодчества, и не без оснований рассматриваются Л.Г. Нечаевой как дериваты аланских земляных катакомб. [6] Закономерно, что ранняя группа каменных башен Балкарии ничуть не «моложе» вайнахских, сванских или хевсурских, а в архитектурном отношении не имеет с ними почти ничего общего. Правда, в целом памятники башенного зодчества здесь все-таки относительно малочисленны: если, например, в Чечне или Сванетии такие сооружения исчислялись сотнями, то в Балкарии их было не более трех-четырех десятков. Но это объясняется очень просто: и в Чечне, и в Сванетии башни были родовыми, в то время как в Балкарии только феодальными. Надо полагать, что в дофеодальной Балкарии они были столь же многочисленны, как, скажем, и у южных соседей. В эпосе, преданиях, сказках и других жанрах устного народного творчества балкарцев башни упоминаются постоянно, упоминаются как вполне обычный элемент материальной культуры, и только в поздних циклах нартиады они являют собой уже прерогативу нарождающейся знати. [7] Вообще, в вопросе о количественной стороне дела важны не цифры сами по себе, а соотношение количества башен и замков с числом феодальных династий. В свете такого критерия тезис о малочисленности балкарских памятников представляется не столь уж бесспорным. Так, если на крайнем западе Балкарии, в Баксанском ущелье в средневековье господствовала только одна династия (Крымшамхаловы), [8] то число башенных сооружений доходило здесь до трех, [9] а в Холамо-Безенгийском ущелье, где известны только две династии (Шакмановы и Суншевы), замков и башен было шесть. [10] Если же ко всем известным на сегодняшний день памятникам такого рода добавить еще и целый ряд несохранившихся объектов, память о которых запечатлена в топонимах с компонентом «кала» («башня, замок»), [11] то приходится говорить уже не о единичности башен в средневековой Балкарии, а скорее об их «избытке». Вероятно, какая-то часть их вначале принадлежала свободным общинникам, а затем была разрушена в процессе феодализации общества; иные же могли принадлежать таубиям, но разрушены или заброшены в ходе феодальных усобиц, когда поголовно истреблялись целые фамилии. Некоторые из относительно поздних сооружений - такие, как, например, башня Абаевых в Верхней Балкарии, или Балкаруковых в Верхнем Чегеме сходны с башнями Осетии и Сванетии. Но лишь в единичных случаях такие сходства доходят до абсолютной идентичности, а в целом черты общности в архитектуре сопредельных районов связаны не только с имевшим когда-то место взаимовлиянием, но в значительно большей степени - с особенностями этнической истории, а следовательно, и культурогенеза. Например, источники XVI – начала XIX вв. неоднократно фиксируют наличие групп сванского этноса в Балкарии. Большинство их смешалось с местным населением и, конечно, оставило заметный след в материальной и духовной культуре балкарцев. В этой связи уместно отметить, что сходство со сванскими постройками обнаруживают также башня Ак-кала, замок Джабоевых и др. (с несохранившимися «коронками» по верхнему периметру башен). Еще с середины XIX столетия исследователи дифференцировали балкарские замки и башни на две основные группы: сооружения, воздвигнутые на труднодоступных высотах над поселениями, и сооружения в долинах, в черте поселений или в непосредственной близости от них. [12] Они отличаются друг от друга не только по своей локализации, но также хронологически и по архитектуре. Первая группа, безусловно, древнее, относящаяся еще к концу аланской эпохи, но эволюционировавшая (за счет поздних пристроек) и в последующем. Особенность их локализации отмечена в хрониках, повествующих о вторжении Тамерлана в горы Центрального Кавказа. «Крепости их были на вершинах гор, - писал, например, Низамаддин Шами, - а дороги к ним крайне трудны и тяжелы, так что из-за их большой высоты у наблюдающего темнело в глазах, а у смотрящего шапка падала с головы. Крепость же Тауса имела особенно прекрасное высокое строение...; стрела не достигала снизу доверху крепости, и без усилия ум не мог представить взятия ее». [13] О раннем происхождении первой группы помнило до недавнего прошлого и местное население, по словам которого, отступая в горы его предки видели укрепления «большей частью на высотах» [14]. Вероятнее всего, на данные устной традиции опирались и авторы указанной выше хронологической дифференциации - К.Фиркович, братья Нарышкины, В.Ф.Миллер и др. В 1987 и 2003 г.г. были проведены археологические раскопки на ряде рассматриваемых объектов. Результаты раскопок не только подтвердили, но и конкретизировали существующую хронологическую схему. [15] В 1970 г. была издана монография, посвященная башенно-склеповым сооружениям Балкарии и Карачая. [16] Вслед за своими предшественниками автор делит оборонножилые комплексы на две хронологические группы (с подгруппами), но при этом выдвигает собственные критерии. Например, к XIII-XIV вв. автор относит укрепления Болат-кала и Малкар-кала, в которых, как он полагает, «жили отдельные семьи выделявшейся социальной родовой верхушки», а «новыми, более совершенных форм оборонительными сооружениями..., где могла жить и обороняться раннефеодальная знать» XIV-XV вв., он считает замки Зылги и Усхур, «планировка и архитектурные особенности которых несут на себе явные признаки феодальных крепостей. В них уже налицо особо охраняемые цитадели - в Усхурской системе и центральный ярус Зылги». [17] Подобное хронологическое соотношение корректируется конкретным археологическим материалом. Отрицать какую бы то ни было связь между социальным развитием и развитием архитектуры, конечно, не приходится, и в этом автор прав. Но в данном случае она поддается фиксации не на примере конкретных объектов внутри той или иной группы, а скорее на суммарном сопоставлении одной группы памятников с другой. Судя по раскопкам 1987 и 2003 г.г., к числу наиболее ранних можно отнести такие объекты, как Усхур, Зылги, Малкар-кала и Болат-кала. В хозяйственной яме верхней башни замка Усхур обнаружены обломки глиняных сосудов, сближающихся с аланской керамикой домонгольского времени. [18] Подъемная керамика золотоордынского типа свидетельствует о том, что укрепление функционировало и в последующие столетия, а материалы склепового захоронения у нижней башни (возведенной позже всех остальных) позволяют уточнить верхнюю дату памятника: XV век. [19] Приблизительно те же хронологические рамки приемлемы и в отношении укрепления Малкар-кала. Наряду с фрагментами золотоордынской керамики здесь выявлено и несколько более архаичных маловыразительных обломков. В двух других объектах (Зылги и Болат-кала) явно превалирует керамика золотоордынской эпохи. Возможно, они возникли в XIII-XIV вв. и, судя по размерам бойниц, предназначенных для стрельбы из лука, были заброшены еще до широкого распространения огнестрельного оружия, т.е. до XVII-XVIII вв. Естественно, приведенный здесь перечень памятников ранней группы далеко не полон; учтены лишь те из них, степень сохранности которых позволяет констатировать хотя бы некоторые их архитектурные особенности. В своей совокупности они наглядно иллюстрируют ту раннюю стадию фортификационного искусства, когда не укрепление защищает местность, а, напротив: в выборе места для строительства укрепления решающее значение приобретают защитные свойства самой местности. Места для строительства замков выбраны чрезвычайно труднодоступные, на крутых и высоких, изобилующих обрывами горных склонах. Особенно удачно расположение замков Зылги и Болат-кала. Проникнуть в них - да и то с риском для жизни - можно лишь в одной определенной точке их периметров, что значительно облегчало оборону. Столь тесная связь локализации объектов с рельефом местности не могла не отразиться на особенностях архитектуры. В литературе уже отмечалось, что размеры и конфигурация планировки построек данной группы обусловлены, как правило, величиной и формой скальных выступов, на которых они возводились. [20] Действительно, размеры сооружений варьируют весьма существенно, а что касается планировки, то предпочтение геометрически правильным формам (квадрат, прямоугольник) отдавалось лишь в тех единичных случаях, когда свойства площадки все же допускали такое исключение. Отсюда самая заметная черта этих памятников – отсутствие определенных типов, «стандартов», строгая индивидуальность облика каждого из объектов. Эта черта исключает подбор близких аналогий за пределами Балкарии, и лишний раз свидетельствует о самобытности балкарского зодчества. Особенностью данной группы является и то, что часто фасадные стены построек слегка выгнуты наружу с целью расширить угол обзора, причем это могло делаться уже и вопреки конфигурации строительной площадки, путем расширения ее искусственной забутовкой. Все сооружения возведены на известковом растворе и отштукатурены только снаружи. В качестве строительного материала использованы красный плитняк, гранит, песчаник и т.д. Явных следов обработки камня нет, если не считать небрежно оттесанных наличников бойниц, входных проемов и стенных ниш. Но большинство их подобрано с расчетом на определенную устойчивость кладки, производившейся «вперевязку». Толщина стен варьирует в пределах 55-80 см. Несколько ниже этих показателей толщина стен сооружения 2 замка Болат-кала (45-50 см), а у сооружения 5 в Усхуре она превосходит средние данные (1-1,2 м.). В целом же рассматриваемые объекты заметно уступают сооружениям XVII в. как по толщине стен, так и по качеству кладки; сомнительно, чтобы они были рассчитаны более чем на 2 этажа. В целях сейсмостойкости корпусы построек (в тех случаях, когда это удается проследить) сужаются кверху. Все постройки однокамерные, площадью от 20-30 до 100 и более квадратных метров. Каждый комплекс состоит из 4-5 отдельных построек, возведенных на некотором расстоянии друг от друга, огражденных общей каменной стеной (Малкар-кала, Усхур) или же неприступностью самой скальной площадки (Зылги). Позже к некоторым из отдельно стоящих сооружений были пристроены по 1-2 небольших помещения. Исключение составляет лишь замок Болат-кала, расширявшийся - ввиду ограниченности скальной площадки - за счет не отдельно стоящих построек, а пристроек к корпусу основного сооружения. Ни в одной из построек не фиксируется забутовка нижнего этажа: во-первых, это было излишне уже ввиду труднодоступности самого местоположения объектов, а во-вторых, при недостаточно развитой системе кладки стены получались невысокими, и поэтому приходилось экономить внутреннее пространство сооружений. Необходимо отметить также наличие довольно глубоких, слегка расширяющихся книзу хозяйственных ям, прямоугольных ниш в стенах, иногда каменных лежанок. Стенные проемы существенно рознятся по величине даже в одной отдельно взятой постройке. Наиболее крупные из них служили бойницами для стрельбы из лука, мелкие же представляли собой обычные световые и смотровые отверстия, используемые в мирное время, когда бойницы были закрыты изнутри деревянными щитами. Образцами укреплений рассматриваемой хронологической группы являются, как уже отмечено, Малкар-кала, Зылги, Болат-кала (Черекское ущелье), Усхур (Безенгийское ущелье). Для примера рассмотрим здесь одно из них – Зылги. Оно состоит из пяти оборонительных 2 этажных сооружений, расположенных ярусами на крутом склоне скального выступа. Местоположение объекта почти совершенно неприступно, так как со всех сторон он окружен либо высокими отвесными обрывами, либо заграждениями из хаотически нагроможденных скал. Первый ярус состоит из самого крупного крепостного сооружения длиной до 10-12 м и шириной около 7-8 м, стены его местами сохранились на высоту 5-6 м. Целиком перегораживая собой единственно возможный доступ на территорию укрепления, это сооружение представляло собой передовой рубеж обороны, его передняя стена выгнута дугой для того, чтобы расширить угол обзора. Сразу же за ним, выше по склону располагается средний ярус из поставленных почти вплотную друг к другу трех построек. И этот плотный ряд башен, в свою очередь, целиком перегораживает доступ к последнему очагу обороны, своего рода «цитадели», т.е. к пятой башне, располагающейся на самом верху склона. Нельзя не обратить внимание на тщательную продуманность в системе взаиморасположения построек. Обойти нижний ярус с флангов – задача сама по себе неимоверно сложная. Но если противнику это и удалось бы, то он оказывался в ловушке: сзади – стена нижнего сооружения (несохранившаяся, но надо полагать – с бойницами), слева – обрыв, справа – скальная стена, спереди – бойницы построек среднего яруса. Причем фасады этих построек ориентированы на перекрестный обстрел, а ограниченность пространства между двумя ярусами предполагает расстреливание в упор. Неслучайно, конечно, и то, что средний ярус состоит из трех отдельных построек, хотя, на первый взгляд, проще было бы соорудить здесь одну большую. Здесь мы также видим расчет на изматывание сил противника; ведь одно дело брать приступом единственную башню, и совсем другое – целых три. Обуглившиеся комья пшеничных зерен, жернова от ручных мельниц, многочисленные пряслица, кости домашних и диких животных, куски железного шлака, принадлежности колыбелей, игральные кости-астрагалы, кресты-навершия так называемого кавказсковизантийского типа, и пр. – таков неполный перечень археологических находок, дающих некоторое представление о системе жизнеобеспечения, повседневном быте, занятиях и досуге, а также конфессиональной принадлежности обитателей замка Зылги. Следующая группа памятников - это башни и замки XV-XVI веков. Их нижняя дата определяется отсутствием керамики XIII-XIV вв., а верхняя - размерами бойниц, предназначенных для стрельбы не из огнестрельного оружия (получившего широкое распространение начиная с XVII столетия), а из лука. Правда, несколько черепков позднеордынского времени найдено в Джабо-кала, но, вероятнее всего, они попали сюда вместе насыпным грунтом в процессе нивелировки скальной поверхности пола. В данную хронологическую группу могут быть включены, прежде всего, замок Джабоевых, замок Курнаят и 1-я (полуразрушенная) башня Абаевых в с. Кюннюм. Сюда же – но пока лишь условно – включены еще два объекта: башни в Верхнем Холаме и в верховьях р. Сукан-су. Степень их сохранности не позволяет судить о размерах бойниц, но керамика XIII-XIV вв. в них не обнаружена, а по толщине стен и характеру кладки они почти идентичны с замками Джабоевых и Курнаят. Как и любое явление переходного периода, памятники рассматриваемой группы представляют картину, довольно пеструю во всех отношениях, совмещающую в себе некоторые особенности памятников как ранней, так и поздней групп. Это и одинокие башни вроде Суканской, это и грандиозный комплекс Курнаят; это и локализация их в низинах (башня Абаевых), но вместе с тем это и не утративший своего значения расчет на защитные свойства ландшафта, когда конфигурация плана постройки все еще обусловлена формой и размерами скальной площадки (замок Джабоевых). Любопытная деталь: по мере «перемещения» укреплений с высот в низины отсутствие естественной защиты вроде скальных обрывов компенсировалось тем, что башни сооружались на огромных валунах. Это, например, Суканская башня, «подстрахованная» еще и расположением самого валуна на островке в русле бурной реки. Впоследствии, в памятниках поздней группы, такие «валуны» начнут создавать искусственно, посредством забутовки первого этажа башни. Стены по-прежнему умеренной толщины, в пределах 50-80 см. Тем примечательнее тенденция к возрастанию их высоты. Например, судя по фотографии 1907 г., одна из боевых башен замка Курнаят имела не менее 4 этажей, а жилая (или «полубоевая») - не менее трех. Разрастание комплексов происходит не только вширь - за счет пристроек - но и «ввысь», за счет этажей, надстроенных спустя определенное время. Судя по строительным швам, замок Джабоевых был возведен в несколько этапов, то же можно сказать и о южной группе построек замка Курнаят. В этот период намечается дифференциация башен на боевые и так называемые «полубоевые», уже заметна тенденция к стандартизации их форм и размеров. Кроме того, впервые появляются элементы архитектурного декора в виде маленьких квадратных выемок, образующих горизонтальный ряд, треугольник, и т.д. К этому времени относится один из самых эффектных архитектурных комплексов средневековой Балкарии – замок Курнаят. К настоящему времени он разрушен почти до основания, однако любительские зарисовки конца XIX века, почтовые открытки с фотоснимками начала XX столетия, а также полевое археологическое обследование памятника все же дают некоторое представление о его внешнем облике. Местоположение замка на редкость удачно. В отличие от большинства ранних укреплений, он расположен на обширном плато с относительно ровной поверхностью размером около 28-30х75-80 м. Ввиду значительности такого пространства здесь осталось довольно много места и для «двора», исключительной по тем временам роскоши. Вместе с тем этот комплекс нисколько не уступает по естественной защищенности таким, например, замкам, как Зылги или Болат-кала, так как занимаемое им плато чуть ли не по всему периметру оканчивалось скальными обрывами. Такое сочетание делало замок Курнаят местом не только безопасным, но и удобным. Комплекс состоял из двух групп сооружений, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Первая, юго-западная группа состояла из четырех пристроенных друг к другу, а также пятой, пристроенной к оборонительной стене, сооружений. Главным из них являлась массивная «жилая» башня со сторонами 9х11,3 м и высотой около 8 м. На фотосъемке 1907 г. отчетливо видно различие в тональности штукатурки верхней и нижней части стен; совершенно очевидно, что верхний – третий этаж был надстроен много позже, уже после заселения замка. К ней пристроены еще две башни – «боевые», т.е. значительно меньшие по площади основания, но более высокие. Одна из них, разрушенная к 1907 г. на треть своей высоты, достигала 9-10 м. К жилой и к одной из боевых башен с северовосточной стороны пристроено 2-х этажное, трапециевидное в плане помещение, очевидно, для прислуги, его длина 10,3 м. Наконец, к северному углу оборонительной стены пристроено еще одно небольшое сооружение, скорее всего, для стражников. Вся группа строений вместе с оборонительной стеной расположена таким образом, что перекрывает собой единственно возможный доступ на территорию плато с юго-западной стороны. Вторая группа расположена в 20-25 м северо-восточнее, и состоит из четырех строений, а между этими двумя группами сооружена отдельная постройка, назначение которой неясно. Основным элементом второй группы также являлась «жилая» башня, хотя и не столь большая, как первая, но все же достаточно вместительная, с длиной сторон 9х9 м. Оборонительной стены здесь нет, поскольку особой необходимости в ней не было, сохранность их значительно хуже, чем у предыдущих. Несколько лучше, хотя также далеко не полностью, сохранился другой объект – замок Джабо-кала в Безенгийском ущелье. Он возведен на крутом склоне горного массива, на высоте около 160-180 м от уровня реки, на поверхности скального выступа. Составляющими этого комплекса являются четыре разноэтажных сооружения пристроенных друг к другу в ряд на верхнем ярусе скального выступа. Слоистые сколы от этого же выступа послужили строительным материалом, причем выборка камня производилась с таким расчетом, чтобы подогнать конфигурацию скальной платформы под форму и размеры занимаемой замком площади. В результате первые этажи строений оказались на высоте 6-7 м от земли, и, учитывая отвесные края платформы, доступ внутрь замка был невозможен без использования лестницы. Судя по характеру строительных швов, комплекс был возведен в 5 или 6 приемов с промежутками во времени. Сначала на восточной половине платформы построили двухэтажный «дом-крепость» со слегка наклонными внутрь стенами и пологим двускатным перекрытием. Затем к его восточному торцу пристроили 4-х этажную боевую башню. Далее по прошествии времени к западному торцу «дома-крепости» было пристроено почти столь же просторное помещение – вначале одноэтажное, а затем с надстройкой второго этажа. В той же последовательности – с последующей надстройкой 2-го этажа – была возведена и миниатюрная башенка, замыкающая комплекс с западного торца. В законченном виде общая длина всех построек верхнего яруса скальной платформы достигает 27 метров. В плане замок представляет нечто вроде прямоугольника с дуговидно выгнутыми наружу продольными сторонами; максимальная ширина прямоугольника 7 м. Высота 4-х этажной башни (полуразрушенной) около 9 м, высота «дома-крепости» до 6 м. Стены сложены на прочном известковом растворе, помещения оштукатурены изнутри и снаружи (за исключением надстроенных этажей двух последних пристроек). Снаружи вдоль верхнего края одного из помещений нанесен декор в виде «пунктирной» линии из миниатюрных квадратных выемок. Замок сильно разрушен; на лучше сохранившихся южных стенах комплекса отмечены пять бойниц различных форм и размеров – от крупных, предназначенных для стрельбы из лука, до миниатюрных, в виде узких смотровых щелей. Последний элемент комплекса – остатка какого-то хозяйственного сооружения на нижнем ярусе скальной платформы с западной стороны замка, в 24-25 м от него. Размеры сооружения приблизительно 15х5 м. Наконец, третью группу феодальных замков составляют наиболее поздние объекты, такие, как оборонно-жилые комплексы Абаевых в с.с. Кюннюм и Шканты (последняя известна по зарисовке и описанию XIX в.), еще три Верхне-Балкарские башни, известные только по фотоснимкам начала XX в., комплекс Амирхановых в Шканты, комплекс Аккала в Безенги, комплекс Балкаруковых в Верхнем Чегеме, и также 3-4 памятника, известные по рисункам в альбоме Д.А.Вырубова, и ошибочно идентифицированные Л.И.Лавровым с некоторыми из упомянутых объектов. [21] К моменту их первой фиксации в литературе (XIX в.) некоторые из них были обитаемы, или заброшены относительно недавно. Поэтому время их строительства можно было определить - хотя и приблизительно - по устной традиции и феодальным генеалогиям, а в наши дни эти сведения корректируются еще и осетино-сванскими аналогиями балкарских башен. Это преимущественно время с конца XVI-го по XVII век включительно, время массового распространения огнестрельного оружия (прежде всего в феодальных кругах). Правда, по мнению некоторых авторов, эта дата может быть расширена за счет XVIII-го столетия. Однако, среди перечисленных памятников нет ни одного такого, который с полной уверенностью можно было бы приурочить именно к этому столетию. В то же время известны достоверные случаи, когда образование новых феодальных фамилий в XVIII веке уже не сопровождалось строительством замков и башен (например, Урусбиевы). И хотя это обстоятельство еще не исключает отдельных рецидивов башенного строительства в XVIII веке, все же следует согласиться с К.Фирковичем, приурочившем верхнюю дату памятников к XVII-му столетию. Все укрепления этой группы локализованы в долинах, в черте поселений или в непосредственной близости от них. Теперь уже подступы к ним не защищены ландшафтными препятствиями вроде крутых и высоких склонов, отвесных обрывов скальных платформ и т.п. К тому времени социальная структура горских обществ стабилизировалась полностью, и феодальная формация утвердилась окончательно, были упорядочены отношения феодалов, как между собой, так и с внешним миром, а с инкорпорацией горской знати в феодальную иерархию Центрального Кавказа она обрела и кое-какую поддержку извне. Всеобщего мира и спокойствия, конечно, не было никогда, но все же будущее стало хоть в чем-то более предсказуемым, а индивидуальная защита феодалов сменилась хотя бы относительной сплоченностью отдельных группировок и союзов. В подобных условиях таубиям уже не было особой необходимости в самоизоляции на неприступных высотах, тем более что большинство ранних укреплений не было рассчитано на длительную осаду, а их комфортабельность была минимальна. Процесс стабилизации типов сооружений, наметившийся еще в предшествующий период, к XVII столетию был завершен. Правда, это относится главным образом к боевым башням. Сложнее обстоит дело с так называемыми «жилыми» (или полубоевыми) башнями. Известна версия, согласно которой балкарские башни невозможно дифференцировать на жилые и боевые: «очевидно, здесь они одновременно несли функции как жилых, так и боевых». [23] Но относительно памятников второй, и особенно третьей хронологической группы такой вывод нуждается в уточнении. Действительно, у нас нет оснований считать так называемые «жилые» башни столь же типичными для Балкарии, как, скажем, для Осетии или Ингушетии. В резиденциях некоторых феодалов башни только боевые. И все же, речь может идти не о полном отсутствии жилых башен, а лишь о большей вариативности их форм в Балкарии. Некоторые из них - например, изображенные в альбоме полковника Д.А. Вырубова совершенно идентичны с осетинскими. [24] Другим же вообще трудно подобрать аналогии, хотя сочетание в них жилищных функций с оборонными совершенно очевидно по наличию бойниц. Это, например, просторное двухэтажное помещение между двумя боевыми башнями замка Джабоевых, а также боковые пристройки к боевой башне безымянного замка, известного по рисунку в альбоме Д.А.Вырубова. [25] Судя по незначительным остаткам, такого рода пристройки имели и некоторые другие башни, а критерием их «полубоевых» функций совсем необязательно должно быть полное сходство форм с осетинскими или сванскими. Таким образом, относительно некоторых сооружений XVII века уже можно говорить как о боевых башнях в строгом смысле этого слова. Все они (за исключением башни Амирхановых) в плане квадратны, с длиной сторон в среднем 5х5 м или 6х6 м. Стены оштукатурены изнутри и снаружи, с внешней стороны они часто декорированы выемками в виде крестов, полосы из ряда мелких квадратов и т.д. Бойницы малых размеров и предназначены для стрельбы из огнестрельного оружия. Корпусы башен плавно сужаются кверху, число этажей варьирует в пределах 4-5, высота 16-18 м. В отличие от двух первых хронологических этапов, в рассматриваемое время значительно больше внимания стало уделяться бытовым удобствам. Это выразилось не только в переносе феодальных резиденций с высот в долины, но и в более обширной площади занимаемого ими пространства, большем количестве жилых и хозяйственных построек, не говоря уже о водопроводах, известных еще по раннесредневековому городищу Лыгыт. На связующем растворе возводились только башни, все остальные постройки сложены сухой, хотя и достаточно прочной кладкой. В отличие от ранних резиденций типа Зылги или Усхура, в которых все постройки комплекса более или менее равноценны по своим фортификационным качествам, в каждой из отдельно взятых усадеб XVII века башня является уже только единичным вкраплением в общую массу простых построек. Такое преобладание обычных неукрепленных сооружений дает основание предполагать, что единственная среди них постройка башенного типа представляла уже не только укрепление, но и своего рода символ, знак особого социального статуса владельца. В целом памятники третьей и отчасти второй группы воплощают собой уже более высокую ступень фортификационного зодчества и строительной культуры вообще. Это явление, безусловно, связано с расцветом всего башенно-склепового зодчества горного Кавказа. Вопрос о конкретных хронологических рамках данного этапа горнокавказского зодчества пока не решен окончательно. Но в любом случае не может остаться незамеченным то парадоксальное обстоятельство, что «расцвет» архитектуры, генетически обусловленной спецификой родового строя, приходится уже на период прочно укоренившегося феодализма, на период позднего средневековья. Очевидно, это один из тех редких случаев, когда социальный аспект проблемы не всегда и не во всем соответствует аспекту материальному, т.е. строительно-технологическому. Как отмечено выше, начиная с эпохи бронзы, башенные сооружения горного Кавказа были преимущественно срубными. И это продолжалось на протяжении почти всей их истории; даже в XVIII столетии Вахушти писал о «рачинцах, засевших в деревянных башнях». [26] Тогда же, в эпоху бронзы, горцы уже возводили и обычные жилища из камня (довольно примитивные), но в данном случае речь идет не о жилищах, а каменных башнях в несколько этажей, возведенных на известковом растворе. Первые опыты такого строительства приходятся только на XIII-XIV столетия, и выработанные предшествующими тысячелетиями навыки деревянного зодчества отныне уже не имели никакого практического значения. Иными словами, при всей древности традиций башенного зодчества «точка отсчета» в эволюции каменных башен приходится не на эпоху бронзы, а на XIII-XIV века новой эры - отсюда и столь «запоздалый» расцвет этого компонента культуры. Наземные усыпальницы (кешене) До недавнего времени в Балкарии было известно около пяти десятков наземных усыпальниц различной степени сохранности. Но на сегодняшний день некоторые из них не сохранились вообще, хотя в единичных случаях мы все же имеем возможность судить о них по описаниям и иллюстративному материалу в дореволюционной и довоенной кавказоведческой литературе. Другие - например, усыпальница легендарного Анфако, упоминаются в устной традиции, причем, судить о достоверности приводимых сведений не всегда представляется возможным. В настоящем экскурсе учтены лишь те из них, о типологических и иных особенностях которых мы можем судить с достаточной уверенностью. Очевидно, требует доработки предложенная ранее дифференциация, согласно которой 15 балкарских усыпальниц (без трех карачаевских) оказались представленными 8 типами – ситуация, уникальная в истории мировой архитектуры. Недостаточно обоснованы, в частности, критерии, взятые автором за основу такой дифференциации. Например, две круглоплановые усыпальницы (в Мухоле и Ташлы-тала) якобы отличаются друг от друга тем, что у одной из них стены «почти вертикальные». [27] В действительности никаких принципиальных отличий между ними нет, а незначительные расхождения в соотношении отдельных частей построек - явление в любом случае неизбежное и оно еще не дает основания для деления их на два типа. Нет таких оснований и в случае с прямоугольными мавзолеями, которые дифференцированы на типы по принципу наличия или отсутствия двориков [28]. Что касается усыпальницы у замка Джабоевых, то констатация автора, будто бы она сочетает в себе «куполообразное перекрытие круглых склепов и прямоугольное основание четырехгранных», [29] связаны с каким-то недоразумением. Отсутствие единого критерия и дифференциация памятников по признакам второстепенной значимости привели к искусственному усложнению всей типологической схемы. В действительности, по своим архитектурным формам наземные усыпальницы представлены только тремя основными типами: прямоугольные в плане с двускатным перекрытием, круглоплановые с полусферическим верхом, и многогранные с пирамидально-шатровым перекрытием. Первый тип насчитывает ныне 8 усыпальниц: 1 в Верхней Балкарии, 1 у замка Джабоевых в Безенгийском ущелье, 5 усыпальниц в некрополе Фардык в Верхнем Чегеме и еще 1 - мавзолей Камгута на окраине г. Тырныауза в Баксанском ущелье. Кроме того, мы располагали сведениями об особенностях еще трех несохранившихся до настоящего времени гробниц – Кашхатауской (кешене Урусбиевых), Усхурской (на территории замка), и Холамской (по фотоснимку 1939 г.). Во второй тип входит всего две усыпальницы. Одна из них расположена в верховьях реки Хазнидон, в 9 км от с. Ташлы-Тала; другая - в Верхней Балкарии, в пределах старого села Мухол. Усыпальниц третьего типа насчитывается девять: 3 в Верхней Балкарии (2 из них разрушены, но в публикациях В.Ф. Миллера и А.А. Миллера о них содержатся достаточно полные сведения - описание, фотографии, чертежи), [30] 4 - в Верхне-Чегемском некрополе Фардык, 1 - в с. Булунгу в Чегемском ущелье, еще 1 кешене Мисаковых – близ с. Кашхатау (не сохранилась; известна по фотоснимку 1939 г.). Все усыпальницы возведены на прочном известковом растворе из необработанных или грубо подтесанных камней. Заметно лучше обработаны камни, предназначавшиеся для возведения входного проема-лаза, а также выступающих наружу козырьков или угловые камни в основании усыпальниц и плоские плиты, представляющие одну из конструктивных деталей перекрытия. Во всех случаях применялась техника так называемого ложного свода, т.е. возведение стен методом напуска камней таким образом, что корпус сооружения постепенно сужается кверху, а затем переходит в полусферический, двускатный или пирамидальношатровый свод. Но поскольку усыпальницы возводились в различные века и разными мастерами, то конкретная специфика применения этого метода не всегда одинакова. В сооружениях некрополя Фардык (с. Верхний Чегем) Л.Г.Нечаевой отмечено применение деревянной опалубки, предназначавшейся как для стен, так и для перекрытий [31]. Автор полагает, что мастера целиком и полностью полагались на это приспособление. Но это не совсем верно: судя по сохранившимся отпечаткам деревянных конструкций, они - даже усиленные поперечными распорками - ни в коем случае не смогли бы выдержать столь значительное напряжение (толщина, стен усыпальниц нередко превышает 1 м, а высота их достигает 5-6 м). К тому же и сам факт использования напуска камней зачастую прослеживается в кладке совершенно отчетливо. А потому точнее было бы отводить указанным конструкциям не единственную и не решающую, а, скорее всего лишь вспомогательную роль. В какой-то (быть может, даже в существенной) мере они действительно могли быть рассчитаны на восприятие нагрузки стен и перекрытий, но вместе с тем это был и своего рода шаблон, позволявший корректировать заданные пропорции сооружения в процессе строительства. Таким образом, о разновидности «истинного свода», как то прямо или косвенно подразумевается в контексте излагаемой автором характеристике, говорить, все-таки не приходится. В работе другого автора истинный свод подразумевается уже совершенно недвусмысленно, так как речь здесь идет уже о «замковых камнях» на верхушках перекрытий [32]. Скорее всего, автор употребляет этот термин по какому-то недоразумению. Эти камни не могут быть замковыми по той простой причине, что назначение их не конструктивное, а сугубо декоративное. Наряду с рассмотренными выше известны и усыпальницы, возведенные без опалубки. Из сооружений 1-го типа это, например, усыпальница у замка Джабоевых. Не отмечены признаки применения опалубки и у памятников 2-й группы, т.е. круглоплановых мавзолеев в Ташлы-Тала и Верхней Балкарии. У мавзолеев 1-го и 3-го типов верхняя часть сооружения возводилась в технике ложного свода приблизительно на две трети или три четверти общей высоты перекрытия. Затем на нем горизонтально устанавливали несколько (от 2-3 до 9-10) плоских каменных плит, поверх которых устанавливалась глухая кладка, составлявшая верхушку перекрытия. Но вместе с тем, например, в кешене Аккуловых таких плит нет вообще, а в усыпальницах 2го типа (круглоплановых) они вмонтированы значительно ниже: в Ташлы-Талинский они находятся ровно посередине между полом и вершиной перекрытия, а в Мухольской - в средней части перекрытия. В двух последних случаях плиты настолько плотно подогнаны друг к другу, что установить наличие или отсутствие предполагаемой глухой кладки, к сожалению, не удалось. Но едва ли здесь приходится говорить о глухой кладке: при всей своей массивности плиты не выдержали бы столь чудовищную тяжесть, особенно в Ташлы-Талинской усыпальнице, где глухая кладка заняла бы половину всей высоты сооружения. Очевидно, в данном случае мы вправе предполагать конструкцию, аналогичную устройству одного из Карт-Джуртских усыпальниц (Карачай), т.е. двухъярусность. [33] Говоря иначе, внутреннее пространство перекрытий может оказаться полым, а горизонтально вмонтированные плиты могут нести функции крепленийраспорок. Практически все захоронения, имевшиеся внутри гробниц, давно ограблены, а во многих случаях и разрушены. Поэтому особенности погребального обряда и его эволюции прослеживаются лишь в самых общих чертах. В принципе этот обряд – особенно в доисламский период – ничем не отличался от общеэтнического, обнаруживая четко выраженную связь с традициями аланского прошлого. Заметна тенденция перехода от обычая коллективных погребений к индивидуальным, хотя, судя по материалам некрополя Фардык, семейные гробницы продолжали встречаться даже в начале XVIII в. Следует отметить также преобладание вытянутого трупоположения с западной ориентировкой. По способу захоронения прослеживаемый в усыпальницах обряд делится на два варианта: первый, продолжающий склеповую традицию алан – укладывание покойников прямо на полу; второй, связанный с одиночными захоронениями той же аланской эпохи (а в какойто мере, возможно, и с христианской традицией) – предание останков земле; самые поздние комплексы соответствуют уже погребальной обрядности ислама. Первый вариант отмечен пока лишь в прямоугольных усыпальницах. Так, в усыпальнице владетелей Усхурского замка выявлены перемешанные грабителями останки 20-25 человек, уцелевшие после ограбления вещи датируются в пределах XV столетия [34]. На полу же были зафиксированы останки двух погребенных в склепе близ замка Джабо-кала (XV-XVI вв.), [35] и одного в Верхне-Чегемском склепе близ церкви Байрым. Здесь скелет лежал вытянуто на спине, головой на запад. Склеп датирован П.Г.Акритасом аланским периодом, но ошибочность такого вывода уже отмечена в литературе [36] Очевидно, решающее значение в этом вопросе следует отвести тому обстоятельству, что речь идет о наземном склепе, а таковые появляются в Балкарии только в послемонгольскую эпоху. Поэтому наиболее приемлемой датой памятника представляется XV столетие. Второй вариант – погребение в земле – характерен для всех трех типов усыпальниц, а могилы внутри них представлены четырьмя основными типами: каменными ящиками, грунтовыми ямами, подземной сводчатой камерой (один случай), и поздними мусульманскими захоронениями. Каменные ящики характерны преимущественно для восточной части Балкарии. Здесь они обычны и в некрополях простых общинников, и в рассматриваемых нами наземных усыпальницах, независимо от их форм (возможно, единственным исключением являлся не сохранившийся до настоящего времени кешене Урусбиевых близ с. Кашхатау, в котором, по словам В.Миллера, скелет лежал «в земле», вытянуто, головой на запад). [37] В каждой гробнице имелось по одному, иногда два каменных ящика. Данных о погребальной обрядности практически нет, но в некоторых из них уже само расположение ящиков по линии СЗ-ЮВ (Мухол, Шканты) исключало западную ориентировку костяков. Заметим, что с XV-XVI вв. подобные отклонения от традиционных норм становятся явлением хотя и не массовым, но все же ощутимым также и в «рядовых» языческих захоронениях данного района. Из-за отсутствия датирующего материала хронология восточно-балкарских усыпальниц с каменными ящиками может быть определена лишь суммарно и сугубо гипотетически – приблизительно в пределах XVI-XVIII вв. Теперь о гробницах с грунтовыми погребениями. Как и в некрополях простого населения, они характерны, главным образом, для западных районов. Наиболее показательны в этом плане усыпальницы некрополя Фардык в Верхнем Чегеме. [38] В 1959 г. Е.П.Алексеевой здесь было доисследовано два ограбленных и разрушенных захоронения – одно в прямоугольном кешене, другое в 8-угольном. Первое она ошибочно датировала XII веком, второе – XVII-XVIII вв. [39] В 2003 г. на этом же некрополе нами обследовано 8 наземных гробниц: четыре прямоугольных (№№1,3,5,6) и четыре 8-гранных (№№2,7,8,9). В гробницах 1 и 7 оказалось по пять погребений, в гробнице 6 – одно, а в четырех остальных – по два. Кроме того, еще по два погребения вскрыто у стен усыпальниц 7 и 9, и три погребения у гробницы 8, на участках между этими строениями и окружающими их каменными оградками. Таким образом, с учетом этих последних, а также двух других, исследованных Е.П.Алексеевой в 1959 г., общее число зафиксированных комплексов составляет 29. За исключением двух могил, представлявших разновидность каменных ящиков (гробница №5, погр.1 и гробница №7, погр.1), все захоронения выявлены в грунтовых ямах, из которых некоторые были обложены и завалены камнями. Погребения индивидуальные, положение костяков прослеживается в 14 случаях. Независимо от конфессиальной атрибуции комплексов останки фиксируются вытянуто на спине, головой на запад (иногда с отклонениями). Черты мусульманской обрядности не отмечены только в гробнице №6. В гробницах №№2,3 захоронения только мусульманские, в остальных они встречаются вместе с захоронениями, конфессиональная атрибуция которых не поддается уверенной идентификации. Особенностью же мусульманских комплексов являются короткие поперечные горбыли или доски, перекрывавшие могильные ямы либо горизонтально сверху, либо наискось от верхнего края продольной стенки к нижнему краю противоположной. Такие погребения составляют примерно половину от общего количества исследованных, включая сюда и комплексы с перемешанными останками. К сожалению, то немногое, что чудом уцелело от инвентаря после многократных ограблений могил, не дает возможности датировать их с точностью до одного столетия (табл.XV). Над погребением №5, выявленном в ограде гробницы №9, была вкопана стела с эпитафией. Верхняя часть стелы отбита, в нижней же части надписи сохранилось имя «Мусса» и дата – 1140 год Хиджры, или 1719 год современного летоисчисления. Если учесть, что на участках между гробницами и их оградками захоронения совершались в последнюю очередь – когда внутри усыпальниц уже не оставалось места – то ясно, что сама гробница №9 была возведена значительно раньше указанной даты, чуть ли не на рубеже XVII-XVIII столетий или в первые 5-6 лет XVIII века. Но это - лишь один из хронологических параметров некрополя; в данном же случае нас более всего интересует вопрос о нижней дате мавзолеев. Весьма архаичен, в частности, облик погребений без отчетливо выраженных признаков мусульманской обрядности, но с остатками колод, гробов и их деталей вроде железных скоб и гвоздей. Правда, по мнению Р.А.Даутовой, ни гробы, ни колоды сами по себе еще не говорят о доисламской дате конкретных комплексов. [40] Факты, приводимые ею в пользу такого вывода, достаточно убедительны; не исключено, что указанный тезис действителен и в отношении некрополя Фардык. Тем не менее, мы никак не вправе игнорировать то обстоятельство, что ни гробы, ни колоды не разу не встречены в сочетании с такой специфической деталью мусульманских захоронений, как перекрытие могильной ямы из поперечных горбылей и досок. Отметим и другое. Еще в 1892 г. В.Я.Тепцов обратил внимание на различное расположение входных лазов: у прямоугольных усыпальниц Фардыка они устроены в восточной стене, а у 8-угольных обращены на юг (кроме 8-угольной гробницы №2). Автор склонен был объяснить это различие особенностями конфессиональной атрибуции памятников: прямоугольные гробницы – христианские, а многоугольные – мусульманские [41]. Теперь, когда мусульманские комплексы выявлены и в прямоугольных усыпальницах (за исключением гробницы №6), нам, казалось бы, остается лишь констатировать ошибочность мнения В.Я.Тепцова. Но, вероятнее всего, предположение В.Я.Тепцова не лишено оснований. Возможно, мавзолеи с лазами на восточной стене стали возводиться в «переходный» период, незадолго до исламизации части местных феодалов, и первые захоронения совершались в них по традиционным (доисламским) обрядам. А несколько позже в них же стали хоронить и родичей, перешедших в мусульманство. Сейчас это кажется чем-то невероятным, однако, в XVII-XVIII веках, когда о перспективах исламизации горцев современники чаще всего писали с иронией, такое было вполне возможно. Тем не менее, влияние мусульманского духовенства все же продолжало возрастать; не исключено, что следствием этого влияния явилась переориентация входных лазов в более поздних гробницах Фардыка. Как отмечено выше, архаичные по своему внешнему облику погребения (без досок и горбылей) выявлены и в 8-угольных кешене, но очевидно это и есть тот случай, когда, по мнению Р.А.Даутовой, они вполне могут оказаться мусульманскими (добавлю, что захоронения по всем канонам мусульманского обряда, но без деревянного перекрытия из плашек спорадически встречались даже в минувшем XX столетии). Таковы некоторые соображения, на основе которых я нахожу возможным датировать мавзолеи Фардыка не XVIII (как Л.Г.Нечаева), [42] а скорее XVII-XVIII столетиями. Обзор разновидностей могил внутри наземных гробниц-кешене мы завершим кратким описанием таковой в мавзолее Камгута Крымшамхалова, находящемся в Баксанском ущелье близ средневекового поселения Эльжурт. Мавзолей в плане прямоугольный (5,8 х 4 м.) с высоким двускатным перекрытием. До его разрушения общая высота у фасада достигала более 6 м. Несмотря на сравнительно большие размеры, он изначально был рассчитан только на одно захоронение. Находившаяся внутри него могила представляла собой нечто вроде саркофага, вытянутого с востока на запад, и частично углубленного в пол. Его продольные стенки плавно переходят в стрельчатый свод. В плане он представляет прямоугольник со слегка выгнутыми наружу длинными сторонами. Внутренние размеры: длина 2,7 м., ширина в средней части 1,1 м., ширина в торцах по 0,9 м., высота 1,3-1,4 м. В восточном торце «саркофага» устроено небольшое окошко. Судя по рисунку в альбоме Д.А.Вырубова, останки покойного были помещены в это сооружение в гробе. [43] При некоторой своей необычности отмеченный в кешене Камгута «саркофаг» все же не является чем-то новым в кругу погребальных памятников Балкарии. Близкие или даже идентичные конструкции, восходящие еще к прототипам аланской эпохи, неоднократно фиксировались в местных некрополях позднего средневековья. С другой стороны, в позднеаланский период в горах Центрального Кавказа нередко практиковалось захоронение отдельных знатных лиц в так называемых криптах – подземных сводчатых склепах, устроенных внутри небольших церквушек или часовен. Одна такая крипта выявлена, например, в церкви Байрым в Верхнем Чегеме. [44] Как известно, Камгут являлся одним из четырех братьев Крымшамхаловых, упоминаемых в документах российского посольства 1639-1640 гг. в Мингрелию. Но умер он задолго до переселения карачаевцев на Кубань, имевшего место как раз в те же годы. [45] Таким образом, рассмотренный памятник можно датировать приблизительно 20-ми годами XVII века. Вопрос о генезисе архитектурных форм мавзолеев-кешене Кабардино-Балкарии остается в числе наиболее актуальных. Сравнительно давнюю историю имеет версия происхождения прямоугольных гробниц от подземных и полуподземных склепов аланской эпохи, но относительно рассматриваемой территории она ставится под сомнение Л.Г.Нечаевой: «все архитектурные разновидности мавзолеев появились в Кабардино-Балкарии в XVIII в. «внезапно», не опираясь ни на какие местные традиции...» [46] (выделено мной; В.Б.). Вывод, надо сказать, более чем странный. Положим Л.Г.Нечаева могла упустить из виду склепы Верхне-Балкарского «городка мертвых», которые и по обряду и по архитектуре в пределах одного и того же некрополя отражают линию развития именно аланских традиций. Могла не придать значения мавзолею Камгута, который при всем желании невозможно датировать XVIII веком. Наконец, могла не вспомнить даже о тех наземных склепах Верхнего Чегема [47], которые буквально по всем признакам – сухая кладка, слегка сужающийся корпус, плоское перекрытие, квадратные и прямоугольные (а не арочные) лазы – идентичны с аланскими, и тем самым наглядно отражают процесс «выхода на поверхность» подземных и полуподземных склепов, процесс, наметившийся уже в первые столетия послемонгольской эпохи. Но, полагаю, мы вправе были ожидать разъяснений хотя бы по поводу того противоречия, которое возникает между выдвигаемой автором концепцией «исламского» генезиса прямоугольных мавзолеев и общепризнанным фактом их практически полного сходства с формами ... христианских церквей и часовен горного Кавказа. Последнее еще в довоенные годы было отмечено А.А.Иессеном, [48] и, кстати говоря, не только не противоречит, но скорее даже удачно дополняет версию «склепового» происхождения наземных усыпальниц. Ведь только влиянием церковного зодчества можно объяснить, например, такие особенности мавзолеев, как высокие двускатные крыши и штукатурная облицовка – особенности, которые никогда не были характерны ни для аланских склепов, ни для жилищного зодчества горцев. Концепция же Л.Г.Нечаевой, хочет этого автор или нет, неизбежно ставит нас перед абсурдной дилеммой: либо христианские постройки – следствие массовой «исламизации» края, либо наоборот – «мусульманские» гробницы были сооружены по образцам христианских церквушек. Много сложнее вопрос о генезисе усыпальниц второго и третьего типов, т.е. шести-, восьмиугольных и круглоплановых. Версия о связи 8-гранных гробниц типа ВерхнеЧегемских с процессом исламизации была выдвинута еще в дореволюционной литературе, [49] а в 1970-е годы ее в самой категорической форме отстаивала Л.Г.Нечаева, [50] мнение которой разделяют и некоторые другие кавказоведы. [51] Теперь, когда многие из выявленных на Фардыке погребений действительно оказались мусульманскими, вопрос, казалось бы, можно считать исчерпанным. Но, увы, до этого еще очень далеко, в чем нетрудно убедиться, обратившись к конкретным формулировкам и логике суждений сторонников этой версии. Поскольку в наиболее развернутой форме она впервые изложена в работе Л.Г.Нечаевой, то, прежде всего, рассмотрим приводимые ею аргументы. А суть аргументов, в общих чертах, сводится к следующему. Между архитектурой склепов и мавзолеев нет генетической связи, ибо это разные категории погребальных сооружений: склепы содержат останки десятков людей, уложенных либо на полки, либо на полу; мавзолеи же рассчитаны на 2-3 покойников, останки которых погребались в земле. Склепы характерны преимущественно для вайнахов и большей части Осетии, где они по архитектуре и погребальному обряду связаны с исконно местными традициями. Мавзолеи же распространены, главным образом в Кабардино-Балкарии, где они появились под влиянием извне, о чем свидетельствует предание останков земле и форма восьмигранных мавзолеев. Все эпитафии на мавзолеях относятся к XVIII столетию, следовательно, в XVIII веке вместе с исламом здесь появились и сами мавзолеи. Большинство мавзолеев возведено на известковом растворе с использованием деревянной опалубки-шаблона. А поскольку до XVIII века горцы не знали ни того, ни другого, то отсюда следует, что в большинстве случаев мавзолеи возводились странствующими строителями Востока. Надуманность всех этих «аргументов» столь очевидна, что они сводят на нет даже те немногие конструктивные моменты, которые, безусловно, имеются в работе Л.Г.Нечаевой. К сожалению, автор проявил здесь полнейшую неосведомленность в истории архитектуры не только мусульманского Востока, но даже горного Кавказа; далеко не бесспорны и сведения о погребальном обряде. Начнем с первого тезиса, т.е. с мавзолеев как соционормативном элементе культуры. Говоря о происхождении этого феномена, и Л.Г.Нечаева, и все ее последователи признают значимость социального фактора только на словах. На деле же все выводы авторов сводятся только к акцентации примера «знатных мусульман Востока» - столь неотразимо гипнотическое воздействие мусульманских эпитафий на гробницах. Едва ли есть необходимость доказывать, что фиксация социального статуса феодала в каких-то особых формах погребальных сооружений предполагается уже самой спецификой классового общества, что сама по себе это не ахти какая гениальная идея. О предании останков земле. В конкретных условиях Балкарии это был переход от склеповых захоронений (в которых тела усопших укладывались прямо на полу) к погребениям в простых грунтовых ямах или каменных ящиках, известных здесь с глубокой древности, а в аланскую эпоху существовавших параллельно со склепами. Однако по признанию самой Л.Г.Нечаевой, содержащемуся в одной из ее предшествующих работ, [52] в Балкарии этот процесс был завершен уже где-то в VII-VIII вв., и связан был вовсе не с исламизацией, а с инфильтрацией в горы тюрок. Констатация не совсем точная – склепы встречались и много позже. Но тенденция налицо и она никоим образом не связана с исламом. И хотя этот «переходный период» затянулся на ряд столетий (см., напр., Усхурский склеп), важно отметить, что он обрел глобальный характер, т.е. затронул все слои населения. В том числе и феодальные круги: выше уже говорилось неоднократно, что типы могил внутри мавзолеев полностью совпадают с локальными особенностями общесельских некрополей в том или ином районе Балкарии. Далее, о значимости эпитафий в вопросах генезиса усыпальниц. Логика автора здесь предельно проста: раз все эпитафии мусульманские, и раз все они относятся к XVIII столетию, то значит и «все архитектурные разновидности» мавзолеев появились в XVIII веке вместе с исламом. Но, как мы уже видели выше, такая логика совершенно не приемлема в отношении прямоугольных гробниц; в таком случае, где же уверенность, что по эпитафиям можно судить о времени появления граненых усыпальниц? Конечно, уверенности нет и быть не может. Иначе невозможно понять, например, каким образом на стенах «мусульманской» 8-угольной усыпальницы могли оказаться изображения двух огромных крестов? [53] Непонятно также, почему эпитафии имеются далеко не на всех мавзолеях, хотя многие из них были рассчитаны только на одно захоронение? Совершенно очевидно, что они были выстроены еще до того, как вместе с новой религией – исламом – появилась и письменность. Если под мавзолеями подразумевать не «архитектурный», а только социальный смысл термина, то, судя, например, по усыпальнице Камгута, они появились не в XVIII-м, а гдето уже в начале XVII века, если не раньше. Очень сомнительно, чтобы к тому времени ислам столь прочно утвердился в среде феодальной знати Балкарии; ведь даже исламизацию Кабарды Л.Г.Нечаева приурочивает к XVIII веку. В работе И.М.Мизиева, на которую Л.Г.Нечаева неоднократно ссылается, об этом говорится вполне определенно: XVI-XVII вв. – время полного и окончательного возобладания феодализма. Это получило отражение в таких зримых явлениях, как перенос феодальных резиденций из неприступных горных высот в долины [54]. В сфере погребальной обрядности подобным изменениям соответствовала «персонификация» монументальных надгробных сооружений, превращение их из коллективных усыпальниц в мавзолеи. Последний из рассматриваемых нами тезисов – о технологии строительства мавзолеев – способен ввергнуть в состояние шока даже неискушенного читателя. В самом деле, как можно всерьез говорить о незнакомстве горцев с кладкой камней на растворе вплоть до XVIII века, если в работе И.М.Мизиева, к которой автор постоянно аппелирует, говорится нечто совершенно обратное? И говорится вполне обоснованно, если учесть, что первые укрепления, сложенные на растворе, появились в Балкарии никак не позже XIV столетия. Но это еще куда ни шло. Недоумение вызывают понятия автора «о полном блеске и расцвете ... мастерства» [55] тех загадочных пришельцев с Востока, которые по окончании строительства мавзолеев оставили незаполненными довольно глубокие пустоты на стенах от бревен опалубки, а в ряде случаев ... не удосужились демонтировать даже саму опалубку (!). Конечно, будь Л.Г.Нечаева более последовательна в своих суждениях, она не преминула бы приписать «мусульманским» мастерам также и строительство, например, сванских башен, в которых неразобранные опалубки были обычным явлением. [56] Настаивая на версии экзогенности многоугольных гробниц, Л.Г.Нечаева сочла за благо воздержаться от поисков их исходных форм в странах мусульманского Востока. Этот пробел с лихвой восполнен ее последователями, а отчасти и предшественниками. Так, в 1949 г. К.Э.Гриневич пытался «выводить» их из Крыма, а в последние десятилетия особую популярность обрела версия из азербайджанского происхождения. [57] Однако эти направления поиска обусловлены не столько спецификой самого материала, сколько поверхностными ассоциациями и весьма приблизительным внешним сходством сопоставляемых объектов. Вопреки утверждениям отдельных авторов, ни в Крыму, ни в Азербайджане нет ни одной (!) абсолютной аналогии усыпальниц типа Фардыкских, а версия о центральнокавказских гробницах как «упрощенных» дериватах азербайджанских или крымских бездоказательна по существу. Единственная параллель – полигональность плана – дает основание констатировать лишь «точку соприкосновения», но если в интересующем нас вопросе исходить только от нее, то прототипы гробниц можно найти чуть ли не в любой точке земного шара. К сожалению, объем и структура главы не позволяет завершить приведенный экскурс хотя бы простым перечнем других, не упомянутых здесь, противоречий и курьезов. Но общее впечатление таково, что не лучшая из укоренившихся в кавказоведении тенденций – увлечение внешним фактором в вопросах культурогенеза – в случае с рассматриваемыми памятниками доведена до полного абсурда. Энтузиазм и чудеса эрудиции, проявляемые порой в поисках их экзотических прототипов, конечно, впечатляют. Но мне эти изыски все больше напоминают стрельбу из пушки по воробьям. Пора бы, кажется, понять, что речь у нас идет не о Парфеноне на склонах Эльбруса и не о Тадж-Махале в Чегемском ущелье, что проявление локального своеобразия в столь непритязательных по облику постройках вполне возможно и без подсказок со стороны. Похоже, однако, что сама мысль о такой возможности внушает сторонникам «мусульманской» концепции суеверный ужас. Иначе чем же объяснить столь упорное игнорирование ими факта, имеющего для решения затронутой проблемы решающее значение? Речь, в частности, об особенностях локализации многоугольных мавзолеев. Ведь еще А.А.Иессеном было отмечено, что в основной своей массе они сконцентрированы в Балкарии и Кабарде, что вне этого ареала они единичны и встречаются только в сопредельных с ним районах. [58] И если они действительно появились под влиянием Крыма или Азербайджана, если они действительно являются следствием исламизации, то закономерно возникает вопрос: а почему их нет на промежуточных территориях? Разве процесс исламизации не коснулся Дагестана, Чечни или Адыгеи? Или же на всем этом пространстве не нашлось ни одного феодала, желающего последовать примеру «знатных мусульман Востока», и увековечить память о себе в монументальной усыпальнице? Ответ может быть только один: многоугольные усыпальницы Балкарии – сугубо местного происхождения, а пресловутые «прототипы» Крыма и Азербайджана не имеют к проблеме их генезиса никакого отношения. Главная и единственная причина строительства мавзолеев в Балкарии – не конфиссиональная, а социальная. Наряду с такими памятниками средневековья, как замки и боевые башни, они представляли собой соционормативный компонент феодальной субкультуры. Все типы гробниц характеризуются единством строительного «почерка» и единством архитектурного стиля. Зародившись на территории Балкарии, формы многоугольных усыпальниц оказали некоторое влияние также на зодчество соседних районов (за исключение Верхней Сванетии, где в силу социальных причин мавзолеи не строились вообще). Наиболее ощутимо это влияние в Кабарде. Нельзя не согласиться с выводом Л.И.Лаврова, считавшего, что «появление мавзолеев у кабардинцев в конце XVII века правдоподобнее рассматривать как результат усиления культурного контакта кабардинцев с соседними горскими народами и в первую очередь с балкарцами». [59] Встречающиеся иногда попытки пересмотреть это положение [60] откровенно наивны, тем более что исходным пунктом суждений служит в них все та же теория крымских прототипов. Отрицать роль ислама в интересующем нас контексте целиком и полностью, конечно, нельзя. Но, на мой взгляд, она состояла вовсе не в том, в чем ее принято видеть. Скажем, строительство мавзолеев в Кабарде действительно приходится преимущественно на время исламизации (хотя отдельные случаи могли иметь место и раньше). Однако, вопреки мнению Л.Г.Нечаевой – и это важно подчеркнуть – оно знаменовало собой не переход к каким-то «исламским» формам погребальных сооружений, а, прежде всего альтернативу заведомо языческой традиции погребения в курганах. Поэтому типы каменных гробниц не имели существенного значения. Несколько иначе обстояло дело в Балкарии. Здесь доисламское прошлое ассоциировалось не с курганами, а с прямоугольными наземными гробницами, о сходстве которых с христианскими церквушками и часовнями уже говорилось выше. Судя по материалам Фардыка, первых неофитов из числа таубиев, принимавших ислам пока еще формально, из конъюнктурных соображений, это сходство не очень уже и беспокоило. Их хоронили рядом с сородичами в выстроенных ранее прямоугольных кешене. Но со временем все же намечается тенденция к более широкому, чем в XVII веке, распространению «нейтральных» по происхождению 8-угольных усыпальниц. За исключением лишь одной, последние на Фардыкском некрополе локализованы обособленно от прямоугольных, и, судя по эпитафии у гробницы №9, построены позже всех остальных. И последнее. Вполне возможно, что элементы сходства круглых и граненных мавзолеев с подобными постройками в тюрко-монгольских (а не «мусульманских») регионах действительно неслучайны. Неслучайны – вовсе не в том смысле, каком это нам пытаются внушить. А только в том, что ввиду заметной роли кочевников в этногенезе балкарокарачаевцев здесь не исключена и вероятность конвергентных совпадений в закономерностях эволюции народного зодчества. Одной из таких закономерностей, более или менее глобальных в пространстве и времени, было преобладание круглых и многоугольных в плане построек, реликты которых сохранялись еще многие столетия после полной и окончательной седентаризации номадов. В частности, надгробные сооружения с подобной планировкой никогда не были редкостью для тюрок. Некоторые исследователи склонны связывать зарождение этой традиции с древним обычаем оставлять на месте захоронения кибитку или юрту покойного. [61] Так это или нет, но почти во всех указанных регионах – и в Азербайджане тоже – историки идентифицируют исходные формы многих мавзолеев именно с разновидностями кочевнического и «посткочевнического» жилища. [62] В том числе – и с многоугольными срубами, единичные образцы которых фиксировались в Балкарии и Карачае еще в XX столетии. [63] Являются ли граненые мавзолеи типа Фардыкских дериватами таких жилищ, или они восходят еще к тем «остроконечным домикам», о которых в начале XIII в. писал Рубрук, пока трудно сказать. Совершенно бесспорно только то, что в народном зодчестве Балкарии они глубоко самобытны, и никоим образом не обязаны своим происхождением влияниям извне. Поселения и жилища Картографируя бытовые памятники предшествующей, аланской эпохи, А.А.Иессен акцентировал такую особенность, как локализация их «гнездами», т.е. компактными группами из нескольких - от 5-7 до 12-15 и более - городищ и поселений, находившихся в пределах визуальной связи друг с другом. При этом к какому-либо одному городищу более крупному и лучше укрепленному - тяготеют другие, меньшие по размерам, а с каждым из гнезд связаны еще выносные форпосты для наблюдения за ближними подступами к черте поселений; на равнине чаще всего такими форпостами служили насыпи древних курганов с уплощенной поверхностью. Автор полагал, что боеспособное население каждого гнезда представляло собой отдельное воинское подразделение. [64] Анализ позднесредневековых балкарских поселений позволяет констатировать, что принцип их локализации почти не изменился с аланской эпохи. По существу это те же самые «гнезда»: Верхне-Балкарское, Суканское, Верхне-Чегемское и др. Неизменной в принципе оставалась и система защиты, контроля над подступами к «гнездам» и некоторые из иных реалий прошлого. Но кое-какие перемены все же произошли, и наиболее заметная из них - это окончательное возобладание поселений, лишенных искусственных общесельских укреплений и такой природно-географической зашиты, как крутые склоны, отвесные обрывы и т.д. (разумеется, общесельскими укреплениями нельзя счесть феодальные замки). Неприступные городища-крепости вроде Лыгыта стали отходить в прошлое, типичными становятся поселения в долинах Северной депрессии, локализованные на пологих склонах горного массива. Правда, такие поселения известны с глубокой древности, были они и в аланскую эпоху, но тогда они представляли лишь одну из разновидностей горских аулов; теперь же, как отмечено, они становятся преобладающими. Пожалуй, единственное исключение составляет Суканское городище позднего средневековья, огражденное с наиболее доступной западной стороны мощной каменной стеной протяженностью около 200 м. Последнее, очевидно, связано не столько с живучестью аланских традиций, сколько с особенностями местоположения городища - в непосредственной близости от залежей серебряной и свинцовой руды. Очевидно, эти залежи могли служить яблоком раздора для различных феодальных группировок края и быть причиной вооруженных конфликтов. Наглядным подтверждением тому являются события 1628-1629 гг., когда о здешней руде стало известно даже в далекой Москве, и когда суканцам пришлось противостоять многократно превосходящим их по численности дружинам кумыкских и кабардинских феодалов (см. гл.IV). Вопрос о причинах «дефортификации» балкарских поселений довольно сложен; вероятнее всего это явление связано с какими-то процессами социального порядка. Необходимо отметить, что переселение горцев из труднодоступных мест в долины имело место и в других частях региона. [65] Едва ли можно счесть бесспорным вывод, будто для средневековой Балкарии более характерен тип поселений, локализованных «в естественно защищенных местах» [66]. Формулировка «естественно защищенные места», данная без конкретных пояснений понятие настолько широкое, что при желании оно вполне применимо к местоположению почти любого из упомянутых автором поселений - Кюннюм, Шканты, Шаурдат, Мухол, Коспарты и др. [67] Но внести ясность в этот вопрос не столь уж и трудно - достаточно лишь сопоставить эти поселения, например, с городищем Лыгыт (XIII-XIV вв.). Окруженное высокими отвесными скалами, а с юго-запада огражденное глубоким речным каньоном, усиленное искусственными укреплениями, оно было практически неприступно, а единственный узкий проход на его территорию имелся только в одной точке его периметра. В этом отношении перечисленные аулы, даже и расположенные на более или менее высоких склонах гор, все же заметно уступали Лыгыту. Наиболее показательны в интересующем нас плане старые поселения типа Курнаята, Коспарты, Зылгы и т.д. В целом они не претерпели коренных изменений ни в принципах организации пространства, ни в морфологии, ни в жилищной архитектуре вплоть до начала XX столетия. Поэтому остатки этих поселений, изученные Э.Б.Бернштейном, А.И.Робакидзе, Ю.Н.Асановым, В.П.Кобычевым и другими, дают относительно полное представление о некоторых особенностях данного компонента материальной культуры. Почти все поселения указанной группы возникли на более или менее доступных склонах горного массива неподалеку от рек или родников, и почти все были полигенные. Жилища располагались, в общем, довольно компактно, хотя их чрезмерная скученность, о которой принято говорить, имела место далеко не всегда. Улиц в современном смысле этого слова, конечно, не было, что помимо прочего можно объяснить и спецификой занимаемой поселением местности. Но всякого рода проходы, тропинки, узкие извилистые переулки были во всех поселениях. Общественные мероприятия по благоустройству сел нельзя назвать явлением очень уж распространенным, но все же они оставили достаточно заметные следы. По мере возможности улочки выравнивали, трамбовали, обкладывали булыжником, срезы горных склонов вдоль дорог и тропинок в черте села предохраняли от оползней и обвалов стенами циклопической кладки. Искусственное террасирование склонов, о котором принято упоминать лишь в связи с вопросами горного земледелия, нередко применялось и на территории поселений, хотя получавшиеся при этом площадки были и не особенно велики. Следы террасирования совершенно отчетливо прослеживаются, например, в некоторых частях поселения Кюннюм, а в селе Шики срез террасы был укреплен мощной каменной стеной, сужавшейся кверху не плавно, а уступами. Иногда террасирование применялось и на территории сельских кладбищ. В случаях, когда поблизости не было пригодной для питья воды, к селу проводили водопровод и примитивные подобия акведуков. Один из таких водопроводов был исследован нами в 1977 г. в с. Верхний Холам. [68] Едва ли не самой заметной особенностью внешнего облика поселений являлось сочетание горизонтали множества одноэтажных крестьянских жилищ с вертикалью 1-2 боевых башен, по которым всегда можно было определить местонахождение феодальной резиденции. К тому же, башни выделялись еще по цвету и фактуре, так как, за исключением церквушек и часовен, это были единственные во всем селе отштукатуренные постройки. В 1993 г. археологической экспедицией КБНИИ было начато обследование позднесредневекового городища в верховьях реки Сукан-су, входившего в систему Суканского «гнезда» балкарских поселений. Городище находится в 15-16 км к юго-западу от с. Верхняя Жемтала, на правом берегу реки Сукан-су. Оно расположено на склонах горного массива, и занимает площадь приблизительно 200х200 м. Судя по наличию здесь склепового могильника аланской эпохи, оно было основано не позднее эпохи раннего средневековья, и продолжало функционировать где-то до XVII-XVIII веков. Обнаруживая много общего с синхронными бытовыми памятниками других ущелий Балкарии, оно в то же время имеет и некоторые особенности. Как уже отмечено, одна из таких особенностей состоит в наличии оборонительной стены. Она защищала городище с наиболее уязвимой западной стороны, и была сооружена вверх по склону с юга на север. Общая длина ее около 200 метров, в соответствии с рельефом поверхности склона она образует ряд зигзагообразных изгибов. Стена сложена из необработанных камней, но довольно тщательно. Местами она сохранилась на высоту 1-1,3 м, толщина стены варьирует в пределах от 0,5-0,6 м до 1-1,3 м. На поверхности городища заметны остатки нескольких десятков жилищ, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, но эта лишь та часть построек, которая поддается визуальной фиксации. Интересно, что большинство их было пристроено к валунам, и в этом состоит еще одна особенность городища. Необычно и то, что боевая башня одного из местных феодалов построена не над селом, а внизу, в русле реки, на поверхности валуна. Кроме того, на территории городища зафиксировано несколько круглых и овальных каменных выкладок, очевидно, загонов для овец. В русле древних местных традиций продолжалось и развитие жилищного зодчества. Обобщение археологического материала (Лыгыт, Эль-Джурт, Сукан-су и др.) и сопоставление их с этнографическим позволяет хотя бы в самых общих чертах воссоздать облик «среднего» крестьянского жилища. Обычно это были не особенно вместительные по современным понятиям прямоугольные одноэтажные постройки, сооруженные из необработанных или лишь слегка подтесанных камней сухой кладкой. Качество кладки хотя и высокое, но все же заметно уступает той, которую можно видеть в большинстве подземных склепов аланской эпохи. На первый взгляд это кажется странным, но все дело в породе камня: для аланских склепов применялись слоистые породы, поддающиеся идеально ровному сколу и потому весьма удобные для ровной и плотной кладки, но зато совершенно непригодные для жилищного строительства ввиду их хрупкости и неустойчивости к воздействиям атмосферной среды. Фундамента как такового в жилищах не было, однако в нижних рядах кладки камни, как правило, были крупнее и прочнее остальных. Возводимые без известкового раствора, такие стены не могли выдержать чудовищную тяжесть толстого земляного перекрытия, и в тех случаях, когда площадь жилища была значительной, основная нагрузка от перекрытия приходилась на опорные столбы. [69] В стенах часто устраивались квадратные, прямоугольные или трапециевидные ниши для мелких вещей, а вдоль одной или двух стен располагались лежанки; то и другое известно еще с аланского времени. С того же времени сохранились до этнографической действительности глубокие, часто облицованные камнем, ямы для хранения продуктов, устраивавшиеся в полу жилища. Наиболее распространенным типом очага было квадратное углубление в полу в виде открытого каменного ящика. Иногда вместе с таким же очагом устраивали и другой - с горизонтально установленной тонкой каменной плитой для выпечки хлеба и для сушки зерна. Оба типа очагов относятся к числу древнейших, известных еще по материалам Былымского жилища эпохи бронзы. [70] «Окна» представляли собой узкие щели-бойницы, а в одной из стен устраивали проем для двери, запиравшийся на ночь изнутри на деревянный засов; обнаружены и так называемые «пяточные камни» от дверей. В подавляющем своем большинстве жилища были однокомнатными; в последующем, по мере сегментации семьи к ним сбоку пристраивали особые помещения для молодоженов, а весь усадебный комплекс довершали одна или несколько хозяйственных построек. В каждом конкретном случае величина жилища зависела от материальных возможностей хозяина, а потому крохотные лачуги площадью не более 10-12 кв.м. продолжали встречаться у беднейших слоев населения вплоть до начала XX столетия. Но если говорить о каких-то общих тенденциях, то все же нельзя не отметить некоторое увеличение площади «среднего» горского жилища и более значительную толщину его стен по сравнению с жилищами наиболее раннего из обследованных в высокогорье средневековых городищ - Лыгытского. Главное же, Лыгытское городище отличается от более поздних поселений еще и полным отсутствием хозяйственных помещений и дополнительных жилых пристроек к домам. Последние два отличия некоторые исследователи объясняют тем, что городище Лыгыт было патронимическим, [71] отражающим довольно архаичную стадию социальной организации. [72] Если это действительно так, то абсолютное преобладание в средневековой Балкарии полигенных поселений и обособленных усадеб с хозяйственными постройками нельзя расценить иначе, как следствие феодализации общества. По принципу местоположения жилищ обычно выделяют две основные их разновидности: построенные на открытом ровном месте, и на склоне горного массива, когда задняя стена дома как бы «врезана» в срез склона. Но, как отмечено выше, существовал и несколько иной способ сооружения жилища, когда в качестве его четвертой стены служил скальный обломок или валун. Более всего этот способ был характерен для Суканского городища, на территории которого нами зафиксированы остатки свыше десятка таких построек. Одна из них исследована в 1994 г. В плане она представляет собой почти правильный квадрат со сторонами 3,85х3,45 м. Стены жилища ориентированы по странам света, причем северной стеной служит обломок скалы высотой более 4 м. Почти то же можно сказать и о южной стене - с той лишь разницей, что высота скального обломка достигает здесь всего 1,35 м, а выше следует кладка стены. Целиком сооружены строителями только восточная и западная стены толщиной 80-90 см, причем нижние ряды кладки состоят из более крупных камней. В юго-западном углу оставлен дверной проем шириной 85 см. Кроме того, в западный стене на высоте 73-74 см от пола имеются две прямоугольные ниши высотой по 40 см и глубиной по 50 см. В центре помещения выявлены обломки плит - остатки разрушенного очага, а вдоль восточной стены - еще несколько камней, очевидно, опоры для ножек деревянного топчана. Вещевые находки немногочисленны - несколько костей животных, около двадцати фрагментов глиняного и три обломка стеклянного сосудов. К восточной стене жилища пристроено хозяйственное помещение площадью 3,7 х 2,2 м. Кладка стен здесь довольно небрежная, а само помещение представляет в плане неправильный прямоугольник. Несмотря на позднюю дату описанного жилища (приблизительно XVI-XVII вв.), в нем довольно отчетливо прослеживаются традиции жилищного зодчества «каменных» городищ Алании: относительно малые размеры и однокамерность, квадратные пропорции плана, ориентировка стен по странам света, сухая кладка «тычком» и «ложком». [73] С теми же традициями связано наличие стенных ниш, а также едва заметная выгнутость наружу одной из стен, никак не обусловленная рельефом строительной площадки. Конечно, помимо охарактеризованных выше, в средневековой Балкарии были и иные разновидности жилья, в частности срубные, а ниже Северной депрессии - например, на Бабугентском поселении - также и турлучные. Но первые пока не поддаются археологической фиксации, а вторые не изучены. Кроме того, по предположению И.М.Чеченова, некоторые из круглых каменных выкладок Верхнего Чегема, известные в литературе как остатки боевых башен, в действительности могут оказаться чем-то вроде оснований кочевнических юрт. [74] Вопрос о феодальных резиденциях вкратце рассмотрен выше, и очевидно здесь нет необходимости обращаться к нему вновь. Нелишне было бы акцентировать только один существенный момент. В частности, сопоставляя усадебные комплексы таубиев и простых горцев, авторы некоторых обобщающих работ по истории края почему-то сводят вопрос о различиях лишь к количественной стороне дела: «Жилища таубиев отличались большими размерами, были более благоустроенными и имели больше хозяйственных помещений». [75] Все это подразумевается само собой, и было бы удивительно, если бы дело обстояло както иначе. Но ограничивать суть затронутого вопроса лишь количественными критериями неприемлемо методологически. В данном случае куда важнее критерии соционормативные, отражающие не материальные возможности того или иного лица, а его социальный статус. Крестьян, способных обзавестись обширной усадьбой, было в Балкарии немало, но никто не позволил бы им возвести эту усадьбу в верхней части горного склона над селом, построить в ней боевую башню, провести туда «персональный» водопровод, и окружить усадьбу мощной оборонительной стеной. Все это - как и многое другое - было прерогативой феодальной знати. Погребальный обряд и вещевой материал Будучи одним из самых «интимных» проявлений духовной культуры, погребальный обряд всегда представлял особый интерес в качестве этнического индикатора, а его трансформация зачастую обусловлена процессами первостепенной значимости этническими, идеологическими, социальными. Консервативность погребального обряда, его устойчивость к спорадическому и поверхностному воздействию инородной среды общеизвестна. Поэтому резкая трансформация обряда никак не может быть случайной; как правило, она адекватна темпам и масштабности отражаемых им процессов. На материалах средневековой Балкарии этот вопрос разработан недостаточно полно. В одной из своих ранних работ В.А.Кузнецов писал, что в аланскую эпоху для территории Балкарии более всего были характерны коллективные захоронения в подземных склепах, причем этническую атрибуцию этих сооружений автор связывал с аборигенами высокогорной зоны. [76] Л.Г.Нечаева рассматривает склепы как приспособленную к горным условиям разновидность аланских земляных катакомб, но верхнюю дату склепов ограничивает VII-VIII веками, и связывает их исчезновение с инфильтрацией тюрок. [77] В.Б.Ковалевская, как и большинство кавказоведов, считает склепы погребальными сооружениями аборигенов, но верхнюю дату доводит до XIII века. [78] По мнению И.М.Чеченова преемственная связь в погребальном обряде раннего и позднего средневековья прослеживается пока лишь в восточной части Балкарии; к западу же от Чегемского ущелья она неоднократно прерывалась вторжением степняков, причем такие вторжения имели место еще до средневековья. [79] Наконец, по мнению И.М.Мизиева, с рубежа XIV-XV вв. в Балкарии происходит переход от обряда коллективных захоронений к одиночным, однако, подчеркивает автор, эти изменения не были обусловлены какимилибо этническими процессами. [80] При всем разнообразии приведенных мнений в чем-то они, безусловно, сходны, в чем-то удачно дополняют друг друга, а в чем-то и противоречивы. На мой взгляд, при всей ценности делаемых обобщений, пожалуй, ни одно из них не может быть принято безоговорочно. В контексте рассматриваемой темы нас более всего интересует трансформация обряда в послемонгольский период. Но для того, чтобы выявить характер изменений и их причинную обусловленность, необходимо, прежде всего, уточнить исходные данные. Поэтому начать придется с краткого обобщения материалов аланской эпохи. Напомню, что по наблюдениям В.А. Кузнецова, самым распространенным видом обряда в Балкарии были коллективные захоронения в подземных склепах, в которых скелеты фиксируются в вытянутом положении на спине, головой на запад; индивидуальные же захоронения в грунтовых ямах и каменных ящиках встречаются лишь спорадически и не определяют специфику обряда в целом. По мнению же И.М.Чеченова, подземные склепы присущи главным образом западной части Балкарии (верховья Малки и Баксана), а далее к востоку получили распространение каменные ящики и грунтовые могилы. [81] Однако в свете археологических изысканий последних лет более обоснованным все же представляется вывод В.А.Кузнецова. Дело в том, что обширные некрополи с подземными склепами выявлены недавно в Суканском, Безенгийском и Хазнидонском ущельях, [82] где они ранее не были известны. В совокупности со склепами Верхне-Балкарского «городка мертвых» они приходятся как раз на восточную часть Балкарии. Что касается грунтовых могил и каменных ящиков той поры, то в подавляющем большинстве случаев они приурочены к аланской эпохе лишь ориентировочно и не всегда убедительно. Общее количество их не превышает двух десятков, что в пересчете на обряд коллективного захоронения соответствует одному - двум подземным склепам. Правда, иногда удавалось фиксировать «обширность» некоторых могильников с одиночными захоронениями - например, Безенгийского. [83] Но, во-первых, единственное из раскопанных здесь погребений оказалось пустым, и ранним средневековьем могильник датируется лишь «ориентировочно». [84] Во-вторых, удельный вес одиночных захоронений определяется не по площади занимаемого ими могильника, а опять-таки в пересчете их на обряд коллективных захоронений (занимавших, кстати, ничуть не менее обширные площади: в одном лишь Былымском некрополе местным населением было ограблено более 900 склепов). [85] Исходя из всего изложенного, допустимо полагать, что число индивидуальных захоронений в IV-VIII вв. н.э. было крайне незначительно. Таким образом, остается в силе приведенная выше версия В.А. Кузнецова по данному вопросу. Убеждает и мысль автора о каменных ящиках и подземных склепах как памятниках некоей новой этнической общности, сформировавшейся из алан и ассимилированных ими аборигенов-горцев. [86] Начиная где-то с IX столетия, количество склеповых комплексов резко идет на убыль. Но говорить об их полном исчезновении едва ли приходится, как впрочем, и обряда коллективных захоронений вообще. Последние иногда фиксируются даже в сравнительно небольших для такого обряда каменных ящиках, в которых при захоронении очередного покойника кости предыдущего сдвигались в сторону. Насколько об этом можно судить по отдельным комплексам Коспартинского могильника, и особенно по ранней группе Курнаятских погребений, развитие наметившейся тенденции продолжается и в золотоордынское время. А уже где-то с рубежа XIV-XV столетий наступает завершающая стадия трансформации, что впервые было отмечено еще И.М.Мизиевым. Правда, в качестве пережитков прошлого коллективные захоронения в подземных и полуподземных склепах продолжали встречаться и много позже (например, в ВерхнеБалкарском «Городке мертвых»). [87] Сохранялся этот обряд и в кругах знати, причем помимо живучести традиции это было обусловлено и иными причинами. Стремление уберечь могилы от ограбления и осквернения побуждало хоронить покойников не на общем кладбище, а на территории замков. Последние же чаще всего сооружались на скальных платформах, в которых невозможно вырубить десятки ям для одиночных погребений. К тому же, «собственное» кладбище предполагало расширение площади замка, а тем самым и удлинение периметра обороны, что при ограниченном числе защитников было бы крайне нецелесообразно. В подобных обстоятельствах древний обряд коллективных захоронений пришелся весьма кстати. Например, в фамильной усыпальнице владетелей Усхура удалось зафиксировать останки 20 или 25 человек. Но что касается основной массы населения, то для нее уже более показательны индивидуальные погребения в грунтовых могилах (иногда обложенных камнем) и каменных ящиках. Из могильников с таким обрядом захоронения, о которых мы располагаем более или менее удовлетворительными сведениями, [88] можно назвать следующие: - Ташлы-талинский (по И.М.Мизиеву XIV-XVIII вв.; по Р.А.Даутовой XVI-XVIII вв.); - Верхне-Балкарский «городок мертвых» (в котором часть каменных ящиков датируется поздним средневековьем); - Коспартинский (XIV-XVI вв.); - Курнаятский (XIII-XVII вв.); - Бабугентский (XIV-XVI вв.); - Холамский 1-й (XV-XVI вв.); - Холамский 2-й (XVI-XVIII вв.); - Кашхатауский (XVII-XVIII вв.); - Верхне-Чегемский 2-й (XIII-XIV вв.); - Верхне-Чегемский 3-й (XIII-XIV вв.); - Верхне-Чегемский 4-й (XIII-XIV вв.). Датировка трех последних некрополей, как и нижние даты первых пяти, на мой взгляд, не совсем безупречна, и синхронизация их с памятниками золотоордынского времени вызывает серьезные сомнения. К сожалению, инвентарь большинства комплексов не поддается датировке с точностью до одного-полутора столетий, и, прежде всего это относится к его наиболее представительной категории - украшениям. Но достоверно установлено, что серьги в виде вопросительного знака на основе которых ВерхнеЧегемский третий могильник был датирован XIII-XIV вв., в действительности продолжали встречаться вплоть до XV столетия включительно [89]. Главное же, что составляет особенность погребального инвентаря - это полное отсутствие оружия, керамики и ордынских монет, т.е. черты, присущие именно для комплексов послемонгольской эпохи. [90] Правда, они довольно редки и в погребениях XIII-XIV вв., но если бы указанные некрополи действительно относились к этому времени, то общее количество исследованных в них комплексов отнюдь не исключало бы вероятность хотя бы единичных находок. В этом нетрудно убедиться, сопоставив их с надежно датированными погребениями из других районов края. Например, в вайнахских склепах и каменных ящиках близ Дёре, Пакоч и Верхний Кокадой на 50 погребенных в них лиц приходится три золотоордынские монеты и три глиняных сосуда, [91] в то время как около сотни балкарских погребений, датируемых тем же временем, не содержат ни одной монеты и ни одного сосуда. Добавлю, что во многих погребениях встречались остатки полуистлевшей одежды, и это нельзя объяснить наличием таких особенностей, которые способствовали бы сохранению органических веществ, как, скажем, в Пазарыкских курганах или наземных склепах Чечено-Ингушетии и Осетии. Поэтому, не отрицая в принципе вероятность возникновения отдельных комплексов в XIII-XIV вв., большинство их я все же склонен датировать послемонгольским временем. Как уже говорилось, в подавляющем большинстве случаев комплексы позднего средневековья содержат индивидуальные захоронения с вытянутым на спине трупоположением. Ориентировка погребенных преимущественно западная, но в поздней группе Курнаятских захоронений (по И.М. Мизиеву XV-XVII вв.) она сменяется северной, а в Ташлы-талинском могильнике преобладают юго-западная и северо-западная ориентировки. В восточной части Балкарии доминируют погребальные сооружения в виде каменных ящиков, а к западу от Безенгийского ущелья - преимущественно грунтовые погребения. Те и другие отмечены на поверхности каменными набросками, круглыми или овальными выкладками, а в самих погребениях часто фиксируются остатки деревянных гробов, колод, иногда кожаных подстилок, подсыпка древесного угля в изголовье погребенного или же по всему дну могилы. Как видим, изменения, произошедшие с аланской эпохи, достаточно глубоки и разнообразны, чтобы говорить о них как о явлении глобального масштаба: склепы постепенно вытесняются каменными ящиками и грунтовыми могилами, коллективные захоронения - индивидуальными, инвентарь уже не содержит ни керамики, ни оружия, в ряде случаев меняется ориентировка погребенных, в могилах появляются деревянные гробы и т.д. По-видимому, начало подобной трансформации действительно было положено с рубежа XIV-XV вв. [92]. Труднее датировать завершение этого процесса, но даже если бы он занял около одного-полутора столетий, то и этого было бы вполне достаточно, чтобы констатировать резкое и коренное изменение погребального обряда. Явление, не столь уж и частое в истории археологии, а потому небезынтересное с точки зрения ее причинной обусловленности. Согласно одной из версий, оно было обусловлено процессами не этническими, [93] а социальными - выделением малых семей. [94] Отрицать роль социального фактора действительно не приходится. Но уж если быть точнее, то речь может идти не столько о выделении малых семей - процессе, не завершенном даже к началу XX в. (когда удельный вес больших семей все еще достигал в Балкарии около 39 процентов), - сколько о процессе феодализации общества. Правда, первопричиной рассматриваемого явления всетаки трудно счесть и феодализацию. В данном случае важно иметь ввиду лишь то, что столь резкий скачок в социальной стратификации общества - тем более в высокогорной зоне с ее экологической базой, недостаточной даже для простого воспроизводства - никак не может быть результатом «естественного» внутреннего развития. Чаще всего подобные явления бывают связаны с инфильтрацией в местную среду определенных групп инородного населения с более высоким уровнем социального развития. В средневековой Балкарии ими могли быть только «маджарцы» - генетически двуприродное тюркоязычное население плоскостной Алании, появившееся в горах на рубеже XIV-XV вв. Подтверждением тому служат многочисленные предания о балкарском феодализме как о чем-то чуждом, привнесенном из Предкавказья предками - маджарцами, предания о братьях-маджарцах Басиате и Бадинате как родоначальниках феодальной знати Балкарии и Дигории и т.д. Остается добавить лишь, что охарактеризованные выше особенности погребального обряда в общих чертах наметились на территории Центрального Предкавказья еще в XIV столетии, [95] и таким образом решающая роль маджарцев в трансформации погребального обряда горцев более чем вероятна. Теперь вкратце о некоторых особенностях вещевого материала. Одна из наиболее характерных для археологических комплексов категорий инвентаря - керамика - известна преимущественно в памятниках начального этапа рассматриваемой эпохи. Это главным образом фрагменты глиняных сосудов, выявленные на бытовых и фортификационных памятниках в слоях XIII-XIV вв. Керамика из поселений уже неоднократно упоминалась в литературе. [97] Что же касается фрагментов, выявленных в процессе шурфовки на территории укреплений Зылги, Малкар-кала, Болат-кала и Усхур, [98] то в общих чертах они сходны с упомянутыми. Наряду с традиционными для аланских памятников образцами бурого, серо-охристого, темно-серого (а иногда и черного) цвета, умеренного обжига, с шероховатой или умеренно лощеной поверхностью здесь преобладают и характерные для золотоордынских слоев черепки из прекрасно отмученной глины, довольно крепкого обжига, с красной умеренно лощеной поверхностью, орнаментированной волнистыми и параллельными горизонтальными линиями, разнообразными фигурными вдавлениями, насечками и т.д. Но для материальной культуры послемонгольского времени керамика уже нехарактерна, [99] единичные очаги гончарного производства продолжают сохраняться лишь в Дагестане, Осетии и некоторых других частях региона. Единственным исключением можно счесть пока лишь маленький одноручный кувшинчик, найденный в одном из погребений Ташлы-талинского могильника. Донышко сосуда довольно широкое, почти равное диаметру тулова, снаружи оно украшено рельефным триквестром. Шейка опоясана тремя полосами, нанесенными красной краской. Высота сосуда 11,5 см. Еще одно изделие из глины - головка курительной трубки из замка Курнаят, также орнаментированная триквестрами. Оба предмета, вероятнее всего, привозные. Отсутствие в погребальных комплексах XV-XVIII вв. других категорий инвентаря оружия, предметов конского снаряжения, мужских наборных поясов, некоторых типов украшений - связано уже не с прекращением их производства, а с изменением погребального обряда, о котором уже говорилось выше. Средневековые женские украшения - такие, как различные типы серег и височных подвесок, фигурные пластинчатые нашивки на платье, серебряные диадемы на шапочках, кольца, перстни и пр. - довольно близки по форме с синхронными древностями соседних народов. Но особую близость, доходящую порой до полного тождества, обнаруживают они с женскими украшениями осетин. Учитывая этническое родство обоих народов, такая близость представляется неслучайной. Тезис о преобладании определенных типов украшений как отражении этнической специфики общепризнан в науке, и особый интерес в этом плане представляют фигурные нагрудные застежки на женских платьях. Утверждение некоторых авторов, будто их наиболее ранние образцы встречаются лишь в комплексах XVIII века, [100] едва ли соответствует действительности. Прототипы застежек известны еще в погребениях аланской эпохи, но тогда они были еще редки и встречались в количестве не более одной пары на одном платье. В послемонгольскую эпоху они получают более широкое распространение, а их количество на платье возрастает уже до 5-6 и более пар. Выполненные в технике литья и гравировки, в XVXVIII веках они, пожалуй, не отличались особой изысканностью форм, и были популярны преимущественно у балкарок и осетинок. Но с середины XIX века ювелиры-отходники из Дагестана сумели придать им такой внешний блеск, что мода на застежки охватила почти весь регион, и довольно скоро они стали едва ли не самой яркой особенностью национального костюма горянок. [101] В художественной обработке металла в XV-XVIII вв. наблюдается некоторая деградация, что связано с общим упадком экономики и ремесел вследствие монгольского и Тимуровского нашествий. Но все же она продолжала сохраняться на более или менее приемлемом уровне, причем, судя по инвентарю погребений, наиболее распространенными приемами обработки были чеканка, гравировка, серебрение, иногда вставки из цветного стекла и полудрагоценных камней. Ряд женских украшений выполнен в традиционном для аланской торевтики «ажурном» стиле, но уже более небрежно. Другие категории вещей в погребениях представлены маленькими железными ножами, бронзовыми и железными пряжками от поясов, пуговицами из бронзы, кости, плетенных золотых и серебряных нитей, бусами, костяными шильями, ножницами, иногда круглыми нагрудными подвесками из листового серебра, кресалами, бритвами, игольницами и т.д. В заключение несколько слов о других категориях средневековых древностей Балкарии. В значительном своем большинстве они, как и погребальные комплексы, не поддаются узкой датировке. Прежде всего, это относится к христианским церквям и часовням, строительство которых началось еще в аланскую эпоху и, несомненно, продолжалось в позднем средневековье. В подавляющем своем большинстве они были разрушены в период исламизации края, и, следовательно, уже недоступны для тщательного всестороннего изучения. О некоторых из них мы можем судить по незначительным остаткам стен (2-3 ряда нижней кладки), а также по описаниям и довольно схематичным рисункам дореволюционных авторов. Понятно, что разработка вопросов их генезиса и эволюции, выделение локальных особенностей, дифференциация их на православные и католические - задача чрезвычайной сложности. Тем не менее, обобщение всего доступного материала позволило В.И.Кузнецову посвятить христианским древностям Балкарии отдельный раздел монографической работы, хотя и без дифференциации их на аланские и собственно балкарские [102]. По мнению автора, архитектура балкарских церквей самобытна и генетически связана с традициями местного зодчества. Как правило, это были довольно непритязательные по архитектуре и скромные по размерам постройки (иногда одноапсидные) с неустойчивой ориентацией, рассчитанные на богослужение не внутри, а у входа под открытым небом. Их интерьер часто украшался фресковой живописью, а снаружи на отдельных плитах высекались кресты, иногда даже изображения животных. О внешнем виде одной из таких церквушек мы можем судить по зарисовкам в альбоме полковника Д.А.Вырубова [103] и фотографии начала минувшего века. С этой же группой памятников связана по своей идеологической атрибуции и другая категория древностей - многочисленные каменные кресты, обнаруженные в различных пунктах Балкарии. По форме, размерам, стилистике декора, уровню исполнения и иным особенностям они довольно разнообразны: с удлиненным основанием или простые равноконечные, с расширяющимися концами, с концами в виде кружочков или трилистника, прочерченные на плитах, выполненные в технике плоского рельефа или в виде фигурных выемок на стенах башен, с узорами и без, кресты-надгробия, кресты на перекрытиях каменных ящиков, кресты на стенах церквей и башен, на плитах бойниц и т.д. и т.п. Кажется, есть основания считать, что до массовой исламизации Балкарии кладбища с надгробными крестами были здесь явлением вполне обычным. В 1977 г. обломки более двух десятков таких крестов удалось выявить в окрестностях с. Жанхотеко, [104] а по сведениям В.Ф.Миллера, в некоторых селах Балкарии из них даже сооружались загоны для скота. [105] Многочисленность христианских древностей в Балкарии - это оборотная сторона другого, не менее любопытного явления: в отличие от Осетии и Чечено-Ингушетии, где общее количество языческих святилищ в виде особого типа архитектурных сооружений исчисляется сотнями, в Балкарии их практически нет. Быть может, исключением являются лишь 1-2 сооружения на некрополе Фардык, сходных с осетинскими святилищами по отсутствию внутреннего помещения. Помимо каких-то иных причин это обстоятельство можно объяснить еще и более прочными, нежели к востоку от Балкарии, позициями феодализма, а тем самым и соответствующей ролью монотеизма в сфере идеологии. Наконец, следует упомянуть и о такой категории древностей, как водопроводы. Согласно письменным источникам и устной традиции они имелись почти в каждом из балкарских «обществ», [106] но посредством археологических раскопок они выявлены пока в двух пунктах - на городище Лыгыт и в старом (ныне необитаемом) селе Верхний Холам. Холамский водопровод, часть которого была исследована мной в 1977 г., [107] состоял из узких керамических труб различной длины (от 35-36 до 55-60 см.), соединенных впритык и проложенных на глубине 45-50 см. Обстоятельное описание этого памятника имеется в одной из публикаций И.М.Чеченова, [108] здесь необходимо добавить лишь, что предлагаемая им дата водопровода (XVII-XVIII вв.) представляется небезупречной. В частности, вызывает сомнение лишь верхняя дата, которую автор склонен доводить даже до XIX столетия: «если не в XIX веке». [109] Непонятно, каким образом сельчане могли забыть о водопроводе уже к 1902 году, если бы он был сооружен в XVIII-м, или, тем более, в XIX веке. Ведь на каком-то своем отрезке водопровод продолжал функционировать и в начале XX века, а другая часть была обнаружена в 1902 году совершенно «случайно при постройке саклей» [110]. И это, судя по всему, явилось неожиданностью для самих холамцев, иначе вряд ли автор анонимной заметки счел бы нужным сообщать об «исторической давности» водопровода через газету «Каспий». Вероятнее всего строительство Холамского водопровода было начато никак не позже XVI-XVII веков. В последующие столетия он постепенно приходит в негодность, и в 20-е годы XX в. жители Холама ходатайствовали о строительстве в селе нового водопровода. [111] Как видно из всего изложенного в настоящем разделе, материальная культура средневековой Балкарии, как и погребальный ритуал, представляла собой гармонический синтез общекавказских традиций с культурными традициями ирано - и тюркоязычных предков народа. Ряд функциональных особенностей и закономерности ее эволюции трудно понять вне связи с характером социально-экономического развития общества, ибо при всей экстремальности конкретно-исторических условий, скудности экологической базы прогресса и значимости пережиточных явлений в целом эта культура все же представляет культуру феодальной формации. Отсюда и одна из самых заметных ее особенностей - контрастность. Убогие лачуги крестьян резко контрастировали с вертикалью белоснежных княжеских башен; скромные жилища простых общинников несопоставимы с просторными помещениями феодальных замков, владельцы которых могли «с честью» принимать у себя и грузинских царей, и послов могущественной Российской державы; грунтовые погребения простых горцев, конечно же, не идут ни в какое сравнение с монументальными каменными мавзолеями таубиев, и если о материальном достатке масс мы можем судить по двум-трем дешевеньким вещицам погребального инвентаря вроде ножей, кресал и оселков, то богатство инвентаря княжеских усыпальниц очевидно уже по тому обстоятельству, что все без исключения они разграблены еще в средние века. Социальному аспекту культуры соответствовали реалии идеологические, и нагляднее всего это отразилось в культовом зодчестве: преобладание христианских церквей и почти полное отсутствие языческих святилищ. Примечания к главе II 1. А.Л.Ястребицкая. Западная Европа XI-XIII веков. М., 1978, с.132. 2. М.И.Джандиери, Г.И.Лежава. Народная башенная архитектура. М., 1976. с. 118-119. 3. Там же. 4. М.И.Джандиери, Г.И.Лежава. Народная башенная архитектура. М., 1976. с. 47-55. 5. В.М.Батчаев. Былымский оборонительно-жилой комплекс эпохи бронзы. - сб.: Новое в археологии Северного Кавказа. М., 1986, с. 57-65. 6. Л.Г.Нечаева. Осетинские погребальные склепы и этногенез осетин. - сб.: Этническая история народов Азии. Л., 1972, с. 267-292. 7. Особенно часто упоминаются оборонительные сооружения («къала») в нартском эпосе. В изданной недавно балкаро-карачаерской версии «Нартов» слово къала почти во всех случаях переведено как «крепость». Но если в эпосе этот термин отражает реальные особенности местной архитектуры, то речь может идти не о крепостях, а преимущественно о башнях и замках (см.: Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М., 1994). 8. Род Урусбиевых утвердился на Баксане сравнительно поздно, когда традиции башенного зодчества в горах стали сходить на нет. 9. И.М.Мизиев. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая. Нальчик, 1970, с. 16. 10. Там же, с. 15. 11. Д.Н.Коков, С.О.Шахмурзаев. Балкарский топонимический словарь. Нальчик, 1970, с. 38, 82, 93, 99, 109, 151. 12. К.Фиркович. Археологические разведки на Кавказе. ЗИАО, т.IX, СПб, 1857, с. 401. 13. СМОИЗО, т.2, М-Л., 1941, с. 122. 14. Отчет г.г. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ (Сванетию) с археологической целью в 1867 году. ИИРАО, VIII, вып. 4, СПб. 1877, с.331. 15. В.М.Батчаев. Археологическая экспедиция КБНИИ 1987 г. Архив КБНИИ, инв. № 2393, с. 38-39. 16. И.М.Мизиев. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая. Нальчик, 1970. 17. Там же, с. 49-50. 18. В.М.Батчаев. Археологическая экспедиция..., с. 38. 19. Развернутую характеристику памятника см.: Б.Х.Атабиев. Раннефеодальное фортификационное зодчество Балкарии. – сб.: Карачаевцы и балкарцы. Этнография. История. Археология. М., 1999, с.290-301. В примечании к указанной статье редактор сборника обращает внимание на вероятность функционирования замка до середины XVIII века, ссылаясь на обнаружение здесь каменной плитки с надписью 1709 года (ук. сб-к, с.295-296). Не исключено, однако, что версия Усхурского «происхождения» надписи связана с каким-то недоразумением, ибо ни по одному из специфических «параметров» замок не соответствует комплексам XVII-XVIII вв. Можно лишь предполагать, что после XV столетия одно из сооружений уже необитаемого комплекса – неприступная башня в нише отвесной скалы (сооружение 3) – могло использоваться для хранения каких-то раритетов, подобно тому, как это имело место в Верхнем Чегеме. 20. П.Г.Акритас, О.П.Медведева, Т.Б.Шаханов. Архитектурно-археологические памятники горной части Кабардино-Балкарии. УЗКБНИИ, XVII, Нальчик, 1960, с. 71. 21. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX века. КЭС, 4, М., 1969, рисунки на с. 98, 100 (нижний), 101 (справа), 103 (вверху слева). Башню изображенную на с. 98, автор считает башней Абаевых в с. Кюннюм, однако этому противоречит количество и взаиморасположение бойниц, отсутствие крестов на стенах и расположение входного проема. Явным недоразумением является отождествление замка, изображенного на с. 100 (внизу) с замком Джабоевых. 22. И.М.Мизиев. Средневековые башни..., с. 87. 23. Там же, с. 45. 24. Л.И.Лавров. Ук. соч., рис. на с.103 (вверху). 25. Там же, рис. на с. 100 (внизу). 26. Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Тбилиси, 1976, с. 256. 27. И.М.Мизиев. Средневековые башни..., с. 59. 28. Там же, с. 62. 29. Там же, с. 66. 30. В.Ф.Миллер. Терская область. Археологические экскурсии. МАК, вып. 1, М., 1888, с. 82-83, рис. 74-75; А.А.Миллер. Краткий отчет о работах Северокавказской экспедиции ГАИМК в 1924 и 1925 гг. СГАИМК, вып. 1, Л., 1926, с. 78-80, рис. 6-8. 31. Л.Г.Нечаева. О мавзолеях Северного Кавказа. СМАЭ, XXXIV, Л., 1978, с. 94-112. 32. И.М.Мизиев. Ук.соч., с. 68. 33. Там же, с. 58, табл.3. 34. Б.Х.Атабиев. Ук. соч., стр.559. 35. Л.Г.Нечаева. О мавзолеях Северного Кавказа. СМАЭ, XXXIV, Л., 1978, стр. 105. 36. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977, стр. 124. 37. В.Ф.Миллер. Ук. соч., стр. 83. 38. В работе Л.Г.Нечаевой (Л.Г.Нечаева. О мавзолеях ... стр. 99) говорится, что на Фардыке над погребениями внутри усыпальниц были устроены «надгробия прямоугольной формы высотой 30-40 см.», а сами захоронения были совершены в каменных ящиках. На момент раскопок в 2003 г. «надгробия» уже не сохранились, и мы затрудняемся сказать о них что либо определенное. Что же касается каменных ящиков, которые, судя по контексту, будто бы являлись преобладающей формой могильных сооружений, то это, скорее всего, недоразумение. Насколько можно судить по содержанию работы, Л.Г.Нечаева не ставила своей целью археологическое обследование комплексов, а ограничилась изучением конструкции мавзолеев. 39. Е.П.Алексеева. Археологические раскопки в районе села Верхний Чегем в 1959 г. ССИКБ, вып. IX, Нальчик, 1960, стр. 193-195. 40.Р.А.Даутова. К вопросу о датировке горно-кавказских мавзолеев Северного Кавказа. – сб.: Проблемы хронологии археологических памятников Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1985, стр. 129. 41. В.Я.Тепцов. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, XIV, Тифлис, 1892, стр. 161-162. 42. Л.Г.Нечаева. Ук. соч., стр. 112. 43. Л.И.Лавров. Ук. соч. рисунок на стр. 117. 44. В.А.Кузнецов. Ук. соч., стр. 123-124. 45. Ю.Н.Асанов. Песня-поэма «Каншаубий» или «Плач княгини Гошаях». Нальчик, 1996, стр. 78-79, 89-90, и др. 46. Л.Г.Нечаева. Ук. соч., стр. 112. 47. Л.И.Лавров. Альбом и макеты Д.А.Вырубова по этнографии и археологии КабардиноБалкарии. СМАЭ, XXXIV, Л., 1978, стр. 80, рис. 9-а. 48. А.А.Иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии. МИА, вып. 3, М-Л., 1941, стр. 31. 49. В.Я.Тепцов. Ук. соч., стр. 161-162. 50. Л.Г.Нечаева. Ук. соч., стр. 85-112. 51. В.И.Марковин. О возникновении склеповых построек на Северном Кавказе. – сб.: Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978, стр. 126-129; В.И.Марковин, Р.М.Мунчаев. Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и культуры. М., 2003, стр. 273; В.Х.Тменов. «Город мертвых». Орджоникидзе, 1979, стр. 25-27; Он же. Зодчество средневековой Осетии. Владикавказ, 1996, стр. 142-147; В.А.Кузнецов. Актуальные вопросы истории средневекового зодчества Северного Кавказа. – сб.: Северный Кавказ в древности средние века. М., 1980, стр. 174; Р.А.Даутова, Х.М.Мамаев. Мавзолеи Северного Кавказа (история изучения и проблемы). – сб.: Археология и вопросы социальной истории Северного Кавказа. Грозный, 1984, стр. 84-93; Р.А.Даутова. К вопросу о датировке горско-кавказских мавзолеев Северного Кавказа. – сб.: Проблемы хронологии археологических памятников Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1985, стр. 124-132; и др. 52. Л.Г.Нечаева. Осетинские погребальные склепы и этногенез осетин. – сб.: Этническая история народов Азии. Л., 1972, стр. 267-293. 53. А.А.Иессен. Ук. соч., стр. 33, рис. 10 (справа). 54. И.М.Мизиев. Средневековые башни..., стр. 52-53. 55. Л.Г.Нечаева. О мавзолеях..., стр. 112. 56. Г.И.Лежава, М.И.Джандиери. Архитектура Сванетии. М., 1938, стр. 10. 57. См. примечание 51. 58. А.А.Иессен. Ук. соч., стр. 31. 59. Л.И.Лавров. Об арабских надписях Кабардино-Балкарии. УЗКБНИИ, XVII, Нальчик, 1960, стр. 117. 60. А.Х.Нагоев. Средневековая Кабарда. Нальчик, 2000, стр. 74-76. 61. С.И.Руденко. Очерк быта северо-восточных казаков. – сб.: Казаки, Л., 1930, стр. 50. 62 И.А.Кастанье. Надгробные сооружения киргизских степей. Оренбург, 1911, стр. 44; С.И.Руденко. Ук. соч., стр. 50-53; А.Х.Маргулан Архитектурные памятники в долине р. Кенгир. Вестник АН Каз. ССР, №11, Алма-Ата, 1947, стр. 62-63; А.Н.Бернштам. Архитектурные памятники Киргизии. М-Л., 1950, стр. 129-136; Ф.Г.Мамедов. Мемориальный комплекс в селении Джиджимли. СЭ, 5, 1976, стр. 42-43; И.Л.Кызласов. Аскизские курганы на горе Самохвал. СДЕС, М.. 1980, стр. 153. 63. В.М.Батчаев. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1986, стр. 82-83. 64. А.А.Иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии. МИА, 3, М-Л., 1941, с. 24-25. 65. В.П.Кобычев. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., 1982, с. 26. 66. И.М.Мизиев. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Нальчик. 1991, с. 47. 67. Там же, с. 31. 68. В.М.Батчаев. Отчет об археологических работах 1977 года в районе с.с. Былым и Холам. Архив КБНИИ, инв. № 2275, с. 25-29. 69. Ю.Н.Асанов. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев. Нальчик, 1976, с. 46. 70. В.М.Батчаев. Былымский оборонительно-жилой комплекс..., с.59. 71. И.М.Мизиев. Очерки..., с. 94-95. 72. З.П.Кобычев. Ук.соч., с. 26. 73. В.Б.Ковалевская. Кавказ и аланы. М., 1984, с. 146-149. 74. И.М.Чеченов. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа. АИНКБ, т.3, Нальчик, 1987, с. 93. 75. История Кабардино-Балкарской АССР, т. 1, М., 1969, с. 250. 76. В.А.Кузнецов. Аланские племена Северного Кавказа. М., 1962, с. 76-81. 77. Л.Г.Нечаева. Осетинские погребальные склепы..., с. 267-292. 78. В.Б.Ковалевская. Культурологический анализ, ареальный метод и проблемы выделения локальных вариантов археологической культуры. - сб.: Методика исследования и интерпретация археологических материалов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1988, с. 20. 79. И.М.Чеченов. Ук.соч., с. 125-129. 80. И.М.Мизиев. Балкарцы и карачаевцы..., с. 52, 115. 81. И.М.Чеченов. Ук.соч., с. 52. 82. Зафиксированы мной, А.Х.Нагоевым и Б.Х.Атабиевым в 1986-1993 гг. Тогда же нами был доследован ряд ограбленных и полуразрушенных местным населением склепов. Материалы пока не опубликованы. 83. И.М.Чеченов. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969, с.67 84. Там же. 85. Там же, с. 55. 86. В.А.Кузнецов. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992, с. 254. 87. И.М.Чеченов. Древности..., с.67-68. 88. В.А.Кузнецов. Археологические разведки в Кабардино-Балкарии и районе Кисловодска в 1959 г. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с.205-216; О.Л.Опрышко. Раннехристианский могильник в с. Верхний Чегем КБАССР. ССИКБ, IX, Нальчик, 1961, с.217-221; Г.И.Ионе. Верхне-Чегемские памятники..., с. 183-208; И.М.Мизиев. Средневековый могильник Байрым у с. Верхний Чегем. ССНР КБГУ, вып.3. Нальчик, 1964, с. 15-22; его же. Позднесредневековые каменные ящики в Кабардино-Балкарии. СА, 4, 1971, с.242-250; его же. Могильник у с. Ташлы-тала. АЭС, Вып.1, Нальчик, 1974, с.110120; И.М.Чеченов. Древности..., с. 67-68, 79-82, 94-95; его же. Новые материалы..., с. 123125. 89. Р.А.Даутова. О генезисе и этнокультурной интерпретации некоторых типов серег и височных подвесок XIII-XVIII вв. горной Чечено-Ингушетии. - сб.: Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный, 1979, с. 160. 90. И.М.Мизиев. Балкарцы и карачаевцы в памятниках истории. Нальчик, 1981, с. 118. 91. В.И.Марковин. Чеченские средневековые памятники в верховьях Чанты-Аргуна. - сб.: Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963, с. 247-256. 92. И.М.Мизиев. Балкарцы и карачаевцы..., с. 115. 93. Там же, с. 52. 94. И.М.Мизиев. Очерки..., с. 97. 95. И.М.Чеченов. Новые материалы..., с. 92-94. 96. Г.А.Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966, с. 130. 97. Г.И.Ионе. Ук.соч., с. 202-204; И.М.Мизиев. Балкарцы и карачаевцы..., с. 14-15, 27-29; его же. Очерки..., с. 44 и сл. 98. В.М.Батчаев. Археологическая экспедиция КБНИИ 1987 года. Отчет. Архив КБНИИ, инв.№ 2393, с. 25-39. 99. И.М.Мизиев. Балкарцы и карачаевцы....с. 118. 100. Там же, с. 74. 101. В.М.Батчаев. Из истории..., с. 54-60. 102. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977, с. 121-129. 103. Л.И.Лавров. Карачаевцы и балкарцы..., рис. на с. 114. 104. И.М.Чеченов. Новые материалы..., с. 77-79. 105. В.Ф.Миллер. Терская область, с. 85. 106. К.Фиркович. Ук. соч., с.399-401; Б.К.Далгат. Поездка к Чегемским ледникам Центрального Кавказа. Владикавказ, 1896, с.21; М.Абаев. Балкария. Исторический очерк. Нальчик, 1992, с.17; Л.И.Лавров. Ук. соч., с.99; И.М.Чеченов. Ук.соч., с. 133. 107. В.М.Батчаев. Отчет об археологических...., с. 25-29. 108. И.М.Чеченов. Новые материалы..., с. 131-133. 109. Там же, с. 133. 110. Газ. «Каспий», Баку, № 14, за 1902 г. (заметка). 111. ЦГА КБР, ф.Р-2, оп.1, д.316, лл.36-39. Глава III. Социальная структура, общественный строй, организация защиты Проблема социальной структуры средневековых балкарских «обществ» затрагивалась в литературе неоднократно, но в своих наиболее существенных моментах она разработана все же недостаточно обстоятельно. И рассчитывать на лучшее едва ли приходится; учитывая возможности источниковой базы, счесть этот пробел восполнимым было бы явным преувеличением. В данном разделе работы я мог ставить своей целью обращение только к отдельным, наиболее спорным ее аспектам. Прежде всего, это вопрос о времени феодализации. Решающее значение здесь чаще всего принято отводить тому факту, что, начиная с XVII века, в русских источниках появляются первые упоминания о балкарских «мурзах», «владельцах» и «мужиках». Обоснованность такого подхода не подлежала бы сомнению, если б только была уверенность, что за социальным развитием горских обществ на Руси следили, затаив дыхание. Но бесспорным пока остается только то, что появление в источниках сведений о малочисленных, затерянных в дебрях Кавказа группах населения целиком и полностью зависело от игры случая; при каких-то иных обстоятельствах мы могли бы узнать о наличии балкарских «владельцев» из источников не XVII-го, а, скажем, начала XIX столетия. В свое время Л.И.Лавров считал непоследовательной трактовку этого вопроса в первой сводной работе по истории Балкарии. «Уздени Женоковы, - говорится в указанном издании – в своем прошении на имя исправляющего должность начальника Кабардинского округа в январе 1861 года писали, что с давних пор принадлежавшие им по наследству «холопы»... несли им «холопские повинности». Уздени имели право «продавать их по обряду холопей, отпускать на волю, а имение все отбирать при отпуске», и крепостные «несли повинности... по прошествии 20 колен их рода». Ссылка Женоковых на то, что их крестьяне несли повинности по прошествии 20 колен их рода, свидетельствует о том, что феодализм в Балкарии не был поздним явлением, как это утверждали многие авторы». [1] Вывод вполне закономерный. Тем более что в ответных прошениях крестьяне не отрицали ни факт своей зависимости, ни срока ее давности; оспаривалась лишь форма зависимости. Cледовательно, если вести отсчет от 1861 г. – даты прошения – и исходить при этом из расчета не по 3 (как принято в науке), [2] а по 4 колена на одно столетие, то даже и при такой скидке мы имеем возможность предполагать наличие каких-то форм феодальных отношений не позднее, чем в XIV-XV вв. Нелишне добавить, что этому не противоречит и упоминаемое самими авторами предание о родоначальнике балкарских феодалов Басиате, жившем, судя по реалиям предания, где-то в конце XIV или начале XV столетия. Однако, начав за здравие, авторы рассматриваемого издания, вслед за критикуемыми ими «многими авторами» решили кончить за упокой и счесть XVI-XVII века «переходным периодом от патриархально-родовых порядков к феодальным» [3]. Об отмеченных выше прошениях уже нет речи, а что касается предания о Басиате, то здесь все обстоит просто; оно является вымыслом, отражающим «стремление знати выделиться из общей массы соплеменников и идеологически обосновать свое превосходство». [4] Есть, однако, веские основания полагать, что вопреки такой уверенности как раз с преданием-то дело обстоит совсем не так просто. Возможно, авторы и правы, считая его вымыслом, как, впрочем, и осетинское предание о Баделе – родном брате Басиата, родоначальнике дигорской знати. Но в интересующем нас вопросе это ничего не меняет, так как здесь важна не достоверность фольклорной информации, а время ее появления. Известно, что в письменной традиции Грузии Дигория и Верхняя Балкария часто назывались по именам указанных персонажей предания - «страна Баделидзе» и «страна Басиани» (т.е. «страна потомков Баделя» и «страна потомков Басиата») – обстоятельство, отражающее не только знакомство какой-то части грузин с «генеалогией» балкародигорской знати, но и признание особой роли этой знати в горских «обществах». Необходимо здесь же оговорить со всей определенностью: встречающийся во многих работах тезис о связи наименования Басиани с этнонимом асы ни в малейшей степени не соответствует действительности. Если бы такая связь имела место, грузины называли бы Балкарию не Басиани, а Асиани или Асети. В данном случае начальная буква «Б» недвусмысленно говорит о связи с именем Басиат, и уже в силу такой связи решающее значение для нас имеет вопрос о ранних фиксациях топонима Басиани в грузинских источниках. Одним из таких источников является ныне уже «хрестоматийная» в балкароведении надпись на золотом кресте из с. Цховати. Вслед за Е.С.Такайшвили Л.И.Лавров датировал крест XIV-XV веками [5]. Уточнением этой даты мы обязаны Ф.Х.Гутнову, установившему, что в XIV столетии в роду Ксанских эриставов не было мужчин с именем Ризия. Следовательно, надпись, повествующая о пребывании Ризии Квенипневели в плену «в Басиани», была составлена не ранее XV столетия. [6] Хотелось бы это кому-то или нет, но Цховатская надпись – это документ, не считаться с которым невозможно при всем желании. Фигурирующее в ней наименование Верхней Балкарии непосредственно связано с феодальной генеалогией, а поскольку не бывает феодальных генеалогий без феодалов, то едва ли будет натяжкой полагать, что уже в XV веке здесь имелась определенная группа лиц, заинтересованных в «идеологическом обосновании своего превосходства». Далее. Цховатская надпись – не единственный источник по рассматриваемой проблеме, в отдельных грузинских хрониках того же XV столетия также упоминаются «цари овсов». Под овсами здесь, конечно, подразумевается и часть балкарцев, коль скоро еще в XVIII столетии Вахушти Багратиони причислял таубиев Верхней Балкарии к категории знатнейших «овсских» родов. Уместно обратить внимание и на то, что почти вся социальная терминология балкарцев сходна с терминологией других тюрок, хотя, начиная с XV века, балкарцы не соседствовали ни с одним тюркским народом. Объяснить это сходство сходством самих языков невозможно, так как принадлежность к одной языковой группе вовсе не предполагает абсолютной идентичности лексики. Надо полагать, эти термины унаследованы от тюркских предков домонгольской эпохи, а их устойчивость во времени отражает непрерывную связь с соответствующими реалиями исторической действительности Балкарии XV-XIX вв. Последнее из имеющих к данной теме обстоятельств – наличие в Балкарии феодальных резиденций типа Усхура, Зылги, Болат-кала, Малкар-кала, датируемых по обнаруженной в них керамике периодом не позднее XIII-XIV вв., и связанных именно с социальной дифференциацией общества. Исходя из совокупности приведенных фактов и соображений, я склонен считать предания о Басиате «фольклоризированным» отголоском каких-то реальных событий (что, конечно, не предполагает историчности самого персонажа), и этим объясняется столь значительное место, отводимое в главе IV анализу фольклорных текстов. Тем не менее, некоторые историки продолжают настаивать на традиционной версии поздней феодализации Балкарии. Последнее же обосновывается не столько привлечением весомых контраргументов, сколько игнорированием одних и искажением других фактов, о которых говорилось выше. Поскольку ни Цховатская надпись, ни тюркская социальная терминология не поддаются удовлетворительному объяснению с позиций традиционной версии, то в возражениях оппонентов они не упоминаются вообще. Наиболее уязвимыми для критики они сочли два других тезиса – о «царях овсов» и феодальных резиденциях XIII-XIV вв. «А Вы парируете, - читаем в одном из письменных отзывов на рукопись данной работы, - заявляя, что грузинские хроники XV столетия упоминают «цари овсов», но забыли сказать, что у овсов никогда не было царей»; «В работе слишком большая роль отводится мавзолеям, усыпальницам, и особенно башням, как индикаторам социальнополитического развития..., при этом забывается, что они были построены грузинами». Озабоченность критика состоянием моей памяти трогательна, но неуместна, так как в действительности я ничего не забыл сказать ни о «царях», ни об архитектуре. В этом нетрудно убедиться, обратившись к соответствующим страницам рукописи: «то, что кровь проливалась именно у знати («царей»), наводит на предположение о династических войнах» (см. гл.IV). Термин «цари» заменен здесь более общим понятием «знать» не только потому, что в послемонгольскую эпоху на Северном Кавказе действительно не было царств. Это сделано еще и в соответствии с комментариями грузинских историков, прекрасно осведомленных в особенностях национальной письменной традиции: «мепе» – «царь» при всей своей определенности, - термин многозначный. В условиях политической раздробленности, ... каждая феодальная единица... могла считаться «царством», (...) хотя оснований для такого понятия применительно к Северному Кавказу, строго говоря, не было». [7] Теперь об архитектурных памятниках. Критик уверенно счел их работой грузинских мастеров, но сколь ни лестна такая оценка, я вынужден отклонить ее как чрезмерно завышенную. По большому же счету дело здесь даже не в оценке, а в самой логике суждений: если не было своих строителей, значить не могло быть и феодалов. Любопытно было бы в свете такого критерия сопоставить социальное развитие Кабарды и, скажем, вайнахов. Более вдумчивый подход к вопросам горского феодализма отражает первое монографическое исследование по проблеме кабардино-горских связей. В частности, нельзя не согласиться с выводом автора о стадиальной «совместимости» двух систем как важнейшей предпосылке инкорпорации горской знати в феодальную иерархию Кабарды: «Лишь в тех горских обществах, где еще до появления кабардинцев на Центральном Кавказе выделились сословные группы, претендующие на особый социальный статус, взаимодействие с более развитыми формами общественной организации кабардинцев послужило катализатором процессов прогрессирующей эволюции новых социальных институтов в ущерб старым родовым порядкам и способствовало окончательной выработке феодальной сословной организации». [8] Доминирующая поныне установка на «зарождение» феодализма в XVI-XVII вв. представляется если не тенденциозной, то в лучшем случае ошибочной. Применительно к хронологическим параметрам нашей темы речь может идти не о зарождении, а только об эволюции наметившихся еще в предшествующие 1,5 – 2 столетия форм раннефеодальных отношений. Политика геноцида, целенаправленно проводившаяся Тамерланом в горной зоне Центрального Кавказа, не только приостановила процесс социогенеза, но отбросила его едва ли не к исходным позициям. И если в суждениях по рассматриваемому вопросу исходить исключительно из уровня феодализации к началу XIX в., то мысль о позднем зарождении этой формации внешне как будто закономерна. Но – только внешне; в действительности, как мы уже видели, дело обстоит значительно сложнее. Прежде чем обратиться к сословной стратификации собственно балкарских «обществ», необходимо хотя бы в общих чертах охарактеризовать социальные процессы в высокогорной зоне на рубеже раннего и позднего средневековья. Говоря об общественной системе Алании X-XII вв. как о раннегосударственной, и о социальной – как раннефеодальной, историки имеют в виду преимущественно предгорноплоскостную зону страны, отмечая при этом скудость источников для суждений о ее горных районах. Более определенную, хотя и небесспорную в отдельных моментах, констатацию содержит экскурс Ф.Х.Гутнова, отмечающего «имущественную дифференциацию и социальную стратификацию в нагорной полосе Осетии VI-IXвв.». [9] По мнению автора, немаловажное значение в этом процессе имело расселение здесь прибывших из плоскости алан, а с возвращением их на равнину в IX-X вв. в горах возрастает «влияние местной автохтонной знати». [10] Безоговорочная экстраполяция приведенных наблюдений на население тогдашней Балкарии едва ли возможна; во всяком случае, круг доступных на сегодняшний день источников не позволяет говорить об этом с полной уверенностью. По материалам археологии достоверно фиксируется лишь далеко зашедшее имущественное расслоение, т.е. своего рода социальная «подготовленность» к последующей, качественно новой фазе развития – выделению отдельных сословий. Разделяя мнение некоторых кавказоведов [11] о недоказуемости эндогенного перехода «количества в качество» в условиях кавказского высокогорья, я также склонен полагать, что катализатором наметившейся тенденции должна была послужить инфильтрация на данную территорию значительных групп инородного населения с более высокой социальной организацией. Не отрицая в принципе определенной роли ранних алан или болгар в этом процессе, все же вынужден акцентировать, что наиболее зримые, бесспорные последствия такого симбиоза прослеживаются начиная преимущественно с XIII-XIV вв. Прежде всего это упоминавшиеся выше памятники средневекового зодчества. Значение всякого рода оборонно-жилых сооружений в качестве индикатора исторических формаций общепризнанно в мировой науке, и в этом отношении не составляет исключения так называемое башенное зодчество горного Кавказа. Практика строительства башен и домов-крепостей зародилась здесь в глубокой древности как неотъемлемый атрибут патриархально-родового строя с присущими ему межродовыми конфликтами, кровной местью и т.д. [12] В эпоху средневековья особенности их эволюции были связаны уже с формированием раннеклассовых обществ [13], но встречающиеся в литературе констатации относительно темпов развития этого процесса часто грешат преувеличениями. Еще в XVII-XVIII веках на большей части горной зоны башни продолжали оставаться принадлежностью почти любой «сильной» фамилии, и при сватовстве родители невесты прежде всего задавали вопрос: имеется ли у жениха родовая башня? Несколько иначе к тому времени обстояло дело в Балкарии. Намеки на относительно широкое распространение башен в прошлом (а, следовательно, их родовую атрибуцию) у балкарцев можно встретить только в фольклоре. [14] В фольклоре же – а не в реальной действительности последних столетий – фиксируются и первые признаки «феодализации» башен. Так, один из персонажей нартского эпоса, - Ерюзмек - «построил себе башню и стал главным над жителями нартского аула». [15] Единственным обладателем башни, сооруженной в верхней части села, был и князь Бердыбий в предании о Рачикаовых. [16] Наглядно прослеживается принцип: на каждое село — по одному феодалу, и локализация башни в верхней части села. Архитектурные памятники подтверждают достоверность фольклорной информации: такие оборонно-жилые комплексы, как Зылги, Малкар-кала, Болат-кала, Усхур и др. действительно возвышаются над поселениями, и других синхронных укреплений в этих поселениях нет. Вещевой материал, добытый в этих комплексах в ходе археологических раскопок, позволяет датировать их XIII-XIVвв. [17] Такая хронология ранних феодальных резиденций представляется неслучайной: вероятно, толчком к оживлению социогенных процессов послужило появление в горах беженцев-алан с равнины в период монгольского нашествия. Учитывая масштабы постигшей их катастрофы, число беженцев могло быть весьма значительным, а по уровню социального развития они существенно опережали своих соплеменников в горах. Едва ли речь может идти лишь о временном сосуществовании социально разнородных групп. Источники XIII-XIV вв. позволяют локализовать в горах Центрального Кавказа как резиденцию «правителя народа асов» [18], так и особую «Кавказскую» митрополию, [19] ставшую катализатором «широкого церковного строительства». [20] Совершенно очевидно, что подобного рода обстоятельства не могли пройти бесследно для социального развития населения тогдашней Балкарии. В свете предположения о роли плоскостных алан в социогенезе неслучайно близкое сходство морфологии аланских городищ равнины и старых балкарских поселений. Оно прослеживается, в частности, в четкой дифференциации тех и других на две части: собственно поселение и обособленную от него рельефом местности укрепленную резиденцию представителя местной родовой знати. [21] Говоря о подобных «цитаделях» аланских городищ, А.А.Иессен интерпретировал их следующим образом: «Это центральное укрепление, представляющее, скорее всего место обитания уже выделившейся из среды общины господствующей семьи будущего мелкого феодала». [22] Судя по хронологическим реалиям предания, в Балкарии XV века такими мелкими феодалами могли быть, например, Рачикаовы, история которых обстоятельно рассмотрена в главе IV. История, небезынтересная в том плане, что она дает хотя бы некоторое представление о статусе первых представителей феодальной знати. Предание вполне определенно называет Бердыбия, главу рода Рачикаовых, таубием, и на первый взгляд, с правомерностью такого наименования как будто можно согласиться. Действительно, у Бердыбия были свои уздени, рабы, собственная боевая башня – единственная в селе; «признавая Бердыбия таубием», сельчане ежегодно в день покоса приносили ему по одному барану со двора; один из его потомков будто бы был женат на дочери осетинского алдара Карабугаева, а другой воспитывался в семье аталыка. Кроме того, в числе приношений упоминаются также «девять стрел» – возможно, намек на какие-то обязательства Рачикаовых по защите общины от внешней опасности, подобно тому, как это имело место, скажем, в истории тогдашней Осетии. [23] Словом, устная традиция наделяет ранних феодалов времен Рачикаовых почти той же системой прерогатив, которой располагали и сменившие их впоследствии таубии – «басиатиды». Но это – повторю вновь – только на первый взгляд. В действительности же различие в положении этих двух групп весьма ощутимо. Отмечу, прежде всего, то главное, что позволяет говорить о феодалах как о сословии – наследственность статуса, принадлежность к категории знати «по праву рождения». Возможно, в рассматриваемое время уже стало проявляться стремление феодальнородовой верхушки как-то закрепить свое особое положение в обществе, и в чем-то такие попытки могли оказаться небезуспешными – ведь потомки Бердыбия сохраняли привилегированное положение еще долгое время после его смерти. Но если быть последовательным в ориентации на материалы устной традиции – а других у нас просто нет, во всяком случае, именно в данном вопросе – то нельзя не заметить, с какой легкостью потомкам Анфако удалось узурпировать сословный статус Рачикаовых еще до открытой конфронтации с ними. Заслуживает ли доверия мысль об особой жестокости последних, или нет, но фактом остается то, что якобы недовольные ими сельчане свергают Рачикаовых и избирают себе нового таубия. С другой же стороны, примитивной контрагитации Рачикаовых оказалось достаточно, чтобы сельчане с такой же легкостью вдруг прекратили выдачу подати своему новому избраннику Балкарокову. Подобного рода «игра в князя» была бы совершенно немыслима в Балкарии последующих столетий. В этой связи привлекает внимание оговорка в работе М.Абаева: «Когда ктонибудь из таубиев начинал выходить из повиновения (олию; В.Б.), олий сзывал на сход все население и предлагал народу решить вопрос, и решение народа моментально приводилось в исполнение». [24] Какое «решение» имеется в виду – неизвестно. Но, во всяком случае, история не располагает ни одним достоверно установленным фактом деклассирования таубиев в XVII-XVIII вв., а в зафиксированных нормах обычного права балкарцев [25] такая статья не предусмотрена вообще. Намек на подобную меру воздействия некоторые авторы склонны видеть в словах из песни о Бийногере: «В Большом Малкаре нет тебе села для княжения, ... сыну бия Тере не оказывает уважения». [26] Однако, Бийногер – персонаж не исторический, а заведомо вымышленный, песня о нем имеет множество национальных версий у народов высокогорного Кавказа. Цикл сказаний, баллад и песен об охотнике, для которого встреча с божеством оказалась гибельной, возник в глубокой древности, задолго до феодальной эпохи. [27] Следовательно, песня отражает ситуацию не XVII-XVIII вв., а в лучшем случае той «демократической» стадии феодализации, когда подобное противостояние общества и представителей нарождающейся знати действительно было возможно. Далее. Вопрос о земельных владениях Рачикаовых упоминается в предании лишь вскользь, причем нет оснований считать их особенно обширными. Впрочем, здесь важнее вопрос о всей совокупности земельных угодий. Заметим, что в числе узурпированных их соперником прерогатив было и то, что «Келемет распоряжается всеми землями – пахотными и сенокосными. Земли эти распределялись им во временное пользование ежегодно» [28]. Выделим главное: речь идет о распоряжении общественной собственностью – «все население участвовало в равной мере во владении землею, которая была переделяема между дворами в определенные сроки». [29] Не столь просто обстояло дело с собственностью на землю в последующем, о чем будет сказано ниже. О формах зависимости. Нельзя не считаться с тем обстоятельством, что фигурирующие в записях XIX в. сведения о «жестокости» Рачикаовых заведомо тенденциозны; они были получены от потомков тех, кто принимал участие в истреблении этого рода. В «народных» вариантах предания характеристика Рачикаовых далеко не столь однозначна. [30] А вообще, главное, что привлекает внимание в фольклорной версии социогенеза – это четкая дифференциация его истории на два периода: изначальный «демократический» и более поздний – собственно феодальный, связываемый с потомками легендарного Басиата. [31] Определение «демократический», введенное в оборот некоторыми авторами XIX века, конечно, достаточно условно. Оно вовсе не предполагает всеобщего и абсолютного равенства, а скорее лишь подчеркивает более жесткие формы феодальной эксплуатации, насаждавшейся впоследствии «басиатидами». Действительно, если, скажем, тот же Бердыбий ежегодно получал от сельчан по одному барану со двора и «девять стрел», то повинности даже «лично свободных» общинников-каракиши в XVIIXVIII вв. составляли уже около [30] пунктов. [32] Таким образом, по сравнению со своими потомками общинники времен Рачикаовых, пожалуй, действительно могли считаться свободным сословием. Не случайно упоминавшиеся уже холопы Женоковых, отвергая притязания последних на их свободу, ссылались на свою «автохтонную генеалогию» («предки наши из балкарских старожильцев») [33] – в отличие, надо полагать, от пришельцев – «маджарцев» с их прочно укоренившимся («узаконенным») социальным неравенством. Резюмируя изложенное, нелишне повториться: к началу XV столетия – нижнему хронологическому рубежу нашей темы – зачаточные формы новой исторической формации уже успели утвердиться в горских обществах. Хотя основная масса населения и состояла из свободных общинников, в их среде уже наметился процесс выделения феодализирующейся знати. Несмотря на тенденцию к наследованию социальных прерогатив, состав этих лидеров и их ближайшего окружения не отличался стабильностью, а устойчивость их социального положения определялась не только личными качествами, но и отношением общины. Это была пока лишь та начальная стадия расслоения, которая в досоветской литературе обоснованно характеризуется как «демократическая», и квинтэссенцией которой могла бы послужить поговорка «Не считающийся с мнением общины не будет признан бием». [34] Конечно, учитывая характер используемого материала, трудно настаивать на абсолютной безупречности намеченной схемы. Но главное здесь – не частные аспекты проблемы, а несостоятельность тезиса о XVI-XVII веках как своего рода «точке отсчета» социальной истории балкарцев. Приблизительно с конца XIV – начала XV столетий происходит еще одна массовая миграция предгорно-плоскостного населения в горы Центрального Кавказа. Сам по себе этот факт никогда и никем не отрицался в кавказоведении, но под мигрантами чаще всего подразумевались почти исключительно аланы. Между тем археологические и антропологические исследования последних десятилетий дают веские основания говорить не только об этнической неоднородности этого населения, но более того – о вероятности полной тюркизации в XIII-XIV вв. той его части, которая проникла впоследствии в Балкарию, и которая часто фигурирует в устной традиции под наименованием маджарцев. [35] Выделяя актуальный для рассматриваемого вопроса социальный аспект этого явления, необходимо отметить преобладание в среде пришельцев более развитых (по сравнению с местными) форм социальных отношений, т.е. хотя и ранних, но уже достаточно стабильных форм феодального строя. Последнее – итог не только «собственного» развития алан и кипчаков домонгольской эпохи, но еще и следствие почти 200-летнего пребывания в составе Золотой Орды с ее жесткой социальной стратификацией, товарно-денежными отношениями, развитым ремесленным производством, единой государственной религией. В преданиях (локальной версией которых является упомянутое выше повествование о Рачикаовых) говорится о борьбе «маджарской» знати с местными феодалами, о победе пришельцев во главе с Басиатом и возобладании тех форм социальных отношений, которые, по словам М.Абаева, сохранились вплоть до присоединения Балкарии к России. Судя по топониму «Басиани» Цховатской надписи, в Верхне-Балкарской долине «потомки Басиата» утвердились сравнительно быстро – быть может, уже к концу XV столетия. Но в других ущельях борьба продолжилась и позже. Разумеется, фольклорный материал – даже и вне своих «беллетристических» наслоений – дает заведомо субъективную картину социальных процессов в ранней истории края. Ясно, что эти процессы не могли сводиться лишь к физическому устранению местной знати; труднее было утвердить свое социальное господство над массой простого населения – будь то местного или пришлого. В предании с этим все обстоит просто: горцы якобы «добровольно» признают Басиата таубием после того, как он с помощью огнестрельного оружия сумел защитить общину от врагов. Но в свете других источников внедрение феодальной эксплуатации выглядит куда более прозаично и, несомненно, более реально. Это, например, неоднократно упоминавшееся выше прошение Верхне-Балкарских крестьян на имя начальника Кабардинского округа (1864 г.) – документ чрезвычайно любопытный, хотя, к сожалению, и очень лаконичный в интересующей нас части. «Предки наши, - говорится в прошении, - из балкарских старожильцев, впоследствии потомки Басията умножившись; когда овладели балкарцами, князья Кайтукины приговорили, чтобы мы состояли в ведении под защитой Басиятов Женоковых;...». [36] Насколько можно понять, суть этих сбивчивых и путаных пояснений сводится к трем основным моментам: - предки просителей, относясь к числу коренных жителей Верхне-Балкарской долины («старожильцев»), являлись исконно свободными общинниками (надо полагать, в отличие от пришлых «маджарцев») и, следовательно, посягательство Женоковых на их свободу незаконно; - не располагая в конце XIV в. возможностью подчинить горцев, потомки Басиата стали претендовать на господство лишь «размножившись», т.е. по прошествии многих десятилетий после появления своего предка в Верхней Балкарии (вероятно, где-то во второй половине или даже в конце XV столетия); - в своих притязаниях «басиатиды» пользовались активной поддержкой более могущественной кабардинской знати. Приведенный документ – не единственное свидетельство прямого воздействия Кабарды на ход социальных процессов в горах Центрального Кавказа. В другом источнике об этом говорится с еще большей определенностью, хотя, пожалуй, чрезмерно категорично. В частности, говоря об истории формирования зависимых сословий в Балкарии, автор «Приложения» к рапорту начальника Терской области от 8 сентября 1866 г. отмечал: «В горах зависимое сословие образовалось от подаренных кабардинскими князьями своим аталыкам или воспитателям холопов, от продажи в горы кабардинцами холопов, вышедших из повиновения или сделавших большие проступки, от бежавших соседних обществ людей, которые за покровительство горских таубиев по необходимости подчинили себя зависимости личной и поземельной». [37] О другой разновидности обретения подданных говорится в работе В.Миллера и М.Ковалевского: «Те же князья (кабардинские; В.Б.) нередко отправляют к горским таубиям новых поселенцев, прося о наделении их землею, ... под условием платежа известной ренты в пользу таубия». [38] Немаловажно и то, что, опираясь на указанные связи, балкарские феодалы бесцеремонно расширяли свои владения: «Самые обширные захваты таубиями горских (общинных; В.Б.) земель производились в эпоху владычества кабардинских князей над окрестными народностями» [39], в результате чего «Во всех горских обществах лучшие земли и угодья очутились в руках князей и каракишей-татар (тюрок; В.Б.). Родовое же население очутилось в крепостной зависимости,...». [40] Наконец, той же классовой солидарностью кабардино-горской знати склонны объяснять современные историки и стабильность социально-политической ситуации в горах на протяжении всего позднего средневековья; во всяком случае, источники XVI-XVIII вв. не содержат сведений о сколь-нибудь значительных по масштабам антифеодальных выступлениях в Балкарии. [41] Нельзя не оговорить, что во всех цитируемых здесь документах немало преувеличений и однозначных трактовок, игнорирующих значимость основных тенденций внутреннего развития горских «обществ». Но фактом остается то, что определенное – и небескорыстное – содействие извне действительно имело место, и что, в конечном счете, оно способствовало укреплению классового господства таубиев. Каковы же особенности той социальной структуры, которая сменила «демократический» феодализм горцев в XV-XVI веках? Конечно, нет оснований абсолютизировать мысль М.Абаева о неизменности этого строя вплоть до начала XIX столетия, и тем самым безоговорочно экстраполировать приводимую им (и его современниками) характеристику на эпоху средневековья. Хотя бесспорно и то, что в силу целого ряда обстоятельств – малочисленность и географическая разобщенность населения, скудость экологической базы хозяйства и др. – возможность каких-либо изменений принципиальной значимости действительно была маловероятна. Во всяком случае, мнение историков на этот счет совпадает не всегда и не во всем. Высшее сословие в Балкарии состояло из таубиев. Термин переводится с балкарского как «горский князь» (от тау – «гора» и бий – «князь»). Отметим, что вообще смысл второй части термина – слова «бий» – неоднозначен в тюркском мире, и варьирует от неопределенного «господин» до «правитель, владыка» и даже «бог, всевышний». Но то, что слово употреблялось горцами именно в указанном значении, явствует хотя бы из того, что точно так же («бий») балкарцы называли и кабардинских князей. Правда, по своему конкретному положению, выраженному в нормах обычного права, «имущественном цензе» или количестве подданных, таубии несопоставимы с последними. В свое время Терская сословно-поземельная комиссия отклонила их притязания на княжеский титул. Возражают против такого наименования и некоторые современные историки, ссылаясь на идентичность статуса таубиев и кабардинских тлокотлешей (букв. «рожденный от могущественного», т.е. первостепенный дворянин). Но в данном случае нас интересует сословная иерархия не Кабарды, а Балкарии. В Балкарии же никогда и никто не называл таубиев узденями, а слов тлокотлеши или уорки – нет вообще в балкаро-карачаевской лексике. К социальному аспекту балкарокабардинских отношений нам предстоит вернуться в следующем разделе работы, а здесь остается лишь повторить, что никакого другого значения, кроме «князь», слово бий в балкарском языке не имеет. Ввиду «кастовой» замкнутости этой категории число княжеских династий было крайне ограничено – всего 13 фамилий. Составляя лишь 3,8 процентов населения Балкарии, [42] они владели (по неполным данным) 20% пахотных земель, 43% сенокосных, 30% пастбищных и 33% лесных угодий [43]. В их руках было сосредоточено огромное количество скота, а в «административном» подчинении у них находились «лично свободные» общинники, не говоря уже о крепостных, рабах и «данниках». В своих владениях они располагали почти всей полнотой административной, судебной и политической власти – за исключение случаев, предусмотренных институтом Тёре. Исключительность статуса таубиев была закреплена обычным правом, согласно которому материальная компенсация «крови» превосходила «кровь» простого общинника в пять раз. В то же время в случае убийства крестьянина князем родственники убитого не имели права мстить, а за убийство князя ответственность нес весь род убийцы. Ни о каких «выборах» или «перевыборах» князей теперь уже не могло быть речи; их статус был наследственным и не оспаривался никем. В одной из ранних фиксаций адатов (1847 г.) о сословии таубиев сказано со всей определенностью, что принадлежность к этой категории «не приобретается ни покупкой, ни другими личными качествами», она «передается от отца всем законным детям, рожденным от равных браков». [44] Внешние атрибуты сословной принадлежности были сравнительно многочисленны и разнообразны: особый, присущий только для феодалов цвет одежды; династические браки; наличие в жилищном комплексе боевой башни; погребальные сооружения в виде монументальных наземных усыпальниц; право первой ночи («Первая ночь новобрачной принадлежит князю»), [45] свита не менее чем из десяти человек; кормилицы и воспитатели детей из числа подданных; обязательная для подданных церемония встречи князя на окраине села и т.д., и т.п. [46] Отдельные прерогативы обращают внимание некоторой необычностью. Например, «При изготовлении бузы холопу без пробы со стороны князя пить не разрешается. Также холоп лишается права пить из той чашки, каким пил князь» [47]. Или еще: «Если князь в дороге захотел отдохнуть или спать, то он отдыхал или спал на спине холопов, которые лежали на земле». [48] Судя по всем эти прерогативам, рассматривать таубиев как представителей «нарождающейся» родовой знати было бы явной натяжкой. В стадиальных рамках раннефеодальной формации это уже не нарождающаяся, а давно сформировавшаяся знать, и приведенная атрибутика – не робкие попытки самоутверждения, вуалируемые традициями родового прошлого, а скорее подчеркнутое дистанцирование от «черни» («Если руки черных холопов до нас дотронутся, то на том свете будем в вечном раскаяньи»). [49] Как и в соседней Осетии [50], каждая фамилия таубиев обычно владела одним, редко двумя, аулами (Шакмановы в Холаме, Суншевы в Безенги, Урусбиевы в Верхнем Баксане, Темиркановы в верховьях Хазнидона и т.д.). Но, как отмечено по материалам Кабарды, феодал с правами аульного владельца «мог жить и не отдельным селом». [51] Поэтому могло быть и так, что в некоторых сравнительно крупных полигенных аулах одновременно проживали по 2-3 феодальные фамилии, причем их владения не ограничивались лишь территорией этих поселений. Например, Абаевы – одна из самых влиятельных фамилий Верхней Балкарии, имели три родовые башни, из которых две находились в Кюннюме, а одна в Шканты. Зависимые от Балкаруковых семьи проживали не только в Эльтюбю, но еще в Жуунгу, Каме, Боппу, Тызгы; подданные Кучуковых – в Эльтюбю, Орсундаке, Кекташе; Келеметовых – в Эльтюбю, Каме, Лабырдаше и т.д. [52] Похоже, что для категории феодалов, подобных балкарским, это было явлением широко распространенным, и не только на Кавказе. В Западной Европе X-XIII веков лишь «сравнительно редко имело место полное совпадение деревни и вотчины, обычно же деревня распадалась на несколько феодальных держаний, принадлежавших разным лицам. Община как бы оказывалась разорванной на несколько владений и соответственно владения одного сеньора лежали в разных деревнях, не образуя единого территориального комплекса. Кроме того, сложность структуры общины проявлялась в том, что в ее состав входили обычно не только крестьяне разных сеньоров, но и крестьяне разного личного и поземельного статуса, обязанные своим господам разными повинностями». [53] Здесь же можно упомянуть и следующую по значимости категорию, чанка – весьма ограниченный круг лиц, отмеченный только в Чегемском обществе. Это были дети таубиев, рожденные от неравных браков и потому занимавшие положение как бы порядком ниже. Лаконичны сведения о так называемых узденях. С балкарского это слово переводится как «дворянин», но в литературе оно либо не упоминается, либо приводится как вариант наименований простых общинников – узден, караузден, каракиши. Отсюда – отождествление этих двух категорий и безапелляционные заявления, будто применительно к горной зоне Северного Кавказа термины узден и дворянин – понятия неравнозначные. [54] Насколько адекватно такая установка отражает социальную структуру балкарских «обществ», трудно сказать. Но вероятнее всего это связано со слабой изученностью вопроса, вследствие чего вне поля зрения историков оказался ряд небезынтересных фактов. Так, в работе В.Кудашева цитируется «записка» группы таубиев с поправками и замечаниями к материалам сословно-поземельной комиссии, составленная где-то в конце 1860-х годов. В этом документе сословия узден и каракиши (караузден) четко дифференцированы: первые – это «дворяне, несшие известные обязанности по отношению к таубиям и оказывавшие им почести», вторые – «черный народ». [55] О принадлежности к сословию дворян-узденей писали в XIX веке в своих прошениях представители различных обществ Балкарии. [56] В июле 1851 г. на имя начальника Центра Кавказской линии было подано прошение от шести фамилий: «Происходим мы из предков от колен Чегемских старшин, впоследствии пред вступлением русского правительства Чегемские старшины, имея вражду на наши фамилии, хотели вовсе истребить, но провидение Божье спасло, и так до настоящего времени. Хотя мы отдаем за них дочерей и берем у них, но не знаем из-за чего, Чегемские старшины устраняют нас из класса сего, так что из детей наших не велят отдавать аманатов, и в военно-учебные заведения, но дабы впоследствии вовсе не лишиться права нашего происхождения, то прибегаем под покров Вашего Сиятельства с покорнейшей просьбою о производстве следствия, и если мы уличим отвергающих нас, то предоставить нам права наравне с прочими Чегемскими старшинами». [57] Дознание по этому делу, произведенное майором Абисаловым, показало, что просители «ни к какой таубийной фамилии горских племен близостью не подходят, а сами по себе имеют узденское происхождение, которых узденей таубии считают равными с собою, с оными имеют навсегда сватовство в выдаче детей своих друг другу в замужество, но тем только между ними разница, что те таубии, а эти узденья...». [58] Таким образом, претензии авторов прошения на абсолютное равенство с таубиями оказались необоснованными. Но вместе с тем это была знать сравнительно высокого ранга, коль скоро градация статусов не служила препятствием к брачным связям. Любопытно имеющееся в документе уточнение: «просители с давних времен происхождением из первой степени узденей». [59] Первой степени, надо полагать, по местной, балкарской «шкале», так как в региональной иерархии первостепенными узденями считались сами таубии. Следовательно, просителей все же правильнее было бы отнести к узденям 2-й степени, ибо следующая за ними категория – каракиши – считалась сословием уже третьестепенных узденей. Так, в справке, выданной Нальчикским Горским Словесным судом на имя Мамашева в 1872 г., сказано: «из каракишей, то есть 3-й степени уздень». [60] Наряду с тем в документах XIX столетия упоминаются иногда так называемые большие уздени (уллу узден) и почетные уздени (сыйлы узден), [61] а в работе Р.Харадзе и А.Робакидзе говорится о постепенной дифференциации узденей на «почетных» и «непочетных». [62] Ввиду дефицита документальных данных мы не можем проследить динамику этого процесса. Очевиден лишь факт сравнительно раннего появления сословия узденей, «востребованных» в качестве социальной опоры таубиев (если верить преданию, свои уздени были даже у князя Бердыбия). [63] О зависимых сословиях. «Холопские и зависимые сословия в Кабарде... и соседних горских обществах, - говорится в одном из документов 1866 г., - гораздо многочисленнее и в видах своих разнообразнее, чем во всех других округах». [64] То же самое утверждал и публицист Б.Шаханов, по словам которого в Кабарде и Балкарии кроме князей и дворян «сословий свободных, в полном смысле этого слова, не было». [65] Между тем определение «свободное» прочно закрепилось в исторической литературе за сословием каракиши (или караузденей), составлявшим самую многочисленную (49,2%) [66] категорию населения горских обществ. На мой взгляд, значительно ближе к истине цитируемая выше формулировка Б.Шаханова, и определение «свободное» никоим образом не должно вводить в заблуждение относительно фактического положения карикишей. Согласно нормам адата, каракиши вроде бы действительно были «лично свободными», так как феодал не имел права покупать или продавать их как холопов. Факт, конечно, немаловажный, но далеко не решающий. Поголовное закрепощение крестьянства никак не может быть единственно возможной формой феодальной зависимости – даже в свете той же «марксистсколенинской научной методологии», принципы которой еще в недавнем прошлом принято было возводить в абсолют. Формы зависимости достаточно разнообразны, и понятие полной свободы как якобы закономерной альтернативы крепостничества здесь совершенно неприемлемо. Обратившись в этой связи к конкретным источникам, выделим главное: речь в них идет не о каких-нибудь двух-трех пунктах адата, косвенно ущемляющих сословные права каракишей, а целой системе четко фиксируемых повинностей в пользу феодала – трудовых, продовольственных, имущественных, транспортных и т.д. Согласно перечню, утвержденному в присутствии представителей царской администрации в 1864г. «выборными из таубиев и каракишей по взаимному их согласию», [67] эти повинности сводились к следующему. В определенные дни года каждый двор выделял по одному человеку для сенокоса и уборки сена, для перевозки сена с парой собственных быков, для вспашки поля собственными средствами, для прополки проса (у Мисаковых и Абаевых), для жатвы хлебов и перевозки урожая и удобрений, для перевозки грузов с равнины, строительного леса, лучины, дров на зиму. Им же вменялась в обязанность полная или частичная оплата расходов феодала, связанных с покупкой холопов, служанок, возмещением крови, женитьбой самого таубия или его сыновей. Каждый двор каракишей обязан был на протяжении двух месяцев зимой кормить по одной «скотине» феодала, а также лошадей гостивших у него лиц. «Доля» таубия была предусмотрена с добычи охотника, с количества приготовленного пива, с мяса зарезанного скота, с имущества наследников, а при выдаче дочери замуж каракиши отдавал таубию двух быков или двух коров. И так далее в том же роде – всего около 30 пунктов, не считая относительно «нейтральных», взаимообязывающих, и поздних, появившихся уже в период исламизации. Особое место занимала воинская повинность: «Каракиши обязаны доставлять по одному всаднику со двора в случае похода, с лошадью и оружием». [68] В указанной записи адатов говорится, что каракиши имел право переселиться в другую общину, но при этом землю он должен был передать – вместе с повинностями – кому-то из своих родственников. [69] Поскольку «вопрос о земле для горца – вопрос жизни и смерти», [70] то само по себе такое переселение было почти невозможно, и в любом случае предполагало не освобождение от повинностей, а всего лишь переход от одного феодала к другому – подобно тому, как это было на Руси до отмены Юрьева дня. Говоря проще, обладание землей, так или иначе, предполагало зависимость от таубиев. Существенное дополнение: «Если кто из каракишей, не повинуясь своему таубию... оставит дом свой и бежит, то... при поимке его судят в народном суде по обычаю». [71] В свете приведенных фактов трудно понять позицию тех историков, которые предлагают именовать сословие каракишей «свободными общинниками». Разумеется, это не свободные общинники; в социальном плане их статус более всего соответствовал положению осетинских фарсаглагов, которых Ф.Х.Гутнов вполне обоснованно считает полузакрепощенными. [72] Налицо предпосылки полного закрепощения – во всяком случае отдельных, наиболее слабых фамилий, и первым шагом в этом направлении должен был явиться запрет на переход к другому феодалу. Такую статью мы находим в адатах Урусбиевского общества, хотя время ее появления не поддается точному определению: «Каракиши не имеет права свободного перехода и должен следовать за господином, буде последний переселяться». [73] Первые документально фиксируемые (и небезуспешные) попытки закрепощения «независимых» крестьян Малкарского общества относятся ко временам А.П.Ермолова, [74] но едва ли подлежит сомнению, что они имели место и раньше. Говоря о чертах раннефеодальной формации в Европе, А.Я.Гуревич отмечает любопытную особенность: «Юридический статус и фактическое положение держателя сплошь и рядом были различны. В результате одного и того же человека можно было назвать одновременно и несвободным, и свободным». [75] В сущности, то же самое можно сказать и о рассматриваемом сословии в целом. С одной стороны, каракиши подвластны своему таубию и обложены многочисленными повинностями, а за побег их ждет строгое наказание; с другой же, определенные – пусть и незначительные – обязательства возлагаются и на феодала: обычным правом предусмотрены случаи материальной помощи таубия своим подданным, защиты их интересов в суде и т.д. [76] Еще резче выступает это противоречие при сопоставлении фактического положения различных групп. Ясно, что между упоминавшимися выше «древнейшими карикиши» и просто каракиши было значительно меньше общего, чем это предполагалось принадлежностью тех и других к одному сословию. Кроме каракишей имелись и другие зависимые категории. Класс крепостных крестьян составляли чагары, лично зависимые от феодала, наделяемые землей и обложенные натуральной и отработочной рентой: каждая семья чагар выделяла двух человек – мужчину и женщину – для круглогодичной работы в хозяйстве князя. По предположению Е.Г.Битовой, сословие чагаров к середине XIX в. составляло не более 15% всего населения Балкарии. [77] Удельный вес крепостного крестьянства часто принято считать критерием уровня феодализации, но обоснованность такого подхода по меньшей мере, сомнительна. Прежде всего, по той причине, что в данном случае подразумевается не какая-то теоретическая «модель» феодализма, а конкретная система социальных отношений, представляющая собой синтез оседлого кавказского и степного тюркского начал. Последнее важно в том плане, что крепостничество в его современном научном понимании было вообще чуждо средневековым тюркам. Впрочем, не менее показательно в этом отношении и положение дел в ареале классического феодализма: «комплекс явлений, известных под названием «крепостничества», остался в целом чуждым Западной Европе не только в эпоху становления, но и последующую эпоху расцвета феодализма; о крепостничестве в собственном смысле можно говорить лишь применительно к Восточной Европе конца средних веков». [78] Еще одну эксплуатируемую категорию крестьянства составляли так называемые жасакчи (букв. «данники»). Считаясь «свободными», они все же находились в экономической зависимости от феодала, причем эта зависимость доходила порой до того, что их могли продавать как холопов и за ту же цену. Жасакчи пользовались землей на правах условного владения. Как видно из самого наименования сословия, его обязанности сводились главным образом к натуральной ренте. Самой бесправной категорией эксплуатируемого населения являлись рабы и рабыни – казаки (касаки) и карауаши. Ни личными, ни сословными правами они не обладали, а степень и формы их эксплуатации не были регламентированы – хозяин распоряжался ими по собственному усмотрению. Рабами становились преимущественно представители соседних народов, захваченные в плен, похищенные или купленные. Все эти зависимые сословия – чагары, жасакчи и рабы – в совокупности своей составляли к XIX в. 47% населения Балкарии [79], а вместе с полузакрепощенными каракиши эта цифра возрастает до 96,2%. Такова, в самых общих чертах, картина сословной стратификации горских обществ к началу XIX столетия. Разумеется, не все реалии того времени могут быть безоговорочно экстраполированы на эпоху средневековья (как то следовало, например, из экскурса М.Абаева), но вместе с тем не всегда убеждают и попытки некоторых историков «омолодить» процесс формирования указанных сословий. Ошибочен, в частности, вывод К.Г.Азаматова, будто сословие жасакчи появилось позже остальных категорий зависимого населения (в XIX веке). [80] Автор ссылается на запись балкарских адатов 1844 года, не упоминающих жасакчи. Но в те годы подобного рода фиксации не были застрахованы от отдельных погрешностей и даже грубых ошибок. [81] В более обстоятельном обзоре В.Миллера и М.Ковалевского данная категория фигурирует не как позднейшая, а напротив – наиболее ранняя; еще до прибытия Басиата жители поселка Сауту «стали жасакчи (данниками)» его вассала, маджарца Мисаки, и платили ему «подать скотом и хлебом». [82] В данном случае достоверность устной традиции бесспорна не только с точки зрения ее «разрешающей способности», но и стадиальных «параметров» данничества; будучи одной из самых ранних и примитивных форм эксплуатации, оно могло появиться когда угодно, но уж никак не в XIX веке. По утвердившейся традиции вопрос о социальной структуре общества принято рассматривать в тесной связи с вопросом о формах собственности на землю. Сомнения в правомерности такого подхода в советской историографии довольно редки. В свое время Л.И.Лавров предостерегал от чрезмерного увлечения европейской «моделью» феодализма, и скептически относился к стереотипным установкам, «будто главное в феодализме – это феодальная собственность на землю». [83] Впрочем, предполагаемые нами формы она не обрела и в европейском феодализме – во всяком случае, в раннем средневековье. «Нет ничего более неправильного – отмечал А.Я.Гуревич, - чем представлять себе феодала в виде полного, неограниченного собственника своей земли» [84]. Далее он поясняет: «...феодальная собственность представляла собой не право свободного распоряжения какой-либо территорией, а власть над людьми, живущими и трудящимися на этой земле» [85] (выделено мной; В.Б.). Последнее для нас очень важно, ибо из приведенного выше обзора мы уже видели, что практически все население Балкарии было подвластно таубиям. «Спросите любого из таубиев – говорится в одном из документов за 1909 г., - и он непременно скажет, что в горах нет общественной земли, вся она принадлежит им – владельческому классу, ...». [86] Подобные заявления феодалов, за вычетом амбициозных преувеличений, конечно же, соответствовали действительности. Но поскольку «земельная собственность феодала была опосредствована его властью над крестьянином», [87] то и внешне она не была столь заметна, чтобы о ней можно было говорить как о чем-то вполне очевидном и бесспорном. Отсюда – отрицание феодальной собственности в документах досоветского времени, отсюда же – встречающееся в современной литературе четкое (и очень уверенное) деление горских земель на две категории: владения таубиев и владения отдельных общин. Учитывая роль скотоводства как основы всей горской экономики, наиболее актуален в этой связи, прежде всего вопрос о форме собственности на пастбища. На первый взгляд здесь как будто бы все ясно: «свободное» распоряжение каракишей общинными угодьями отмечали все. Но при этом постоянно упускалось из виду, что «доля» каждого из пользовавшихся угодьями – это форма собственности, обусловленная фактом его принадлежности к общине. А быть крестьянину в общине или нет – это, вопреки распространенным представлениям, решала не сама община, а именно феодал: «Князья и старшины (т.е. таубии; В.Б.) владеемой ими землею могут распоряжаться по своему произволу, ... без позволения же никто не может селиться на их земле или в их ауле». [88] Поселиться же во владениях феодала – значит стать его подданным, и, в конечном счете, суть земельных отношений без особых натяжек может быть сведена к формуле европейского средневековья «Нет земли без сеньора» и ее балкарским аналогиям «Жить без князя считалось позором», «Община без князя – не уважаемая община». [89] Опосредованный характер феодальной собственности на землю подразумевает соответствующие – т.е. косвенные, завуалированные – формы реализации сюзеренных прав. В Европе они проявлялись во введении на общинных землях барской запашки, увеличении числа повинностей и т.д. [90] Подобного же рода явления имели место и в горах Центрального Кавказа. При отсутствии письменной традиции проследить динамику этого процесса, конечно же, невозможно. Но из этого не следует, будто овладение феодалами львиной долей всех земель и введение ими повинностей, исчисляемых десятками, было актом единовременным. Безусловно, это результат длительного и целенаправленного давления аристократической элиты на «свободную» общину, и в интересующем нас плане достаточно показательна уже сама возможность такого давления. Здесь уместно напомнить о тех пунктах адата, согласно которым каждый крестьянин обязан был кормить у себя зимой по «одной скотине» феодала, ежегодно отдавать ему по одному барану (в Урусбиевском и Холамском обществах) и лучшую часть туши при убое скота, а также пункт о доле феодала с добычи охотника. По своей специфике эти подати вполне сопоставимы с рентой или своего рода «налогом» за пользование «своими» сенокосными участками, «общинными» пастбищами и лесами. Любая попытка уклониться от исполнения этих обязанностей предполагала строгие санкции. К примеру, «у охотника-крестьянина, скрывшего от князя убитого им тура, отбирался лучший бык или корова». [91] Более конкретно формулируются права таубиев относительно другой категории земель, тех, «на которых они (каракиши; В.Б.) водворены и которые они обрабатывают», [92] т.е. пашен и сенокосов. Эти права предполагают хотя и не безраздельное господство, но все же целую систему феодальных прерогатив: право вето на продажу земли каракишами; приоритетное право на ее приобретение; право присвоения «спорных» участков; доля земли при ее разделе между братьями-каракиши; часть ее стоимости в случае продажи; ограничение круга покупателей своими подвластными и т.д. [93] Все это – не считая собственных владений феодала и многочисленных повинностей «свободных» общинников в его пользу. Пункты адата о переходе земли к таубию при отсутствии желающих взять на себя повинности переселяющегося каракиши, или же при отсутствии у умершего каракиши наследников (к которым могли бы перейти эти повинности), явно противоречат версии, будто представители этого сословия пользовались землей на правах неотъемлемой собственности. Эта земля была «неотъемлема» только до тех пор, пока каракиши не переставал нести повинность в пользу феодала. Оспаривая этот тезис, Е.Г.Битова предлагает иную интерпретацию указанных пунктов. По ее мнению, «субъектом владения землей выступала соседская община. И она в лице своего покровителя из привилегированного сословия заботилась о сохранении своего земельного фонда, не допуская перехода земли в руки иноплеменников. А таубий, выступая скорее как лицо административное, получал за исполнение этих функций вознаграждение в виде спорного участка в случае отсутствия у каракиши родственников». [94] Такую трактовку, сводящую роль феодала в общине до уровня простого администратора, трудно счесть достаточно убедительной. Ведь изрядная доля земли – до трехсот рублей стоимостью – отходила к таубию даже при разделе имущества между братьями, когда ни о каких иноплеменниках не могло быть речи. [95] Ни община, ни отдельно взятый каракиши не могли быть «субъектом владения землей» во всеобъемлющем смысле этого слова, так как все операции, связанные с ее куплей-продажей или наследованием, жестко контролировались таубием, и контролировались только в своих интересах. По специфике возложенных на него функций подвластное таубиям население можно условно разделить на две почти равные по численности группы. Категории первой группы – это объект непосредственной экономической эксплуатации, т.е. рабы, крепостные и данники. Вторую группу составляли каракиши, положение которых по отношению к таубиям было, как сказано выше, весьма неоднозначным. По сложности и противоречивости социального статуса они, пожалуй, сопоставимы с европейскими сервами («полусвободными»). [96] Обремененные многочисленными повинностями и подлежащие наказанию за побег от феодала, они действительно находились на положении полукрепостных. Но они же обладали и важнейшей прерогативой свободного человека – статусом, как сказали бы сегодня, «военнообязанного». В этом качестве каракиши представляли собой социальную и военно-политическую опору таубиев, с их помощью феодал держал в повиновении остальные зависимые сословия, защищал (а по мере возможности и расширял) свои владения, совершал набеги, успех которых сулил богатую добычу, взимал пошлины с купцов и т.д. В этой сложности и неоднозначности статуса – отголоски былых взаимообязывающих отношений сторон, когда будущий феодал являлся пока еще не столько господином, сколько лидером и покровителем своих боевых друзей. Особенно наглядным реликтом прошлого можно счесть статьи адата, предусматривавшие заступничество таубия за каракиши в суде и устройство им для каракишей новогодних пиров. [97] Подведем некоторые итоги. Как справедливо отмечено автором одной из обобщающих работ, «в социально-экономическом отношении балкарскую общину XIX в. нельзя отнести ни к одному «чистому типу» общества на той или иной стадии развития». [98] С теми или иными оговорками такое определение вполне применимо и к эпохе средневековья. И хотя сам по себе термин «чистый тип» – понятие достаточно условное (если не сомнительное), все же черты своеобразия балкарского – да и любого другого – феодализма не должны заслонять то общее, на основе которого, собственно, и стало возможным выделение этой формации как особого этапа в социальной истории регионов Евразии. Точки соприкосновения в социальном строе Балкарии и некоторых регионов Западной Европы эпохи раннего средневековья были отмечены еще в работах В.Миллера и М.Ковалевского. [99] На сегодняшний день эти параллели представляются уже куда более многочисленными и разнообразными. Социально-экономическая многоукладность – не как пережиток или признак переходного периода, а как неотъемлемое свойство самой формации – и сочетание различных форм эксплуатации (рабство, данничество, крепостничество); малочисленность крепостного крестьянства; опосредствованный характер верховной собственности феодала на землю; подчинение феодалу как необходимое для «свободных» общинников условие обладания землей; отсутствие независимых от феодала групп населения и вариативность форм самой зависимости; часто территориальная разобщенность отдельных феодальных владений; роль княжеских пиров, дарений и пожалований в становлении и укреплении иерархических связей; значительная роль внеэкономического принуждения; воспитание детей феодала в семье вассала; определенные обязательства господина перед подданными и т.д. – словом, многое из того, что выделено А.Я.Гуревичем в качестве особенностей раннего феодализма в Европе, [100] приложимо с поправками на местную специфику также к системе социальных отношений на Центральном Кавказе – в том числе, как мы уже видели, и в Балкарии. Отметим параллель и иного рода. Вопреки стереотипным представлениям, становление феодального строя происходило в Европе не в условиях «развития производительных сил», а напротив – в условиях хаоса и разрухи. Этот период характеризуется «упадком производства во всех областях: и в ремесле, вернувшемся на несколько веков к состоянию, значительно более примитивному, чем ремесло античное, и в сельском хозяйстве, где многие земли запустели... после варварских завоеваний. Упадок городов, сокращение торговли, ... усиление натуральнохозяйственных тенденций – все это показатель регресса экономической жизни Европы в первые столетия средневековья» [101]. Сказанное целиком и полностью можно отнести и к ситуации на Центральном Кавказе после нашествия Тамерлана. Тому немногому, что было унаследовано уцелевшим населением края в области социальных и общественных отношений от прошлого, суждено было обрести «второе дыхание» в неимоверно сложных, можно сказать, экстремальных условиях. Безусловно, были сдвиги, и они достаточно существенны. Но в целом это было развитие в стадиальных рамках все той же раннефеодальной формации. Констатируя это обстоятельство, в то же время следует подчеркнуть и неприемлемость каких бы то ни было преувеличений, упрощенно-поверхностных формулировок о якобы извечной консервативности горских обществ. Соотнесение конкретного материала с параметрами некоего «эталона» развитого, «классического» феодализма несостоятельно методологически, [102] и лишь способствует искажению изучаемой действительности. Между тем, такие случаи нередки в балкароведении, и едва ли не самым убедительным доказательством «отсталости» горцев почему-то принято считать незакрепощенность основной массы населения. Положение «классиков» о нетипичности поголовного закрепощения как показателя «развитости», признававшееся в свое время даже диссидентом от науки А.Я.Гуревичем, [103] обходилось стороной и в советский период – столь велико было искушение вникнуть во все тонкости «местной специфики». Тем уместнее вновь напомнить здесь о мнении опального историка на этот счет: в целом крепостное право как явление, отражающее уровень социальных отношений, было чуждым для Западной Европы даже в «эпоху расцвета феодализма» [104]. «Следовательно, речь должна идти не о том, что феодализм якобы несовместим с крестьянской свободой, а о том, как он с нею реально соотнесен. Ссылкой на пережитки мы ровным счетом ничего не объясним». [105] Переходя от указанных параллелей к вопросу о местных особенностях феодализма в Балкарии, необходимо отметить, что в широком плане этот вопрос так или иначе связан с дискуссионной по сей день проблемой так называемого «горского феодализма». Очевидно, таковой она будет оставаться долго, и предметом дискуссии могут быть почти все ее аспекты – начиная уже с этногеографических границ подразумеваемого таким наименованием ареала. Относительно, например, центральной части Северного Кавказа правомернее было бы ставить вопрос не о некоем «горском» феодализме вообще, а феодализма двух конкретных ландшафтных зон – высокогорной и предгорноплоскостной. При этом наиболее сложным всегда был вопрос о феодальных отношениях в высокогорных районах края. Быть может, целенаправленные изыскания кавказоведов позволят в будущем охарактеризовать предмет исследования в достаточно развернутых и аргументированных формулировках. Пока же, на стадии предварительных обобщений, заслуживают внимания три немаловажных момента. Прежде всего, это достаточно очевидный факт огромного – возможно, даже решающего – значения особенностей этнической истории в процессе классообразования. Формирование горских обществ с отчетливо выраженной сословной стратификацией – это преимущественно следствие притока в их среду инородных (ираноязычных и тюркоязычных) групп, у которых раннефеодальные отношения успели сложиться до этого в степной и предгорной зоне региона. [106] Далее, столь же очевидной представляется и невозможность изолированного существования феодальной формации в условиях недостаточности наличной территории для полного оборота годового производственного цикла. Необходимое условие стабильности экономической базы высокогорного феодализма – доступ к сезонным пастбищам на равнине. Этим обстоятельством были обусловлены связи горцев с правящей верхушкой Кабарды – связи сложные и противоречивые, неоднозначные по характеру и последствиям, парадоксальные в своей «обреченности» на постоянство при несовместимости коренных интересов сторон. И последнее. Отсутствие сложной многоступенчатой феодальной иерархии чаще всего принято связывать с уровнем феодализации горских обществ. В принципе верно, но едва ли этим сказано все. Ведь среди факторов, определяющих сам уровень феодализации, не последнюю роль играет численность населения. К примеру, о какой многоступенчатой иерархии могла идти речь относительно, скажем Урусбиевского общества, которое даже к началу XIX столетия состояло всего лишь из 150 семейств? Ясно, что в этой связи не менее уместно было бы вспомнить о «многотипности феодального развития», [107] обусловленной разнообразием, как принято говорить, «конкретно-исторических условий» – нередко даже в пределах одного региона. Горы Большого Кавказа – это одна из тех экологических ниш, которые исключают не только нормальное развитие, но даже эндогенное формирование феодализма. [108] И в наибольшей мере это относится к Балкарии – самой высокогорной части Кавказа с ее чрезвычайно суровым климатом, экологической базой, недостаточной даже для простого воспроизводства, мизерным населением, к тому же еще и разобщенным на локальные взаимно изолированные группы. Казалось бы, ни о каком классовом обществе в таких условиях не могло быть и речи. А между тем весь парадокс в том, что в географических пределах высокогорной зоны социальная структура балкарских «обществ» относилась к числу наиболее развитых. О «влиятельности» верхнебалкарской знати писал еще грузинский царевич Вахушти, [109] и это очень похоже на правду, если учесть, что в отдельных случаях титулом таубий именовали себя и феодалы некоторых соседних народов. [110] В самой Балкарии убеждение, будто «жить без князя считается позором», [111] прочно внедрилось в сознание масс, а поселения, над которыми возвышались башни феодальных замков, считались особенно «престижными». [112] *** Согласно материалам капитана М.Ольшевского (1847г.) в традиционном быту народов Северного Кавказа существовало два «порядка правления» – «владельческий и народный». Владельческое, или княжеское правление имело место у кабардинцев, кумыков, ногайцев и некоторых западных племен; народное – у балкарцев, карачаевцев, осетин и части западных адыгов. [113] Отметим, что изрядную условность такого деления осознавал и сам автор, оговоривший, что подлинно народное («в полной силе народное») правление было присуще только чеченским обществам до вхождения их в имамат Шамиля. [114] Если же быть еще точнее, то уместно добавить, что в этом отношении отнюдь не составляли целостной картины и общества с «народным» правлением. В чемто, конечно, отличался общественный строй, скажем, «вольных обществ» Северного Кавказа с приоритетными (но юридически не закрепленными) правами «сильных фамилий» и, например, балкарских обществ, в которых «административную» зависимость вроде бы «свободных» крестьян от феодалов признавали даже представители царской администрации на Кавказе. [115] Следовательно, М.Ольшевский прав лишь отчасти: в интересующем нас плане балкаро-карачаевцы и дигорцы занимали как бы промежуточное положение между «вольными обществами» Кавказа и населением Кабарды и Кумыкии. Высшим органом самоуправления общины приблизительно до середины XIX столетия продолжало оставаться сохранившееся еще со стадии «военной демократии» Народное собрание. В данном случае понятие «народное» требует пояснения в том смысле, что оно, конечно, не могло распространяться на весь этнос. Сбор в одном определенном месте столь значительного количества людей – взрослых полноправных членов всех пяти горских обществ – был практически невозможен, да и необязателен. По-видимому, речь может идти о собрании аулов одной отдельно взятой общины, или, иначе, «общества». Здесь категории «община» и «общество» равнозначны по той причине, что в условиях Балкарии сельская община фактически представляла собой «объединение нескольких аулов, замкнутых в одном ущелье». [116] Концентрация аулов каждой общины «гнездами», на сравнительно ограниченном пространстве – в пределах взаимной визуальной связи – облегчало задачу оповещения сельчан и их своевременной явки. Местом проведения собраний служила обычно либо площадь в центре наиболее крупного и древнего из поселений, либо «открытое, возвышенное место за аулом». [117] Вел собрание олий, «старейший и достойнейший из таубиев», стоявший во главе общества и «правивший всем народом». [118] Право голоса имели все, хотя особой весомостью обладало мнение людей преклонного возраста, а также личностей незаурядных, выделявшихся ценимыми в народе качествами – взвешенностью суждений, познаниями, опытом, и, прежде всего, - компетентностью в том или ином обсуждаемом вопросе. Ввиду отсутствия традиции письменного делопроизводства нам неизвестен конкретный перечень вопросов, подлежащих обсуждению. Категория самого института как высшего органа власти в совокупности с материалами устной традиции дает основание считать, что это могли быть вопросы особой важности, неординарные по масштабности и связи их с коренными интересами общества или даже всего народа, иногда трудноразрешимые из-за своей необычности: вопросы войны и мира, вопрос о границах, о последствиях стихийного бедствия, о позиции общины в событиях межэтнического масштаба и согласовании ее с позицией других балкарских обществ, о прокладке новых дорог, мостов и ремонте старых, о предоставлении «политического убежища» и т.д. Вместе с тем это был и высший законодательный орган, в компетенцию которого входила отмена устаревших и введение новых законов: «В составе обрядов убавка, прибавка или отмена вообще делаются по приговору и общему согласию; если народ убедится, что на будущее время невыгодно продолжать суждение по делу обрядом, до того существующим, тогда обряд уничтожается по приговору...». [119] Зачастую в источниках содержатся лишь намеки на роль публичной власти. В них не говорится со всей определенностью о санкционировании наиболее значимых акций именно Народными собраниями. Но в свете формулировки М.Ольшевского о «народном правлении» все-таки показательно, что сами эти акции часто мотивируются ссылками на волеизъявление народа. В официальном документе за 1827 г. о принятии российского подданства балкарцами и дигорцами об их представителях из числа феодальной знати сказано как о лицах, «присланных от упомянутых народов», «уполномоченных старшинах от народов». [120] На Народных же собраниях, скорее всего, была согласована и позиция горских обществ в событиях 1834 г., когда территориальный спор между балкарокарачаевцами и сванами едва не вылился в вооруженный конфликт. [121] От имени «народов» (т.е. обществ) Урусбий, Чегем, Хулам, Безенги, Балкар был в 1883 г. передан в дар императору национальный раритет Балкарии – так называемая «благородная винтовка» (огурлу ушкок). [122] Хотя приведенные факты и не лишены определенного интереса, они, к сожалению, не соответствуют хронологическим рамкам данной работы. Что касается более раннего периода, то иллюстрировать тезис о роли Народных собраний конкретными примерами почти невозможно, хотя, по логике вещей, значимость этого института в условиях средневековья достаточно очевидна и без примеров. В условиях почти полного информационного вакуума не приходится пренебрегать и упоминаниями таких событий, которые в интересующем нас плане могут быть интерпретированы только гипотетически. В одном из номеров «Терских ведомостей» за 1884 г. было помещено сообщение, будто во время пребывания Петра I в Дербенте к нему явилась группа балкарских князей с просьбой о политическом покровительстве. Достоверность этой информации требует тщательной проверки, но здесь важно только то, что, согласно сообщению, феодалы прибыли в Дербент отнюдь не по собственной инициативе, а якобы их подданные «горцы послали к Великому гостю своих депутатов». [123] Ясно, что решения подобного рода могли приниматься только на Народных собраниях. Столь же лаконично, но зато более достоверно другое сообщение. Это, в частности, повествование Вахушти Багратиони о злоключениях имеретинского царя Арчила на Северном Кавказе в 1693 г. Вкратце суть этой истории сводится к тому, что, скрываясь от персов и турок, Арчил перебрался на Северный Кавказ; здесь его преследование возобновилось уже силами крымцев, лезгин, шамхала Тарковского, некоторых кабардинских феодалов и т.д. В конце концов, царя вероломно пленил «господарь черкезов Килчико», [124] который тайно переправил Арчила со свитой в Верхнюю Балкарию, а его войнов – в Дигорию. Вскоре об этом стало известно шамхалу Тарковскому, потребовавшему у Килчико незамедлительно выдать царя. В свою очередь с тем же требованием Килчико обратился к балкарцам. Для последних отказ грозил обернуться серьезными последствиями: община, вся «армия» которой к тому времени могла состоять не более чем из тысячи человек, [125] не смогла бы противостоять объединенным силам шамхала и «господаря черкезов». Положение царя стало критическим. «Но тут, – продолжает Вахушти, – басианские женщины сняли свои головные уборы и сказали мужьям: «Или это наденьте вы и ваши шапки дайте нам, или Арчила не отдадим Килчико». Отпустили поэтому Арчила той же ночью со своей свитой. Дигорцы также отпустили всех пленных...». [126] Из приведенной выдержки явствует совершенно недвусмысленно, что исход дела был предрешен вмешательством женщин, но к какому сословию они принадлежали, а главное – на каком «уровне» решался сам вопрос – этого автор, к сожалению, не уточняет. Но в свете всего, что нам известно о традиционном менталитете горцев, говорить о принадлежности женщин к сословию таубиев едва ли возможно. В Балкарии «Чем выше общественное положение человека, тем в большей замкнутости живут у него женщины» [127] и тем строже к ним требования этикета. Столь экстравагантную форму дискутирования, о которой сообщает Вахушти, можно вообразить в какой угодно среде, но никак не в семьях таубиев. «Более счастливая доля выпала на сторону горянок простого класса, - писал Н.Ф.Грабовский, – они не стеснены тяжелыми правилами этикета, не ведут замкнутой жизни, не избегают встреч с аульною молодежью...». [128] Что же касается интересующей нас «инстанции», то едва ли может подлежать сомнению, что вопрос, связанный с возможностью тяжелого вооруженного конфликта, мог решаться только на Народном собрании. Участие женщин в Народных собраниях неоднократно отмечали исследователи традиционного быта как адыгов, так и осетин. Правда, по словам авторов, у адыгов подобное могло иметь место лишь «в отдельных случаях», [129] а у осетин это были не все женщины, а лишь «мудрые и многоопытные люди», советы которых «не могли игнорироваться сельской общиной при решении важных общественных дел». [130] Создается впечатление чего-то эпизодического, вроде бы не очень типичного, но, очевидно, в обоих случаях подразумеваются относительно поздние явления, когда всеобщее равенство свободных членов общины независимо от пола постепенно стало изживаться – у одних народов вследствие исламизации, у других под влиянием соседей-мусульман и т.д. Таким образом, наиболее приемлемой интерпретацией рассмотренного эпизода нам представляется версия, согласно которой вопрос о выдаче имеретинского царя решался на собрании свободных общинников-каракиши во главе с таубием-олием. В этой связи заслуживают внимания три момента. Во первых, этот случай дает хоть какое-то представление о значимости обсуждавшихся на Народных собраниях проблем; во-вторых, в средние века (до массовой исламизации Балкарии) в этих собраниях могли принимать участие и женщины – порой, как мы уже видели, даже с правом решающего голоса; втретьих, привлекает внимание согласованность действий Малкарского и Дигорского обществ (как и в ряде иных политических акций – например, принятии Российского подданства в 1827 г.). Еще один пример, характеризующий уровень компетенции средневековых Народных собраний, приведен в работе М.Абаева. «Для обсуждения особо важных вопросов, и в особенности в тех случаях, когда кто-нибудь из таубиев начинал выходить из повиновения, олий сзывал на сход все население и предлагал народу решить вопрос, и решение народа моментально приводилось в исполнение». [131] Комментируя это сообщение, Е.Г.Битова приходит к выводу, что столь высокие полномочия Народного собрания были обусловлены «верховной собственностью общины на всю занимаемую территорию». [132] Такая констатация оставляет место для сомнений хотя бы по той причине, что сам же М.Абаев, повествуя о неповиновении князя Айдебулова олию Сосрану Абаеву, скромно умалчивает как о «решении народа» по этому вопросу, так и его «моментальном исполнении». Впрочем, дело здесь не в возможностях общины в каком-то конкретном случае, а в тезисе о непосредственной связи этих возможностей с формами земельной собственности вообще. Вопрос о собственности на землю уже рассмотрен выше, и здесь нет необходимости обращаться к нему вновь. Нельзя обойти лишь противоречие между констатируемым в работе уровнем феодализации и полномочиями Народного собрания, больше ассоциирующимся с периодом военной демократии. В значительной мере это противоречие лишь кажущееся, а то, что действительно противоречиво, необязательно интерпретировать исключительно в контексте земельных отношений. Ведь в данном случае речь идет о той ранней стадии феодальной формации, когда эволюция обычного права не всегда и не во всем адекватна изменениям в социальной сфере. Ввиду известной консервативности надстройки (особенно в условиях средневековья) компромисс между старым и новым совершенно неизбежен, и, судя по европейским параллелям, это было достаточно распространенное явление. В Европе «важнейшим признаком средневекового права считалась древность его установлений... Идеальное состояние видели в прошлом – и стремились его возродить или к нему возвратиться». [133] В этом – одна из причин устойчивости традиций военной демократии. Другое дело, когда из пиетета к «седой старине» в новые своды законов включались статьи, «практически уже утратившие свою силу». [134] Последнее для нас особенно интересно: не о таком ли рудиментарном пункте права упоминается в работе М.Абаева? Обсуждение актуальных проблем общины было основной, но не единственной функцией Народных собраний. По завершении собрания начиналось нечто вроде всенародного празднества – со спортивными состязаниями, танцами, выступлениями певцов, сказителей, джигитовкой и т.д. Целью их было, конечно, не одно развлечение. В условиях отсутствия школ и профессиональной педагогики празднества в какой-то мере заменяли собой и то, и другое, играя важную роль в воспитании подрастающего поколения. Для молодежи они были своего рода экзаменом, где она могла демонстрировать не только силу, ловкость, искусство, но – что не менее важно – также знание этикета, обычаев. Наряду с подобными всеобщими собраниями существовал и их как бы «сокращенный» вариант, или, выражаясь современной терминологией, «закрытые» Народные собрания. От обычных они отличались тем, что на них присутствовало не все население, а лишь по одному представителю от каждой семьи из сословия каракиши. [135] Как правило, это были люди преклонного возраста, как, впрочем, и руководивший собранием олий. Отмечая наличие подобных вариантов собраний у других народов края (например, в Осетии), Ю.Ю.Карпов констатирует, что по возрастному цензу участников они фактически представляли собой советы старейшин. [136] В наибольшей мере это относится, конечно, к рассматриваемым автором «вольным обществам», хотя даже в них характер принимавшихся собраниями решений зачастую определялся позицией так называемых «сильных» фамилий. Если Народное собрание представляло собой высший совещательный, судебный и законодательный орган в каждом из горских обществ, то лицом, наделенным высшей исполнительной властью, являлся олий – верховный князь, «старейший и достойнейший из таубиев». [137] По словам Мисоста Абаева, олий «правил всем народом. При нем существовали народный суд и судилище под названием «Тёре». В этом суде заседали представители от таубиев, узденей и при разборе крестьянских дел – и от чагаров, и в нем разбирались и решались окончательно все гражданские и уголовные дела словесно, и утверждались олием на словах же;... Распоряжения олия беспрекословно исполняли все, не исключая и таубиев... Каждый мужчина из таубиев, узденей и эмчеков должен был иметь оружие и коня и по первому призыву олия явиться готовым к походу и войне с неприятелем, а в мирное время мужчины упражнялись в стрельбе, верховой езде, борьбе и играх на открытом поле». [138] Судя по контексту, именно олиев подразумевали В.Миллер и М.Ковалевский под «старейшими представителями княжеских династий». Отмечая, что «надзор за выполнением приговоров, самое приведение их в действие всецело входит в круг обязанностей старейшего представителя княжеской династии», авторы сопоставляют балкарских олиев с ранними представителями воинской знати у германских и славянских племен: «Подобно им, они – верховные предводители на войне и стражи общего спокойствия в мире». [139] М.Абаев писал о должности олия как выборной, на которую мог претендовать лишь «старейший и достойнейший» из таубиев. Но сам по себе этот принцип не исключал монополизацию должности в руках одной фамилии или даже семьи, так как в некоторых обществах правило только по одной княжеской династии (Холам, Безенги, Урусби). Очевидно, иначе должно было обстоять дело в Малкаре с его более многочисленной знатью. О пребывании в этом обществе той или иной личности в должности олия можно судить не только по указанию источников на ее руководящую роль в событиях особой значимости, но и главное – по акцентации ее статуса. Так, в вооруженном конфликте горцев с группой кабардинских и дагестанских феодалов в 1628-1629 гг. оборону Малкара возглавил некий Абши Тазримов (или Тазритов). В интересующем нас плане это мало что значило бы само по себе, если бы не то обстоятельство, что в источниках он фигурирует как феодал, владеющий «местом Болкары», т.е. всей Верхней Балкарией. Разумеется, такую констатацию не следует понимать буквально. Эта территория никогда не принадлежала только одному человеку, что, кстати, оговорено в том же самом документе: помимо Тазримова здесь «много иных мурз». [140] Следовательно, речь может идти не о личных владениях Тазримова, а о его положении как верховного князя (олия) Малкара, куда наряду с Черекским входили также ущелья рек Сукансу и Хазнидон. Некоторые историки склонны видеть в нем одного из родоначальников фамилии Абаевых. [141] Если такое предположение верно, то, пожалуй, можно констатировать доминирующее положение этой фамилии в Малкаре на протяжении XVII-XVIII вв. Дело в том, что к самому концу того же XVII столетия относится документ с упоминанием еще одного лидера того же ранга, что и Тазримов, но теперь уже он фигурирует под фамилией Абаев. Речь в нем идет о рассмотренном нами выше эпизоде с пленением царя Арчила. Захватив своего венценосного гостя в плен, Кильчуко передал его «в горы для бережения тех гор владетелю Килчигу Абаеву. И у того владетеля был он царь месяцев шесть. И той Килчуга, видя, что задержание ему царя напрасное и кабардинский владетель Кильчука к нему не присылывал по него многое время, из гор ево, царя Арчила Вахтангеевича и со всеми ево людьми отпустил в карталинскую землю. И провожать их за ним своих улусных людей с тысячу человек послал. И кабардинский владетель Кальчука, услыша, что царь Арчил Вахтангеевич из гор пошел в карталинскую землю, послал за ним в погоню ратных своих людей тысячи с полторы. И настигли ево, царя, в Дигорах, и хотели перенять и Матию Божиею царь Арчил Вахтангеевич тем Кулчуковым посыльщикам в руки не дался. Також и Килчигины провожатые его не выдали,...». [142] Главное, что привлекает внимание в приведенном тексте, - это количество «своих улусных людей» князя Абаева: «с тысячу человек». Судя по численности погони и исходу стычки, документ сравнительно точен в интересующей нас части. Это важно в том смысле, что дружина в тысячу человек никак не могла состоять только из собственных подданных Абаева (по местным меркам той поры это была чуть ли не армия). Ясно, что речь может идти о боеспособной части населения всего Малкарского общества, а раз так, то распоряжаться ею как «своими улусными людьми» мог только олий. И никто другой. Далее. В первые десятилетия XVIII века Малкарское общество возглавлял Сосран Абаев, которого его потомок Мисост Абаев уже вполне определенно называет олием. При Сосране Абаеве были достигнуты значительные успехи в деле благоустройства и укрепления обороноспособности общины, были отражены посягательства Асланбека Кайтукина на суверенитет горцев, в результате чего – как утверждает Мисост Абаев – резко возрос авторитет малкарской знати. Столь впечатляющая характеристика олия вроде бы дает основание заподозрить автора в тенденциозности, в стремлении возвеличить своего предка; надо полагать, здесь действительно не обошлось без преувеличений. Любопытно, однако, что при всем том нечто подобное мы находим и в работе грузинского царевича Вахушти, лично побывавшего в Верхней Балкарии как раз в начале XVIII века: «Басиани – страна благоустроенная, с поселениями и знатью, более влиятельной, чем у прочих овсов» [143]. В работе М.Абаева приводится также второе имя этого олия – Альшагир Кучукович. Судя по отчеству, Альшагир мог быть сыном своего предшественника в этой должности «Килчига» Абаева; хронологические параметры правления того и другого вполне допускают такое предположение. Правда, имена Кучук и Килчиг не столько сходны, сколько созвучны, но в этом нет ничего удивительного, так как в средневековых письменных источниках непривычные для авторов имена чаще всего искажались до неузнаваемости. Унаследовал ли Альшагир полномочия отца в порядке исключения, или же со временем эта должность превратилась в наследственную, как считали некоторые историки, [144] остается пока неизвестным. Но это не первый и не последний случай упоминания Абаевых в контексте, допускающем версию об их достаточно высоком положении среди своих соплеменников. К концу XVIII-началу XIX столетий относятся сведения П.Г.Буткова о том же Малкарском обществе: «В 1794 г. в сей фамилии Басиат считалось до 26 человек, и старший между ними был Солтан-мит-Коншаов, а по нем Мусса Ахматов, Девлетуко Алаганов и Бингор Гургокаев». [145] Разумеется, возрастной «ценз» перечисленных лиц интересовал составителя документа неспроста; скорее всего это перечень олиев в той последовательности, в какой они сменяли друг друга. Странным может показаться причисление к потомкам Басиата лиц с «фамилиями» Каншаов, Ахматов или Алаганов. Но это не фамилии. В России вплоть до середины XIX в. и отчество и фамилия часто могли иметь одинаковую форму: на –ов, -ев... Из указанных П.Г.Бутковым «старших» нам удалось идентифицировать только двоих. Любопытно, что оба они оказались Абаевыми: Солтан-мит-Коншаов (он же Солтамбут Качаев) и Девлетуко Алаганов (он же Довлетуко Алаготев). [146] Таким образом, речь идет о Солтанмуте Каншаовиче Абаеве и Довлетуко Алаугановиче Абаеве. Вторым по значимости (в рамках общины) институтом был представительный орган различных уровней с ограниченным числом выборных лиц. Название его звучит поразному: у одних авторов говорится о ныгыше, у других – о Тёре. Но, судя по наименованию того и другого «судилищем», в обоих случаях речь идет об одном и том же. [147] Параллельное употребление двух терминов связано с особенностями этнической истории: слово ныгыш – иранское, Тёре – тюркское. В настоящем экскурсе предпочтение отдано форме «Тёре», хотя в цитируемых текстах может встретиться и равнозначный ей вариант «ныгыш». К сожалению, вплоть до последних десятилетий никто не ставил своей целью скольконибудь обстоятельную характеристику Тёре. Неудивительно, что имеющихся в старой литературе сведений – более чем лаконичных и, как правило, весьма поверхностных – недостаточно даже для беглого описания предмета. В существенной мере этот пробел восполнен в современных публикациях Х.Х.Малкондуева, Х-М.А.Сабанчиева, Р.Т.Хатуева, Е.Г.Битовой и др. Ценность проделанной ими работы очевидна, но приходится помнить и о характере использованных источников: в ряде случаев это почти исключительно полевой этнографический материал. То, что в своей основе это наследие средневековья, ясно и без доказательств. Сложность, однако в том, что никто не сможет сказать с полной уверенностью, насколько точны сведения информаторов минувшего столетия, особенно его второй половины. Общим недостатком ранних сведений о Тёре является то, что из всех функций этого органа авторы досоветского периода почему-то чаще всего акцентировали только судебную. Выше уже приводилась выдержка из публикации М.Абаева, который называл Тёре «судилищем» при олие. То же самое мы находим в работе Ф.И.Леонтовича, с той лишь разницей, что судилище у него фигурирует под своим вторым названием ныгыш: «Судебное место зовут нагиш (оно состоит из камней вроде стульев, поставленных кругом, никто не помнит, кем). Это судебное место существует везде, даже в аулах. Там избранные почетные старики из всех классов, т.е. старшин, каракеш, казаков и кулов, каждый день бывают для выслушивания жалоб просителей и оправдания ответчиков, после чего решают дела по обряду. Это место даже зимою остается судебным; в нем расправу делают непременно каждый день» [148] (автором допущена неточность: казаки и кулы не избирались в Тёре). В отличие от Народного собрания, соответствие Тёре особенностям классового общества было выражено более отчетливо: «Судьи избираются преимущественно из того сословия, к которому принадлежат тяжущиеся, а потому и постоянные судьи избираются из разных классов» [149]; «Поступки и действия князей и старшин, противные принятым правилам общежития, разбираются равными им и первостепенными узденями». [150] Приведем здесь более обстоятельную характеристику рассматриваемого института, основанную на публикациях Х.Х.Малкондуева и Х-М.А.Сабанчиева. [151] Согласно формулировке указанных авторов, Тёре – это «высший выборный общенациональный универсальный орган социально-политического, законодательного и распорядительного порядка, регулирующий политическую и общественную жизнь в средневековой Балкарии и Карачае. На Тёре была возложена ответственность за судьбу страны и народа, чьими интересами он и руководствовался. Как верховное собрание и трибунал Тёре обладал известной независимостью и... был вправе ограничить даже власть олия - верховного князя Балкарии». [152] Существовали Тёре четырех уровней: сельские, общеущельские, общенародный и Верховный; помимо того было еще и княжеское Тёре, решавшее только узкосословные проблемы. Первые две инстанции действовали постоянно, общенародный Тёре собирался раз в два-три месяца по мере необходимости, а Верховный – с интервалами в несколько лет, иногда даже десятилетий, по вопросам исключительной важности. Высшей апелляционной инстанцией был общенародный Тёре, постоянным местопребыванием которого было общество Малкар. Сюда обращались не только сами балкарцы, но нередко жители Дигории и Карачая. Таким образом, если Народное собрание являлось высшим органом в решении проблем отдельно взятого «общества», то общенародный Тёре являлся таковым в масштабах всего этноса. Выборы в Тёре проходили один раз в семь лет. Каждый аул выдвигал из своей среды по пять или семь кандидатур, утверждавшихся решениями сельского схода. Избранными в Тёре могли быть представители всех сословий, кроме рабов и крепостных, причем главными критериями успеха являлись личные качества: честность, безупречная репутация, глубокий ум, знание народных обычаев, и не в последнюю очередь – выдающиеся ораторские способности. Члены сельских Тёре выдвигали из своей среды по одному представителю в обшеущельский Тёре, а последний делегировал одного из своих членов в общенародный Тёре. Каждый из народных избранников (тёречи) давал клятвуприсягу, нарушение которой каралось смертью. Председательствующим на Тёре являлся олий. Олием же утверждались и все решения Тёре – вначале словесно, а позже, с появлением арабской письменности, они стали фиксироваться кадием документально. Эти решения доводились до сведения народа через специальных глашатаев – бегеулей, и были обязательны для всех членов общества. Был предусмотрен ряд строгих мер по предупреждению случаев неповиновения – начиная от публичной диффамации посредством «камня позора», и кончая изгнанием из общества, или даже смертной казнью. С этой целью был создан своего рода «аппарат принуждения», особый отряд стражников-мыртазаков, а также подземные помещения для содержания преступников, так называемые «джер-юй». [153] В соответствии с уровнем каждого Тёре распределялись и их полномочия: сельские и общеущельские Тёре решали преимущественно проблемы локального масштаба, в то время как в компетенции общенародного и Верховного Тёре находились вопросы войны и мира, гарантия суверенитета и охрана границ, решение территориальных споров с соседними народами, вопросы внешнеполитической ориентации и т.д. Таковы некоторые особенности института Тёре, охарактеризованные в серии публикаций упомянутых выше авторов. Воздавая должное их усилиям по воссозданию одной из интереснейших реалий прошлого, нелишне все же вновь оговорить необходимость осторожного подхода к отдельным положениями, основанным на этнографическом материале. В свете источников XIX – начала XX вв., а также параллелей с общественным устройством, скажем, соседней Осетии, [154] не вызывает сомнений наличие Тёре (или ныгыша) трех уровней: сельских (в масштабах одного аула), общинных (в масштабах отдельно взятого горского общества) и общенародного (единого для всех обществ). Но не совсем понятно наличие еще и Верховного Тёре, который, при некоторых отличиях в частных моментах, в целом все-таки функционально дублировал общенародный Тёре. Насколько представляется возможным судить по всей совокупности наличной информации, заметной особенностью всех рассмотренных институтов являлась незавершенность дифференциации их функций на законодательные, совещательные, судебные и исполнительные. Наиболее архаичным следует счесть такой орган «непосредственной демократии», [155] как Народное собрание. Некоторые авторы склонны были сравнивать его с Новгородским вече. В чем-то такое сопоставление, быть может, и правомерно. Скажем, выборы олия на том же Народном собрании или «решение народа» по делу того или иного строптивого феодала действительно ассоциируются с принятой в Новгороде практикой приглашения угодных и изгнания неугодных князей. Правда, в отличие от истории Новгорода, в интересующем нас прошлом мы не знаем ни одного достоверного, документально зафиксированного случая сколь-либо жестких санкций против знати. Зато документально зафиксирована статья обычного права, которая уже приводилась выше: поступки таубиев, «противные принятым правилам общежития, разбираются равными им» по социальному статусу лицами. Здесь же напомним и о другой статье: «недоразумения» между таубиями и общинниками-каракиши рассматривались не на Народном собрании, а в апелляционном Тёре Малкара. [156] Казалось бы, какая разница, если само Тёре состояло из представителей обоих сословий? Разница же видится в том, что феодалам куда легче было правдами и неправдами навязать свою волю пяти-шести выборным лицам, нежели всему Народному собранию. Не может не насторожить проявляющаяся порой тенденция к идеализации всей системы общественного устройства горских обществ, попытка усмотреть в ней едва ли не своеобразный «госаппарат», функционировавший с безупречностью хорошо отлаженного механизма, и гарантировавший «защищенность» любого члена общины. Ясно, что введенный когда-то М.Ольшевским термин «народное правление» ни в коем случае не следует понимать буквально, коль скоро речь идет о классовом обществе. С другой стороны, столь же очевидна и неприемлемость обратной крайности, выраженной в традиционных представлениях о средневековой Балкарии как простой совокупности политически разрозненных, чуть ли даже не безразличных друг к другу «горских обществ», озабоченных лишь собственными проблемами, признававших только власть местных феодалов и нормы обычного права. Определенный уровень консолидации как единственно возможное средство выживания малых этносов в экстремальных исторических условиях имел место в прошлом почти у всех народов горного Кавказа. Едва ли он мог быть особенно стабильными в пространстве и времени (проявляясь, главным образом, в критических ситуациях), но все же он имел место, и наиболее характерным координирующим органом были при этом общенародные институты – не только судебные (как принято думать), но и прежде всего совещательные. У вайнахов, например, это был «Совет страны», [157] у сванов – «Всесванский совет», [158] у осетин – общенародный нихас [159] и т.д. В Балкарии таким органом являлся Малкарский общенародный Тёре; туда, по словам Ф.И.Леонтовича, обращались люди «от всех племен осетинских» [160] (т.е. от всех горских «обществ»), что подтверждается сведениями М.Абаева, Б.Шаханова, И.Урусбиева, а также В.Миллера и М.Ковалевского [161]. Помимо этого, своеобразным символом союза пяти горских обществ являлось так называемое «благородное ружье», поочередно передававшееся на хранение из одного общества в другое. [162] Касаясь вопроса общественно-политического устройства средневековой Осетии, Р.Бзаров отмечает: «Каждое осетинское общество, сохраняя суверенитет и независимость внутренней жизни, объединялось с остальными в области военной и внешнеполитической деятельности. Иными словами, Осетия XV-XVIII вв. – это ряд самоуправляющихся областей, объединяемых на конфедеративных принципах». [163] Очевидно, то же самое мы вправе сказать и о средневековой Балкарии. Следует лишь оговорить, что применительно к обоим случаям понятие «суверенитет» подразумевает, прежде всего, взаимную независимость горских обществ. Что касается отношений их с внешним миром, то здесь уже дело обстояло несколько сложнее, о чем будет сказано ниже. *** На протяжении всей своей истории народы Кавказа руководствовались в отношениях друг с другом принципом добрососедства и взаимного уважения. Мирная жизнь – не дело выбора, а единственно возможная форма нормального человеческого существования. Но в данном случае речь идет о классовых обществах, а понятия правящей элиты о нормальном и ненормальном совпадает с мнением подданных далеко не всегда. Феодальная экспансия, грабительские набеги, внутрисословные разборки знати, усугубляемые еще и вторжениями крымцев – все это суровая действительность средневековья, которую историк не может игнорировать при всем желании. Из песни слова не выкинешь, но, говоря о теневых моментах прошлого, важно помнить главное: сколь бы ни драматичны были имевшие когда-то место конфликты, они никогда не вытекали из характера межэтнических отношений. Правомернее акцентировать причины социального свойства – стремление того или иного феодала расширить владения и круг своих подданных, множить свои богатства за счет дани, грабежей и т.д. При всей банальности таких истин они здесь более чем уместны, ибо в экскурсах, подобных предлагаемому ниже, иногда склонны усмотреть нечто большее, чем намеревался сказать автор. Проблема самозащиты относится к числу наиболее актуальных в жизни любого общества, но перед малыми народами она всегда стояла с особенной остротой. К числу таких народов относились балкарцы и карачаевцы. Любопытные, но, к сожалению, весьма лаконичные сведения об организации обороны в Балкарии и Карачае можно найти в работах М.Абаева, В.Миллера, М.Ковалевского, Н.П.Тульчинского, И.В.Шаховского и некоторых других авторов. В последние десятилетия этот вопрос вкратце затрагивался также в публикациях Р.Харадзе, И.М.Мизиева, Е.Г.Битовой. Первым же – и пока единственным – обстоятельным экскурсом по данной теме является специальный раздел в монографии Р.Т.Хатуева. [164] Не со всеми выводами автора можно согласиться безоговорочно, но в любом случае остается очевидным, что именно благодаря его усилиям дело сдвинуто с мертвой точки, и в разработке малоизученной темы сделан первый шаг. Забота о безопасности этнотерриториальных границ предполагала определенное разнообразие средств и подходов, во многом общих для оборонной стратегии всего горного Кавказа. При чрезвычайной малочисленности населения единственно возможным противовесом внешней угрозе мог быть лишь определенный уровень «военизации» жизненного уклада, а также умелая реализация возможностей, связанных с труднодоступностью занимаемой территории. Различные формы приобщения к воинскому искусству – начиная от игровых – практиковались уже в детском возрасте, а затем мужчины совершенствовали эти навыки на протяжении всей жизни, вплоть до преклонного возраста. Все это в совокупности с прочными традициями взаимопомощи, связывавших Балкарию с ближайшими соседями, в критических ситуациях ощутимо компенсировало общую малочисленность боеспособного контингента. Последний состоял, главным образом, из сословия общинников-каракиши, руководимых феодалами. В начале XIX столетия кн.И.В.Шаховской отмечал, что все балкарские общества могут выставить отряд в 630 человек. [165] Но, скорее всего эта цифра занижена, так как по данным, например, И.Ф.Бларамберга, относящимся к тому же времени, одно лишь общество Малкар было в состоянии выставить до 500 человек, а вместе с чегемцами – до восьмисот. [166] В предшествующее, XVIII столетие эти цифры могли быть даже несколько выше, так как сведения обоих авторов отражают ситуацию, создавшуюся в крае после очередной эпидемии чумы. Но вообще в эпоху средневековья такие эпидемии были довольно часты, и они постоянно низводили численность населения до «исходного» уровня. Напомню, что в одном из наиболее ранних документов, относящемся к концу XVII в., речь идет даже о тысячной дружине малкарцев. Судя по отпору, оказанному ею превосходящим силам противника, эта цифра едва ли преувеличена. Следует полагать, что даже в наиболее благоприятные периоды истории численность боеспособных групп пяти горских обществ едва ли могла превышать 1,5-2 тысячи человек. В исключительных случаях их состав мог быть расширен за счет представителей зависимых сословий, которые в обычных условиях не допускались к участию в боевых действиях. «Крепостные люди – писал Ф.И.Леонтович, - участвуют в набегах не иначе, как с дозволения своего владельца; но это делается ими весьма редко...». [167] Впрочем, известно, что, например, у Малкарского олия Сосрана Абаева была не временная, а постоянная группа стрелков из сословия крепостных. [168] Из всей совокупности задач, связанных с вопросами обороны, наиболее актуальными были две: охрана главного достояния горцев – скота – на чужой территории (в период сезонного выпаса стад за пределами Балкарии), и защита самой Балкарии от вторжения извне. Решение первой задачи было возложено на так называемый Басиат-кош, т.е. «лагерь Басиата»: «отряд войска из молодых таубиев и стрелков,... весной и осенью становился лагерем на плоскости перед входом в ущелье; лагерь этот назывался «Басиат-кош», по имени родоначальника балкарских таубиев, куда являлись учиться военному искусству молодые таубии и из других обществ. Этот отряд, охраняя общество и стада его от неприятеля, одновременно командировал партии из молодцов - сотоварищей в разные стороны за наживой, так что войско содержало само себя.(...)... если ему почему-либо не удавалось предпринять поход на южную сторону гор – в Сванетию или Имеретию,... то он частенько обижал своих единоплеменников-безенгиевцев, хуламцев и чегемцев, угоняя у них скот». [169] Нередко к таким отрядам присоединялись и «молодые люди из соседних дружественных племен». [170] Например, долгое время провели в Басиат-коше верхнебалкарских таубиев представители кабардинского дворянского рода Куденетовых, к которым вскоре присоединилась и молодежь из рода Атажукиных. [171] Второй и наиболее важный аспект данной темы - вопрос о защите горских обществ в периоды вражеских вторжений. Вопрос относится к числу недостаточно разработанных, а связанные с ним формулировки зачастую далеко не бесспорны. Нельзя не заметить странную закономерность: почему-то в большинстве случаев такой вопрос возникает лишь в связи с интерпретацией остатков феодальных резиденций, т.е. памятников башенного зодчества, не имевших к проблеме общей безопасности никакого отношения. Например, по предположению некоторых авторов, башенные сооружения ВерхнеБалкарской котловины «представляют собою строго продуманную и завершенную систему укреплений, а не случайно разрозненные башни, как может показаться на первый взгляд. Умелое размещение их делало аулы долины хорошо защищенными...». [172] При этом комплекс сооружений Зылги «представлял собой первый оборонительный форпост в общей цепи укреплений», а Болат-кала «завершает всю оборонительную систему этого района». [173] Верны ли эти наблюдения или нет, но они не согласуются с дальнейшими выводами самого автора, изложенными в той же самой работе. Начать хотя бы с того, что по вполне обоснованному мнению автора, эти памятники датируются в пределах XIII-XVIII веков, [174] и таким образом, на «умелое размещение» какого-то десятка башен ушло пять-шесть столетий – по полвека на каждую башню. При этом в первую очередь почему-то была возведена та самая башня Болат-кала, которая... «завершает» (!) всю оборонительную систему. Наконец, по завершении строительства вдруг выяснилось, что «все жители ближайших аулов не могли укрыться, а тем более жить в этих укреплениях». Следовательно, укрепления «назначались... для привилегированной родовой знати». [175] Но если укрепления предназначались только для знати, то в чем же тогда состоит «строгая продуманность» их локализации, и что именно «делало аулы долины хорошо защищенными»? Быть может, на эту самую знать вместе с ее укреплениями и была возложена миссия защиты горских обществ? Едва ли. Ведь большинство укреплений расположено не перед поселениями в их наиболее уязвимой части (со стороны долины), а позади них, на крутых склонах гор, откуда менее всего можно было бы ожидать нападения. И почему-то во всех достоверно фиксируемых случаях фасады укреплений вместе с бойницами обращены не вовне, не на подступы к поселениям, а в сторону самих поселений. Понятно, что к задачам общественной безопасности феодальные резиденции не имели никакого отношения. По мере возможности таубии действительно старались защитить своих подданных. Но это они делали не за стенами собственных замков, а на поле боя во главе ополчения. Что же касается рассмотренных выше укреплений (замков), то они служили для зашиты самих таубиев в периоды феодальных усобиц, крестьянских восстаний, заговоров и т.п. Совершенно недвусмысленно говорится об этом, например, в «Песне о Рачикаовых»: «Если бы мы про это дело (про заговор односельчан; В.Б.) узнали в самом начале, то заперлись бы в башне, стоящей вверху аула». [176] На первый взгляд, такому выводу противоречат хроники, повествующие о войне Тамерлана с горцами Северного Кавказа. В большинстве случаев в них говорится лишь о взятии «множества крепостей», и, таким образом, создается впечатление, будто эти крепости являлись чуть ли не единственной зашитой горцев от вторжений извне. Но это далеко не так. Прежде всего, необходимо отметить, что крепостей в собственном смысле этого слова (т.е. сравнительно обширных по площади укреплений, рассчитанных на содержание гарнизонов) на Центральном Кавказе не было вообще. Чаще всего под «крепостями» подразумевались укрепленные резиденции конкретных лиц (Пулада, Кулу, Тауса и пр.). Судя по таким, сохранившимся по сей день «крепостям» XIII-XIV вв., как Зылги или Болат-кала, это были довольно скромные сооружения, быть может, не бесполезные в период внутренних усобиц мелких феодалов, но непригодных для противостояния регулярным воинским контингентам. Наименование их «крепостями» не должно вводить в заблуждение: в данном случае летописцы оперировали хотя и неточной, но привычной и понятной для них терминологией. К тому же, искусственное повышение «статуса» укреплений с целью подчеркнуть значимость одержанных побед – явление, широко распространенное в пространстве и времени. История знает немало случаев, когда, например, отдельную башню могли назвать не только крепостью, но даже городом, и, таким образом, количество завоеванных «городов» исчислялось десятками и сотнями. [177] Но главное все же не это. Здесь важнее всего учесть то обстоятельство, что говоря о взятии Тимуром «множества крепостей», летописцы в то же время почему-то обходят молчанием вопрос о поселениях горцев. Это тем более странно, что катастрофическое сокращение населения горной зоны в XIV столетии историки единодушно связывают с нашествием Тимура, а потери такого масштаба при всем желании невозможно отнести за счет одних лишь обитателей княжеских замков. Следовательно, под крепостями здесь подразумеваются не только резиденции феодалов, но, пожалуй, прежде всего и более всего укрепленные горские поселения типа городища Лыгыт. Только при взятии поселений могли воины Тимура «сжечь дома», «убить без числа людей» и овладеть «несметной добычей», [178] хотя во всех этих случаях речь идет именно о «крепостях». Вернемся к материалам рассматриваемого нами периода. Хорошо отлаженная, базирующаяся на богатом опыте предшествующих эпох система охранно-защитных мероприятий предполагала прежде всего наличие постоянной караульной службы в стратегически важных точках пограничья – перевалах в Закавказье и Осетию, а также теснинах ущелий близ выходов на равнину. Краткие упоминания караулов довольно часты в фольклоре и литературе, но более или менее конкретные сведения можно извлечь лишь в экскурсе Р.Харадзе, основанном на материалах устной традиции. [179] По словам автора, караулы выставлялись начиная с мая месяца и до наступления зимы, т.е. на все то время, когда перевалы и горные дороги были проходимы. Обычно состав каждого караула насчитывал по 12 человек, содержавшихся на общественные средства. Любопытно, что в их обязанности входила не только военно-пограничная, но и карантинная служба: в каждом карауле имелись по 1-2 опытных знатока («уста»), проверявших состояние прогонявшегося в Балкарию скота во избежание проникновения эпизоотии. Еще одна функция мирного времени состояла в охране территории от «обычных» бытовых набегов соседей с целью похищения скота, а иногда и людей. Вопреки широко распространенному заблуждению, такие набеги вовсе не являлись проявлением враждебности, хотя наносимый ими ущерб мог быть весьма значительным и, как правило, провоцировал потерпевшую сторону на ответные действия. Разумеется, при всей своей значимости такие караулы не всегда срабатывали безотказно. Условия длительного мира могли несколько притупить бдительность стражников, а противник мог проникнуть на охраняемую территорию либо хитростью, либо обходными путями, тем более что не во всех ущельях караульная служба была столь эффективна, как в Малкаре. [180] Во всяком случае, по словам М.Абаева, иногда соседям все же удавалось проникнуть в горы и производить там грабежи. [181] Более обстоятельно говорится об этом в сообщении феодалов Атажукина и Гиляксанова: «Когда Большой Кабарды владельцам случается над ближними им народы чинить поиски, и тогда ходят на них партиями от 50 до 200 человек, и наперед, тайным образом осмотря, захватят тесные проходы, и для охранения тех проходов оставляют несколько человек кабардинцев пеших с ружьем, и таким образом, учиня поиски, возвращаются с добычею, а ежели при приходе их, кабардинцев, на тесных проходах усмотря горские караулы, и в таком случае, они, кабардинцы, возвращаются в домы свои без добычи, напротиву того ис тех горских народов по нескольку человек ночным временем приходят и зажигают их кабардинские деревни, от чего им и немалые разорения приключаютца». [182] Но такое, повторим, было возможно только в условиях мирного времени, когда упомянутые в цитируемом тексте «поиски» не имели почти ничего общего с войной. И совсем иное дело – ситуация, когда трения в отношениях с кем-либо из «чужих» феодалов грозили перерасти в вооруженный конфликт. В таких случаях ответственность караульных возрастала настолько, что никто из провинившихся не мог рассчитывать на снисхождение. Возглавлявший общину олий принимал дополнительные меры по охране рубежей: наряду с обычными караулами ставились секретные дозоры в укрытиях, снаряжались пикеты, разъезды. Об одном из таких случаев сообщал в 1787 г. князь Ураков. В том году обострение отношений с некоторыми феодалами Кабарды вынудило горцев перекрыть входы в свои ущелья, где до этого кабардинские повстанцы всегда находили укрытие и поддержку. Соседям удалось преодолеть изоляцию только путем мирных переговоров. [183] Здесь же необходимо упомянуть и о мерах иного свойства. М.Абаев описывает эпизод, когда, готовясь к войне с горцами, Аслан-бек Кайтукин подослал к тогдашнему олию Малкара двух лазутчиков. [184] В таких, или каких-то иных формах, но разведка, конечно же, существовала и у самих горцев. Наглядное представление об ее эффективности дают, например, события 1828 года, когда царские войска во главе с генералом Эммануэлем решили напасть на Карачай врасплох. По свидетельству современника, «как ни скрытно делались приготовления к этой экспедиции, в горах узнали о ней прежде, чем собрались войска», и еще до начала похода «где только могла ступить нога человека – везде они (карачаевцы; В.Б.) стояли наготове». [185] Караулы были связаны с поселениями посредством так называемых дыфов - сигнальных костров, расположенных с определенными интервалами (в пределах видимости) друг от друга. В случае тревоги дыфы загорались один за другим, и зачастую это происходило столь быстро, что в поселениях знали о тревоге еще до прибытия гонца. Въехав в одно из наиболее многолюдных поселений, гонец останавливался у ныгыша, и сходил с коня не с левой стороны (как обычно), а с правой. [186] Став на видном месте, он оповещал население о причине тревоги. В подобной ситуации главная задача олия сводилась к отражению агрессии еще на дальних подступах к поселениям. Во главе спешно мобилизованного ополчения он выезжал на пограничье. Любопытная подробность: туда же, к месту предстоящего сражения доставляли и огурлу шкок – «благородное ружье», в магическую силу которого верили горцы. Ружье являлось общенародной святыней, и в мирное время поочередно хранилось в каждом из обществ. [187] Дальнейшие действия ополчения зависели от конкретных обстоятельств на местах. Если позволяло соотношение сил, сражение могло произойти на месте встречи. Когда же приходилось сталкиваться с превосходящими силами противника – старались принять бой в теснинах, и тем самым свести на нет численное превосходство нападавших. Здесь ими возводились различного рода сооружения с целью преградить путь вражеской коннице. У балкарцев и карачаевцев - писал князь И.В. Шаховский, - «защита своих земель состоит в завалах и засеках, которые они весьма искусно располагают». [188] Много позже это отмечал и Л.И.Лавров со ссылкой на местных информаторов: «По словам жителей села Верхний Чегем, в старину, в целях обороны... балкарцы заваливали камнями узкое место Баксанского ущелья... и держали там стражу, и в Чегемском ущелье... держали караул в узком месте ущелья - у водопадов, что между селениями Верхний и Нижний Чегем. [189] Остатки таких завалов Л.И.Лавров видел и в других районах Балкарии. [190] Такая тактика была рассчитана, прежде всего, на применение оружия дальнего боя – лука со стрелами, а где-то с XVII или с XVIII в. наряду с ними также и огнестрельного оружия. Находившимся в укрытии стрелкам это давало большие преимущества перед нападавшими. Отмеченное И.В.Шаховским «искусное расположение» завалов предполагало – помимо прочего – сооружение их в таком месте и такое размещение стрелков, что неприятель обстреливался и спереди, и с флангов. Преодолеть такое препятствие, находясь под перекрестным огнем защитников, было трудно. Если противнику все же удавалось подойти к линии обороны вплотную, начинался рукопашный бой, в ход шли сабли, кинжалы, дротики и т.п. Следующий этап боевых действий начинался с преодолением указанных препятствий и продвижением противника вглубь ущелья, в сторону горских поселений. Для наступавшей стороны он оказывался ничуть не легче первого этапа. Завалы и засеки продолжали встречаться вновь и вновь, мосты через бурные реки разрушались отступавшими, с крутых склонов гор обрушивались искусственно вызванные камнепады, на всем пути следования приходилось остерегаться засад. Отдельные подвижные группы ополченцев не выпускали неприятеля из поля зрения, стараясь если не остановить, то хотя бы измотать его настолько, чтобы свести к минимуму его шансы на успех в заключительной стадии сражения, т.е. при штурме поселений. Вопрос об этом заключительном, третьем этапе является наиболее сложным. Обстоятельными сведениями на этот счет мы не располагаем. Но то, что подобные случаи предусматривались оборонной стратегией, явствует даже из таких внешних реалий, как локализация поселений. Отчетливо прослеживается единая для всех горских обществ закономерность: во-первых, максимальная удаленность аулов от легкодоступной предгорной зоны; во-вторых, их локализация компактными «гнездами» в долинах Северной депрессии, и надежная взаимосвязь посредством общей коммуникации – проложенной через перевалы (параллельно Кавказскому хребту) горной дороги. Компактность «гнезд» сокращала периметр круговой обороны каждого из обществ, что при общей малочисленности населения было весьма существенно. Именно в этом, а не в «умелом размещении» феодальных замков, состояла «строго продуманная» система защитных мероприятий. Небезынтересно то, что традиция «гнездового» расположения поселений ведет свое происхождение еще с аланской эпохи. Впервые эта особенность бытовых памятников Алании была отмечена А.А.Иессеном, [191] о ней же писали впоследствии В.А.Кузнецов, [192] В.Б.Ковалевская [193] и др. На равнине перед каждым из таких «гнезд» – в пределах визуальной связи – находилось несколько сторожевых форпостов. Обычно это были крупные курганы более ранних эпох; вершины курганов уплощались, а насыпи ограждались рвами и валами. Предназначенные для караульной службы и для сигнальных костров, эти форпосты также находят аналогии в упомянутых выше балкарских дыфах и караулах. Очевидно, такая же преемственность имела место и в иных особенностях защиты. Например, говоря о бытовых памятниках алан, В.А.Кузнецов акцентирует то обстоятельство, что «как правило, к большому и сильно укрепленному городищу тяготеют менее значительные». [194] Иными словами, в период осады мирное население крайних городищ укрывалось на территории центрального городища, а крайние, в которых оставались только воины, становились как бы бастионами или небольшими крепостями на ближних подступах к основному городищу. Судя по данным устной традиции, нечто подобное происходило и при осаде балкарских аулов: «Из крайних селений люди бегут в центральные (...). Так бывает, когда начинается война». [195] Правда, в обоих сопоставляемых случаях могли быть и особо критические ситуации, когда в поселениях оставались только мужчины, а женщин и детей приходилось эвакуировать вглубь гор. А.А.Иессен считал вполне вероятным принадлежность каждого из аланских «гнезд» к одной «военной и племенной организации». [196] Если такое предположение соответствует действительности, то мы имеем возможность завершить перечень аланобалкарских параллелей еще одной аналогией, - правда, с той лишь оговоркой, что в данном случае речь может идти не о племенах, а локальных группах единого балкарского этноса - малкарцах, холамцах, чегемцах и т.д. Что же касается военной организации, то, судя по балкарским материалам, в пределах каждого «гнезда» она могла состоять еще из ряда подразделений. Дело в том, что при всей компактности «гнезд» расстояние между отдельными поселениями заметно варьировало, и по данному признаку они делились еще на подгруппы из 2-3 или 4-5 наиболее близких друг к другу поселений. Эти подгруппы, формировавшиеся «не по родственному принципу, а на основе искусственнотерриториальных объединений» назывались аирылгъан, и в данном случае особый интерес представляет то, что «система общинной защиты у балкарцев располагалась по аирылганам». [197] Наряду с отмеченными параллелями необходимо обратить внимание и на некоторые отличия. Как правило, аланы придавали исключительно важное значение укреплению своих поселений и городищ: в большинстве случаев те и другие располагались на поверхности платообразных возвышенностей - останцев, склоны которых «подрезались» с целью увеличить их крутизну, а по периметру холмов сооружались рвы и валы. Балкарские же поселения располагались в нижней, сравнительно, доступной части горных склонов, причем использование склонов было вызвано соображениями не столько безопасности, сколько экономии: более удобные земли в долине были отведены под пахотные участки. Ни валов, ни рвов эти поселения, конечно, не имели, а остатки оборонительных стен зафиксированы лишь в 1-2 исключительных случаях. Конечно, в значительной мере отсутствие укреплений компенсировалось удаленностью поселений от предгорий и труднодоступностью самой зоны расселения балкарцев. Тем не менее, это обстоятельство само по себе еще ничего не проясняет. Дело в том, что в аланскую эпоху укрепленные поселения существовали не только на плоскости, но и в горах. Например, городище Лыгыт, удаленное от предгорий ничуть не меньше, чем, скажем, Верхняя Балкария или Безенги, было совершенно неприступно. Оно располагалось на крутом склоне горного массива, и по всему своему периметру было защищено естественными препятствиями: с юга и юго-запада - глубоким речным каньоном, а с остальных сторон - высокими отвесными скалами. Доступ к городищу имелся только в одной точке с юго-восточной стороны, но здесь он был укреплен башней и стенами. [198] Надо полагать, указанные отличия были обусловлены не спецификой ландшафта, а какими-то иными обстоятельствами – и, как представляется, вероятнее всего, социальными. Судя по множеству исторических параллелей, укрепленные поселения и укрепленные жилища возникают на стадии родового строя, и обусловлены такими присущими этой формации явлениями, как кровная месть, межродовые и межплеменные конфликты. Относительно слабая политическая консолидация и отсутствие прочных гарантий общественной безопасности стимулировали тенденцию к индивидуальной или групповой пассивной обороне, т.е. к укреплению каждого жилища или каждого поселения в отдельности. В эпоху классообразования эти же меры безопасности служили гарантией социальной независимости общинников до тех пор, пока феодализм не побеждал целиком и полностью. [199] По мере возможности правители всех рангов старались бороться с «индивидуальной» фортификацией, но в силу целого ряда обстоятельств это удавалось не всегда и не везде. Например, в почти не зависимых от центральной власти горных районах Грузии поселения с башенными жилищами и поселения-крепости не теряли своего значения вплоть до последних столетий. В плоскостной Алании укрепленные городища возникли еще до появления государственности, но в условиях опасного соседства со степью они сохраняли свое значение и позже, независимо от внутреннего фактора. В горной части страны процесс феодализации наметился только в завершающий период аланской истории. Конечно, такая обусловленность рассматриваемого явления не универсальна в пространстве и времени, и абсолютизировать изложенный вывод нет достаточных оснований. При всем том материалы позднего средневековья позволяют констатировать очевидную закономерность: «индивидуальная» фортификация более всего была типична для тех районов горного Кавказа, где феодализм не утвердился в сколько-нибудь отчетливо выраженных формах даже к началу XVIII в. Данное обстоятельство наводит на предположение, что отсутствие укрепленных поселений в средневековой Балкарии является следствием возобладания феодальных отношений в XV-XVI столетиях. Особенно показательна в этом отношении история упомянутого выше аланского укрепленного поселения Лыгыт, тем более что именно здесь происходили события, описанные в предании об истреблении рода Рачикаовых. Судя по археологическим данным, поселение было покинуто, скорее всего, в XV веке. [200] Г.И.Ионе полагал, что это было связано с разрушением поселения вследствие горного обвала, [201] но характер и состояние выявленного автором археологического материала не позволяет счесть такую версию единственно возможной; обвал мог произойти и много позже. Местные таубии объясняли запустение Лыгыта несколько иначе: когда-то горцы вынуждены были укрываться в Лыгыте от набегов более сильных соседей, но, благодаря доблести пришельцев Баймурзы и Джанмурзы, с внешней угрозой было покончено навсегда, и они получили возможность обосноваться на более удобных землях в долине. [202] Теперь уже – в неукрепленном поселении. Но коль скоро к дефортификации поселений действительно были причастны предки таубиев, то руководствовались они, конечно же, не соображениями благоустройства подданных. История феодализма не знает случаев обитания крестьян в поселенияхкрепостях как типичного явления: укрепленной может быть только резиденция феодала. Так оно и было в средневековой Балкарии. Впрочем, счесть эти поселения абсолютно беззащитными не приходится даже и при отсутствии в них искусственных укреплений. В данном случае внутренние закономерности феодальной формации неизбежно вступали в противоречие с фактором внешней угрозы, особенно актуальной в условиях Кавказа. Очевидно, лишить своих подданных каких бы то ни было средств безопасности оказалось феодалам не под силу, а в чем-то даже и невыгодным. Так или иначе, но налицо появление определенной «компенсации»: если, например, в том же Лыгыте толщина стен жилища варьирует в пределах 45-50 см, то в более поздних балкарских поселениях она доходила до 1 м и более, а узкие световые проемы скорее напоминали бойницы. Выше уже говорилось об аланских традициях в тактике защиты, когда в случае необходимости крайние поселения могли послужить прикрытием для центрального. В условиях Балкарии этот способ оказывался даже более эффективным, нежели на равнине, из-за разницы, как в рельефе местности, так и в строительном материале и указанной «компенсации». При умело поставленной обороне жители поселений могли успешно противостоять длительной осаде. Такова, в общих чертах, лишь самая приблизительная схема оборонной стратегии средневековых горских обществ. Состояние источниковой базы не позволяет охарактеризовать её более детально, но основополагающие принципы прослеживаются сравнительно отчетливо. Разумеется, она была рассчитана на вооруженные конфликты только локального масштаба, и при всей своей эффективности не могла служить гарантом абсолютной безопасности – таких оборонных стратегий не бывает вообще. Но в условиях горного Кавказа она, пожалуй, была единственно возможной, и в целом достаточно успешно выдержала испытание на прочность. Особенно показателен в этом отношении отзыв таких наиболее опытных стратегов, как кабардинские и кумыкские феодалы, чьи дружины прекрасно были знакомы со спецификой горной войны: «Оные горские народы... ни под чьею протекциею не состоят и никому ими действительно овладеть невозможно затем, что живут в крепких и непроходимых местах, и...оные народы весьма военные...». [203] Правда, эти сведения необходимо дополнить уточнением, немаловажным как раз в контексте приведенного экскурса. Указание информаторов, будто горцы «ни под чьею протекциею не состоят», не следует понимать буквально; речь лишь о том, что они не состоят в подданстве у какого-либо государства. Но при этом различные «общества» Осетии, Ингушетии, Балкарии и др. все же находились в большей или меньшей зависимости от феодалов Кабарды. А это важно в том смысле, что сама зависимость предполагала покровительство и защиту («протекцию») со стороны сюзерена. Обходиться без его поддержки, т.е. полагаться только на собственные силы (на описанную выше систему самозащиты) приходилось обществам, либо «отложившимся» от сюзерена, либо признававшим его приоритет только номинально. Разумеется, сказанное не означает, будто в истории Балкарии не было случаев консолидации всех обществ и их совместного противостояния внешней угрозе. Вопреки ошибочным (иногда и тенденциозным) утверждениям, такие случаи имели место неоднократно. Так было, например, в начале XVIII в., когда расчеты Кайтукина строились на том, что с покорением Малкара остальные общества «сами сдадутся». [204] Так было и в конце того же столетия (1787 г.), когда малкарцы, «согласясь с прочими горскими соседними народами, именуемыми чегемы, холамы и безенгы, поставили по всем дорогам, лежащими от кабардинцев, караулы,...». [205] Так было в 1834 г., когда в назревающий вооруженный конфликт между Урусбиевыми и Дадешкелиани стали втягиваться не только балкарские общества, но и карачаевцы. [206] Кстати, по словам пристава Тургиева, балкарские общества имели «с давнего времени с карачаевцами условие в том, чтобы при могущих случиться опасностях от нападения на кого-либо из них неприятеля, они обязаны подать возможную помощь,...». [207] В начале XIX столетия совокупность исторических обстоятельств подвела горские общества Балкарии к необходимости добровольно войти в состав Российской империи. Любопытно, что, по некоторым из имеющихся сведений [208], тогда же горцы передали императору упоминавшееся выше «благородное ружье», служившее им на протяжении ряда столетий своеобразным оберегом в оборонительных войнах. Такая акция могла иметь только символический смысл: отныне гарантом их безопасности становилась Россия, и вручение ружья ее правителю было выражением доверия и залогом мирного будущего. Примечания к главе III. 1. Кол. авт. Очерки истории балкарского народа, Нальчик, 1961, с.31. 2. О.В.Дмитриева. Генеалогия. – сб.: Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990, с.17. 3. Кол. авт. Очерки истории..., с.33. 4. Там же, с.31. 5. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария до 30-х гг. XIX века. КЭС, IV, М., 1969, с. 77-79. 6. Ф.Х.Гутнов. Бадел генеалогических преданий Осетии. – сб.: Проблемы исторических преданий осетин. Орджоникидзе, 1988, с.57. 7. Г.В.Цулая. Комментарии к изданию «Жизнь Вахтанга Горгасала», Тбилиси, 1986, с.114115. 8. З.А.Кожев. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (XVIII в.). Автореф. канд. дис., М., 1998, с.23. 9. Ф.Х.Гутнов. Средневековая Осетия. Владикавказ, 1993, с.14. 10. Там же, с.15. 11. Р.М.Рамишвили. Основные проблемы изучения взаимосвязей между горными и равнинными регионами. ДНГППВМГРР, Тбилиси, 1984, с.9. 12. М.И.Джандиери, Г.И.Лежава. Народная башенная архитектура. М., 1976, с.3-6, 117121. 13. Там же. 14. КБФ, Нальчик, 1983, с.124, 176, 189, 198, 399; сост. Т.М.Хаджиева. Народное поэтическое творчество балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1988, с. 126, 148, 223, 255-256; и др. 15. Народное поэтическое творчество..., с.101. 16. КБФ, с.110. 17. В.М.Батчаев. Археологическая экспедиция КБНИИ 1987 г (отчет). Архив КБИГИ, инв. №2393, с.25-38. 18. СМОИЗО, т.2, М-Л., 1941, с.181. 19. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977, с.126. 20. М.К.Джиоев. Алания в XIII-XIV веках. Автореферат канд. дис., М.,1982, с.16. 21. В.М.Батчаев. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1986, с. 45-46. 22. А.А.Иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии. МИА, вып.3, М-Л., 1941, с.24. 23. Ф.Х.Гутнов. Генеалогические предания осетин как исторический источник. Орджоникидзе, 1989, с.74-75. 24. М.Абаев. Балкария. Исторический очерк. Нальчик, 1992, с.9. 25. Сост. Е.О.Крикунова. Документы по истории Балкарии (40-90 гг. XIX в.). Нальчик, 1959, с.87-92 (далее – ДИБ-I); сост. Х.М.Думанов, Ф.Х.Думанова. Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев в XV-XIX вв. Майкоп, 1997, с.118-128, 162-193, 196-198, 198-200, 220-223 (далее – ПНАБК). 26. Народное поэтическое творчество..., с.228. 27. Е.Б.Вирсаладзе. Грузинский охотничий мир и поэзия. М., 1976, с.113-133. 28. Полевые записи М.Ковалевского. См.: Б.А.Калоев. М.Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа. М., 1979, с.173. 29. В.Миллер, М.Ковалевский. В горских обществах Кабарды. ВЕ, т.2, кн.4, СПб, 1884, с.570. 30. Д.Таумурзаев. Легенды гор. Нальчик, 1987, с.158-174 (на балк. яз.). 31. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с.568-571; В.Я.Тепцов. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, XIV, отд.1, Тифлис, 1892, с. 196-197; Н.П.Тульчинский. Поэмы, легенды, сказки и пословицы горских татар Нальчикского округа Терской области. КБФ, Нальчик, 1983, с. 265; М.Абаев. Ук. соч., с. 6-9; и др. 32. ДИБ-I, Нальчик, 1959, с. 87-92. 33. Там же, с. 85. 34. Д.Таумурзаев. Ук. соч., с. 24. 35. В.М.Батчаев. «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел? – сб.: Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа, Черкесск, 1988, с. 160-177. 36. ДИБ-I, с. 85. 37. ПНАБК, с. 247. 38. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 572. 39. Сост. Е.О.Крикунова. Документы по истории Балкарии (конец XIX – начало XX в.). Нальчик, 1962, с. 129 (далее – ДИБ-II). 40. В.Я.Тепцов. Ук. соч., с. 196-197. 41. З.А.Кожев. Ук. соч., с. 24. 42. Е.Г.Битова. Социальная история Балкарии XIX века. Сельская община. Нальчик, 1997, с. 49. 43. ДИБ-II, с. 129. 44. ПНАБК, с. 169. 45. Там же, с. 199. 46. Там же, с. 197-199. 47. Там же, с. 199. 48. Там же. 49. КБФ, с. 271. 50. Ф.Х.Гутнов. Средневековая Осетия, с. 130-131. 51. С.Н.Бейтуганов. Кабарда в фамилиях. Нальчик, 1998, с. 386. 52. Р.Харадзе. Сельская община в Балкарии. МЭГ, XI, Тбилиси, 1960 (на груз. яз.; машинописный текст русск. перев. – см.: Архив КБИГИ, инв. №192, с.6). 53. А.Л.Ястребицкая. Западная Европа XI-XIII веков. М., 1978, с. 121. 54. Р.Л.Харадзе, А.И.Робакидзе. Характер сословных отношений в горной Ингушетии. КЭС, вып.2, Тбилиси, 1968, с. 133-134. 55. В.Кудашев. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913, с.244-245. 56. ЦГА КБР, ф-31, оп.-1, д-4; ГАКК, ф-348, оп-1, д-7, л-550-552. 57. ЦГА КБР, ф-31, оп-1, д-4. 58. Там же. 59. Там же. 60. ЦГА КБР, ф-3, оп-1, д-140, л-27. 61. ДИБ-I, с. 104; Р.Л.Харадзе, А.И.Робакидзе. Ук. соч., ср. 133-134. 62. Р.Л.Харадзе, А.И.Робакидзе. Ук. соч., с.133. 63. КБФ, с. 110-115, 268-271. 64. ДИБ-I, с. 92-93. 65. Б.Шаханов. Избранная публицистика. Нальчик, 1991, с. 90. 66. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 49. 67. ДИБ-I, с. 87. 68. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 167. 69. ДИБ-I, с. 87. 70. Б.Шаханов. Ук. соч., с. 135. 71. ПНАБК, с. 259. 72. Ф.Х.Гутнов. Средневековая Осетия, с. 125. 73. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 167. 74. Очерки истории балкарского народа, с. 69. 75. А.Я.Гуревич. Избранные труды, т.1, М.-СПб, 1999, с. 316. 76. ДИБ-I, с. 89. 77. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 46. 78. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 316. 79. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 49. 80. К.Г.Азаматов. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в первой половине XIX века. Нальчик, с. 52. 81. Так, один из пунктов свода 1844 г. гласит: «Для произведения хлебопашества и сенокоса в пользу старшин (таубиев; В.Б.), эти (их подданные; В.Б.) должны дать землю и быков на время» (ПНАБК, с. 119). Приняв на веру эту несуразность, автор одного из официальных документов (1909 г.) приходит к гениальному выводу: «Таубии не имели определенной земельной собственности, а пользовались землею в нужных размерах от своих подвластных» (ДИБ-II, с. 130). Через 20 лет была составлена новая запись, в которой указанный пункт сформулирован следующим образом: «Для распашки пашней каракиши с каждого двора обязаны дать своему таубию на один день одного человека с парою быков...» (ДИП-I, стр. 87). Таким образом, понятию «земля» первой записи соответствует слово «человек» в последующей; ясно, что в 1844 г. произошла ошибка в переводе с балкарского на русский (слова «земля» – жер, йер и «человек, мужчина, муж» – ер, эр в балкарском языке созвучны, что могло ввести в заблуждение переводчиканебалкарца). 82. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 555. 83. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.85. 84. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 220. 85. Там же, с. 219. 86. ДИБ-II, с. 130. 87. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 216. 88. ПНАБК, с. 170. 89. В.П.Кобычев. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., 1982, с. 26. Х.Х.Малкондуев. Этническая культура балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 2001, стр.94. 90. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 217. 91. ПНАБК, с. 199. 92. ДИБ-I, с. 87. 93. Там же, с. 87-90. 94. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 60. 95. ДИБ-I, с. 89. 96. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 315. 97. ДИБ-I, с. 89. 98. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 135. 99. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 573-579. 100. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 197-312. 101. Там же, с. 295-296. 102. Там же, с. 194. 103. Там же, с. 316. 104. Там же. 105. Там же, чтр. 331. 106. В.М.Батчаев. Из истории..., с. 39-40. 107. А.Я.Гуревич. Ук. соч., с. 199. 108. В.М.Батчаев. Ук. соч., с. 39-40; Р.М.Рамишвили. Ук. соч., с. 9. 109. Вахушти. Описание грузинского царства. Тбилиси, 1941, с. 150. 110. Б.В.Скитский. Ук. соч., с. 102, примечание 1. 111. В.П.Кобычев. Ук. соч., с. 26. 112. К.М.Текеев. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения. М., 1989, с. 134, 138, 142, 146. 113. ПНАБК, с. 167. 114. Там же, с. 167-168. 115. Очерки истории балкарского народа, с. 94. 116. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 25. 117. С.-А.Урусбиев. Сказания о нартских богатырях у татар – горцев Пятигорского округа Терской области. – в кн.: Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М., 1994, с. 602. 118. М.Абаев. Ук. соч., с. 8. 119. ПНАБК, с. 123. 120. Ж-л «Живая старина», №2, Нальчик, 1992, с. 18-19. 121. И.В.Шаховской. Путешествие в Сванетию и Кабарду. УЗКБНИИ, XIII, Нальчик, 1957, с. 403-404. 122. Ж-л «Живая старина», №2, Нальчик, 1992, с. 94. 123. Там же. 124. Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Тбилиси, 1976, с. 264-265. 125. РГАДА, ф. 110, оп. 1, 1695, №2, л. 3-4. 126. Вахушти Багратиони. Ук. соч., с. 265. 127. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 583. 128. Н.Ф.Грабовский. Свадьба в горских обществах Кабардинского округа. ССКГ, вып.II, Тифлис, 1869, с. 15. 129. Б.Х.Бгажноков. Адыгский этикет. Нальчик, 1978, с. 53. 130. А.Х.Магометов. Культура и быт осетинского народа. Орджоникидзе, 1968, с. 461. 131. М.Абаев. Ук. соч., с. 9. 132. Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 117. 133. А.Я.Гуревич. Избранные труды, т.2, М-СПб, 1999, с. 151. 134. Там же, с. 147. 135. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 574. 136. Ю.Ю.Карпов. Народные собрания и старшины в «вольных» обществах Северной Осетии в XVIII – первой половине XIX вв. – сб.: Археология и традиционная этнография Северной Осетии. Орджоникидзе, 1985, с. 106. 137. М.Абаев. Ук. соч., с. 8. 138. Там же. 139. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 575. 140. КРО, т. 1, М., 1957, стр. 126. 141. Ю.Н.Асанов. Родственные объединения адыгов, балкарцев, карачаевцев и осетин в прошлом (генезис и проблемы типологии). Нальчик, 1990, стр. 137. 142. РГАДА, ф. 110, оп. 1, 1695, №2, л. 3-4. 143. Вахушти Багратиони. Описание Грузинского царства. Тбилиси, 1941, с. 150. 144. И.М.Мизиев. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая в XIII-XVIII вв. Нальчик, 1991, стр. 109. 145. Публикацию документа см.: Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 158. 146. ЦГА РСО-А, ф-245, оп-1, д-42, л-3-4. 147. Правда, наряду с тем, оба термина употреблялись и в иных значениях: тёре – «обычай, закон» а ныгыш – место в ауле, где люди преклонного возраста проводили свободное время. 148. ПНАБК, с. 122-123. 149. Там же, с. 164. 150. Там же, с. 170. 151. Х.Х.Малкондуев. О балкаро-карачаевском Тёре. – сб.: Мир культуры. Нальчик, 1990, с. 57-69; Х.Х.Малкондуев, Х.А.Сабанчиев. Тёре как форма организации управления в средневековой Балкарии и Карачае. – сб.: Современный быт и культура народов Карачаево-Черкессии. Черкесск, 1990, с. 143-161. 152. Х.Х.Малкондуев, Х.А.Сабанчиев. Ук. соч., с. 144-145. 153. Х.О.Лайпанов. К истории карачаевцев и балкарцев. Черкесск, 1957, с. 28. 154. А.Х.Магометов. Ук. соч., с. 411-431; Ю.Ю.Карпов. Ук. соч., с. 102-118. 155. Р.Т.Хатуев. Карачай и Балкария до второй половины XIX века: власть и общество. – сб.: Карачаевцы и балкарцы: этнография, история, археология. М., 1999, с. 17. 156. Документ см.: Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 167. 157. И.М.Саидов. Мехк кхел (совет страны) у нахов в прошлом. КЭС, вып. 2, Тбилиси, 1968, с. 199-206. 158. Б.Е.Деген-Ковалевский. Сванское село как исторический источник. СЭ, №4-5, М-Л, 1936, с. 51-52. 159. Ю.Ю.Карпов. Ук. соч., с. 109. 160. ПНАБК, с. 123. 161. В.Миллер, М.Ковалевский. Ук. соч., с. 575; Б.Шаханов. Ук. соч., с. 149; М.Абаев. Ук. соч., с.9; Е.Г.Битова. Ук. соч., с. 167. 162. Ж-л «Живая старина», №2, Нальчик, 1992, с. 94. 163. Р.Бзаров. Осетины. Ж-л «Эхо Кавказа», №2, М., 1994, с. 11. 164. Р.Т.Хатуев. Карачай и Балкария..., с.49-66. 165. И.В.Шаховской. Ук. соч., с. 417. 166. АБКИЕА, Нальчик, 1974, с. 431-432. 167. ПНАБК, с. 174. 168. М.Абаев. Ук. соч., с. 8. 169. Там же, с. 18. 170. Там же, с. 17. 171. Там же, с. 19. 172. И.М.Мизиев. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая. Нальчик, 1970, с. 28. 173. Там же, с. 22, 25. 174. Там же, с. 49-52. 175. Там же, с. 49. 176. КБФ, с. 271. 177. М.И.Джандиери, Г.И.Лежава. Ук. соч., с. 45. 178. СМОИЗО, т.2, М-Л., 1941, с. 123. 179. Р.Харадзе. Сельская община..., с. 17-19. 180. М.Абаев. Ук. соч., с. 13-14. 181. Там же. 182. Сост. М.М.Блиев. Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов. Орджоникидзе, 1975, с. 38. 183. АКАК, Тифлис, 1868, т.2, с. 117. 184. М.Абаев. Ук. соч., с. 16. 185. Сб. «Покоренный Кавказ», СПб, 1904, с. 424-425. 186. Р.Харадзе. Ук. соч., с. 18. 187. Ж-л «Живая старина», №2, Нальчик, 1992, с. 94. 188. И.В.Шаховской. Ук. соч., с. 417. 189. Л.И.Лавров. Из поездки в Балкарию. СЭ, II, М-Л., 1939, с. 176. 190. Л.И.Лавров. Этнография Кавказа. Л., 1982, с. 41, 160. 191. А.А.Иессен. Археологические памятники..., с. 24-25. 192. В.А.Кузнецов. Алания в X-XIII вв. Орджоникидзе, 1971, с. 209. 193. В.Б.Ковалевская. Кавказ и аланы. М., 1984, с. 147. 194. В.А.Кузнецов. Ук. соч., с. 209. 195. Д.М.Таумурзаев. Голлу. Нальчик, 1993, с. 225. 196. А.А.Иессен. Ук. соч., с. 25. 197. Р.Харадзе. Ук. соч., с. 17-18. 198. Г.И.Ионе. Верхне-Чегемские памятники VI-XIV веков. УЗКБНИИ, XIX, Нальчик, 1963, с. 183-207. 199. М.И.Джандиери, Г.И.Лежава. Ук. соч., с. 119. 200. В.М.Батчаев. Из истории..., с. 89-90. 201. Г.И.Ионе. Ук. соч., с. 204-205. 202. КБФ, с. 269. 203. Русско-осетинские отношения..., с. 38. 204. М.Абаев. Ук. соч., с.14. 205. АКАК, т.2, Тифлис, 1868, с.1117. 206. И.В.Шаховской. Ук. соч., с. 402-403. 207. ЦГА КБР, ф-16, оп-1, д-1606, л-22-23. 208. См. примечание 187. Глава IV. Балкария в XV – начале XIX вв. по данным письменных источников и устной традиции Затерянные в труднодоступных дебрях Большого Кавказа, крошечные «общества» Балкарии веками оставались вне поля зрения путешественников и летописцев. Первые более или менее внятные намеки на их существование начинают появляться лишь где-то с XVII столетия, однако и в последующем – вплоть до начала XIX века – интересующие нас источники все еще единичны и оставляют желать много лучшего в смысле их информативности. По этой причине трудно говорить хотя бы о двух-трех наиболее заметных по своим последствиям явлениях в жизни горцев до вхождения их в состав России. Формирование горских обществ, отношения их друг с другом и с внешним миром, вероятность вовлеченности их в те или иные события на Центральном Кавказе – таков приблизительно круг вопросов, подразумеваемых в данном случае понятием «история народа». Но даже самые предварительные обобщения на этот счет сопряжены с риском непроизвольного перехода той грани, которая отделяет естественное право историка на догадки и предположения от «перенапряжения материала». Понятно, что предлагаемый здесь экскурс не мог строиться по общепринятой схеме, т. е. как связное, структурно и тематически целостное повествование с выделением каких-то тенденций и закономерностей. Скорее это лишь обзор доступных источников в их хронологической последовательности, сопровождаемый комментариями автора. При этом под источниками имеется в виду не только письменная информация, но и некоторые материалы устной традиции, хотя и сложные для интерпретации, но небезынтересные в качестве отражения представлений народа о собственном прошлом. События, связанные с завоеванием Алании, монгольским игом на Кавказе, а затем и крушением Орды под ударами Тимуровских полчищ ознаменовали собой переломный этап местной истории, предопределивший принципиальные изменения в этнической географии Северного Кавказа и в соотношении здесь военно-политических сил в последующие столетия. С нашествием монголов завершилась обширная историческая эпоха, когда предки балкарцев, карачаевцев, осетин представляли собой достаточно крупные этнополитические образования, чтобы играть активную роль в политических процессах юга Восточной Европы и привлекать внимание летописцев в ближних и дальних странах. С XV столетия начинается история совершенно иного масштаба, история так называемых малых народов – потомков тех, кому довелось уцелеть после кошмара XIII-XIV веков. Очевидно, историкам никогда не удастся воссоздать в деталях процессы XV-XVI столетий – «ключевых» по крайней мере для этнической истории Центрального Кавказа. Но большинство кавказоведов достаточно обоснованно акцентируют главное: массовое заселение предгорно-плоскостных районов бывшей Алании появившимися с запада кабардинцами, ассимиляция ими одной и оттеснение в горы другой части прежнего населения, обескровленной и крайне немногочисленной после карательных походов Тамерлана. Определить время появления кабардинцев на нынешней территории с точностью до одного столетия пока не удается. В дореволюционной и советской литературе чаще всего подразумевалось XV столетие, и такая версия существовала вплоть до 1956 года, когда Л. И. Лавров попытался обосновать более раннюю дату – начало XIII века. Но несостоятельность такой альтернативы оказалась столь очевидной, что уже в начале 1970х годов исследователи вынуждены были вернуться к прежней версии. И это не все; в последние годы некоторые кавказоведы склонны приурочить это событие даже к началу XVI столетия [1]. В преданиях балкарцев, карачаевцев и дигорцев население, оттесненное в послемонгольскую эпоху из предгорий в высокогорную зону, фигурирует под наименованием «маджарцы», а ассимилированные маджарцами группы местного горского населения известны в устной традиции балкарцев под названиями «таулу», «ференки», иногда «сваны». Соотнесение этих сведений с данными научных изысканий не дают оснований ставить под сомнение глубину исторической памяти народа. Тем более что, в сущности, речь идет о не столь уж и отдаленном прошлом; ведь некоторые исследователи склонны оценивать «разрешающую способность» устной традиции даже тысячелетиями, в то время как маджарцев отделяют от первых записей связанных с ними преданий какие-нибудь 400-450 лет. Повторю здесь вкратце некоторые из основных положений, изложенных мной в ряде предшествующих публикаций по «маджарской» проблеме [2]. Прежде всего, необходимо учесть, что хотя отдельные эпизоды прошлого, связанные с формированием народа, так или иначе фиксируются его «коллективной памятью», сама трактовка этногенеза в науке и в сознании масс рознятся принципиальным образом. Ретроспективная самоидентификация народа обычно ориентирована только на один-два (как правило, самых поздних) [3] этнокомпонента, традиционным представлениям несвойственно понятие древнейшего субстрата или дифференциация этногенеза на ряд ранних и поздних этапов. В соответствии с такой закономерностью в этногенетических преданиях балкарцев акцентированы преимущественно маджарские предки. В действительности же, как известно, инфильтрация маджарцев в долины Северной депрессии и смешение их с горцами – это, конечно, не этногенез во всей полноте его стадиальных и хронологических параметров, а только один (уже завершающий) этап процесса, наметившегося за многие столетия до рассматриваемой нами эпохи. Далее, один из немаловажных аспектов интерпретации преданий – этническая идентификация упоминаемых в них групп населения. Яснее всего здесь дело обстоит, пожалуй, со сванами. Возможность инфильтрации какой-то небольшой их части на северные склоны Кавказского хребта представляется не столь уж невероятной. В XV в. ситуация благоприятствовала этому, а документальные свидетельства наличия здесь сванского этнического элемента начинают появляться уже в XVI столетии [4]. «Ференки» – совсем необязательно европейцы, как почему-то принято думать, а «эллины» некоторых преданий не обязательно должны быть греками. Согласно широко распространенной в прошлом традиции, этническая принадлежность того или иного народа отожествлялась с конфессиональной (подробнее см. в гл. V). Говоря проще, людей, обращенных в христиан византийскими миссионерами, могли называть греками или эллинами, а другую часть их же соплеменников, крещенных миссионерами из Западной Европы – ференками, еще какую-то группу, крещенную грузинскими миссионерами – грузинами, и т. д. Незнание такой закономерности часто вводит историков в заблуждение. В интересующей нас связи важно иметь ввиду, что и под ференками, и под греками в преданиях подразумеваются горные аланы, но в первом случае христиане – католики, во втором – православные. Главным и едва ли не самым сложным является вопрос об этнической принадлежности маджарцев. В устной традиции не только балкарцев, но и других народов края они были известны как население степного Предкавказья, занимавшие всю эту зону от моря до моря, со «столицей» под названием Маджары (крупнейший в регионе административный центр XIII-XIV вв., располагавшийся на месте нынешнего г. Буденновска). Содержавшиеся в преданных сведениях о миграции значительной части этого населения в предгорьях Центрального Кавказа и значительной роли их в этнической истории края вполне соответствует исторической действительности. Но кто были эти мигранты? По сложившейся издавна традиции в них принято было видеть почти исключительно половцев-кипчаков. Однако еще в начале 1960-х годов правомерность такой установки была поставлена под сомнение Г. А. Федоровым-Давыдовым, а в последние годы тезис об этнической неоднородности указанного сообщества находит все больше сторонников. Наряду с немногочисленными остатками кипчаков, перемещенных монголами в Поволжье и другие регионы Евразии, здесь обитали и отдельные группы выходцев из Центральной Азии [5]. Но не только. Выясняется, в частности, что золотоордынская эпоха отмечена также и появлением в Предкавказье сравнительно большой массы черных клобуков. Все эти мероприятия были санкционированы правителями Орды, в действиях которых прослеживается определенная система: по мере возможности завоеватели старались территориально отделить друг от друга бывших союзников. В домонгольское время таким союзником Киевской Руси были те же черные клобуки, которые вместе с торками и берендеями охраняли ее южные границы от набегов кочевников. В свете этого обстоятельства насильственное перемещение черных клобуков подальше от Руси, в Предкавказье выглядит вполне закономерно. В будущем, по мере расширения источниковой базы проблемы, роль черных клобуков в этнополитической истории региона, конечно, удастся выявить более полно и всесторонне. Если вначале источники предполагали такую постановку вопроса относительно лишь отдельных районов – пишет Е. И. Нарожный – то теперь все очевиднее необходимость «обозначить видение данной проблемы уже в рамках всего Северного Кавказа» [6]. Именно это, разнородное по конкретной племенной принадлежности, но единое в своей тюркоязычности население степи явилось, как я полагаю, первым носителем обобщающего этнонима «маджарцы». Первым, но не последним: в этногенетическом плане между этими маджарцами – степняками и оседлыми маджарцами предгорий, проникшими впоследствии в горы Балкарии – существенная разница. Если проникновение отдельных групп кочевников на территорию плоскостной Алании имело место еще до монголов, то монгольское владычество, следствием которого стало массовое обнищание населения степи, придало этим миграциям более значительные масштабы. Степнякам, лишенным скота и пастбищ, не оставалось ничего иного, как заселять предгорья Центрального Кавказа и переходить здесь к оседлости. В результате остатки прежнего аланского населения все больше попадало под влияние пришельцев в сфере языка и культуры, а смешение тех и других привело к постепенному формированию нового, генетически двуприродного «протоэтноса» и переносу на него наименования «маджарцы». Неудивительно, что до последних столетий горцы Северного Кавказа продолжали именовать Маджарами (или маджарскими) не только собственно Маджары на р. Куме, но и почти любое заброшенное городище в предгорьях [7], в том числе и такие крупные центры Алании, как Верхний и Нижний Джулат. Таким образом, повторим вновь, маджарцы Предкавказских степей и маджарцы предгорий Центрального Кавказа – это совсем не одно и то же: в первом случае речь может идти о численном преобладании кочевников-тюрок, во втором – преимущественно об аланах, ассимилированных пришельцами. В то же время достаточно очевидна и недопустимость каких бы то ни было упрощений. Говоря о маджарских предках балкарцев, мы имеем ввиду прежде всего оседлых алан, но зачастую номадизмы в традиционной культуре балкарцев столь «интимны», что их при всем желании невозможно счесть следствием всего лишь языковой и культурной ассимиляции; надо полагать, что в числе предков-маджарцев были и тюрки, продолжавшие еще сохранять подвижный, полукочевой образ жизни. В числе групп, которые застали в горах маджарцы, упоминаются также «таулу». Это тюркское слово, являющееся самоназванием балкарцев, справедливо принято считать отголоском эпохи, когда их тюркоязычные предки населяли одновременно равнину и часть горных районов, вследствие чего возникла необходимость терминологически дифференцировать две группы одного этноса по ландшафтно-географическому признаку [8]. Пока не совсем ясно, с каким конкретно тюркским народом можно идентифицировать указанных предков-таулу. В одной из предшествующих публикаций я склонен был счесть их первой, наиболее ранней волной тех же маджарцев [9]. Однако М. Абаев, в версии которого упоминаются таулу, четко отделяет их от соплеменников маджарца Басиата. Возможно, это остатки домаджарских тюрок. Последнее, что необходимо оговорить в связи со всем изложенным – это, так сказать, «количественная» сторона дела. Поскольку речь у нас идет о ситуации, сложившейся на Центральном Кавказе после кровопролитных войн с монголами, а затем и полчищами Тамерлана, то ясно, что говоря о горцах или маджарцах XV-XVI веков, мы можем подразумевать не огромные массы людей, а лишь очень небольшие по численности группы. Источники XIII-XIV вв. подчеркивают катастрофические масштабы людских потерь [10], и, судя по демографической обстановке, скажем, XVIII-XIX вв. [11], эти потери оказались невосполнимыми даже по прошествии 4-5 столетий – во всяком случае, в территориальных пределах Балкарии и Карачая. Разумеется, намеченная здесь схема этнической номенклатуры края пока еще весьма приблизительна, а во многом и гипотетична ввиду дефицита информационно емких источников [12]. Со временем взаимное смешение рассмотренных выше групп привело к окончательному оформлению этнической самобытности балкарцев. Но на первых порах отношения сторон носили далеко не идиллистический характер. Предания содержат немало упоминаний этнических конфликтов, причем в ряде случаев хронологические реалии повествования позволяют без особых натяжек приурочить время действия именно к XV-XVI столетиям. В данном случае для нас важнее учесть то, что в совокупности своей все эти конфликты представляют как бы фон, на котором разворачиваются события несколько иного рода: борьба нарождающейся местной (горноаланской) знати с пришлой, маджарской, победа маджарцев и подчинение ими горцев. Поскольку основным источником по этому вопросу является фольклор, рассмотрим здесь вкратце два соответствующих текста. Верхне-Чегемский текст [13]. Когда-то давно из Абадзехии в «страну, ныне занимаемую кабардинцами», прибыл с дружиной некий Анфако. В Баксанском ущелье в стычке со сванами он погиб, оставив после себя двух сыновей, братьев Баймурзу и Джанмурзу. Одолев сванов, братья отослали в Абадзехию дружину отца, а сами в сопровождении двух аталыков перешли в Чегемское ущелье. Увидев плывущие по реке щепки, они догадались о наличии в её верховьях какого-то поселения. Братья направляются вглубь ущелья и вскоре доходят до места слияния Чегема и её притока Жылгысу. Здесь они увидели поселение, которое будто бы уже тогда называлось Чегем, но по другому варианту предания этого села тогда еще не было, а люди жили в верховьях Жылгысу, на месте, известном ныне в археологии как «городище Лыгыт». Это было «какое-то неведомое для них (братьев - В. Б. ) племя; рассказчик предполагает, что народец этот были осетины» [14]. Братья были радушно приняты местным князем Берды-бием, жившим в своей башне в верхней части села. В другом варианте предания братьев приняли сами жители Лыгыта, которых впоследствии Баймурза и Джанмурза избавляют от угрозы вражеских набегов, и тем самым предоставляют возможность перенести село в более удобное место у слияния Джилгысу с Чегемом. Прошли годы. После смерти князя и его гостей стал назревать конфликт между их потомками - Рачикаовыми и Балкаруковыми. Дело в том, что пользуясь то ли малолетством, то ли неспособностью потомков Берды-бия (Рачикаовых), энергичные и предприимчивые потомки пришельцев (Балкаруковы) сумели узурпировать их княжеские прерогативы (по другому варианту не меньшим влиянием пользовались и братьяродоначальники, сумевшие защитить село от набегов соседей). Достигнув совершеннолетия, девять (по другому варианту - двенадцать) братьев Рачикаовых стали всячески притеснять народ, чем не преминул воспользоваться Келемет Балкаруков. Заручившись поддержкой своих сторонников, он в одну ночь истребляет братьев Рачикаовых. После этого он становится полновластным правителем Чегемского ущелья и раздает соучастникам убийства земли Рачикаовых в вечное пользование. Со временем из рода Балкаруковых выделилось два ответвления - Барасбиевы и Кучуковы. Верхне-Балкарский текст [15]. В незапамятные времена из плоскости пришел в ВерхнеБалкарскую котловину охотник по имени Малкар, и поселился вместе с семьей по соседству с поселком аборигенов – таулу (варианты: «осетин-дигорцев» и «выходцев из Сванетии»). Однажды у Малкаровых нашел приют и стал жить на правах гостя некто Мисака, тоже пришелец с равнины (из Маджар). К тому времени семья Малкаровых состояла из 10 человек - девятерых братьев и одной сестры. Девушка и гость полюбили друг друга, но братья не хотели выдавать сестру за человека неизвестного происхождения. Тогда ко дню сенокоса сестра приготовила для братьев крепкое пиво, и когда те, опьяненные, уснули, влюбленные перебили их. Женившись на сестре Малкаровых, Мисака прочно обосновался в их доме, привел из плоскости «других людей», и вместе с ними стал притеснять местных жителей «таулу», которые в конечном итоге стали его данниками. Правда, по другому варианту предания с аборигенами воевали появившиеся здесь еще до Мисаки простые маджарцы, а последующее вмешательство Мисаки ускорило их победу. Наконец, опять-таки из плоскости, из тех же Маджар сюда прибывает еще один человек князь Басиат со своей дружиной. При помощи огнестрельного оружия, о котором горцы тогда не имели понятия, Басиат производит такой эффект, что население ущелья добровольно признает его своим князем. В других вариантах Басиата приводит из Маджар уже покоривший горцев Мисака, или же Басиат покоряет их сам. От Басиата ведут свое происхождение все княжеские фамилии Балкарского ущелья Абаевы, Айдебуловы, Шахановы и др. Княжеской же была признана и фамилия Мисаковых. Известны и другие предания подобного рода - об истреблении Баташевых, Джабоевых, и т. д., но, к сожалению, я не располагаю полной публикацией текстов. Что же касается рассмотренных выше двух текстов, то я целиком и полностью разделяю интерпретацию В. Миллера и М. Ковалевского, которые считали предания о Басиате и Анфако отражением реальных событий, связанных с борьбой феодальных династий и становлением в Балкарии новых, относительно более развитых форм социальных отношений [16]. Подобного же мнения придерживаются, кстати, и осетинские исследователи, интерпретируя тесно взаимосвязанную с Верхне-Балкарским преданием легенду о родоначальнике дигорских феодалов Баделе (в балк. версии Бадинат) - родном брате князя Басиата [17]. Но поскольку В. Миллер и Б. Ковалевский не ставили целью развернутый анализ текстов, то вне поля их зрения остались некоторые существенные моменты. Я, например, склонен полагать, что приведенные здесь Верхне-Балкарский и Верхне-Чегемский повествования это не два различных предания, а две локальные версии одного и того же предания. Об этом свидетельствует множество параллелей, хотя и не все из них включены в приведенный выше краткий пересказ. Так, в обоих случаях говорится о появлении в горах двух братьев из плоскости (Басиат и Бадинат, Баймурза и Джанмурза), о вмешательстве их в этнические или социальные конфликты, об истреблении одного из местных родов (причем в обоих случаях гибнут по девять братьев), обретении пришельцами (либо их вассалами или же потомками) княжеского статуса, о подчинении местного населения. В обоих случаях упоминается дружина и вассалы главных действующих лиц, эффект, производимый огнестрельным оружием [18], промежуточный между равниной и высокогорьем пункт, в котором либо останавливается временно, либо умирает один из главных персонажей (здесь же фиксируются их усыпальницы - кешене Анфако, кешене Мисаковых), упоминаются также башни в верхней части села, щепки, плывущие по реке, пиво как реалия горского быта и т. д. В данном случае сходство художественной формы никак не дает оснований отнести предания к разряду так называемых «бродячих» сюжетов. Скорее это отражение единого для всей Балкарии и Дигории процесса, приведшего к сходным результатам, а, следовательно, и обусловившего единую форму его художественного осмысления. Правда, наряду с тем в сказаниях имеются и существенные расхождения, равно как и моменты, не внушающие доверия. Вообще, есть основания считать, что истинное положение вещей в предании сильно искажено. Лишь неадекватность этих искажений в различных его вариантах и версиях позволяет путем их перекрестного анализа, взаимных дополнений и уточнений, воссоздать более или менее правдоподобную картину. Прежде всего, нельзя не заметить расхождение в ключевом эпизоде обоих повествований. В Чегемской версии истинной причиной истребления Рачикаовых послужила их попытка пресечь практику выдачи ежегодной дани Балкароковым. Иными словами, это попытка вернуть утраченный Рачикаовыми социальный статус, борьба за власть, и эту подоплеку трагедии не может заслонить даже камуфляж из ссылок на «бесчинства» братьев Рачикаовых, на «притеснение» ими простого народа и на «благородное заступничество» Келемета Балкарокова. Объем данной главы исключает перечень противоречий, предполагаемых версией «заступнической» роли Келемета. Отмечу главное. В самых широких слоях балкарского крестьянства было распространено представление о феодализме и феодальном гнете как о чем-то глубоко чуждом, привнесенном извне в изначально «демократическую» среду аборигенов [19]. А между тем в предании все поставлено с ног на голову: потомок пришельцев Келемет «избавляет» крестьян от «произвола» местного рода Рачикаовых. И это при всем том, что последние воплощали собой ту изначальную стадию феодализации общества, когда статус князя почти целиком зиждется на личном авторитете, несовместимом с какими-то ни было бесчинствами. Ларчик открывается просто: тезис о демократическом прошлом домаджарской Балкарии фиксировался в народе, а предание о «подвиге» Келемета Балкарокова записано либо со слов его потомков, либо приближенных к ним дворянских кругов [20]. Но в народе же сохранилась и «Песнь о Рычкаовых», вполне определенно отрицающая «феодальную» версию о деспотизме потерпевшей стороны: «Мы жили мирно, а он потешился над нами, Ахтугана сын, прозванный Келеметом... Кровью обагрился Галаучинский курган» [21]. Кстати, недавно опубликован еще один вариант предания, в котором народ осуждает преступление Балкароковых [22]. По-видимому, очернение побежденных являлось закономерным следствием всех феодальных войн. На Кавказе такая закономерность прослеживается не только по балкарским материалам, но, например, и по осетинским: «Если борьба претендентов за «предводительство» или «верховенство» увенчивалась успехом, то потом уже шли в ход чудесные и сказочно-фантастические предания о якобы чуть ли не божественном происхождении власти того или иного феодала. Но если претендент не выдерживал борьбы,... то их просто уничтожали, и в памяти народа они запечатлевались как отвратительные личности с набором черт, не подобающих добропорядочному осетину» [23]. Надо полагать, в силу такой закономерности превратились в «отвратительные личности» и братья Рачикаовы. Правда, здесь следует учесть и другое. Устная традиция, отражающая столь отдаленное прошлое, со временем неизбежно должна была фольклоризироваться. А закономерностью эволюции фольклора, проявляющейся всюду «с удивительной одинаковостью», является то, что «при переходе на новые формы общественного строя или даже при развитии внутри данного строя» традиционные образы постепенно трансформируются в свою противоположность: «Некогда святое превращается во враждебное, великое – во вредное... [24]. Подобные закономерности в трансформации устной традиции зачастую упускаются из виду даже историками. Ссылаясь на предания, некоторые авторы приводят примеры «деклассирования» князей – одного якобы за чрезмерную гордость, другого будто бы за нарушение обычая, третьего – за жадность и т. д. Не менее тенденциозна и версия Верхне-Балкарских событий, но расстановка акцентов здесь несколько иная. Если Чегемская версия ставит целью оправдать истребление одного феодального клана другим, то для Верхне-Балкарских информаторов важнее было вообще умолчать о феодальном статусе Малкаровых. Вся история начинается с «бытового конфликта» между потомками простого охотника и их гостем, - «человеком неизвестного происхождения». Похоже, фальсификаторов мало заботило то, что именно в такой редакции мотивировка преступления ошарашивает своей надуманностью. В самом деле, истребление рода из-за несговорчивости в вопросе брака - явление, совершенно немыслимое в простонародье (на Кавказе такие проблемы чаще всего решались умыканием невесты), в то время как в феодальной среде неудачное сватовство действительно могло послужить поводом к Варфоломеевской ночи. Собственно говоря, предание почти и не скрывает феодальный статус Мисаки, «человеком неизвестного происхождения» он предстает лишь в начале повествования. Впоследствии же выясняется, что это вассал самого Басиата (сына чингизида Джанибека) - следовательно, он княжеского происхождения. Отказывает предание в таком статусе лишь Малкаровым. Однако сопоставление данной версии с Чегемской неизбежно предполагает идентификацию сословной принадлежности Малкаровых и Рачикаовых. Тем более что в Верхней Балкарии по сей день сохранились руины монументального комплекса, наименование которого «Малкар-кала» (замок Малкара) говорит само за себя. «Не заметить» это обстоятельство могли лишь информаторы-потомки того же Басиата и Мисаки [25]. Таким образом, финалы Верхне-Чегемской и Верхне-Балкарской трагедии совершенно идентичны: в обоих случаях дело кончается сменой местной феодальной династии пришлой. Надо полагать, что именно в свержении местных династий и заключались действительные мотивы преступлений, а выдумки о «деспотизме» Рачикаовых и «пламенной любви» Мисаки введены в устную традицию потомками победителей с целью как-то сгладить негативные ассоциации, связанные с вероломным истреблением местных родов, с целью придать факту узурпации хотя бы видимость законности. Тем самым, кстати, в существенной мере решается и вопрос о достоверности описанных событий: раз фальсификация налицо, значит, было что фальсифицировать. При всех потугах к самореабилитации победителей эпизоды Варфоломеевской ночи привносят в повествование явно нежелательную двусмысленность, и коль скоро они все же есть, то умолчать о них было просто невозможно. Кроме того, в обеих версиях предания есть искажения конъюнктурного порядка. По прошествии ряда столетий представления о маджарском прошлом приобретали все более абстрактный, все более расплывчатый характер, в то время как успехи Крымского ханства в распространении мусульманства на Северном Кавказе способствовали зарождению здесь в среде духовенства крымской ориентации. Под влиянием духовенства стали появляться версии этногенетических преданий, «выводившие» предков народа из Крыма. Не обошла эта тенденция и предание о Басиате. Такого же рода трансформацию, но уже на ином - местном уровне претерпела и ВерхнеЧегемская версия. Уж если исходить из принципа историчности предания, то абадзехское происхождение Анфаки более чем сомнительно. Скорее всего здесь также произошла подмена полузабытой маджарской прародины, но теперь уже не крымской, а адыгской не менее престижной в условиях адыгской гегемонии на Северном Кавказе. Исчерпывающий всесторонний анализ всех версий и вариантов с последующей исторической идентификацией персонажей и сюжетных линий - задача, разрешимая лишь общими усилиями фольклористов и историков. Здесь я ограничусь лишь несколькими замечаниями относительно хронологических рамок рассмотренных событий. Дигорская и Верхне-Балкарская версии, сюжетно взаимосвязанные ввиду кровного родства главных персонажей предания, уже стали предметом специального исследования. Авторы едины в мнении, что обе национальные версии отражают реальные события XV-XVI столетий, связанные с инфильтрацией в высокогорную зону Центрального Кавказа плоскостных алан («маджарцев») [26]. С этой датой согласуется в целом и время Чегемских событий - «приблизительно 10 поколений тому назад» - по подсчетам В. Миллера и М. Ковалевского, конец XVI века [27]. Правда, в Верхне-Чегемской версии действие происходит в поселке Лыгыт, а верхней датой Лыгыта археологи считают XIV век [28]. Все это как будто указывает на рубеж XIV-XV вв., но следует учесть и то, что истребление Рачикаовых имело место уже спустя 2-3 поколения, т. е. где-то во второй половине XV века, быть может, начале XVIго. Обобщая все эти подсчеты - конечно, сугубо ориентировочные, - можно полагать, что борьба пришлой и местной знати в Балкарии и Дигории приходится преимущественно на XV-XVI столетия. Если выдвинутая в свое время В. Миллером и М. Ковалевским интерпретация рассматриваемого предания верна - а отрицать её правомерность, как видно из всего изложенного, я не вижу ни малейших оснований, - то суть того, о чем говорилось выше можно было бы счесть наглядной иллюстрацией закономерности, о которой пишет О. В. Дмитриева: «противостояние семейств друг другу во многом определяло характер и содержание политической борьбы в средневековье, которая нередко приводила к возвышению одних и поголовному истреблению других кланов наряду с другими, более важными последствиями социально-экономического порядка» [29]. В данном случае события, предполагаемые анализом предания, интересны для нас не сами по себе, а как раз в связи с «более важными последствиями социально-экономического порядка». Какими же оказались эти последствия? Некоторые из современных историков склонны оценивать их однозначно негативно: с переселением плоскостных алан в горы в их среде наметилась тенденция к социально-экономической и культурной деградации, оживлению пережитков родового прошлого, и т. д. Это действительно так, но ведь здесь подразумевается лишь один из компонентов в этногенезе осетин и балкаро-карачаевцев. Поскольку вся последующая история этих народов связана с ареалом расселения другого горноаланского - компонента, то в данном случае куда более актуально сопоставление социальной структуры маджарцев не с феодализмом плоскостной Алании Х-XI вв., а с уровнем социального развития горцев к началу XV столетия. А при таком подходе, пожалуй, не остается места для сомнений: даже и в «деградированном» виде социальная организация маджарцев все же представляла собой относительно более высокий уровень феодализации общества. Об этом, например, со всей определенностью писал первый балкарский историк М. Абаев, противопоставлявший якобы введенные Басиатом феодальные порядки «демократическому» устройству горцев [30]. Конкретнее, речь может идти о противопоставлении раннефеодального общества обществу патриархальнородовому на стадии её разложения. С личностью этого же легендарного персонажа связывала устная традиция и появление в Балкарии трех основополагающих нововведений - сословной иерархии, института Тёре и некоего подобия сил самообороны. Конечно, образ Басиата здесь явно идеализирован, независимо от того, реальная это личность или вымышленная. Правдоподобно лишь то, что с возобладанием «маджарского» начала в этнокультурных и социальных процессах в жизни горцев действительно должны были произойти заметные перемены. Столетиями вызревавшие в недрах горских обществ предпосылки классового расслоения в условиях изоляции этих обществ от равнины почти не имели перспектив для реализации [31]. Включение в горские общества нового этнического компонента - пришельцев с равнины, достигших задолго до рассматриваемого времени стадии феодальных отношений и ранних форм государственности, а в XIII-XIV вв. входивших в состав Золотой Орды с её четко выраженной социальной стратификацией, товарно-денежными отношениями, развитой городской жизнью и ремеслами - все это «подтолкнуло» и углубило позитивные тенденции в эволюции горских обществ, позволило количеству перейти в качество и обусловило полную победу раннефеодальной формации. В свете изложенных предположений особого внимания заслуживает загадочная фраза грузинского летописца о «великой смуте в стране Осетской», когда «обильно проливалась кровь царей овсов» [32]. К сожалению, среди кавказоведов нет единого мнения относительно даты упомянутых событий. Но уместно отметить, что по одной из выдвинутых версий речь идет о событиях XV-XVI столетий [33]. Если это действительно так, то предложенная здесь интерпретация устной традиции как будто подтверждается и письменными источниками. Ведь овсами в Грузии называли не только осетин; в число знатнейших «овсских» родов Вахушти включал также балкарскую знать. Тем вероятнее это относительно XV-XVI веков, когда еще свежа была память об этнокультурных границах исторической Алании. Любопытно, что в источнике речь идет вовсе не о вражеском вторжении. Деликатное определение «смута» ассоциируется прежде всего с какими-то социальными потрясениями, а то, что кровь проливалась именно у знати («царей»), наводит на предположение о династических войнах. Если устная традиция дает некоторые основания хотя бы для гипотетических суждений о внутриобщественных процессах, то куда сложнее обстоит дело с вопросом об отношениях горцев с внешним миром в XV веке. Информативно полноценных источников по данной теме нет. Правда, в этой связи можно было бы вспомнить так называемую Цховатскую надпись на золотом кресте, повествующую о пленении балкарцами феодала из рода Ксанских эриставов Ризии Квенипневели. По последним, уточненным данным надпись датируется XV веком (а не XIV-XV вв., как считалось ранее). Ни о подробностях, ни о причине его вторжения в Балкарию надпись ничего не сообщает. Поэтому неясно, следует ли отнести эту акцию к категории так называемых «бытовых» набегов, или это один из эпизодов открытого вооруженного конфликта. Все же определенный интерес представляет для нас тот исторический «фон», в свете которого поход Ксанского эристава мог быть и неслучайным. Дело в том, что в ряде официальных документов той поры цари Картли и Имерети названы правителями не только грузин, но также алан (т. е. горцев Центрального и Северо-Западного Кавказа), черкесов (кабардинцев) и джиков (западных адыгов); не исключено, что в этом своем качестве цари пытались утвердиться также и «де-факто». Как бы то ни было, но в первой четверти XV столетия действительно имело место какое-то столкновение. Не располагая возможностью ознакомиться с первоисточником, привожу здесь сведения об этом событии в изложении Дюбуа де Монпере: «... когда в 1424 г. Александр, царь Грузии, вознамерился окончательно разделить свои владения между сыновьями, это послужило как бы сигналом к мятежу горных народов (Северного Кавказа; В. Б. )... и между этими народами... первыми были черкесы»34. Тенденциозность используемого автором источника очевидна. В свете всего, что нам известно об истории и Грузии, и Северного Кавказа той эпохи, речь может идти не о «мятеже» строптивых вассалов, а скорее об отпоре северян посягательству на свой суверенитет. Но в рассматриваемом контексте важнее другое. По словам автора, самую активную роль в организации отпора сыграли черкесы. Черкесами же в Грузии называли не всех адыгов, а преимущественно кабардинцев. Иными словами, речь может идти, главным образом, о грузино-кабардинском конфликте. Закономерен вопрос: могли ли предки балкарцев, населявшие промежуточную территорию, оставаться в стороне от этого конфликта? Разумеется, нет; автор вполне определенно констатирует, что кабардинцы стали во главе «горных народов» Северного Кавказа. Таким образом, указанный источник можно счесть едва ли не первым свидетельством совместного отражения внешнеполитической угрозы предками кабардинцев, балкарцев, осетин, карачаевцев. Катаклизмы двух предшествующих веков истощили людские ресурсы Алании до предела и, к тому же, ни политически, ни этнически население гор уже не представляло собой единого целого. Теперь уже численности боеспособных контингентов каждого из «обществ» хватало в лучшем случае лишь на мелкие локальные стычки. Поэтому тезис С. Н. Малахова о «военно-союзнических отношениях Алании с Трапезундской империей» в XV столетии [35] представляется чрезмерно категоричным. Правда, кое-какие связи все-таки продолжали сохраняться. Установлено, в частности, что Аланская митрополия продолжала функционировать и в рассматриваемое время, причем резиденция митрополита находилась именно в Трапезунде. Говорить о сколько-нибудь регулярном характере этих связей, конечно, не приходится, но все же они не могли пройти бесследно для конфессиональной истории края, если учесть, что часть хранившейся когдато в Верхнем Чегеме христианской литературы, написанной на греческом языке, была датирована как раз XV столетием [36]. Упомянутый выше случай 1424 года – если только сообщение о нем заслуживает доверия – редкое исключение из характера взаимоотношений Грузии с северными соседями. Куда более реальную опасность для населения Северного Кавказа представляло Крымское ханство, экспансия которого, начиная с XVI века, стала стремительно нарастать. Наиболее уязвимым было положение адыгских племен, населявших преимущественно легкодоступную для врага плоскостную зону края. Им и пришлось взять на себя главное бремя неравной борьбы. Но нельзя не отметить, что посильное участие в отражении общей угрозы извне нередко принимали и горцы – предки осетин, балкаро-карачаевцев, абазин. Об этом достаточно недвусмысленно свидетельствует фольклор указанных народов, об этом же писал и Ш. Ногмов, опираясь на устную традицию кабардинцев. Впрочем, не исключено, что в единичных случаях какие-то намеки на это можно найти и в письменных источниках. В частности, определенного внимания в данной связи заслуживают обстоятельства гибели в 1523 году крымского хана Мухамед-Гирея. В том году он воевал с ногайцами и татарами Астраханского ханства, однако, по словам турецкого автора XVII века, хан погиб в войне с «черкесами и дадианами» [37]. Комментируя это сообщение, А. М. Некрасов полагает, что черкесы здесь упомянуты в качестве союзников ногайцев и астраханцев, а «Упоминание дадианов пока объяснению не поддается» [38]. Объяснение все-таки возможно, и первое, что необходимо отметить со всей определенностью - это то, что о мингрельцах, которых по фамилии их владетеля часто называли дадианами, в данном случае не может быть и речи. Во-первых, история региона не знает ни одного достоверно установленного факта участия грузин - тем более из внутренних районов Грузии - в оборонительных войнах адыгов. Напротив, на протяжении всего средневековья Грузия сама опиралась на их поддержку. Во-вторых, в рассматриваемое время Западная Грузия без особого успеха пыталась противостоять агрессии турок и, следовательно, при всем желании не смогла бы помочь адыгам. Наконец, в-третьих, у нее и не было такого желания. Напротив, ухудшение адыгогрузинских отношений стало даже причиной неудачного похода владетелей Гурии и Мингрелии на Северный Кавказ. Ясно, что наличие этнонима дадианы в упомянутом источнике связано с каким-то недоразумением. Поскольку этноним фигурирует в турецком источнике XVII века, то, очевидно, и разгадку следует искать в работах других турецких авторов того же времени. Одной из таких работ является «Книга путешествия» Эвлия Челеби. Главное, чем она привлекает внимание в рассматриваемой связи - это неоднократные констатации автора, что чуть ли не все реки Северного Кавказа «начинаются в горах грузинской земли Дадиании», «стекают с гор земли Дадиан в Грузии» [39]. Это тем более странно, что автор долго путешествовал по Кавказу, и, следовательно, имел достаточно полное представление о географии края. Остается полагать, что недоразумение вызвано неосведомленностью автора в вопросе об этнополитических границах Грузии, в состав которой он ошибочно включает также территорию Осетии, Балкарии и Карачая (здесь уместно напомнить, что в число своих подданных грузинские цари часто включали и «алан»). Но дело не только в Грузии. Перечисляя различные наименования Кавказского хребта («горы Эльбрус»), он приводит и его якобы арабское название «Пуште и Дадиан» [40]. Совершенно очевидно, что в данном случае «Дадиан» - это сильно искаженное арабское название Дарьяльского прохода «Дар- и алан», которое часто относилось к центральной части Большого Кавказа, равно как и к горной зоне исторической Алании вообще. Иными словами, ошибочно отождествляя такие понятия, как алан и дадиан, автор одним росчерком пера превратил потомков алан-осетин, балкарцев и карачаевцев - в мигрельцев. Одна ошибка повлекла за собой другую: исконно аланскому городу Верхний Джулат автор приписывает наименование Ирак- и Дадиан, утверждая, что когда-то в нем жили «люди грузинского происхождения» [41]. В свете всего изложенного идентичность загадочных «дадиан» - союзников адыгов в их войне с Мухаммед-Гиреем - и горцев Центрального Кавказа представляется совершенно бесспорной. К середине XVI столетия агрессия татар при поддержке могущественной Османской империи обрела характер «крупномасштабного наступления» [42]. В то время Москва еще не располагала возможностью сколь-либо эффективно противодействовать распространению крымско-турецкого влияния в регионе, особенно в его центральной и западной частях. В данном случае это факт, не лишенный определенного интереса в том плане, что, судя по многочисленным данным фольклора, в числе местных племен-данников татар, были какое-то время и предки балкаро-карачаевцев. Сомнения в достоверности такой информации едва ли могут быть оправданы. При всей своей специфичности как источника в целом фольклор все-таки отражает какую-то историческую реальность. И наиболее вероятным периодом зависимости горских обществ представляется именно XVI век (преимущественно вторая его половина) – время «крупномасштабного наступления» татар. Отчасти такой вывод основан и на данных письменных источников: в конце XV века имели место пока лишь спорадические стычки крымцев с черкесами [43], а источники XVII-XVIII веков, отмечая экономическую зависимость «обществ» от Кабарды, в то же время подчеркивают, что они «живут о себе» и в подчинении у чужеземных правителей не состоят [44]. Следовательно, где-то на рубеже XVI-XVII или в начале XVII столетия горцы уже прекратили выдачу дани. Любопытные сведения о конце крымского владычества сохранила устная традиция. Накануне очередного появления семенов (сборщиков дани) - говорится в предании - в Малкаре был созван общебалкарский Тёре, на котором решено было перебить незваных гостей, а исполнителей этой акции назначить по жребию. До жеребьевки дело не дошло: исполнить решение Тёре вызвалась группа добровольцев из Верхнего Чегема во главе с Эбуевым. Заручившись поддержкой других обществ на случай неудачи, они приступили к осуществлению замысла. Крымцам был оказан пышный прием с обильным угощением и музыкой, а когда те, опьяненные крепким горским пивом, наконец уснули, чегемцы перебили их. Прибывшим сюда впоследствии представителям ханской администрации ничего не удалось узнать о судьбе семенов. С тех пор татары перестали появляться в горах, а в самой Балкарии резко возрос авторитет Чегемского общества и тамошнего Тёре [45]. Насколько достоверна устная традиция в изложении подробностей, трудно сказать; вероятнее всего здесь не обошлось без элементов «художественного вымысла». Но в любом случае ясно, что избиение семенов еще не было решением проблемы. Сама эта акция была бы возможной лишь в качестве одного из эпизодов массового антитатарского движения во всем регионе. Известно, что в конце 80-х годов XVI в. на Центральном Кавказе имела место резкая активизация сторонников пророссийской ориентации, которые «Кабардинскую землю всее под государеву руку привели» [46]. Приведенная выдержка логически подводит нас еще к одному аспекту рассматриваемой темы - к вопросу о дате вхождения горских обществ Балкарии в состав России. Как известно, в отдельных кругах феодальной знати Северного Кавказа тенденция к политическому сближению с Россией четко обозначилась еще во времена Ивана Грозного. В 1557 году политические связи с Россией установила часть Кабарды во главе с князем Темрюком Идаровым. В данном случае это событие примечательно в том смысле, что в советской науке это событие трактовалось как принятие российского подданства, а в ряде публикаций «автоматическое» - т. е. вместе с Кабардой - присоединение Балкарии и Карачая рассматривается как нечто само собой разумеющееся [47]. Обосновать такой вывод конкретными источниками невозможно, но похоже, это обстоятельство не очень уж беспокоило авторов. Логика суждений была предельно проста: дескать, в средние века горная зона Центрального Кавказа являлась «вассальной» территорией Кабарды, а раз так, то вместе же с Кабардой в состав России непременно должны были войти и горцы. Между тем документы двух последующих столетий совершенно недвусмысленно говорят обратное: балкарцы «государю не послушны, живут о себе». Вопреки отмеченной установке, специфика вассальных связей вовсе не предполагает такое «присоединение». В одном из документов 1629 г. говорится, будто некоторые из балкарских феодалов «слушают... черкасского Алегука-мурзы Шеганукова» [48]. Но характер его связей с горцами - каковыми бы они не были в действительности - не имеет к проблеме статуса тогдашней Балкарии никакого отношения. Ведь сам Шегануков вполне определенно считался подданным России: «А государю Алегук-мурза послушен и заклады его в Терском городе есть» [49]. Однако на запрос о подданстве «слушавших» его балкарцев было сказано четко и ясно: «А государю де те мурзы не послушны, живут о себе, и закладов их в Терском городе нет» [50]. Между прочим, здесь показателен даже не ответ, а уже сам запрос: оказывается, в правительственных кругах России даже не имели понятия о балкарцах. Правда, ни в 1957 году (когда в республике широко отмечалось 400-летие «добровольного вхождения» Кабарды в состав России), ни в последующие четверть века вопрос о Балкарии как будто бы не получил особо заметного резонанса. А в сводной работе по истории края, изданной в 1967 году, присоединение Балкарии вообще отнесено к иной эпохе, хотя «механизм» этой акции остался прежним - через Кабарду. В результате заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. - утверждают авторы влияние России на Кавказе значительно усилилось. «В подданство России поспешили перейти связанные с кабардинскими владетелями балкарские таубии и осетинские алдары. Следовательно, не только территория собственно Кабарды, но и соседние земли Балкарии и Осетии также оказались в составе России» [51]. Пожалуй, это уже несколько ближе к истине – в том смысле, что к тому времени в горной зоне возобладали пророссийские настроения. Но существенных уточнений требует дата фактического присоединения Балкарии, а главное роль «кабардинского фактора» в этом процессе. Попытка приобщить Балкарию к знаменательной вехе кабардинской истории повторилась в 1982 г. в связи с празднованием 425-летия «присоединения», и на сей раз приняла откровенно анекдотические формы. Теперь уже идея о вхождении Балкарии в состав России именно в XVI веке исходила от... высших партийных инстанций республики(!), а широковещательная кампания в средствах массовой информации началась независимо от мнения научной общественности по данному вопросу. Впрочем, говорить о каком-то определенном мнении и не приходится; наспех созванная «конференция» вынуждена была ограничиться туманной формулировкой об «общности исторических судеб Кабарды и Балкарии». На протяжении всего XVII столетия неуклонно возрастала роль «российского фактора» на Кавказе, и порой сама международная обстановка той эпохи объективно способствовала прямому или косвенному вовлечению балкарцев в те или иные события, связанные с кавказско-русскими отношениями. В 20-х годах XVII века произошел небольшой инцидент, сравнительно полно освещенный в источниках той поры, но тем не менее упоминаемый в кавказоведческой литературе только вскользь. Российским государством, испытывавшим тогда значительные трудности с ценными металлами для нужд денежного обращения, был принят комплекс мер по выявлению и разработке месторождений полезных ископаемых. В ноябре 1628 года по поручению Пшимахо Черкасского Каншов-мурза Битемрюков тайно добыл и привез в Терки образцы серебряной руды из трех месторождений, находившихся в Дигории и сопредельных землях Балкарии. По его словам, разработку месторождений можно будет вести лишь под усиленной охраной, так как «кабардинские люди тое руды делати не дадут». Настоятельно рекомендовал ввести войска и Пшимахо Черкасский. Анализ руды показал в нем малый процент серебра, но все же Каншов-мурза был отправлен в Москву для ознакомления Посольского приказа с результатами разведки. Тем временем группа антирусски настроенных феодалов Кабарды и Кумыкии стала настраивать народ против того и другого. Дождавшись возвращения Каншов-мурзы, Пшимахо Черкасский собрался ехать вместе с ним в горы для дополнительной разведки, но враги пригрозили ему смертью. Пришлось тайно отправить одного Каншова, но избежать огласки не удалось и в этот раз. Сразу же после его возвращения феодальные дружины во главе с будущим шамхалом Айдемиром Эндерийским и кабардинскими князьями Илдаром и Суркаем Ибаковыми ринулись в Малкар. Вероятнее всего, они подозревали местную знать в тайном содействии Битемрюкову и Черкасскому - тот и другой приходились родственниками балкарским феодалам. Неоднократно подвергались нападению и владения самого Пшимахо Черкасского, который вынужден был обратиться к Астраханскому воеводе с просьбой прислать «ратных людей» для его защиты. Вскоре последовало распоряжение царя о прекращении разведочных работ. Таковы вкратце события 1628-1629 гг., известные нам по документам Посольского приказа [52]. Суть всей этой истории принято интерпретировать в том смысле, что, убедившись в бесперспективности планов промышленной разработки рудных залежей, правительство потеряло к ним интерес. На первый взгляд это выглядит как будто вполне убедительно, так как пробные анализы руды действительно не дали повода для оптимизма, а в отмеченном указе царя также акцентируется нерентабельность залежей. Но считать эту причину главной и единственной едва ли правомерно даже в том случае, если заключение немцев-рудознатцев было достаточно объективным. Объективным же оно быть не могло, так как доставленных Коншов-Мурзой образцов руды оказалось слишком мало для окончательных выводов, а желание рудознатцев лично посетить рудные месторождения оказалось неосуществимым [53]. Пожалуй, вопрос о качествах руды здесь беспредметен вообще, поскольку решающую роль в событиях все-таки сыграли те феодальные круги, которыми планы экономического освоения края Россией были восприняты крайне негативно. Огласка этих планов вызвала нездоровый ажиотаж в Кабарде и Кумыкии, многие антироссийски настроенные феодалы обвиняли Черкасского с Битемрюковым в преследовании своекорыстных целей. Позиции этих кругов были пока еще довольно прочны, и правительство попросту сочло нецелесообразным идти на обострение отношений с ними при весьма сомнительных видах на экономическую «отдачу». В таких условиях сторонникам российской ориентации на местах приходилось нелегко. Тот же Пшимахо Черкасский неоднократно обращался к царю с жалобами на непрерывные набеги вражеских дружин, на разорение его владений отрядами «Шелоховых братьев и племянников, Илдар-мурзы с братьею», и др. Но наибольший интерес в контексте нашей темы представляет вопрос о месте верхнебалкарских князей в рассмотренном инциденте. По мнению Ю. Н. Асанова, вопреки противодействию антироссийских кругов разведочным мероприятиям, «оставляли надежду сами балкарские владельцы, на чьей территории указывались залежи серебряной руды» [54]. Л. И. Лавров также полагал, что именно содействием этих владельцев был вызван карательный (по замыслу) поход Айдемира и братьев Ибаковых на Малкар [55]. Обоснованность обоих предположений не подлежит сомнению. Действительно, если бы подозрения Ибаковых и Айдемира относительно солидаризации таубиев с Черкасским были основаны на недоразумении, то конфликта нетрудно было бы избежать путем переговоров. Но, как мы уже видели, малкарцам все же пришлось вступить в неравную схватку с превосходящими силами противника без всякой надежды на чью-либо помощь. В феврале 1629 г. воевода И. А. Дашков сообщал в Посольский приказ, что малкарцы во главе с Абшитой Взрековым56 «против Айдемиря да Илдара да Суркая стоят и с ними бьютца» [57]. Следовательно, причастность таубиев к доставке образцов руды без особых натяжек можно счесть достоверным фактом. Какую-то роль в этом, конечно, могли сыграть и родственные связи с Черкасским и Битемрюковым, а также российская (по крайней мере, формально) ориентация Алегука Шеганукова, во владениях которого горцы пользовались сезонными пастбищами. Тем не менее, сводить обусловленность такой позиции лишь к воздействию извне было бы ошибочно; в случае необходимости она могла быть и иной. Не случайно новокрещенные черкасы Семенов и Агапитов (прекрасно знакомые с ситуацией) предпочли на этот счет весьма осторожную формулировку: позволят ли балкарские владельцы «в том месте руды искать или нет, того они не ведают» [58]. Спустя 22 года после рассмотренных выше событий князья Верхней Балкарии «с честью» принимали у себя русское посольство во главе и Иевлевым и Толочановым, а еще через четыре года – другое, возглавляемое Жидовиным и Порошиным. Оба посольства были направлены царем в Грузию, и их маршруты проходили через Балкарию, по Суканскому и Черекскому ущельям. Балкарцы оказали им всемерное содействие в переходе через труднодоступные горные перевалы и в транспортировке многочисленной клади. Активному содействию миссии посольств способствовала лояльность горцев не только к России, но и к Грузии. Комментируя сообщение Иевлева и Толочанова о крепости (каменном «городке») в верховьях Риони, О. Л. Опрышко полагает, что «городок» был предоставлен в распоряжение таубия Алибека имеретинским царем Александром [59]. Другой феодал – Жамбулат Айдебулов – был крещен самим Александром в присутствии русских послов [60]. В свою очередь правителям Грузии также приходилось бывать в Балкарии. В 1656 г. кахетинский царь Теймураз обратился к российским властям с просьбой встретить его с войском «в Малкари» [61], а до этого он же извещал Иевлева и Толочанова, что встретит их у уже известного нам Алибека [62]. Оба посольства представляют интерес также и в контексте последовавшего за ними несколько загадочного эпизода. В 1657 году вместе с царем Кахетии Теймуразом и сопровождавшими его горцами – представителями Чечни, Тушетии, Хевсуретии, Пшаветии – в Москву прибыл Артутай Айдебулов. То, что участие Артутая в этой поездке, как и цель самого вояжа, было заблаговременно согласовано с главами указанных посольств, пожалуй, не подлежит сомнению. Но в чем состояла эта цель и каковы результаты поездки – с достаточной степенью достоверности это не удалось выяснить и по сей день. В. Б. Виноградов отмечает, что в Грановитой палате Артутай был принят царем Алексеем Михайловичем, что в Москве он провел около года, что перед отъездом на родину он был щедро одарен соболями [63]. Некоторые историки склонны счесть это выражением признательности за содействие Артутая российским послам на Кавказе [64]. Но, очевидно, не было особой необходимости ехать за вознаграждением в Москву. Достоверно известно, что первое из двух упомянутых посольств сумело отблагодарить балкарских феодалов непосредственно на месте; не понадобилась поездка в Москву и братьям Крымшамхаловым, активно содействовавшим российскому посольству 1639 года. Заслуживает внимания некоторая необычность самого вояжа. Ведь в случае, если бы Артутай был приглашен в столицу за вознаграждением, ему куда проще было бы отправиться туда в сопровождении одного-двух провожатых из Терского городка. А между тем он предпочел присоединиться к кортежу Теймураза, весь состав которого преследовал одну и ту же цель: поиски политического покровительства. Такой выбор представляется не случайным, хотя уверенные выводы на этот счет пока едва ли возможны. Но если такая постановка вопроса вообще допустима, приходится признать, что по какой-то причине покровительство оказалось невозможным, что подтверждается и осетинским «вариантом» рассматриваемой ситуации: за несколько лет до поездки Артутая дигорцы просили Толочанова известить государя об их желании присоединиться к России [65]. Но никакого присоединения не состоялось. Просьба была оставлена без последствий, хотя задолго до этого сама же Россия проявила интерес к рудным залежам Дигории и Балкарии. Разумеется, все, что изложено здесь по рассматриваемому вопросу, не выходит за рамки гипотезы. Но коль скоро она предполагает тенденцию к российской ориентации горских обществ в середине XVII в., то закономерен и вопрос о развитии этой тенденции в последующем. Некоторое представление о предмете дает, как мне кажется, эпизод, связанный с пребыванием в Балкарии имеретинского царя Арчила. В 90-х годах XVII столетия, потеряв престол и теснимый превосходящими силами турок и персов, он решил перебраться на Северный Кавказ, а оттуда в Россию. Ситуация не благоприятствовала ему и на Северном Кавказе. Здесь за ним неустанно охотились отряды шамхала Тарковского, антирусски настроенных феодалов Кабарды и крымского хана. В ноябре 1693 года царь был пленен владельцем Малой Кабарды Кильчуком Килимбетовым, который был в сговоре с шамхалом. Оба намеревались выдать Арчила иранскому шаху в расчете на щедрое вознаграждение. Но вначале Кильчуко переправил пленника в Верхнюю Балкарию, с тем, чтобы при первой же возможности забрать его оттуда и доставить в Иран. Такая возможность не представилась. Князь Абаев, у которого содержался Арчил, не только отпустил царя вместе со свитой в Грузию, но и снабдил его охраной в тысячу человек, которая благополучно довела его до границы [66]. Заметим: узнав о пленении Арчила, астраханский воевода П. И. Хованский призвал на его защиту всех тех горцев, которые признавали власть московского государя. Следовательно, поддержка, оказанная балкарцами Арчилу, по всей вероятности, отражала нечто большее, чем простое гостеприимство. Их лояльность по отношению к России и её союзникам проявилась совершенно недвусмысленно, и это обстоятельство можно счесть превалирующей тенденцией не только XVII-го, но и XVIII – начала XIX столетий. В XVII веке, как и прежде, горские племена Центрального Кавказа принимали активное участие в оборонительных войнах адыгов против общих врагов. Один из примеров такой консолидации приведен Ш. Б. Ногмовым в его комментариях к исторической песне «Каракашкатау», повествующей о нашествии на Кабарду тургутов и татар. «Кабардинцы были в опасном и ужасном положении, имея мало надежды на спасение, - писал Ш. Б. Ногмов, - но через день неожиданно подоспела к ним помощь, состоявшая слишком из 2000 людей, собранных из разных горских племен. Подкрепленные свежими войсками, кабардинцы начали действовать наступательно; они бросились с таким остервенением на врагов, что заставили их отступить и преследовали до переправы через Малку... » [67]. Сражение произошло где-то в конце XVII века [68], а, судя по месту генерального сражения (Кашхатау), союзниками Кабарды могли быть прежде всего балкарцы и дигорцы. Несколько лучше документировано другое сообщение, относящееся к самому началу XVIII столетия (1708 г. ) и повествующее о разгроме кабардинцами вместе с «другими горскими народами» полчищ Каплан-Гирея у горы Кинжал [69]. Упоминание «других горских народов» заслуживает тем большего доверия, что беспрецедентное по своей мощи нашествие крымцев потребовало от Кабарды предельной мобилизации всего ее военнополитического потенциала, а об участии горцев в военных акциях Кабарды некоторые авторы той поры писали как о явлении обычном [70]. Весной 1748 года Арслан-Гирей собрал на берегах Кубани многочисленную рать из татар и турок, готовясь вторгнуться с ними в Кабарду. Княживший тогда Магомет Кургокин сумел сплотить для отпора врагу кабардинцев и балкарцев, дигорцев, карачаевцев и абазин [71]. Но вообще отношения сторон, конечно, не сводились лишь к консолидации перед лицом общей опасности, и в целом роль «кабардинского фактора» в истории горной зоны не всегда была столь однозначна. Здесь очень важно не путать два диаметрально противоположных аспекта этой проблемы: отношения горских народов с кабардинским народом, и их же отношение к феодальной элите Кабарды. В обращении к первому из этих аспектов нет особой необходимости, ибо в данном случае речь может идти о простом соседстве – порой, быть может, и далеком от идиллии, но все же и без того антагонизма, который приписывали ему некоторые авторы XIX века. Иное дело – ассоциации, связанные со вторым аспектом проблемы. Ясно, что искать чтото позитивное в отношениях феодала с простыми горцами было бы наивно. Двойственным, противоречивым могло быть лишь отношение к нему местной, горской аристократии. Скажем, для отдельных балкарских таубиев или осетинских алдаров кабардинский князь был порой не только сюзереном, но и гарантом незыблемости их классового господства над «своими» общинниками; первое тяготило, второе же отвечало их коренным интересам. Чаша весов колебалась в соответствии с давлением извне и темпами стабилизации социальной структуры обществ. К концу XVIII столетия нарастающая агрессивность соседей предопределила политический выбор горских феодалов и возобладание в горах наметившихся ранее пророссийских настроений. Начало гегемонии кабардинской знати в регионе принято относить к XV веку, но из-за отсутствия конкретных данных эту версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Сами кабардинские князья склонны были считать, что это могло произойти во времена Ивана Грозного [72]. В первом своде адатов, составленном Я. Шордановым на основе материалов XVI – первой четверти XIX в. [73], приводится перечень племен и народов, вовлеченных в орбиту политического влияния Кабарды: часть чеченцев (карабулаки), ингуши, осетины, балкаро-карачаевцы, абазины [74]. Наиболее сильные из обществ вынуждены были пойти на сближение, главным образом, по экономической необходимости: раз в год они выдавали по одному барану с каждого двора тому из кабардинских князей, на землях которых находились используемые ими сезонные пастбища. Такие общества были относительно независимы, но эту независимость приходилось отстаивать из века в век, зачастую с переменным успехом. Но такой возможностью располагали не все, в ряде районов были общества с мизерным населением, недостаточным для гарантии безопасности в ту суровую эпоху. Их отношения с кабардинскими феодалами регулировались договором, который, конечно, трудно назвать равноправным, но который все-таки был взаимообязывающим: сверх обычной «дани» они облагались дополнительной податью, а князь присылал к ним своего представителя «для охранения их как от своих князей, так и от прочих народов» [75]. В прошении группы хуламцев на имя Начальника центра Кавказской линии кн. Эристова от 25 мая 1858г., говорится: «... во время же самовольственной жизни кабардинских князей стали иго свое распространять и на нас, тогда мы не найдя по малому количеству народонаселения других защит как прибегнуть под покровительство одного князя, просили князей Касаевых быть нашим защитником, которые прислали к нам из своих узденей Жараштиевых, которые берегя нас от всех хищников кабардинских, и за сей труд платили мы им по одной овце из двора,... » [76]. Наряду с тем, конечно, имели место и случаи вооруженного вторжения в то или иное из горских обществ. Как правило, они вызывали ожесточенное сопротивление. В одном из документов говорится: «Кабардинцы утверждают, что чегемцы были народ сильный. <... > А черкесы... долго вели с ними войну, и в помощь кабардинцам пришел со своими войсками Шамхал Тарковский, властитель дагестанский. <... > В оную войну было побито много кабардинских узденей... » [77]. Не будет преувеличением считать, что степень воздействия «кабардинского фактора» варьировала не только в пространстве, но и во времени. При всей претенциозности информации (получаемой, как правило, только от одной из сторон), источники не могут скрыть ни фактов «отлогательства» соседей, ни потребности посторонней помощи в восстановлении статус-кво. В 1563 г. с помощью воеводы Плещеева Темрюк не только разоряет владения Пшеапшоко Кайтукина, но и переподчиняет себе его данников-горцев (сванов) [78]; в 1604 г. Айтек-Мурза просит Терского воеводу о содействии в покорении «отложившихся» тагаурцев [79]; в 1720 г. Асланбек Кайтукин сообщает Петру I о том, что «татары кабардинские (балкарцы; В. Б. )... от нас отложились» [80]; несколько позже крымский хан обещает кабардинским феодалам свою помощь в восстановлении их политического влияния в Осетии [81], а уже в самом начале XIX века царское правительство обещает вернуть в их подданство абазин – при условии, если эти феодалы проявят «верность и усердие свое к России» [82]. Столь трогательная забота правителей Крыма и России о Кабарде, конечно, не случайна, ибо сами кабардинские феодалы являлись их вассалами. Кабардинские князья, - писал в 1811 г. генерал Дельпоццо – «ищут власти владеть всеми горскими народами... неправильно, потому что сия часть покорности оных им относится к силе и действию войска в тогдашнее время и покровительства им (кабардинским феодалам; В. Б. ) от Всероссийских Государей; народы же сии суть Осетинцы, Балкарцы, Карачаевцы, Абазинцы, Ингушевцы и Карабулаки есть люди вольные, и хотя они с некоторых времен и платили им подати, но сие единственно последовало от вышеописанного предмета силы оружия Российского и покровительства им, Кабардинцам, данного,... » [83]. В приведенной констатации есть изрядная доля правды, а для полноты картины следует лишь добавить, что то же самое о своей роли в кабардино-горских отношениях могли бы сказать крымские ханы и шамхалы Тарковские. Разумеется, случаи противостояния, отказа от выплаты дани и вооруженных конфликтов на этой почве были куда чаще, чем это отражено в источниках. Нельзя согласиться с мнением историков, считавших, что они характерны для периода, когда балкарцы уже присягнули на верность России [84]. В прошлом таких случаев было ничуть не меньше, и лучшее тому доказательство – официальные показания самих же кабардинских феодалов, относящиеся к первой половине XVIII века. В ноябре 1743 г. в Коллегии иностранных дел России от Магомета Атажукина и Альдигирея Гиляксанова были получены сведения о различных горских народах – в том числе и о пяти балкарских «волостях» (обществах), из которых только «некоторые... дают малую подать вышеописанному Магомету Кургокину и Арасланбеку Кайтукину для того, что оные, приезжая в Кабарду, покупают соль, также хлеба и рыбы по нескольку, а особливо в кабардинских угодьях, чрез несколько месяцев скот свой пасут, а когда у них в горах хлеб и трава родится довольная, и тогда оные соль покупают из Грузии и в горах, отъезжая в дальние места, достают воды и из оной варят и скоты свои из гор не выгоняют, и сами в Кабарду уже не ездят, и кабардинцев к себе не пускают, за что с ними бывают ссоры и драки» [85]. Источники часто оговаривают особое положение Малкара в отношениях балкарских обществ с феодалами Кабарды. Относительно многочисленное (по балкарским меркам) население, его сплоченность и умелая организация самозащиты заметно снижали уровень воздействия здесь внешнего фактора. Это общество – единственное из всех, относительно статуса которого источники дают противоречивые сведения. Родственные связи таубиев с Черкасским и Битемрюковым противоречат версии равнозначности их положения с положением тлокотлешей, а согласно Гюльденштедту, «Семейство Басиат в округе почитается княжеским, каковым признается оно и черкесами» [86]. То же самое следует из несколько громоздкой формулировки другого автора: «... не унижаемые в степени против кумыкских и кабардинских владельцев и всегда с ними в брачные союзы вступали как беки, подобно владельцам балкарского племени фамилии Басиатов» [87]. Насколько достоверна подобная информация в данном случае не столь уж и важно. Важно то, что подобного рода «ошибок» - если это ошибка – мы не встречаем в описании других «обществ» горного Кавказа. Далее. В указанном выше своде кабардинских адатов все горские племена и общества от чеченцев-карабулаков до абазин числятся как данники кабардинских князей. Единственное исключение составляет население Малкара: «С балкарцев никакой дани не получают, но только в случае кражи у кабардинцев лошадей платят штраф и наказываются за все проступки, наравне по правилам кабардинским» [88]. Хотя в своде обобщены записи правовых норм XVI-XVIII вв., приведенные сведения о Малкаре подразумевают какой-то более короткий промежуток времени. Какой именно, трудно сказать. Первые сведения о «ясачных людях» относятся к 1628-1629 годам, но после этого сколь-нибудь достоверная информация подобного рода не встречается вплоть до 1753 года. За десять лет до этого Атажукин и Гиляксанов сообщали, что малую подать Кабарде платят лишь некоторые из балкарских «волостей», и полагать, будто в число этих «некоторых» входила сильнейшая «волость» Малкар было бы абсурдом. Напротив, Вахушти Багратиони, побывавший в Малкаре в начале 20-х г. г. XVIII в., отметил не зависимость таубиев, а их «влиятельность» по сравнению со знатью других горских племен [89]. Как бы то ни было, но, в конечном счете, сугубо номинальный характер зависимости Малкара представляется совершенно бесспорным. Столь же закономерно и наличие вызванных этим обстоятельством двух противоположных тенденций: стремление других балкарских обществ свести свое фактическое положение до уровня Малкара, и напротив – попытки кабардинских феодалов покорить Малкар полностью и безоговорочно. Столкновение на этой почве было неизбежно, и, в конце концов, оно произошло. Поход на Малкар был задуман Асланбеком Кайтукиным – одним из лидеров Большой Кабарды, колоритной личностью, оставившей заметный след в фольклоре не только кабардинцев, но и осетин, балкарцев, карачаевцев. О столкновении Кайтукина с горцами нам известно, главным образом, по устной традиции дигорцев и балкарцев. Из балкарских вариантов предания наиболее обстоятельна версия Мисоста Абаева – прямого потомка Сосрана Абаева, под чьим руководством малкарцы противостояли Кайтукину. В самых общих чертах суть повествования сводится к тому, что задумав покончить с независимостью горцев, Кайтукин предпринимает поход на Малкар, полагая, что «если покорить его, то остальные сами сдадутся». В перспективности такого мероприятия его убедил верхнебалкарский феодал Айдебулов, оспаривавший у тогдашнего олия Сосрана Абаева должность верховного князя, и надеявшийся достичь своей цели с помощью Кайтукина. Вопреки расчетам, поход оказался неудачным. Убедившись в высокой боеспособности малкарцев и их твердой решимости отстаивать свободу, Кайтукин вынужден был вступить в переговоры. Стороны пришли к компромиссу: Кайтукин отказывается от притязаний на Малкар и даже предоставляет ему право безвозмездного пользования сезонными пастбищами «до берегов реки Терек»; Абаев же будто бы оплатил эту уступку согласием не препятствовать Кайтукину в его набегах на Холам и Безенги [90]. Интерпретация предания предполагает обращение к двум основным вопросам: об исторической достоверности описываемого события и его дате. Достоверность самого события можно констатировать с полной уверенностью хотя бы потому, что столь популярное в народе предание никак не могло возникнуть «на пустом месте». Но главное все же не это. Важнее то, что о каком-то конфликте с горцами упоминается и в письмах самого Кайтукина. И хотя в интересующей нас части вся информация сводится буквально к одной-двум фразам, она существенно дополняет приведенные выше сведения устной традиции (поскольку, как я полагаю, в обоих источниках речь идет об одном и том же конфликте). Рассмотрим этот момент несколько подробнее. Летом 1720 года в Кабарду вторгся Саадат-Гирей с огромным войском, состоявшим не только из татар, но также из темиргоевцев, бесленеевцев, казаков-некрасовцев и др. Вторжение состоялось по просьбе одного из кабардинских князей, хотя хан руководствовался и собственными планами: получить компенсацию за погибших в Кинжальской битве татар и переселить кабардинцев на Кубань. В Кабарде к хану примкнула группа местных феодалов. Другая же во главе с Асланбеком Кайтукиным укрылась в «городке Черек» где-то неподалеку от Малкара («меж гор») и находилась там в осаде около трех лет. На протяжении всего этого времени городок подвергался нападениям не только татар (часть которых вскоре покинула Кабарду), но и местных противников князя. В данном случае привлекает внимание то, что в числе противников оказались и балкарцы, которые до этого, как правило, вместе с кабардинцами воевали против татар. В августе 1720 г. Кайтукин в письме Петру I упоминает «татар кабардинских, которые от нас отложились, с ним (Саадат-Гиреем; В. Б. ) заодно держат» [91]. Ю. Н. Асанов полагает, что под кабардинскими татарами имеются в виду карачаевцы, хотя не исключает, что это наименование могло относиться и к балкарцам [92]. Последнее явно предпочтительнее; едва ли князя могло обеспокоить «отложение» одних лишь карачаевцев, не составлявших тогда и половину населения Балкарии, и обитавших, к тому же, далеко на западе, в верховьях Кубани. Правомернее видеть в «татарах кабардинских» население всей сопредельной с Большой Кабардой высокогорной зоны от Баксана до Черека Балкарского. Все это население выступило «заодно» с Саадат-Гиреем. Но под «отложившимися» автор письма мог подразумевать не всех, а лишь общества с самым малочисленным населением, которым для этого понадобилась благоприятная политическая ситуация. Что касается малкарцев, то они в такой ситуации вроде бы не нуждались. Это явствует не только из цитируемого выше свода кабардинских адатов, но еще из содержания песни, повествующей о походе Кайтукина на дигорцев, - походе, имевшем место незадолго до нашествия Саадат-Гирея [93]. В различных вариантах этой песни в качестве данников Кайтукина названы холамцы, безенгиевцы, чегемцы; малкарцы же в этом контексте не упоминаются вообще [94]. В конечном счете, изложенное можно суммировать в том смысле, что вторжение крымцев в 1720 г. послужило для указанных обществ как бы сигналом для того, чтобы прервать даннические отношения. Но это не все. Быть заодно с Саадат-Гиреем означало еще и войну с Кайтукиным. В мае 1722 г. Кайтукин пишет Петру I: «Однако же татарские народы нас зело теснят и обижают, отчего в конечное разорение пришли,... » [95]. В данном случае термин «татарские» употребляется уже в более широком смысле «нерусские». Но то, что в числе прочих под таковыми здесь подразумеваются также и балкарцы (возможно, вместе с дигорцами), явствует из того, что кабардинские и крымские враги Кайтукина упоминаются в этом же письме отдельно от «татарских народов»: «Еще ж наипачи Куропгоков сын Мухамед и Ниятшаг денно и ночно беспокойно с крымскими татарами на нас нападают... » [96]. Впрочем, через некоторое время Кайтукин сам становится сторонником крымской ориентации. Как видим, конфликт между Кайтукиным и балкарскими обществами действительно имел место, и это произошло в самом начале 20-х годов XVIII века. В этом устная традиция вполне достоверна. Но специфика подобного рода источников в том, что со временем они начинают испытывать довольно ощутимое влияние фольклорных жанров, что отражается как на расстановке акцентов, так и на характере информации в целом. Например, в предании ничего не сказано ни о крымцах, ни о противниках Кайтукина в самой Кабарде, зато есть такие заведомо фольклорные «штампы», как испытание горцами храбрости князя или же случайно подслушанный разговор, определивший его дальнейшие действия. В основе сюжета – только противостояние Малкара с Кайтукиным, ибо самым существенным для аудитории балкарских сказителей было именно это. Согласно изложенной М. Абаевым версии, малкарцам удалось отклонить притязания князя, и это явилось главным итогом конфликта. По прошествии двух десятилетий источники действительно фиксируют статус-кво: данниками Кайтукина и Кургокина названы лишь «некоторые» из обществ – надо полагать, самые слабые, в число которых никак не могло входить Малкарское общество. Не исключено, что этим слабым обществам удалось облегчить свое положение хотя бы отчасти, поскольку в показаниях Атажукина и Гиляхсанова речь идет о «малой подати». Однако, приблизительно с середины XVIII столетия отношения племен горной зоны (не только балкарцев) с кабардинской знатью ухудшаются вновь, и теперь уже надолго. Отныне все последующие десятилетия вплоть до первой четверти XIX века представляют один из самых драматичных периодов в истории Центрального Кавказа, когда кардинальное решение накопившихся противоречий этнополитического, социального и экономического характера стало исторической необходимостью, а неизбежность перемен, осознанная заинтересованными сторонами, придала этим противоречиям невиданную доселе остроту. Здесь нет необходимости в обращении ко всем аспектам этой темы, выделим лишь несколько моментов. В свое время на примере осетин Б. Скитский отметил, что в рассматриваемое время кабардинские князья «стали более требовательными к зависимым от них народам», стали «брать налоги неположенные», увеличивать нормы повинностей» [97]. Одновременно участились случаи феодального разбоя – набеги, грабеж, пленение людей, угон скота и т. д. Причину всех этих явлений автор видел в «новых экономических условиях», конкретнее – в развитии торговли. Последнее, быть может, действительно в отношении «требовательности» соседей. Но что касается случаев открытого разбоя, то, насколько позволяют проследить источники, они ставили своей целью пресечь попытки горцев к сближению с Россией в поисках политического покровительства. Далее. Указанная политическая ориентация горцев также была обусловлена преимущественно экономическим фактором. Ведь за истекшие к тому времени 2-3 столетия население высокогорной зоны заметно возросло, соответственно возросло и число скотоводческих хозяйств, а следовательно и потребность в сенокосных и пастбищных угодьях. Объективно все это способствовало «актуализации потенциального стремления горцев к колонизации плоскости, огромного земельного фонда, на безраздельное владение которым претендовала черкесская по преимуществу аристократия» [98]. Третье, что представляется немаловажным в интересующем нас плане – это то, что всякого рода недоразумения и конфликты, неизбежные в охарактеризованной выше ситуации, никогда не перерастали в противостояние на межэтническом уровне. Недовольство горных племен вызывал не кабардинский народ, а ненасытная в своих претензиях наиболее реакционная часть кабардинской знати. В отношениях с соседями она всегда предпочитала тактику силового давления, и определенный предел этой агрессивности положила лишь начавшаяся Кавказская война: приходилось помнить, что горная зона – тыл Кабарды, значение которого резко возрастало в период военных действий. Показателен в этом отношении инцидент 1787 года, когда часть балкарских таубиев изъявила желание принять российское подданство. Недовольная этим группа кабардинских феодалов отогнала у них скот, перекрыла доступ на равнину, и, как следует из контекста, произвольно увеличила размер дани. Тогда, усыпив их бдительность ложным перемирием, горцы совершили ответный набег, а затем перекрыли все доступы на свою территорию. Результат сказался незамедлительно: «и принуждены были сами кабардинцы просить у балкарцев вторичного миру», ибо – поясняет автор документа – до этого случая кабардинцы «всегда находили у них (у балкарцев; В. Б. ) свое убежище и укрывательство имений» [99]. Стороны пришли к соглашению о соблюдении прежних – более приемлемых для горцев – норм «дани». Последний из наиболее важных для нас моментов – это вопрос о позиции России в горскокабардинских отношениях. Если исходить из таких «опорных» фактов, как безоговорочное признание Россией сюзеренитета Кабарды в XVI-XVII веках, официальное подтверждение этого же «права» царской грамотой 1771 г., и отмена даннических отношений А. П. Ермоловым только в 1822 году, то может создаться впечатление, будто эта позиция оставалась неизменной на протяжении всего «дороссийского» этапа истории горцев. В действительности же дело обстояло несколько иначе. И главное, что важно выделить в контексте нашей темы – это то, что как раз в рассматриваемое нами время в политических планах России на Центральном Кавказе все более заметное место начинает занимать горная зона края, сопредельная с Кабардой. Традиционная тактика опоры на отдельных, наиболее влиятельных представителей местной знати как средство укрепления российского присутствия в регионе пока не исчерпала себя. Но теперь уже такую опору Россия видела не только в кабардинских феодалах; правительство стало поощрять прорусскую ориентацию и других лидеров – например, представителей Чечни, Ингушетии, Осетии. На то имелось несколько причин, из которых можно выделить две. Во-первых, в связи с заключением в 1739 г. так называемого Белградского трактата России на какое-то время пришлось сменить районы и формы политической активности в регионе. По условиям трактата Кабарда являлась отныне нейтральной («барьерной») зоной между Россией и Турцией, стороны обязывались воздерживаться от распространения здесь своего политического влияния. В создавшейся ситуации России стало выгодно акцентировать иноэтничность горских народов, их отличие от собственно кабардинцев. Во-вторых, в связи с развитием российской промышленности все большую актуальность приобретал вопрос о сырьевых ресурсах. Не последнее место в перспективах решения этого вопроса отводилась кавказским месторождениям, но в условиях нараставшего кабардино-горского противостояния правительство сочло нецелесообразным рассчитывать на посредничество Кабарды. Показательна в этом отношении докладная записка астраханского губернатора П. Кречетникова, настоятельно рекомендовавшего Екатерине Второй «обуздать» Кабарду, и проявить в отношениях с горцами «ласковое обхождение». Обратим внимание на мотивировку такой тактики: «От Большой Кабарды сильного и варварского притеснения сии народы (т. е. горцы; В. Б. )... принуждены себе сыскивать защищения... кое и надобно им подать... », а в результате «преобрящете на вечные времена все горы с их сокровищами» [100] (выделено мной; В. Б. ). Любопытно, однако, что задолго до этого, еще при жизни Петра I, по его распоряжению в Петербург были доставлены образцы свинцовой и серебряной руды из сопредельных с Кабардой горных районов. Политическая обстановка тех лет (нашествие Саадат-Гирея, междоусобицы в Кабарде и пр. ) помешали продолжению изысканий, но вопрос о месторождениях поднимался и впоследствии. Причем в этой связи упоминаются и хозяева рудных залежей – «горские люди по сю сторону Сванетии» [101]. Под таковыми вне всякого сомнения подразумеваются балкарцы: осетины никогда не проживали «по сю сторону Сванетии», а в обозначении кабардинцев столь громоздким и витиеватым наименованием не было никакой необходимости – их название было в России хорошо известно. В данном случае некоторая неопределенность такого наименования связана с тем, что ни грузинское «басиани», ни русское «балкарцы» в тот период еще не подразумевали весь балкарский этнос. Сведения о «горских людях» были получены от грузинского царя Вахтанга VI в 1725 году. Царь находился тогда в Петербурге, и на вопрос об отношении балкарцев к планам разработки рудных месторождений на их территории отвечал, что в целом они вполне лояльны к России: «А оне в горских местах, где нам будет потребно, городы дадут построить. А в них серебреные руды есть, и то может человек в дело производить. А которые горские люди жалованные будут, их можно в службу употребить» [102]. Но «в службу употребить» не удавалось ни тогда, ни в последующем. Наметив курс на сближение с горской знатью, правительство делало это крайне медленно и осторожно, стараясь избегать резких движений. Оно пока еще вынуждено было считаться с мнением кабардинских феодалов, относившихся к любым проявлениям этого курса крайне враждебно. В рескрипте Екатерины II генерал-поручику Медему от 30 апреля 1773 года подчеркивается: «Заслуживают призрение (покровительства; В. Б. ) и ингушевцы такожде,... но пособствование им,... в соответствии оставаться долженствует с предосторожностями, чтоб сильнейшие пред ними околичные народы раздражены не были, а особливо кабардинский,... » [103]. Правда, те же ингуши, карабулаки или осетины все-таки располагали возможностью хотя бы спорадических контактов с русскими, а потому и процесс политического сближения сторон наметился в этой части региона относительно рано. Дело еще и в том, что указанные народы соседствовали с Малой Кабардой, где среди феодалов было немало сторонников российской ориентации, не только не препятствовавших, но порой даже содействовавших становлению горско-российских связей. Труднее пришлось балкарцам и карачаевцам. Находясь вдали от опорных пунктов российского присутствия, плотно блокированные в отдаленных уголках труднодоступной высокогорной зоны, они еще долгое время оставались вне пределов досягаемости российского влияния. К тому же, из всех сопредельных с Кабардой народов они были самые малочисленные. А потому, лишенные той поддержки, которую Россия оказывала ингушам и осетинам, они были не в состоянии противостоять нажиму более сильных соседей. Тем временем мощь российского присутствия в регионе продолжала возрастать стремительными темпами, а Крымско-Турецкий блок оказался не в состоянии противопоставить этому ничего адекватного. Данникам Кабарды это было наруку. В 1762 г. в российское подданство перешли карабулаки, в 1770-1774 гг. – ингуши и большая часть осетин. Оставались еще дигорцы и балкарцы, карачаевцы и абазины, но время уже «работало» на них. В 1774 г. был заключен Кючюк-Кайнарджийский мирный договор, по условиям которого Турция отказалась от притязаний на Кабарду. Теперь уже в «кавказской политике» России ставка делается не столько на дипломатию, сколько на силу. Если в 1771 г. правительство официально санкционировало даннические отношения, то всего через 12 лет, в 1783 г. князь Потемкин заявил кабардинской знати столь же официально, что они могут требовать дань только с тех народов, которые еще не присягнули на верность России. Заявление интересно и в другом отношении. Если, например, в XVII столетии российские государи требовали у кабардинских князей присяги вместе с их вассалами всех рангов [104], то теперь последние должны были перейти в российское подданство самостоятельно, уже не как объект, а как субъект международного права. Правда, контроль за соблюдением предписания относительно дани был невозможен впредь до фактического присоединения Кабарды к России. Но, тем не менее, значение указанного заявления очевидно: оно подтолкнуло горцев к более решительным действиям. Одно из первых обращений балкарцев к представителям царской администрации на Кавказе с просьбой о включении в состав России относится к 1781 г., когда, по словам офицера Л. Л. Штедера, дигорцы «и с ними балкарцы просили милости – быть под русской защитой и объявили себя как верноподданные» [105]. Обращение оказалось безрезультатным, Штедер отделался обещаниями. Зато заявление Потемкина послужило как бы сигналом для «бега с препятствиями» - обращения с такими просьбами стали следовать одно за другим. Как и следовало ожидать, в своих попытках к сближению с Россией горцам пришлось столкнуться с яростным противодействием Кабарды. Были перекрыты все выходы из ущелий, но посланцам горских обществ еще неоднократно (1783, 1787, 1794 гг. ) удавалось прорываться через кабардинские заслоны и подавать повторные прошения. На картах 90-х годов XVIII в. Балкария уже обозначена в составе российских владений [106], но это еще не было фактическим присоединением «обществ». По мнению Л. И. Лаврова, о таком присоединении не могло быть речи до тех пор, пока не был бы решен вопрос о Кабарде – промежуточной между Балкарией и Россией территории [107]. В самой же Кабарде правящие круги пытались не только покончить с пророссийской ориентацией соседей, но и более того, втянуть их в войну с Россией – втянуть не мытьем, так катаньем. Так, в мае 1795 г. двое представителей от Малкарского общества через священника Е. Николаева сообщали военной администрации края, что «кабардинцы скочевали нашего уезда в крепкие места, где уже и хижины себе делают, а нас притесняют и говорят сообщитеся де с нами воевать с Россиею, либо искореним... » [108]. Малкарцы ответили отказом: «ныне подданны мы России» [109]. Это усугубило конфронтацию, набеги участились, а надежды горцев на заступничество русских все еще оставались несбыточными. Вопрос о союзе с горцами стал особенно актуален с начала XIX в., когда из-за эпидемии чумы и карательных экспедиций царских войск людские ресурсы Кабарды заметно убавились. Но именно последнее обстоятельство теперь уже исключало вовлечение горцев в войну посредством грубого нажима. В документе от 12 февраля 1910 г. говорится, что князья «теперь стараются со всеми своими неприятелями, народами осетинскими и балкарцами... во что бы то ни стало примириться и действовать совместно против России неприятельски» [110]. Правда, в целом из этой затеи ничего не вышло. В том виде, в каком этот план был задуман кабардинскими феодалами, он заведомо был обречен на провал. Дело в том, что они намеревались «действовать совместно» при сохранении прежних даннических отношений с соседями, психология баскака оказалась сильнее здравого смысла. Невероятно, но просьбами узаконить дань они донимали военную администрацию края даже тогда, когда российские войска сносили с лица земли десятки кабардинских аулов. Ввиду отмеченного обстоятельства участие осетин и балкаро-карачаевцев в антиколониальной борьбе кабардинского народа носило только эпизодический характер, и, в общем, не оказало сколько-нибудь существенного влияния на ход событий. Но какое-никакое, а все-таки участие имело место, причем, помимо все еще сохранявшейся экономической зависимости от Кабарды, на то имелись и другие – порой весьма любопытные – причины. Укажем здесь лишь на одну из них. Представителям военной администрации на Кавказе неоднократно приходилось сталкиваться со странной закономерностью: стоило только тому или иному из «обществ» заручиться поддержкой этой администрации (хотя бы только предварительным соглашением), как влияние местной знати среди своих подданных начинало стремительно падать. Крестьяне переставали повиноваться, уклонялись от выплаты подати и т. д. Дело в том, - поясняет современник, - что со времен средневековья горцы привыкли видеть в князьях своих покровителей и защитников, а раз община теперь переходит под защиту могущественной Российской империи, то, естественно, отпадает необходимость и в... собственных феодалах. Далее следуют примеры: «... в недавнее время осетины подняли вопрос подчиненности против своих ельдаров, дигорцы – против своих бадилатов, ногайцы – против своих мурз и султанов» [111]. Не готовые к такому обороту дела, некоторые представители знати видели выход в возврате к статус-кво и не прочь были «забыть» о своей присяге России. В рассматриваемом здесь контексте для нас интереснее всего пример дигорцев, интереснее по той причине, что какое-то участие в этих событиях приняли и балкарцы. Оговорим сразу, что приведенная К. Ф. Сталем причина дигорского восстания 1781 г. была отнюдь не единственной. Дело еще и в том, что упоминавшиеся уже повышенные требования, которые кабардинские князья стали предъявлять к данникам, вызвали как бы цепную реакцию; вслед за князьями стали повышать размеры податей и горские феодалы [112]. И главным требованием восставших был возврат к прежним нормам, хотя наряду с тем раздавались и призывы к «полному уничтожению баделят» [113]. На помощь крестьянам пришли тогда не только ополченцы из других районов Осетии, но также и из Балкарии. При посредничестве Л. Л. Штедера большая часть их требований была удовлетворена. Отряд балкарцев возглавлял некий Бекби, о котором нам, к сожалению, почти ничего не известно. Надо полагать, это была довольно-таки незаурядная личность, сыгравшая в указанных событиях не последнюю роль: по словам Т. А. Хамицаевой, в Дигории о нем даже была сложена песня [114]. Заслуживает внимания то обстоятельство, что Бекби «принес присягу вместе с дигорцами... и требует принесения формальной присяги в верноподданстве» России [115]. В описании этих событий Л. Л. Штедер счел необходимым отметить, что и сама присяга, и переход в христианство многих повстанцев являли собой шаг «чисто политический» [116], т. е. предпринимаемый в надежде на освобождение от феодальной зависимости (прецеденты имели место уже с начала 60-х годов, со времени основания Моздока). Эти попытки крестьян перехватить инициативу и принять российское подданство «через голову» собственной знати показательны во многих отношениях. Но здесь они интересны парадоксальностью ситуации, когда присяги таубиев, приносимые в надежде на лучшее будущее, едва не обернулись для них потерей какой-то части своих подданных. Тем не менее, говорить об обратимости избранного ими курса на сближение с Россией было бы ошибочно. Правильнее было бы констатировать, что, столкнувшись с непреодолимыми на тот момент затруднениями, горцы вынуждены были – в который уже раз – перейти к тактике выжидания. Точка в этой чрезмерно затянувшейся истории была поставлена железной рукой А. П. Ермолова. В 1822 г. возглавляемый им экспедиционный корпус прошел с боями через всю Кабарду, заложив здесь целый ряд опорных пунктов – в том числе и укрепления у выходов из ущелий. Отныне все контакты горцев с населением равнины должны были контролировать гарнизоны этих укреплений. А. П. Ермоловым был наложен строгий запрет на такие формы традиционных связей, как данничество, аталычество и пр., а горцы, выдав аманатов, обязались не пропускать на свою территорию кабардинских повстанцев. «Хотя все эти мероприятия еще не означали фактического присоединения Балкарии к России, - писал Л. И. Лавров, - но экспедиция 1822 г. все же имела решающее значение для судьбы Балкарии» [117]. Так был положен конец целой исторической эпохе в жизни горских народов Центрального Кавказа, эпохе экономической зависимости и вековой изоляции, эпохе вражеских набегов и феодального разбоя. Завершая связанный с ней экскурс, нелишне напомнить о моменте, немаловажном для понимания характера межэтнических отношений в контексте рассмотренного противостояния. В свое время Б. Скитский подверг резкой и вполне обоснованной критике распространенную в дореволюционной литературе вульгарно-упрощенную трактовку взаимоотношений гор и равнины как господство одного народа над другими. По мнению самого автора на уровне феодальных кругов суть этих отношений сводилась к взаимовыгодному классовому союзу кабардинской и горской знати для господства над массами [118]. В настоящее время такая альтернатива может показаться несколько искусственной, своего рода «подгонкой» под общепринятые в тогдашней науке идеологические установки. Однако еще в 1781г. Л. Л. Штедер, говоря о причинах ненависти дигорцев к кабардинским князьям, отметил со всей определенностью, что именно при поддержке этих князей бадилаты угнетали свой народ [119]. Между прочим, точно к такому же выводу приходят и авторы новейших исследований, свободных от какой бы то ни было идеологии [120]. Но здесь же нелишне вновь подчеркнуть и всю эфемерность такого союза. Агрессивность правителей Кабарды никак не способствовала его упрочению, в то время, как солидаризация горских феодалов со своими подданными в их противостоянии давлению извне становилась со временем куда более надежным средством социального самоутверждения. К концу 1826 – началу 1827 гг. положение А. П. Ермолова в должности наместника края стало критическим. Могли ли знать об этом горцы или нет, трудно сказать. Вопрос не праздный, если учесть, что последовавшая вскоре «добровольная» отставка А. П. Ермолова была следствием опалы, и, следовательно, не исключала возможности отмены царем некоторых из его мероприятий на Кавказе. Отношение же к такой перспективе на местах никак не могло быть однозначным. Как бы то ни было, в январе 1827 г. феодальная знать горцев – представители всех балкарских обществ, а также от населения равнинной и горной Дигории спешно прибыли в г. Ставрополь к генерал-лейтенанту Г. А. Емануелю, и принесли присягу на верность России. Акция ставила целью доведение до логического конца тех мероприятий А. П. Ермолова, которые относились к политическому статусу горских обществ, то есть фактическое включение их в состав России и санкционирование этой акции уже на государственном уровне. При этом Россия гарантировала сохранение традиционных обычаев и распорядков, а также сословных прерогатив знати и свободы вероисповедания; феодалы же обязались привести к присяге своих подданных, выдать заложников, а в случае необходимости поступать на военную службу [121]. Нельзя не отметить, что совокупность всех этих условий, по сути дела, сводилась к предоставлению горцам российского подданства с правами довольно-таки широкой автономии. Документы последующих десятилетий дают основание констатировать, что в целом эти права соблюдались правительством долго и неукоснительно. Административные нововведения как форма вовлечения «обществ» в сферу российской юрисдикции внедрялись постепенно, без грубого нажима и без ущерба для коренных интересов населения (В свое время М. Абаев, пожалуй, даже преувеличивал уровень этой автономии, заявляя, будто еще в 90-е годы XIX столетия представитель центральной власти «до смерти старых олиев почти не вмешивался во внутренние общественные порядки» [122]). Впрочем, катализатором наметившегося процесса послужили и встречные шаги самого населения, которое, начиная с 30-40 годов XIX в. все чаще стало прибегать к содействию военной и гражданской администрации края в решении своих частных и общественных проблем. В целом, при всей противоречивости происходивших в ней процессов, балкарская община XIX в. сумела довольно безболезненно «вписаться» в новые исторические условия [123], что следует объяснить не только «гибкостью» ее традиционной структуры [124], но, очевидно, и некоторой гибкостью краевой администрации. Конечно, в целом реалии тогдашней балкарской действительности вовсе не столь уж однозначны, чтобы их суммарная оценка была сопряжена с риском непроизвольной идеализации. Но, с другой стороны, едва ли больше оснований драматизировать и те из ее негативных моментов, которые традиционно принято было связывать со спецификой Российской империи как «тюрьмы народов». Имущественное неравенство, коррупция и злоупотребление властью, толика пренебрежения к «инородцам» со стороны чиновной знати, трения на почве национальных или социальных противоречий – эти и другие явления подобного рода не имеют границ ни в пространстве, ни во времени. В той или иной мере и в самых различных формах они характерны почти для любого общества, а для нынешней России – едва ли не в большей степени, чем для России дореволюционной. Поэтому, говоря о значимости произошедших в XIX столетии перемен, необходимо иметь в виду прежде всего то главное, чем это столетие отличается от всех предыдущих: обеспечение мира и элементарного правопорядка, ликвидация реликтов средневековья в этносоциальной сфере, практические мероприятия правительства по решению земельного вопроса, отмена крепостного права и развитие товарно-денежных отношений, ускорение процесса этнической консолидации разрозненных «обществ» и формирование предпосылок их европеизации. Думается, глобальность и значимость указанных перемен дает основания, хотя и с изрядной долей условности, рассматривать 1822 год как своего рода хронологический рубеж, отделяющий средневековую историю Балкарии от новой. Примечания к главе IV 1. Е. И. Нарожный. К проблеме соотношения центральнокавказских позднесредневековых («кабардинских») памятников с кругом «Белореченской археологической культуры». – сб. : Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе, ч. 2, Славянск-наКубани, 2001, стр. 6-7; В. Б. Виноградов, Е. И. Нарожный, Ф. Б. Нарожная. О локализации «области Кремух» и о Белореченских курганах. – сб. : Материалы и исследования по археологии Кубани, вып. 1, Краснодар, 2001, стр. 124 -137; Е. И. Нарожный. О «пятигорских черкасах», которые «совершают богослужение на славянском языке» (историко-археологическая версия). – сб. : XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа (тезисы докладов), Ессентуки-Кисловодск, 2002, стр. 96-99; С. Я. Березин. К изучению позднесредневековой археологии современных Кавминвод. – сб. : Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа, вып. 1, Армавир, 2003, стр. 188-193; и др. 2. В. М. Батчаев. Предкавказские половцы и вопросы тюркизации средневековой Балкарии. АВДИКБ, вып. 1, Нальчик, 1980, с. 79-95; его же. «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел? – сб. : Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа. Черкесск, 1988, с. 160-177; его же. Маджарцы (к проблеме золотоордынского этапа этнической истории Северного Кавказа). – сб. : Проблемы этнографии осетин, вып. 2, Владикавказ, 1992, с. 86-99; его же. Центральный Кавказ в XIII-XV вв. (некоторые аспекты этнической истории). – сб. : Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Т. М. Минаевой. Ставрополь, 1997, с. 60-63. 3. В. П. Алексеев. Этногенетические предания, лингвистические данные, антропологический материал. – сб. : Этническая история и фольклор. М., 1977,с. 30-31. 4. КРО, т. 1, М., 1957, с. 11. 5. Е. И. Нарожный. О находках дальневосточных и южносибирских предметов XIII века на Северном Кавказе. – сб. : Вопросы Северокавказской истории, вып. 5, Армавир, 2000, с. 18-19. 6. Е. И. Нарожный. Половцы или черные клобуки? (По поводу критических заметок И. Н. Анфимова и Ю. В. Зеленского). МИАСК, вып. 2,Армавир,2003, стр. 213. 7. Г. -Ю. Клапрот. Исследование о развалинах Маджарских на реке Куме. Ж-л «Московский телеграф», М., 1825, IX-X, с. 112. 8. Б. Х. Мусукаев. Топонимия высокогорной Балкарии. Нальчик, 1981, с. 13. 9. В. М. Батчаев. «Мы пришли из Маджар... », с. 172. 10. СМОИЗО, т. 2, М-Л., 1941, стр. 123. 11. Сводку данных см. : Е. Г. Битова. Социальная история Балкарии XIX в. Нальчик, 1997, стр. 25-32. 12. Объем и структура данного раздела исключают возможность обстоятельного экскурса. Могу лишь отметить, что изменения в источниковой базе темы, произошедшие за последние 15-20 лет, предполагают принципиально новый подход к разработке отдельных ее аспектов. 13. Полевые записи М. Ковалевского (см. «Приложение» в кн. Б. А. Калоева «М. М. Ковалевский и его исследования... », с. 172-175); В. Миллер, М. Ковалевский. В горских обществах Кабарды. ВЕ, т. 2, кн. 4, СПб, 1884, с. 562-568; КБФ, с. 110-115,268-271; 14. Полевые записи М. Ковалевского, с. 172. 15. В. Ф. Миллер. Терская область, с. 78-80; М. Абаев. Балкария. Исторический очерк. Нальчик,1992, с. 6-7; КБФ, с. 271-272. 16. В. Миллер, М. Ковалевский. В горских обществах Кабарды, с. 568-571. 17. История Северо-Осетинской АССР, т. 1, с. 144-145; Ф. Х. Гутнов. Генеалогические предания осетин как исторический источник. Орджоникидзе, 1989, с. 77-94. 18. Эта подробность известна преимущественно по Верхне-Балкарской версии предания. В Верхне-Чегемской версии она зафиксирована, насколько мне известно, только раз - в записи 1959 г. (Архив КБНИИ, фонд №13, оп. 1, папка №10, ед. хр. 19). Едва ли это обстоятельство можно объяснить одним взаимовлиянием двух различных преданий. Скорее всего, дело в том, что, стремясь обособить свою генеалогию от родословной Верхне-Балкарских князей и переориентировать ее на вымышленного абадзехского родоначальника, чегемские феодалы постепенно стали игнорировать черты наиболее очевидного сходства двух версий, а эпизод с ружьем случайно сохранился в «простонародных» вариантах Верхне-Чегемской версии. 19. В. Миллер, М. Ковалевский. Ук. соч., с. 568-571; В. Тепцов. По истокам Кубани и Терека. СМОМПК, XIV, отд. 1, Тифлис, 1892, с. 196-197; КБФ, с. 265; М. Абаев. Ук. соч., с. 6-7. 20. Информаторы Али-Мурза Балкароков,Мусса Барасбиев (КБФ, с. 110, 268). 21. КБФ, с. 271. 22. Х. Х. Малкондуев. Этническая культура балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 2001, стр. 119-120. 23. Р. Г. Дзаттиаты. К вопросу о социальном характере строительства башен. ИЮОНИИ, XXXII, Тбилиси, 1988, с. 56. 24. В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976, с. 28. 25. Информаторы В. Миллера: «хаджи Шаханов» и «эфенди Абаев» (В. Миллер. Ук. соч., с. 78-79). Кроме того, предание опубликовало и в очерке Мисоста Абаева «Балкария»,с. 67. 26. Ф. Х. Гутнов. Бадел генеалогических преданий осетин. - сб. : Проблемы исторической этнографии осетин. Орджоникидзе, 1988, с. 57-59; его же. Генеалогические предания..., с. 77-94; В. М. Батчаев. «Мы пришли из Маджар»: факт или вымысел? - сб. : Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа. Черкесск, 1988, с. 160-177. 27. В. Миллер, М. Ковалевский. Ук. соч., с. 568. 28. И. М. Чеченов. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969, с. 61. 29. О. В. Дмитриева. Генеалогия. - сб. :Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990, с. 9. 30. М. Абаев. Ук. соч., с. 7-8. 31. Р. М. Рамишвили. Основные проблемы изучения взаимосвязей между горными и равнинными регионами. ДНКППВМГРР, Тбилиси, 1984, с. 9; В. М. Батчаев. Из истории традиционной культуры..., с. 38-40; его же. «Мы пришли из Маджар»..., с. 173-176. 32. В. Х. Тменов. Несколько страниц из этнической истории осетин. - сб. : Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе, 1989, с. 118. 33. Там же. 34. Дюбуа де Монпере. Путешествие вокруг Кавказа, т. 1,Сухуми,1937, с. 22 35. С. Н. Малахов. К вопросу о локализации епархиального центра в Алании в XII-XVI вв. - сб. : Аланы, Западная Европа и Византия. Владикавказ, 1992, с. 162. 36. Л. И. Лавров. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX века. КЭС, IV, М., 1969, с. 113. 37. А. М. Некрасов. Международные отношения и народы Западного Кавказа. М., 1990, с. 93. 38. Там же. 39. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып. 2, м., 1979, с. 98-99, 111. 40. Там же, с. 93. 41. Там же, с. 100. 42. А. М. Некрасов. Ук. соч., с. 116. 43. Там же, с. 64-74. 44. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 90-91. 45. Х. Х. Малкондуев. О балкаро-карачаевском Тёре. – сб. : «Мир культуры», Нальчик, 1990, с. 62. 46. Я. З. Ахмадов. Очерки политической истории народов Северного Кавказа в XVI-XVIII вв. Грозный, 1988, с. 49. 47. В. П. Невская. Карачаевцы. – в кн. : Народы Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1957, с. 20; В. П. Алексеева, И. Х. Калмыков, В. П. Невская. Добровольное присоединение Черкесии к России. Черкесск, 1957, с. 15; Очерки истории балкарского народа. Нальчик, 1961, с. 37; Т. Х. Кумыков. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX веке. Нальчик, 1965, с. 38, 40-41. 48. КРО, т. 1, М., 1957, с. 125-126. 49. Там же, с. 126. 50. Там же, с. 125. 51. История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней, т. 1,М., 1968, с. 171. 52. КРО, т. 1, с. 111-127. 53. Там же, с. 122. 54. Ю. Н. Асанов. Родственные объединения адыгов, балкарцев, карачаевцев и осетин в прошлом. 55. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 88. 56. По мнению Ю. Н. Асанова, в документе имя этого князя воспроизведено не совсем точно: должно быть Абши Тазримов (или Тазритов). См. : Ю. Н. Асанов. Ук. соч., с. 137. 57. КРО, т. 1, с. 125. 58. Там же, с. 126. 59. О. Л. Опрышко. По тропам истории. Нальчик, 1990, с. 296. 60. Н. Т. Накашидзе. Грузино-русские политические отношения в первой половине XVII века. Тбилиси, 1968, с. 259. 61. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 89. 62. Посольства стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию в 1650-1652 гг. Тифлис, 1926, с. 33. 63. В. Б. Виноградов. Время, горы, люди. Грозный, 1981, с. 91. 64. О. Л. Опрышко. Ук. соч., с. 297. 65. История Северо-Осетинской АССР, т. 1, Орджоникидзе, 1987, стр. 153. 66. РГАДА, ф. 110, оп. 1, 1695 г., №2, л. 3-4; Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Тбилиси, 1976, стр. 264-265. 67. Ш. Б. Ногмов. История адыхейского народа. Нальчик, 1982, с. 92. 68. Сост. А. И. Алиева. Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX вв., кн. 2, Нальчик, 1988, с. 70, примечание 8. 69. КРО, т. 2, с. 153. 70. Там же, с. 281. 71. Е. Д. Налоева. Документальные данные о Казаноко Джабаги. – сб. : Жабаги Казаноко. Нальчик, 1987, с. 103. 72. Сост. Х. М. Думанов. Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая половина XVIII – первая половина XIX вв. Нальчик, 2000, с. 323. 73. Сост. Х. М. Думанов, Ф. Х. Думанова. Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев в XV-XIX вв. Майкоп, 1997, с. 12. 74. Там же, с. 53. 75. Х. М. Думанов, Ф. Х. Думанова. Ук. соч., стр. 74. 76. ЦГА КБР, ф. 31, оп-1, д-3. 77. РГВИА, ф. 482, д. 192, л. 135-143. 78. КРО, т. 1, М., 1957, с. 11. 79. Б. В. Скитский. Очерки истории горских народов. Орджоникидзе,1972, с. 299. 80. КРО, т. 2, с. 25. 81. Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. М., 1984, с. 26. 82. Х. М. Думанов. Из документальной истории..., с. 257. 83. Там же, с. 319. 84. К. Г. Азаматов. К вопросу о русско-балкарских отношениях в XVII-XVIII вв. – сб. : Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа. Грозный, 1982, с. 276. 85. Сб. док. : Русско-осетинские отношения в XVIII в., т. 1. Орджоникидзе, 1976, с. 37. 86. АБКИЕА, с. 207. 87. ЦГВИА, 482, оп. 1, д. 192, л. 168. 88. Там же, с. 12. 89. Вахушти. Описание Грузинского царства. Тбилиси, 1941, стр. 150. 90. М. Абаев. Балкария. Исторический очерк. Нальчик, 1992, с. 14-17. 91. КРО, т. 2, с. 25. 92. Ю. Н. Асанов. Песня-поэма «Каншаубий» или «Плач княгини Гошаях». Нальчик, 1996, с. 95. 93. В. С. Уарзиати. Из истории осетинско-кабардинских взаимоотношений. – сб. : Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе, 1989, с. 99-100. 94. Там же, с. 101. 95. КРО, т. 2, с. 35. 96. Там же, с. 36. 97. Б. Скитский. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до 1867 года. ИСОНИИ, т. XI, Дзауджикау, 1947, с. 87. 98. З. А. Кожев. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (XVIII в. ). Автореф. канд. дис., М., 1998, с. 13. 99. АКАК, Тифлис, 1868, т. 2, с. 1117. 100. Г. Кокиев. Материалы по истории Осетии. ИСОНИИ, т. VI, Орджоникидзе, 1933, с. 276-277. 101. В. Н. Гамрекели. Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII веке. Тбилиси, 1968, с. 105-106. 102. Там же. 103. Сост. Р. У. Туганов. Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период правления императрицы Екатерины II. Сборник документов. Нальчик, 1996, с. 392. 104. КРО, т. 1., с. 50-54, 58-59, 80-81, 85-86, 155-157, 213-238, 261-269, 309-310, 357-358 и др. 105. Кол. авт. История Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до наших дней, т. 1, Орджоникидзе, 1987, с. 201. 106. К. Г. Азаматов. Ук. соч., с. 276. 107. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 93. 108. ЦГА РСО-А, ф-245, оп. -1, д-42, л-3-4. 109. Там же. 110. Л. И. Лавров. Ук. соч., стр. 93. 111. Сост. Х. М. Думанов. Русские авторы XIX века о народах Центрального и СевероЗападного Кавказа. Сборник документов. Нальчик, 2001, с. 258. 112. Б. В. Скитский. Очерки истории горских народов. Орджоникидзе, 1972, с. 143-148. 113. Там же, с. 155. 114. Т. А. Хамицаева. Историко-песенный фольклор осетин. Орджоникидзе, 1973, с. 53-54. 115. История Северо-Осетинской АССР, т. 1, с. 184. 116. Там же, с. 199. 117. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 95. 118. Б. Скитский. Очерки по истории осетинского народа..., с. 84. 119. ОГРИП, Орджоникидзе, 1967, с. 70. 120. З. А. Кожев. Ук. соч., с. 16-18. 121. Л. И. Лавров. Ук. соч., с. 95. 122. М. Абаев. Ук. соч., с. 22. 123. Е. Г. Битова. Социальная история Балкарии XIX века. Сельская община. Нальчик, 1997, с. 135-141. 124. Там же, с. 135. Глава V. Христианство и Ислам в Балкарии Вопрос о месте мировых религий в системе идеологических ценностей горцев Центрального Кавказа представляет интерес не только с точки зрения одной лишь конфессиональной истории края. Обычно степень их адаптации в той или иной этнической среде принято соотносить с уровнем социального и общественного развития населения. Но более конкретный аспект данной темы - о причинах возобладания именно той, а не какой-то иной из мировых религий - неизбежно предполагает обращение к вопросам политической истории. Неразрывная взаимосвязь политики и идеологии была характерна для всех времен и сообществ, и очень часто конфессиональная ситуация в обществе отражала либо факт политической зависимости, либо приоритеты внешнеполитической ориентации, либо наоборот - тенденцию к политическому и этнокультурному самоутверждению. Никогда не являлось исключением из этого правила и население высокогорной зоны Центрального Кавказа. Наиболее характерной формой религиозных верований горцев вплоть до XVIII столетия оставалось сложное переплетение язычества с элементами православного христианства. Рассмотрение язычества не входит в задачу настоящего экскурса. Что же касается христианства, то оно было унаследовано балкарцами от своих предков-алан, к которым оно проникло из Византии, и призвано было идеологически скрепить взаимовыгодный антихазарский союз. В соответствии с тем значением, которое придавалось империей этому союзу, возрастал и статус церковной организации Алании. Уже в самом начале Х века здесь была создана своя архиепископская кафедра, подчиненная Константинопольской патриархии, а во второй половине того же столетия она была преобразована в митрополию. Правда, говорить о глубокой и тотальной христианизации масс, равно как и строго ортодоксальных формах местного христианства вообще, было бы явным преувеличением. Но в целом усилия верхов по внедрению новой религии все же увенчались заметными успехами, и прежде всего на западе страны, где располагался центр Аланской епархии [1]. Впоследствии ситуация неоднократно менялась к худшему. В XII столетии экономические и политические трудности вынудили перенести епархиальный центр за пределы страны [2], а в золотоордынский период своей истории местному православию пришлось выдержать жесткую конкуренцию со стороны двух конфессий: генетически родственного, но глубоко чуждого ему по духу католицизма и не менее враждебного мусульманства. Роль того и другого в конфессиональной истории края пока еще не оценена должным образом, хотя в памяти местного населения они оставили след, отчетливо прослеживавшийся даже в прошлом столетии: почитание Татартупского минарета, версия мусульманского вероисповедания Басиата с дружиной, имя хана Берке - первого мусульманского правителя Золотой Орды, многочисленные «ференкские» мотивы в фольклоре и «ференкская» атрибуция памятников архитектуры, «ференкские» ножи и т.д. Первым из ордынских ханов, приступившим к исламизации страны, был Берке, а уже при хане Узбеке Золотая Орда считалась мусульманским государством, во всяком случае, официально [3]. Был затронут этим процессом и Северный Кавказ, входивший в число покоренных монголами регионов. Значительная часть населения в наиболее доступных для контроля предгорно-плоскостных районах Алании была вынуждена перейти в мусульманство. Остатки некоторых соборных мечетей той поры сохранились по сей день на городищах Татартуп и Нижний Джулат [4], другие были выявлены в ходе изучения бытовых памятников Алании [5], третьи известны по упоминаниям в письменных источниках [6]. Кроме того, большинство известных на сегодняшний день грунтовых захоронений XIV столетия из Нижнего Джулата, Татартупа, Хамидие, Кызбуруна Третьего и др. совершенны по строго мусульманскому обряду [7]. Вместе с тем продолжает возрастать число не введенных пока в научный оборот синхронных захоронений омусульманившейся знати в кирпичных мавзолеях. О масштабах исламизации плоскостной Алании можно судить хотя бы по тому обстоятельству, что целенаправленные поиски данной категории древностей пока еще не производились, а отмеченные выше памятники, за единичными исключениями, представляют собой лишь побочный, т.е. непредвиденный результат полевых археологических исследований. Между тем в последнее время отдельные авторы попытались оспорить значимость рассматриваемого явления. По их мнению, исламизация северокавказского региона (и вообще Золотой Орды) оказалась чрезвычайно поверхностной, а соборные мечети в Маджарах и плоскостной Алании были сооружены... для ханов(?!) [8]. Разумеется, такие формулировки о социальном аспекте культового зодчества способны ошеломить даже неосведомленного читателя. Здесь все поставлено с ног на голову. Вопервых, история ислама не знает случаев, когда городские мечети целого региона были бы построены только для правителей страны. Во-вторых, источники, относящиеся к истории Золотой Орды, говорят совершенно обратное: в городских мечетях ханы бывали куда реже своих подданных (если бывали вообще). Большую часть года они проводили в степи, а в качестве мечетей использовали особые юрты [9]. Что касается уровня исламизации, то он не подлежит однозначной оценке. Приобщение кочевой части простого населения к этой религии действительно было по большей части поверхностным, а в горах Центрального Кавказа ее, похоже, и вовсе игнорировали. Но мысль о якобы слабой исламизации всего государства в целом - заведомо тенденциозна. Тогда же, с конца XIII-начала XIV вв. получает распространение на Северном Кавказе католицизм, внедрявшийся здесь западно-европейскими миссионерами с согласия ордынских властей. Роль миссионерской деятельности в этом регионе сравнительно неплохо отражена в письменных источниках, а в свете археологических изысканий последних десятилетий она обозначилась еще более рельефно. Выяснилось, например, что некоторые из христианских храмов Татартупа, считавшиеся ранее православными, с наибольшей долей вероятности могут быть интерпретированы как католические [10]. Таковой же - судя по наличию крипты, - могла быть и церковь Байрым в Верхнем Чегеме. Католическими склонны считать исследователи и многочисленные надмогильные кресты XIV-XV вв., обнаруженные в разное время в с.с. Каменномостское, Жанхотеко, Хабаз и др. [11] Особого внимания заслуживают почти неизученные в свете конфессиональной истории материалы устной традиции. Это, в частности, многочисленные предания, известные чуть ли не по сей день у многих народов края - в том числе и у балкарцев - согласно которым в той или иной конкретной местности «жили ференки» (или «перенки»). По какому-то недоразумению в этих ференках исследователи склонны видеть почти исключительно монахов-миссионеров, т.е. выходцев из Западной Европы. Между тем ни содержание преданий, ни их контекст вовсе не предполагают столь прямолинейную идентификацию. Напротив, в целом ряде случаев предания говорят о ференках не как об отдельных личностях или группе лиц, а как о сравнительно многочисленной общности, имевшей свои поселения, своего «царя», и не отличавшейся от горцев ни образом жизни, ни родом занятий, ни какими-то иными особенностями. Более того, в контексте некоторых повествований они воспринимаются даже как какая-то часть предков народа. Например, согласно устной традиции, одно из ференкских поселений располагалось недалеко от современного с. Гунделен [12], в местности, где, кстати, в наши дни действительно были обнаружены католические кресты. [13] В результате формального (в отрыве от контекста) перевода предания жители этого села - ференки - превратились во «французов»; «французом» же, естественно, стал и их князь Джанхотов; из Франции, надо полагать, было занесено сюда и местное Тере, на котором часто присутствовали кабардинские князья. Едва ли есть необходимость пояснять, что в действительности речь идет о тюркоязычных предках балкарцев - католиках по вероисповеданию. В этой связи уместно напомнить о широко распространенном в эпоху средневековья отождествлении этнической принадлежности с принадлежностью конфессиональной: после крещения Руси славян часто называли греками, в Малой Азии всех мусульмансуннитов (в том числе курдов и арабов) называли турками, в Дагестане некоторые хазарские городища известны как еврейские, а горцев, перешедших в христианство, называли армянами, греками или грузинами - в зависимости от того, кем они были крещены [14]. Совершенно очевидно, что без учета такой закономерности невозможна мало-мальски объективная интерпретация преданий о «ференских», «греческих» или «грузинских» предках балкарцев. Во всех этих предках мы вправе видеть какие-то группы местного населения, но в одном случае это христиане, крещенные европейскими миссионерами, в другом случае - греками (византийцами), в третьем - грузинским духовенством. Таким образом, на территории, населенной в XIII-XIV вв. предками балкарцев получили распространение три основные конфессии: православие, католицизм и мусульманство. Надо полагать, ареалы их наибольшего влияния, степень ортодоксальности и число приверженцев заметно варьировали в соответствии с ландшафтными, этническими и иными особенностями того или иного отдельно взятого района. Единственное, что можно было бы счесть общим для всех этнических групп в плоскостной Алании - это отказ от наиболее демонстративных проявлений язычества. Отныне здесь исчезает языческий обряд катакомбных захоронений, более всего свойственный для алан; нет здесь и «эталонных» захоронений тюрок с каменными изваяниями и тушами коней. Но в отношении монотеизма монголы были более терпимы, и аланы, считавшиеся христианами, могли придерживаться этой религии беспрепятственно. Уверенно можно говорить об отсутствии каких бы то ни было признаков проникновения ислама в высокогорную зону Центрального Кавказа. Ни одного памятника, прямо или косвенно связанного с этой религией среди древностей XIII-XIV вв. в Балкарии не имеется. Напротив, повествуя о событиях послемонгольского времени, устная традиция вполне определенно противопоставляет мусульман - «маджарцев" (пришельцев с равнины) горцам-язычникам и христианам. [15] «Врагами веры» именуют горцев и восточные хроники времен Тимура. [16] При всей условности такого термина в устах летописца-мусульманина, стремящегося идеологически оправдать карательные акции завоевателя, в целом он адекватен истинному положению вещей. Очевидно, иначе обстояло дело с распространением католицизма. Свойственная католическим миссионерам гибкость и изощренность позволяла им, в отличие от их мусульманских коллег, сравнительно легко преодолевать как этнические, так и ландшафтно-географические барьеры. С санкции ордынских властей они «развернули свою деятельность во многих районах Северного Кавказа,... проникая при этом и в горные зоны» [17]. К сожалению, кресты, обнаруженные в горах и предположительно интерпретируемые как католические, не поддаются узкой датировке. [18] Но отчасти этот пробел восполняется материалами фольклорных источников, согласно которым последняя волна мигрантов-тюрок застала в горах Балкарии «перенков» (т.е. католиков). [19] Охарактеризованные изменения отразились на положении местного православия, конечно, не наилучшим образом. Правда, В.А.Кузнецов больше акцентировал факт расширения сферы влияния Аланской епархии за счет отдельных районов Поволжья и Нижнего Дона. [20] Но, кажется, это было связано с миграцией самих алан в указанные районы, - явлением, ставшим даже предметом обсуждения на Константинопольском соборе 1276 года [21]. А вообще активизация новых конфессий на Кавказе создала серьезную угрозу для судеб местного православия, и это не могло не встревожить Константинополь. В чем состояла его ответная реакция, трудно сказать с полной уверенностью. Но, быть может, неслучайно то, что именно к этому времени относятся и учреждение особой «Кавказской» митрополии на территории Балкарии, и попытки создания единой церковной организации посредством слияния Аланской, Сотириупольской и Зихской кафедр. [22] Говоря о конфессиональной ситуации следующего, XV столетия, прежде всего, важно отметить ошибочность традиционного тезиса о распаде церковной организации Алании в послеордынское время. Выяснилось, что Аланская митрополия просуществовала еще два столетия, причем с конца XIV по 60-е годы XV века резиденция митрополитов находилась в Трапезунде. К тому времени их связь с Аланией настолько ослабла, что они «с трудом представляли положение дел в епархиальных владениях». [23] Но до полного разрыва дело, конечно, не дошло; не без посредничества тех же митрополитов Трапезундская империя все-таки поддерживала кое-какие отношения с населением бывшей Алании и, кажется, даже рассчитывала на поддержку горцев в предстоящей войне с турками. [24] Конечно, эти надежды были наивны во всех отношениях, но само по себе это обстоятельство не исключает хотя бы слабых попыток укрепления христианства у «союзников» на Северном Кавказе. Во всяком случае, значительная часть обнаруженной в Верхнем Чегеме христианской литературы на греческом языке датируется как раз XV столетием [25], как, впрочем, и руины «христианской базилики» на берегу р. Гестенты. Вообще, встречающееся порой мнение о чуть ли не окончательном исчезновении христианства после карательных походов Тамерлана представляется несколько преувеличенным. Уже через несколько лет после этого нашествия архиепископ Галонифонтибус писал о ясах и аланах как о христианах. [26] Аналогичные сведения мы находим в записках его современника Иоганна Шильтбергера, который в начале XV в. лично побывал в центральных районах Северного Кавказа. По его словам, ясы (аланы) совершают богослужение «по греческому исповеданию» на родном языке. [27] Наряду с православным здесь же продолжало свою деятельность и католическое духовенство. Шильтбергер особо упоминает католиков «страны Джулад» на Тереке, но, судя по устной традиции и данным археологии, они имелись и в других районах края, в том числе и в горах Балкарии. «Их священники - писал автор о миссионерах принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают латыни, но молятся и поют потатарски, для того, чтобы их прихожане были более тверды в своей вере. Причем многие язычники принимают святое крещение, так как они понимают то, что читают и поют священники». [28] Такое положение сохранялось и позже. Если Шильтбергер писал об адыгах как о населении Причерноморья, то в упоминавшемся выше предании о «ференках» на р. Гунделене кабардинцы фигурируют уже как соседи католиков-тюрок, успевшие установить с ними достаточно тесные связи. При всех успехах католических миссионеров преобладающим в высокогорной зоне вероучением, по-видимому, все же оставалось православие. Столетий, истекших со времени массового крещения алан, оказалось более чем достаточно, чтобы преодолеть конфронтацию с местным язычеством. Надо полагать, стихийно сформировавшийся компромисс сводился не только к определенному «оязычиванию» христианства, но порой и к простому сосуществованию различных по происхождению обрядов - словом, к тем общеизвестным формам религиозного синкретизма, примерами которого столь богата этнографическая действительность горного Кавказа XIX - начала XX вв. Особенно показательно в этом отношении предание об истреблении рода Рачикаовых. Судя по некоторым из исторических реалий, [29] описанные в предании события имели место, вероятнее всего, в рассматриваемое время. В связи с вопросом о верованиях той поры М.Ковалевским со слов информатора описан типично языческий обряд: на протяжении года сельчане откармливали быка Хыцаукуаг («достойный бога»), которого в «божий день» хцаумон выводили в поле, и по его мычанию строили виды на урожай [30]. Вместе с тем в предании имеется и другая, не менее важная из интересующих нас реалий: жители того же села присягают на верность Келемету Балкарокову у христианского храма Байрым. [31] Конечно, столь грубое с точки зрения ортодоксального христианства противоречие отражает не исповедание двух религий одновременно, и не деление предков балкарцев на христиан и язычников - в предании это было бы оговорено - а именно христианско-языческий синкретизм. Характеристика конфессиональной ситуации XV столетия в ее развитии довольно затруднительна, но одна из важнейших тенденций с достаточной очевидностью подразумевается последствиями произошедших к тому времени исторических перемен. Едва ли будет смелостью полагать, что крушение Золотой Орды способствовало активизации православного духовенства и, возможно, вызвало попытки вернуть позиции, утерянные в конкурентной борьбе с исламом и католицизмом. До XV века ислама в горах не было, но в рассматриваемое время вопрос об отношении к этой религии должен был возникнуть хотя бы потому, что именно тогда значительная часть плоскостных алан стала проникать в горы, а среди этих пришельцев было немало мусульман. Устная традиция вполне определенно подчеркивает, например, мусульманское вероисповедание Басиата и его дружины. Тем заметнее, что приписывая Басиату чуть ли не все основополагающие принципы организации общества, [32] она в то же время обходит вопрос об отношении его к вероисповеданию своих новых подданных, т.е. местного населения. Очевидно, это можно объяснить резко негативным отношением горцев к исламу, неудачным исходом попыток их исламизации (если такие попытки имели место). Ассоциируясь с недавним игом ненавистной Орды, эта религия была глубоко чужда не только горцам, но, быть может, и какой-то части самих пришельцев, которым в свое время она была навязана силой. Эта ненависть безусловно усилилась после нашествия Тамерлана, наставлявшего своих воинов: «убивайте их (христиан; В.Б.) где встретите». [33] В соответствии с такой установкой зачастую решалась и участь пленных. Например, при взятии Азака мусульмане были освобождены, а христиане истреблены поголовно. [34] Если же учесть, что поход на асов (алан) Тамерлан объявил «джихадом», т.е. войной за веру, то неудивительно, что это была война на уничтожение, в ходе которой было истреблено «множество людей». [35] Между прочим, последнее помогает понять отношение православных горцев XV столетия не только к исламу, но в какой-то мере и к католицизму. Так или иначе, католицизм тоже ассоциировался с владычеством Орды, но нашествие Тамерлана внесло существенные коррективы: христиане-католики стали точно такой же жертвой геноцида, как и православные. Возможно, это обстоятельство несколько сгладило противоречия между двумя течениями местного христианства, и помогло католикам сохранить свои позиции до второй половины XV века. Но в целом, как уже отмечено, ситуация более всего благоприятствовала временному возрождению православия, своеобразному «реваншу» традиционного синкретизма православного христианства с язычеством. К сожалению, трудно сказать что-либо определенное относительно двух последующих столетий. Источников по XVI-XVII векам почти нет и, следовательно, нет возможности говорить о тенденциях, которые поддавались бы уверенной констатации. Правда, некоторые особенности политической конъюнктуры той эпохи как будто предполагают попытки воздействия извне на конфессиональную ситуацию в крае, в том числе и в Балкарии. Ведь именно с XVI века начинается борьба России с Крымскотурецким блоком за преобладание на Северном Кавказе, и вопросу о вероисповедании горцев в этой борьбе придавалось немаловажное значение. Так, сразу же после возведения Терского городка, Турция выразила России энергичный протест, аргументируя свои притязания на Северный Кавказ тем, что «То вся земля, Черкасы и Кумыки и Крымшевкалы, государя нашего, и вера наша же» [36] (выделено мной; В.Б.). В действительности мусульманство исповедовали лишь некоторые народы Дагестана и часть адыгской знати, но об этом в Москве могли и не знать. Зато позже, когда знания о регионе существенно пополнились, могла возникнуть мысль об идеологическом влиянии в крае. Об этом свидетельствует, в частности, случай, когда в 1560 г. Иван Грозный отправил в Кабарду представителей духовенства якобы по просьбе местного населения, желавшего перейти в христианство. [37] Ситуация благоприятствовала установлению контактов также и с соседями кабардинцев, т.е. православными горцами. Та же ситуация повторилась через четыре года, когда маршрут русского духовенства в Константинополь проходил через «Черкасскую землю» и Грузию, т.е. предполагал переход через Кавказский хребет. [38] Но интереснее всего то, что с 1589 г. территория бывшей Аланской митрополии (куда входила и Балкария) «на законных основаниях» стала сферой влияния русской православной церкви». [39] В чем состояли связанные с этими изменениями практические мероприятия Москвы, и состоялись ли они вообще - остается неизвестным по сей день. Судя по контексту более поздних документов, говорить о сколько-нибудь ощутимых результатах этой сугубо формальной акции - как и попыток христианизации Кабарды - едва ли приходится. Более вероятной представляется активизация грузинской церкви. В многовековой борьбе с экспансией Ирана и Турции правителям Грузии постоянно приходилось заботиться о надежном тыле, каковым являлись северные склоны Кавказского хребта. Это предопределяло заинтересованность Грузии в политическом сближении с северными соседями, а такая заинтересованность предполагала и влияние в сфере идеологии. Правда, не во все этапы местной истории шансы на успех были равноценными. Например, в домонгольское время сферой влияния грузинской церкви являлись преимущественно восточная часть северокавказского региона, тогда как в западной части христианизация горцев проводилась силами византийских миссионеров. [40] Вопреки мнению некоторых грузинских историков, маловероятен факт грузинского влияния на Центральном Кавказе также и в золотоордынскую эпоху. [41] Относительно двух последующих столетий можно констатировать лишь то, что, по крайней мере, формально «Аланская» митрополия продолжала находиться в ведении Константинополя. В свете тогдашней политической ситуации это обстоятельство само по себе уже не исключало активизацию грузинского православия в горной зоне Центрального Кавказа, но первые документально фиксируемые факты такой активности относятся только к XVII столетию. Наиболее ярким - но, конечно, не единственным, - примером может служить крещение Жанбулата Айдебулова в 1653 г. [42] Уместно добавить, что Жанбулат являлся представителем одной из самых влиятельных феодальных фамилий тогдашней Балкарии, а крестил его имеретинский царь Александр. Интересно, что если в начале XV века И.Шильтбергер отмечал «греческое» вероисповедание горцев, то в первой половине XVIII столетия современники говорили уже о распространении у них «грузинского закона» [43] (религии). Разумеется, в обоих случаях речь идет об одной и той же конфессии, но переакцентировка «грузинского» в данном случае важна как указание на резко возросшую роль грузинских миссионеров. Ретроспективно она отражает процессы XVI-XVII вв.; не исключено, что к тому же времени относится, например, строительство Безенгийской церкви с грузинскими надписями, [44] равно как и проникновение в балкарскую лексику термина жор (от груз. джвари - «крест»). Конечно, добиться всеобщей, а главное - строго ортодоксальной христианизации горцев грузинскому духовенству (как в свое время и византийскому) не удалось. Но, констатируя это в общем-то достаточно бесспорное обстоятельство, нелишне отметить и то, что безоговорочно доверяя сведениям некоторых современников о поверхностности горского христианства, историки нередко впадают в обратную крайность. «Ортодоксальное христианство» - понятие довольно условное, иначе едва ли была бы возможной дифференциация этого учения на множество ответвлений, вариантов и сект. Очевидно, сторонники каждого ответвления считали ортодоксальными христианами только себя, а все остальные в их представлениях являлись еретиками, язычниками или христианами «только по имени». Называя горцев христианами «только по имени», грузинские и европейские авторы подразумевали, прежде всего, компромисс горского христианства с языческим прошлым. Но, во-первых, в большей или меньшей степени это явление было характерно почти для всего христианского мира. Во-вторых, сколь бы ни отчетливы были элементы язычества в средневековой Балкарии, пожалуй, нет оснований переоценивать их значимость в системе религиозных верований. Достаточно обратить внимание хотя бы на то, что если, например, в Чечено-Ингушетии или Осетии языческие святилища исчислялись сотнями, то в народном зодчестве Балкарии они имеют не более одной-двух аналогий (под святилищем здесь подразумевается не любой культовый объект, а специальное архитектурное сооружение). Нетипична для Балкарии и связанная с язычеством богатейшая обрядовая графика, отмеченная в искусстве других горских народов. Возможно, все это можно отнести как к слабой изученности Балкарии в археологоэтнографическом отношении, так и к определенным этнокультурным особенностям самого народа. Представляется, однако, что не в последнюю очередь отмеченное обстоятельство отражает и определенный уровень феодализации общества, с соответствующей ролью монотеизма в системе ценностных ориентаций. К тому же, важно не путать вопрос об отношении горцев к христианству и глубине их религиозного сознания с вопросом о генетической структуре горского христианства. Ясно, что последнее являло собой далеко не полное воплощение христианского вероучения. Однако все то, что горцы сочли возможным усвоить из этой религии, было для них столь же свято, как и для «ортодоксальных» христиан. В этом имел возможность убедиться, например, кизлярский дворянин А. Тузов, когда в 1736 г. жители Верхнего Чегема знакомили его с богослужебной литературой из местного хранилища: «И ис того сундука книги вынимали, сняв шапки, с великим благоговением и страхом. И, кроме христиан, к тем книгам никого, а паче мухамедан, отнюдь не допускают» [45] (сопровождавшие А. Тузова в Верхний Чегем кабардинцы-мусульмане действительно не были допущены в хранилище). Таким образом, к началу XVIII столетия в религиозных верованиях балкарцев продолжал доминировать традиционный языческо-христианский синкретизм. Но более всего это было характерно для широких слоев простого населения. Что же касается знати, связанной с феодалами Кабарды общностью политических и классовых интересов (а в ряде случаев и узами родства), то наряду с христианами в ее среде были уже и приверженцы ислама. Правда, согласно преданию, первые попытки исламизации горцев были предприняты еще шамхалом Тарковским, но достоверность подобных сведений остается под вопросом. Более уверенно об исламизации социальной верхушки можно говорить относительно конца XVII – начала XVIII столетий. Как видно по материалам некрополя Фардык в Верхнем Чегеме, первые захоронения таубиев по мусульманскому обряду относятся ко времени не позднее второй половины XVII в. (см. гл. II). По словам царевича Вахушти, знать «овсов» (под которыми он подразумевает осетин и балкарцев) отличается от своих подданных-христиан исповеданием мусульманской религии. [46] Много позже – уже в XVIII вв. – то же самое отмечали и другие авторы: «Веру магометанскую содержат в Балкарии одни владельцы,... но простой народ с древних времен находится в христианском...»; «Старшины их приняли магометанский закон, а прочие малкарцы почитаемы за христиан...». [47] Быть может, противопоставляя феодалов-мусульман их подданным-христианам, авторы XVIII вв. несколько упрощали картину. Но бесспорным представляется и то, что при всей условности такого противопоставления в целом оно все-таки было обоснованно, и, в конечном счете, полное возобладание ислама оказалось отчасти взаимосвязанным именно с социальным фактором. Особое место в интересующем нас плане занимает период с 40-х годов XVIII века до 20-х годов XIX столетия. Именно на этот период приходится последний из наиболее значительных этапов конфессиональной истории края, связанный с массовым обращением горцев в мусульманство. Политическую подоплеку этого явления можно было бы охарактеризовать как подготовку Турции и России к последней, решающей схватке за Северный Кавказ. К тому времени значение конфессионального фактора в планах противоборствующих сторон заметно возросло. Если в XVI-XVII вв. ставка делалась на лояльность наиболее влиятельных феодальных кругов Северного Кавказа, то теперь великие державы искали опоры также и среди широких слоев местного населения. А средством достижения этой цели в числе всего прочего должна была стать и религия. После Белградского трактата 1739 г. наблюдается активизация духовенства на Северном Кавказе: христианского со стороны России, и мусульманского со стороны крымско- турецкого блока. При этом обе стороны тщательно подчеркивали свою «непричастность» к этим мероприятиям: христианские миссионеры вербовались из числа грузинского духовенства, а мусульмане - преимущественно дагестанского. Усилия российских миссионеров были направлены на обращение в ортодоксальное христианство, главным образом, горцев Осетии и Ингушетии. С самого же начала это вызвало ожесточенное противодействие кабардинской знати. Любопытно, что далеко не вся эта знать была настроена враждебно к России; в вопросе об отношении к миссионерам зачастую легко находили общий язык феодалы как Крымско-Турецкой, так и Российской ориентации. [48] Те и другие прекрасно осознавали, что идеологическая экспансия предваряет экспансию военно-политическую. А включив горную зону в состав России, правительство, конечно, отменило бы традиционную «дань» горцев Кабарде за использование сезонных пастбищ, и тем самым признало бы эти пастбища собственностью горцев - во всяком случае, на это рассчитывали сами горцы, идя на сближение с Россией. Отсюда непрекращавшиеся набеги кабардинских феодалов на поселения желавших перейти в христианство осетин и ингушей. Все же христианству удалось утвердиться на большей части Осетии. Определенная идеологическая «база» для внедрения ортодоксального христианства имелась и в Балкарии - территории бывшей Кавказской митрополии. Правда, поначалу это обстоятельство интересовало лишь правительственные круги, использовавшие его в дипломатических баталиях с Турцией по «кабардинскому» вопросу. Замечу, кстати, что как раз ввиду акцентации собственно кабардинской проблемы наименование Балкарии в документах той поры могло и не фигурировать; очень часто в силу тех или иных политических соображений России было выгодно либо подчеркивать этническую пестроту в крае, либо наоборот - рассматривать горцев как часть кабардинского этноса. Последнее, кажется, имело место, например, в рассматриваемом ниже случае. Еще задолго до Белградского трактата, в 1732 г. Коллегией иностранных дел коменданту крепости Святого креста Д.Ф. Еропкину была дана инструкция, на предмет возможных переговоров его с представителями Турции или Крыма. В инструкции предписывалось отстаивать версию, согласно которой кабардинцы издревле являются христианами, но что будто бы в XVI веке их феодальная верхушка подверглась насильственной исламизации, а «подданные их земледельцы и крестьяне... содержут все издавна доныне веру и закон греческого исповедания. И в тех их деревнях есть благочестивые церкви и священники» [49] (выделено мной; В.Б.). Но констатация церквей в кабардинских поселениях XVIII столетия ничем не подтверждается. Напротив, говоря о каменных крестах и церквушках «во внутренности гор», И.П.Дельпоццо добавляет, что они не кабардинские, а остались от «бывших прежде, ими выгнанных народов». [50] Тот же Д.Ф.Еропкин в ответной реляции отмечал, что христианские церкви здесь действительно имеются, «которые и посыланные от меня за разными делами в Кабарды офицеры и дворяне видели» [51]. Но, насколько об этом позволяют судить документы, «посыланные» Д.Ф.Еропкиным люди - в частности команда солдат во главе с Яковом Колударовым, - побывали только в Верхнем Чегеме. В соответствии с полученными инструкциями цель вояжа состояла в ознакомлении с христианскими древностями Балкарии и приобретении здесь «вещественных доказательств» православия горцев. В первом чегемцы охотно содействовали Колударову, во втором категорически отказали. [52] Спустя одиннадцать лет в Коллегию иностранных дел были представлены разнообразные сведения о населении горной полосы Северного Кавказа. В числе народов, сохранивших остатки христианства, упомянуты лишь балкарцы и осетины. [53] Интерес к реликтам балкарского христианства спорадически проявлялся и позже; был даже случай, когда ими заинтересовалась императрица Екатерина Вторая [54]. Более того, есть основания полагать, что впоследствии миссионеры из так называемой Осетинской духовной комиссии могли появляться также и на территории Балкарии. Так, в мае 1795 г. в своем обращении к священнику Е.Николаеву представители Малкарского общества изъявили желание «остаться вашими богомольцами». [54-а] Разумеется, такая просьба могла исходить не от всех общинников, а лишь от определенной группы неофитов. Но в целом политическая ситуация XVIII столетия не особенно благоприятствовала активности христианских миссионеров в этой части Центрального Кавказа. Дело в том, что в отличие от ингушей и осетин балкарцы обитали вдали от опорных пунктов «российского присутствия», и, следовательно, в случае конфронтации с многократно превосходящими силами протурецки настроенных феодалов Кабарды (от которых они, к тому же, зависели экономически) они не могли рассчитывать на военную помощь России. Шансы на успех появятся много позже, лишь в начале XIX века. А пока ситуация более всего способствовала активизации мусульманского духовенства. Напомню, что, несмотря на преобладание языческо-христианского синкретизма, к началу XVIII столетия ислам уже не был для горцев чем-то очень уж новым; одна из ранних мусульманских эпитафий на каменном надгробии датирована 1734-1735 гг., [55] а Фардыкская находка 2003 г. позволила удревнить эту дату до 1719 года. Следовательно, то качественно новое, что намеревались внести мусульманские миссионеры в эту ситуацию с середины XVIII века, состояло в приобщении к ортодоксальному исламу всех категорий населения, в полной конфессиональной нивелировке общества и решительной борьбе с проявлениями христианства и язычества. Кое в чем методы их воздействия на массы были сходны с тактикой христианского духовенства. Известно, например, что за переход от язычества или «одичавшего» христианства в ортодоксальное, неофиты вознаграждались деньгами, одеждой, отрезами сукна и т.д. Нередки были случаи «социального» стимулирования – освобождения крещеных горцев от феодальной зависимости. Так, в начале 60-х гг. XVIII в. представители царской администрации обещали восставшим кабардинским крестьянам, что если те «примут святое крещение, то совершенно закрыты и сохранены будут, да и от холопства отойдут, а за некрещеных заступаться не будут». [56] Адекватные меры воздействия пыталась применять иногда и противоборствующая конфессия. По словам Мирзабека Тулатова, «Если кто у них (у горцев; авт.) содержит магометанскую веру, тому дают преимущество и считают наравне с старшинами, а тех, которые содержат христианскую веру, считают их подданными». [57] Правда, у мусульман – во всяком случае, в Балкарии – этот стимул все-таки использовался вовсе не в столь значительных масштабах, как это практиковали российские власти и духовенство. Да и само утверждение о переходе неофитов-мусульман в категорию «старшин» не следует понимать буквально; скорее это лишь освобождение от зависимости, но уж никак не обретение статуса феодала. Впрочем, особой необходимости в подобной мере у мусульман, похоже, и не возникало. Главное в данном случае то, что миссионеры опирались на содействие кабардинских феодалов, а те, пользуясь экономической зависимостью соседей, больше предпочитали тактику принуждения. Об этом говорится, например, в рапорте переводчика Осетинской духовной комиссии Ивана Пицхелаурова: горцы «состоят под податью кабардинским владельцам, с которыми имеют они куначества,... А по такому с ними сообщению вступают и многие вступили в магометанский закон». [58] О том, что горские племена принимали мусульманство «по понуждению кабардинцами», [59] писали и другие современники. Наряду с тем, если верить преданиям, применялись и более жесткие меры – вплоть до прямой агрессии. Устная традиция сохранила память о вторжении кабардинокумыкских отрядов с целью исламизации горцев. «Будучи не в состоянии одолеть балкарцев собственными силами – говорится в одном из преданий, - Кази Атажукин отправился к правителю кумыков и сказал: «По соседству со мной, в верховьях реки живут язычники. Дай мне войско, чтобы обратить их в мусульманство». Вернувшись с кумыкским войском, он внезапно напал на караул в Жигате и всех перебил. Затем ночью тайно проник в Чегем, в село Думала. Он покорил чегемцев, наложил на них дань. После этого кабардинцы и балкарцы стали жить вперемешку». [60] Медленно и неохотно, принуждаемый к тому угрозой экономической блокады, народ начинал приобщаться к новой религии. А естественные для переходного периода недоразумения и курьезы служили впоследствии темой всякого рода шуток и анекдотов. Один из таких анекдотов был записан в 1936 г. ленинградским этнографом Л.И.Лавровым: «Однажды какой-то мулла, увидев, что безенгийцы не умеют совершать намаз, стал демонстрировать им поведение мусульманина на молитве. Мулла молился, а безенгиевцы повторяли за ним все его телодвижения. В это время у муллы пошла из носа кровь, и он ухватился за нос. Люди, думая, что так и надо, также ухватились за свои носы. Мулла стал выходить во двор, чтобы промыть нос, - и все валом повалили за ним. Он замахал рукою, чтобы те вернулись назад, но народ также замахал руками, думая, что все эти действия входят в ритуал мусульманского моления». [61] Таким образом, дела мусульманских проповедников в целом складывались как будто бы неплохо – во всяком случае, с числом новообращенных. Причиной такого благополучия – пусть еще и эфемерного – послужили три немаловажных обстоятельства, совокупность которых, в конечном счете, предрешала исход дела: содействие Кабарды, изоляция Балкарии от сферы российского влияния, 22-летний (1792-1812 г.г.) перерыв в работе Осетинской духовной комиссии. К сожалению, дефицит письменных источников не позволяет проследить динамику процесса исламизации, а единичные сведения на этот счет слишком лаконичны и противоречивы. В 1773 г. И.А.Гюльденштедт писал, что балкарцы и карачаевцы «постепенно становятся мухаммеданами» [62]. Иного мнения придерживался П.Кречетников. Горцы «только одним словом и склонностью владельцев магометанский закон носят» – писал он почти одновременно с И.А.Гюльденштедтом, - но при иных обстоятельствах «легко ожидать должно, что все примут христианскую веру». [63] В начале следующего, XIX столетия Г.Ю.Клапрот отметил: они «теперь не признают никакой другой веры, кроме мухаммеданства». [64] Последнее Л.И.Лавров расценил как «окончательную победу ислама в Балкарии», [65] но едва ли такая констатация может быть принята безоговорочно. Скорее речь может идти лишь о внешней стороне дела, о «победе» упоминавшихся выше методов исламизации, но никак не о глубине религиозного сознания неофитов. Ведь не случайно еще в 1808 г. И.П.Дельпоццо отметил любопытную деталь: даже «старшины» горских народов (вроде бы более своих подданных заинтересованные в исламизации) «будучи в своих домах, не имея свидетеля кабардинца, обрядов иных не исполняют». [66] Христианские миссионеры, безусловно, располагали шансами на успех даже в первые десятилетия XIX века. В этом убеждают факты, приводимые самим Л.И.Лавровым: еще в 20-х годах того столетия отдельные группы балкарцев извещали российскую администрацию на Кавказе о своем желании перейти в ортодоксальное христианство. [67] Действительно, миссия прибывшего в Верхнюю Балкарию в 1820 г. протоирея Н.Самарганова (Самарганишвили) оказалась в общем небезуспешной. К 10 мая 1820 года в его «активе» числилось уже 549 неофитов, хотя, по мнению некоторых историков, эта цифра завышена за счет причисления к «Балкарскому приходу» определенного количества дигорцев. Как бы то ни было, незамедлительно последовал демарш Кабарды: феодалы не только перекрыли горцами доступ к сезонным пастбищам, но и стали совершать набеги, угонять скот. [68] Сразу же вслед за Н.Самаргановым сюда прибыл представитель мусульманского духовенства из Дагестана, и, скорее всего, при поддержке тех же феодалов принудил население разрушить несколько церквей, уничтожить церковную утварь и сжечь богослужебные книги. Архиепископ Иона, экзарх Грузии, неоднократно обращался к генералу А.П.Ермолову с просьбой пресечь набеги кабардинцев и тем самым способствовать делу христианизации балкарцев. К тому времени вмешательство в кабардино-горские отношения не составляло для А.П.Ермолова ни малейшего труда. Тем более что это входило и в его собственные планы, которые, впрочем, не имели никакого отношения к делам религии. В мае 1822 г. во главе экспедиционного корпуса он вторгся в Кабарду и заложил здесь ряд укреплений. Фактически это уже было покорением Кабарды. Казалось бы, тем самым были устранены все препятствия на пути христиан-миссионеров, и отныне, по логике вещей, крещение горских народов края должно было обрести чуть ли не глобальные масштабы. Но... ничего подобного не произошло. Почему? Рассмотреть здесь этот вопрос во всей его сложности едва ли возможно. И все же, пожалуй, нелишне напомнить в этой связи, что А.П.Ермолов (от которого в данном случае зависело очень многое) явно не жаловал христианское духовенство на Кавказе – даже того же Иону – в то время как отдельные служители ислама обрели в его лице могущественного покровителя. С возобновлением работы Осетинской духовной комиссии миссионеры лишились ряда традиционных средств воздействия на массы. Так, генералом А.П.Ермоловым был наложен строгий запрет на «оплату» святого крещения всякого рода подарками. Но особенно негативную реакцию «проконсула» вызвало социальное стимулирование неофитов. «По вступлении моем в управление здешним краем – писал он, - я нашел между прочими бумагами нерешенное дело о том, что духовно-осетинская комиссия... вмешивается в дела до правительства относящиеся... и удаляет не только местное начальство от заведывания осетинами, но даже самих помещиков лишает прав владения ими; что князья, дворяне и заслуживающие уважения почетные старики Горийского уезда объявили, что они, бывая нередко у проповедников слова божия, сами слушали внушение их осетинам, что принявшие святое крещения никому более не принадлежат, как духовенству, и ни один помещик не вправе взыскивать с них какую-либо повинность». [69] Вмешательство миссионеров в социальные отношения горцев генерал назвал разбоем, и дал понять со всей определенностью: «Я готов употреблять к укрощению разбоев решительные меры». [70] В конечном счете, к середине XIX столетия в регионе сложилась ситуация, которая может показаться парадоксальной. В вековой борьбе двух империй за обладание Северным Кавказом Россия одержала победу на полях сражений, а Турция – на «идеологическом фронте». Но счесть это парадоксом можно лишь постольку, поскольку первые шаги по исламизации края действительно были связаны с политическими планами КрымскоТурецкого блока. Впоследствии же, когда Турция окончательно отказалась от притязаний на Северный Кавказ, геополитические масштабы связанных с исламом задач сменились региональными. Теперь уже эта религия стала идеологическим оружием адыгов, вайнахов и дагестанцев в их антиколониальной борьбе. Именно такой оборот дела, равно как и продолжительность самой борьбы, и обусловил полное возобладание ислама. Попытка тогдашней кабардинской знати вовлечь в эту борьбу своих горских соседей – а тем самым и их содействие в исламизации горцев – вполне понятны и естественны. Без энтузиазма воспринимались эти попытки только простыми горцами. Правда, заинтересованность в доступе к сезонным пастбищам вынуждала их хотя бы внешне проявлять лояльность к исламу. Сложнее было с военно-политическим аспектом проблемы. И главным образом по той причине, что кабардинская знать хотела союза с соседями при сохранении даннических отношений – отношений, груз которых те с самого же начала несли «с отвращением» [71]. Отсюда и результат этого «союза», теперь уже действительно парадоксальный: в один и тот же период своей истории (в конце XVIII – начале XIX вв.) горские народы края принимают ислам и... российское подданство. Надо, конечно, оговорить, что это лишь контурная, и, пожалуй, несколько утрированная обрисовка происходившего, не отражающая всей сложности и противоречивости отдельных явлений. Не всегда просто обстояло дело, например, с распространением ислама. Любопытным штрихом к обрисованной картине является то, что со временем некоторые из представителей мусульманского духовенства по различного рода соображениям сочли приемлемым для себя сотрудничество с военными властями. Об одном из таких служителей культа говорится в работе С.Бейтуганова. [72] Это, в частности, небезызвестный Гази Эфенди, пользовавшийся особым покровительством А.П.Ермолова. Выходец из дагестанского села Акуши, он долгое время проповедовал ислам в Карачае и Балкарии. Но миссионерская деятельность была не единственной, а возможно, и не главной целью акушинца. По его собственному признанию, он давал балкарцам и карачаевцам «хорошее наставление всякий день, чтобы они принесли покорность России... Я им сказывал, что акушинцы не могли драться с русскими и одного дня, хотя они сильнее вас и имели больше войска, а вам где же сопротивляться войску русского государя». [73] Гази Эфенди пытался представить дело таким образом, будто его «хорошие наставления» сыграли решающую роль в добровольном принятии горцами российского подданства. Это, мягко говоря, преувеличение. Для такого шага горские общества «созрели» еще задолго до появления «наставника», и вопрос о войске мог возникнуть не в контексте балкаро-российских отношений вообще, а скорее в связи с участием горцев в повстанческом движении в Кабарде (участием, предполагавшем ответные меры со стороны российских войск). Нелишне добавить, что горские феодалы, следовавшие «наставлениям» миссионеров вроде Гази Эфенди, пользовались ничуть не меньшим расположением А.П.Ермолова, чем упомянутые выше помещики-христиане Горийского уезда. Перспективы социальных отношений с вхождением «обществ» в состав христианского государства поначалу вызвали у исламизированной знати некоторое опасение, но генерал тут же поспешил успокоить: «... старшины дигорские опасаются, что народ простой, вышедший на плоскость, не отказался от повиновения им, паче тем из них, которые управляют ими, не будучи сами христианами; но вы внушите им, что правительство не лишит их принадлежащих им прав, а простой народ вразумите, что он должен быть им послушным и исправлять свои повинности,...». [74] Правда, об обращениях к нему балкарских таубиев по данному вопросу мне ничего не известно. Но едва ли можно сомневаться, что у них было не меньше оснований остаться довольными «проконсулом Кавказа». Косвенным подтверждением этого могут послужить некоторые из относительно поздних документов. Так, в начале 60-х годов XIX в. доверенные лица от большой группы крестьян Малкарского общества официально заявили, что изначально они были независимы, но со строительством крепости Нальчик (т.е. при А.П.Ермолове) таубии закрепостили их, угрожая в случае неповиновения «окончательным истреблением» [75] (Абсолютно независимых категорий населения не было; вероятнее всего, здесь речь идет о переводе каракиши в разряд крепостных –В.Б.). Через пять лет после похода А.П.Ермолова балкарцы присягнули на верность России. Вручая прошение о принятии в состав Российской империи, таубии (в числе прочего) просили сохранить в Балкарии свободное исповедание ислама. Напомню: несмотря на значительное число мусульман-балкарцев, в те годы еще встречались и группы, изъявлявшие желание перейти в христианство. Следовательно, и омусульманившиеся горцы пока еще не являлись столь убежденными неофитами, чтобы просьба таубиев была продиктована заботой о своих подданных. Скорее наоборот. Феодалы значительно раньше своих поданных приняли ислам, для них он был как бы «сословной» религией. В этой связи уместно отметить еще одну подробность. Таубии просили сохранить в Балкарии шариатский суд, [76] который, судя по всему, не пользовался особой популярностью в народе (даже в середине того столетия горцы предпочитали адат шариату, [77] случаи отказа от разбирательств дел по шариату фиксируют и документы того времени [78]). Дело в том, что этот суд отражал интересы знати, поскольку заседали в нем сами князья [79] (вместе с марионетками из представителей крестьянства [80]). В том же 1827 году, когда была удовлетворена просьба таубиев, в одном из официальных документов подчеркивалось, что ранее в Кабарде шариат был введен «единственно для утеснения народа,... ибо в нем чернь никогда не находила правосудия», [81] а кабардинские князья безуспешно добивались восстановления шариатских судов, отмененных А.П.Ермоловым в 1822 году. О том, насколько выгоден был для таубиев шариатский суд, свидетельствует, например, жалоба двух балкарских семейств начальнику Кабардинского округа на действия феодала Жанокова (1864 г.): «О родопроисхождении нашем хотя вступилися было доказать православного исповедания духовные лица: Мусса Жаноков, не желая окончить дело, решил разобраться по китабу шариатом, чтобы несправедливыми свидетелями поработить нас,...». [82] Возможно, по самой свой сути ислам и не отражал интересы знати столь прямолинейно и категорически, как это следует из приведенных формулировок и примеров. Но то, что местные феодалы пытались превратить эту религию в орудие своего классового господства, представляется вполне вероятным. Как бы то ни было, просьбы относительно шариата, да и ислама вообще, представляли немаловажный момент в договоре 1827 г. И они охотно были удовлетворены кавказской администрацией. Кажется, такая покладистость властей и послужила сигналом к последнему, решительному натиску мусульман на остатки прежних верований. Строительство мечетей и подготовка «национальных кадров» мусульманского духовенства сопровождались разнузданной антихристианской вакханалией: сжигалась богослужебная литература, на кладбищах демонтировались надгробные кресты, средневековые церквушки либо разрушались, либо превращались в хозяйственные помещения. Авторы прошлого столетия неоднократно упоминают о церквях, приспособленных под конюшни, загонах для скота, сооруженных из могильных плит с крестами [83] и т.д. Для горцев-христиан наступили не лучшие времена, и по иронии судьбы это произошло именно тогда, когда впервые за всю свою историю Балкария вошла в состав христианского государства. Правда, из различного рода соображений - по условиям брачного договора при женитьбе на христианках, в надежде на продвижение по службе и т.д. - некоторые феодалы вместе со своими подданными (или без них) все же решались на принятие христианства даже и в подобной ситуации. Но теперь уже такой шаг неизбежно предполагал смену места жительства. В 1867 году в рапорте на имя начальника Терской области сообщалось, что один из подданных князя Урусбиева «будучи христианином, находит неудобным жить между магометанами. При этом и сам владелец Адиль-Гирей Урусбиев, как христианин просит о разрешении ему переселиться со всем своим семейством в Сванетию» [84] (другой представитель этого рода хотел переселиться в Россию еще во времена А.П.Ермолова). С.Темирканову, намеревавшемуся перейти в ортодоксальное христианство, одновременно пришлось ходатайствовать о разрешении остаться «на всегдашнее жительство» во Владикавказе, [85] а Н.Абаеву вместе с семьей и несколькими крепостными крестьянами пришлось избрать местом жительства Тифлис. [86] Ко второй половине XIX столетия ислам укрепился уже настолько, что даже обнаружил тенденцию к экспансии в соседнюю Сванетию. Некоторые из сванских князей, женатые на балкарках, переходили в мусульманство по условиям брачного договора, и был случай, когда воспрепятствовать этому не смог даже Николай Первый. [87] Более того, к женитьбе на балкарках с соответствующей сменой вероисповедания князья принуждали и своих подданных, что способствовало усилению балкарского влияния в сфере бытовой культуры и семейной обрядности сванов. [88] До миссионерской деятельности дело, кажется, не дошло, но спорадические контакты служителей культа с закавказскими неофитами все же имели место. О приезде балкарского муллы в Местию в 1853 г. и проповеди его среди мусульман-сванов писал, например, И.А.Бартоломей. [89] Подводя итог краткому экскурсу в конфессиональное прошлое края, можно выделить несколько существенных моментов. За свою многовековую историю населению Центрального Кавказа пришлось испытать идеологическую экспансию различных государств и регионов – Византии, католического Запада, Золотой Орды, КрымскоТурецкого блока, Грузии. Как правило, распространение ими мировых религий ставило своей целью содействие в решении собственных политических задач. Но период «задействования» христианства и ислама в подобном качестве был относительно кратким, и вскоре же начинался период либо их деградации, либо вовлечения их в орбиту местных проблем. Последнее нагляднее всего прослеживается в той роли, которая отводилась исламу в период беспрецедентной по продолжительности и ожесточенности Кавказской войны. Уровень ортодоксальности мировых религий прямо или косвенно отражал степень их «востребованности» на местах, их соответствие (или несоответствие) стадиям общественного и социально-экономического развития, особенностям этнопсихологии, менталитета, их конкурентоспособность с традиционными верованиями местного населения. Отсутствие развитых и долговечных государственных образований на Центральном Кавказе в эпоху средневековья обусловило, в общем, довольно поверхностное приобщение горцев к христианству, хотя конкретный уровень христианизации мог заметно варьировать в различных районах высокогорной зоны. Яркой особенностью «горного» христианства – и не только на северных склонах Кавказа – явилось относительно мирное сосуществование его с язычеством, а во многих случаях и своеобразный синтез этих двух, казалось бы, взаимоисключающих религий. Более бескомпромиссным конкурентом оказался ислам. Правда, определенного влияния язычества не удалось избежать и ему, но все же в целом судьбу язычества в XIX столетии уместнее всего охарактеризовать как полулегальное сосуществование с мусульманством. Последнее, вопреки политической ориентации горских обществ Балкарии, было навязано им извне посредством упорного и непрерывного нажима. Раньше и охотнее других переходила в ислам социальная верхушка, связанная общностью классовых интересов с феодальной элитой Кабарды. Конец феодальной формации и окончательное включение региона в состав Российской империи, постепенная, но неуклонная трансформация общественного и бытового уклада, переход к новым формам социальных отношений – все это ставило перед утвердившимся исламом задачи, существенно отличавшиеся от тех, которые возлагались на него изначально. Но это уже особая тема, выпадающая из хронологических рамок настоящего исследования. Примечания к главе V 1. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977, с.9-25. 2. С.Н.Малахов. К вопросу о локализации епархиального центра в Алании в XII-XVI вв. сб.: Аланы, Западная Европа и Византия. Владикавказ, 1992, с.149-179. 3. О.В.Милорадович. Средневековые мечети городища Верхний Джулат. МИА, №114, М., 1963, с.84-85. 4. И.М.Чеченов. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969, с.46. 5. О.В.Милорадович. Ук. соч., с.66-86. 6. Там же, с.84. 7. Там же, с. 81-82; И.М.Чеченов. Ук.соч., с.98-99; В.П.Алексеев. О расселении монголоидов на Северном Кавказе в эпоху средневековья. - сб.: Культурное наследие Востока. Л., 1985, с.307-311. 8. И.М.Мизиев. Кипчаки и балкарцы. Газ. «Советская молодежь», № 34-36, Нальчик, 1989. 9. СМОИЗО, т. 1, СПб. 1884, с.205, 289, 428 и др. 10. В.А.Кузнецов. Церкви Верхнего Джулата, их время и интерпретация. - сб.: Пятые Крупновские чтения по археологии Кавказа (тезисы докладов). Махачкала, 1975, с.107109. 11. И.М.Чеченов. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа - сб.: Археологические исследования на новостройках КабардиноБалкарии в 1972-1979 гг., т.3, Нальчик, 1987, с. 77-99. 12. А.М.Аппаев. Диалекты балкарского языка и их отношение к балкарскому литературному языку. Нальчик, 1960, с. 45-46. 13. И.М.Чеченов. Новые материалы.. , с. 77-99. 14. А.Самойлович. Кавказ и турецкий мир. ИООИА, Баку, 1926, с.8; А.Гольдштейн. Башни в горах. М., 1977, с.142; М.Г.Магомедов. Образование Хазарского каганата. М., 1983, с. 173-174; Д.М. Дудко. Скифский религиозный праздник в отечественной и зарубежной историографии. СЭ, 2, 1988, с.62. 15. В.Ф.Миллер. Терская область. Археологические экскурсии. МАК, вып. 1, М., 1888, с. 79. 16. СМОИЗО, т.2, М-Л., 1941, с. 181. 17. И.М.Чеченов. Ук. соч., с.97. 18. Там же, с.83. 19. М.Ч.Джуртубаев. Древние верования балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1991, с. 216. 20. В.А.Кузнецов. Зодчество феодальной Алании, с.23. 21. С.Н.Малахов. Ук. соч., с.160. 22. В.А.Кузнецов. Ук. соч., с.22, 126. 23. С.Н.Малахов. Ук.соч., с.165. 24. Там же, с. 162. 25. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX века. КЭС, вып. IV, М., 1969, с. 113. 26. И.Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, Баку, 1980, с. 15, 24-25. 27. С.Н.Малахов. Малоизвестное свидетельство об аланах в житии Федора Эдесского. сб.: Аланы, Западная Европа и Византия. Владикавказ, 1992, с.142. 28. Иоганн Шильтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Баку, 1984, с.34. 29. Б.А.Калоев. М.М.Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа. М., 1979, с.172. 30. Там же, с.175. 31. Там же, с.173. 32. М.Абаев. Балкария. Исторический очерк. Нальчик, 1992, с.8. 33. СМОИЗО, т.2, М-Л., 1941, с.186. 34. Там же, с. 180. 35. Там же, с.182. 36. КРО, т.1, М., 1957, с.23. 37. Там же, с.8. 38. Там же, с.12. 39. С.Н.Малахов. К вопросу о локализации..., с.164. 40. В.А.Кузнецов. Ук. соч., с.171. 41. Там же. 42. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями 1693 по 1770 г.г. СПб., 1861, с. XI. 43. Сост. М.М.Блиев. Русско-осетинские отношения в XVIII веке, т.1, Орджоникидзе, 1976, с.38. 44. А.Фиркович. Археологические разведки на Кавказе. ТВОАО, ч.3, СПб, 1858, с. 132. 45.Г.А.Кокиев. Материалы по истории Осетии. ИСОНИИ, VI, Орджоникидзе, 1934, с. 3435. 46. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.118. 47. РГВИА, ф.482, д.192, л.135-143; С.Броневский. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823, с.217. 48. М.М.Блиев. Русско-осетинские отношения в XVIII веке, т.1, Орджоникидзе, 1976, с.477, примечание 108. 49. КРО, т.2, М., 1957, с. 56-57. 50. Сост. Х.М.Думанов. Русские авторы XIX в. о народах Центрального и СевероЗападного Кавказа. Сб. документов, т.1, Нальчик, 2001, с.22. 51. КРО, т.2, с.64. 52. Г.А.Кокиев. Материалы....с.34-35. 53. М.М.Блиев. Ук. соч., с. 37-38. 54. В.Б.Виноградов. Тайна Чегемского ущелья. КБП, № 26, Нальчик, 1987. 54-а. ЦГА РСО-А, ф-245, оп-1, д-42, л-3-4. 55. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария..., с.106. 56. Б.В.Скитский. Очерки истории горских народов. Орджоникидзе, 1972, с.152. 57. Н.С.Киняпина, М.М.Блиев, В.В.Дегоев. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. М., 1984, с.113. 58. Г.А.Кокиев. Материалы..., с.124. 59. Х.М.Думанов. Ук. соч., с.35. 60. Архив КБНИИ, Балкарский фольклор, фонд 13, оп. 1, папка 10, ед. хр. 1. 61. Л.И.Лавров. Из поездки в Балкарию. СЭ, № 2, М-Л., 1939, с.176-177. 62. Л.И.Лавров. Карачай и Балкария..., с.118. 63. КРО, т.2, М., 1957, с.312. 64. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.118-119. 65. Там же, с.118. 66. Х.М.Думанов. Ук. соч., с.35. 67. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.94. 68. Там же. 69. Б.Скитский. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до 1867 года. ИСОНИИ, т.XI, Дзауджикау, 1947, с. 146. 70. Там же. 71. С.Броневский. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, т.2. М., 1823, с.222. 72. С.Бейтуганов. Кабарда и Ермолов. Очерки истории. Нальчик, 1993, с.114-116. 73. Там же. 74.ЦГА, КБР, ф.1, оп.1, д.31, л.124-125. 75. Кол. авт. Очерки истории балкарского народа. Нальчик, 1961, с.69. 76. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.95. 77.Сост. Х.М.Думанов, Ф.Х.Думанова. Правовые нормы адыгов и балкаро-карачаевцев в XV-XIX вв. Сб. документов. Майкоп, 1997, с.163. 78. ДИБ, Нальчик, 1959, с.19, 24. 79. С.Бейтуганов. Ук. соч., с.219. 80. Сост. Х.М.Думанов. Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая половина XVIII – первая половина XIX вв. Сб. документов. Нальчик, 2000, с.392. 81. Там же. 82. ДИБ, Нальчик, 1959, с.85. 83. В.Ф.Миллер. Терская область, с.75-76. 84. ЦГА КБР, ф.2, оп.1, д.1682, л.2. 85. ЦГА КБР, ф.2, оп.1, д.1037, л.1. 86. ЦГА КБР, ф.31, оп.1, д.3, л. 190. 87. А.Долгушин. Через Сванетию к Эльбрусу. СМОМПК, вып.28, Тифлис, 1900, с.162-163. 88. Н.Г.Волкова. Этнокультурные контакты народов горного Кавказа в общественном быту. КЭС, IX, М., 1989, с.174-175. 89. Л.И.Лавров. Ук. соч., с.119. Заключение Совокупность всего достигнутого в области балкароведения являет собой картину исторического прошлого, хотя во многом и убедительную, но, пожалуй, несколько эклектичную и не всегда равноценную по степени разработанности отдельных аспектов. В последние годы некоторое расширение источниковой базы наряду с альтернативными подходами к разработке той или иной проблемы дают возможность дополнить круг традиционных представлений, пересмотреть какие-то из выдвинутых ранее положений, внести коррективы в расстановку акцентов. С переходом от так называемого «золотоордынского» периода к позднему средневековью этнополитическая ситуация на Центральном Кавказе изменилась коренным образом. Балкаро-карачаевцы и осетины – немногочисленные остатки некогда могущественных ирано - и тюркоязычных племен, оказались запертыми в теснинах Большого Кавказа, почти изолированных от внешнего мира. Территориальная расчлененность отдельных локальных групп, изоляция их от равнины и отсутствие жизненного пространства обусловили крайне замедленные темпы естественного прироста населения, этнической консолидации «обществ», их культурного и социально-экономического развития. Процесс стабилизации и обустройства осложнялся целым рядом обстоятельств – этнической и социальной неоднородностью населения; общественно-политическим хаосом, неизбежным после крушения великих империй (в данном случае Золотой Орды); феодальной экспансией Кабарды и т.д. К тому же, катаклизмы XIII-XIV вв. почти свели на нет все достижения предков в области экономики и культуры, большинство ремесленников либо погибло, либо было уведено завоевателями в Азию. Тем не менее, культура средневековой Балкарии (как и всей горной зоны), представленная археологическим материалом XV-XVIII вв., отражает хотя и медленный, но все же процесс развития ряда унаследованных и заимствованных форм. Правда, ее эволюция не представляла собой единый, взаимосвязанный во всех своих проявлениях процесс. Достаточно ощутима, например, динамика архитектурного развития, в то время как художественная обработка металла отражает заметную деградацию по сравнению с уровнем аланской эпохи. При довольно близком сходстве с культурой соседних народов, культура горских обществ Балкарии содержит в себе и черты заметно выраженного локального своеобразия. Одной из наиболее значимых особенностей этой культуры является наличие в ней признаков, свойственных культуре классовых обществ. Отличие «двух культур» одного этноса в данном случае не количественное, а соционормативное. В сфере материальной культуры нагляднее всего это прослеживается в специфике архитектуры. Единственным районом высокогорного Кавказа, где полностью завершился процесс монополизации феодалами права на возведение боевых башен и монументальных наземных усыпальниц, была Балкария; на остальной территории они сосуществовали с аналогичными сооружениями хотя и «сильных», но все же нефеодальных фамилий, или же феодальных резиденций не было вообще. Приблизительно к XVII в., с окончательным самоутверждением таубиев и стабилизацией политической ситуации отпадает необходимость в сложных и неприступных комплексах типа Зылги, Усхура или Курнаята, в которых все составляющие их постройки равноценны по фортификационным качествам. Резиденции XVII-XVIII вв. больше рассчитаны на относительно мирную жизнь. Как правило, они уже локализованы в черте поселений, а единичные башни являются только вкраплением в общую массу жилых и хозяйственных построек, представляя уже не столько укрепление, сколько знак, символ, зримое воплощение социального статуса. Сам процесс феодализации наметился не позднее золотоордынского периода, а вовсе не в XVI-XVII вв., как это склонны полагать некоторые историки. В XV столетии грузинские источники уже называли Верхнюю Балкарию «Басиани» – по имени легендарного родоначальника таубиев Басиата. Окончательное возобладание феодальной формации безусловно связано с миграцией в горы тех предков балкаро-карачаевцев, которые до конца XIV столетия населяли предгорно-плоскостную зону Центрального Кавказа. Что касается уровня феодализации горских обществ, то он определялся сочетанием самых различных факторов, из которых наиболее существенными представляются два: - мизерность народонаселения, к тому же, еще и разобщенного на взаимно изолированные локальные группы; - почти полное отсутствие жизненного пространства, недостаточность собственных экологических ресурсов даже для годового производственного цикла. В подобных обстоятельствах потенциал социального развития был предельно ограничен. Но в стадиальных рамках раннефеодальной формации уровень социальной стратификации все же оказался достаточно высок, чтобы «влиятельная» (по грузинским источникам) балкарская знать сумела органично «вписаться» в феодальную иерархию центральнокавказского субрегиона. Некоторые из узловых проблем все еще остаются в числе дискуссионных. В частности, пока нет единого мнения по вопросу о специфике феодальной собственности на землю. Не претендуя на категоричность конечных выводов, хотелось бы все же отметить, что вся совокупность доступной информации на этот счет дает основание экстраполировать на балкарскую действительность заключение А.Гуревича, основанное на анализе европейских материалов: на ранней стадии рассматриваемой формации «феодальная собственность представляла собой не право свободного распоряжения какой-либо территорией, а власть над людьми, живущими и трудящимися на этой земле» (А.Гуревич. Избранные труды, т.1, М-СПб, 1999, с.219). Выделение каких-то событий или процессов, мало-мальски значимых для судеб народа в «дороссийский» период его истории, затруднительно ввиду дефицита источников. Материалы устной традиции сохранили отголоски событий XV-XVI вв., связанных с борьбой местной, горноаланской и пришлой «маджарской» знати, процессом внедрения новых, относительно более развитых форм социальных отношений. Другой аспект данного экскурса – отношения горских обществ с внешним миром, и, прежде всего с феодальной знатью Кабарды. Источники отражают сложный, противоречивый характер этих отношений, неравноценных по своей значимости для различных слоев населения. В кавказоведческой литературе правомерно констатируется факт, что инкорпорацией горской знати Центрального Кавказа в феодальную иерархию Кабарды завершился процесс классовой консолидации аристократических кругов края для совместного господства над массами. Но преувеличивать уровень этой консолидации, пожалуй, нет оснований. Экспансионизм политически доминировавших групп постоянно подвергал ее испытанию на прочность, в то время как блокада ущелий и дефицит экологической базы скотоводческого хозяйства объективно способствовали солидаризации горских феодалов с подданными и осознанию этой проблемы как общеэтнической. В целом к сложившемуся порядку вещей горские народы относились «с отвращением», однако их попытки одностороннего разрыва иерархических связей посредством самоизоляции были заведомо бесперспективны. Во второй половине XVIII – начале XIX вв. отношения гор и равнины вступили в полосу острого кризиса, неразрешимого в условиях отсутствия государственности. Кардинальное решение наиболее актуальных проблем своего народа таубии справедливо видели в сближении с Россией (не забывая, конечно, и о своих сословных интересах). Отсюда – нарастание пророссийской политической ориентации горских обществ, зародившейся никак не позднее XVII столетия. Вмешательство генерала А.П.Ермолова ускорило достижение намеченной цели, а окончательное вхождение Балкарии в состав Российской империи ознаменовало собой конец средневековья и вступление горцев в эпоху своей новой истории. Список сокращений АБКИЕА – Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов. АВДИКБ – Археология и вопросы древней истории Кабардино-Балкарии. АИНКБ – Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 19721979 гг. АКАК – Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией. АЭС – Археолого-этнографический сборник. ВЕ – Вестник Европы. ВИ – Вопросы истории. ГОЭОПОРФНСК – Генезис, основные этапы, общие пути и особенности развития феодализма у народов Северного Кавказа. ДНКППВМГРР – Душетская научная конференция, посвященная проблеме взаимоотношений между горными и равнинными регионами. ЗИРАО – Записки императорского Русского Археологического общества. ЗИФФСПУ – Записки историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. ЗКОИРГО – Записки Кавказского отдела императорского Русского географического общества. ИИРАО – Известия императорского Русского археологического общества. ИООИА – Известия общества по обследованию и изучению Азербайджана. ИСКНЦВШ – Известия Северокавказского научного центра высшей школы. ИСОНИИ – Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института. ИЮОНИИ – Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института. КБНИИ – Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт. КБИГИ – Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований. КБФ – Карачаево-балкарский фольклор. КНВ – Культурное наследие Востока. КСДСКЧ – Краткое содержание докладов и сообщений Среднеазиатско-Кавказских чтений. КРО – Кабардино-русские отношения. КЧ-VIII – Крупновские чтения, тезисы докладов (римскими цифрами обозначены номера чтений). КЭС – Кавказский этнографический сборник. МАК – Материалы по археологии Кавказа. МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. МНС-59 – Материалы Всесоюзной научной сессии 1959 года по проблеме происхождения балкарцев и карачаевцев. МЭ – Материалы по этнографии. МЭГ – Материалы по этнографии Грузии. ОАК – Отчеты императорской археологической комиссии. ОГРИП – Осетины глазами русских и иностранных путешественников. ППКОО – Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах. ПХАПСК – Проблемы хронологии археологических памятников Северного Кавказа. ПЭЭИНСАК – Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. РГ – Революция и горец. СА – Советская археология. СГАИМК – Сообщения государственной Академии истории материальной культуры. СКДСВ – Северный Кавказ в древности и средние века. СМАЭ – Сборник Музея антропологии и этнографии. СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. СМОИЗО – Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. ССИКБ – Сборник статей по истории Кабардино-Балкарии. ССНР КБГУ – Сборник студенческих научных работ Кабардино-Балкарского государственного университета. СЭ – Советская этнография. ТВОРАО – Труды Восточного отделения Русского Археологического общества. ТДСПИПЭАИ – Тезисы докладов и сообщений, посвященных итогам полевых этнографических и археологических исследований. ТИМАО – Труды императорского Московского Археологического общества. Тр.КЧНИИ – Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. ТС – Терский сборник. УЗКБНИИ – Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. ЦГА КБР – Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской республики. ЦГА РСО-А – Центральный государственный архив республики Северная Осетия – Алания. ЭИТНССТ – Этническая истории тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Таблица 1 Замок Курнаят. Юго-западная группа сооружений (частничная реконструкция с фотоснимка 1913 года и рисунка конца XIX века в альбоме Д.А.Вырубова) Таблица 2-1 Башня в верховьях реки Сукансу. Ситуационный план Таблица 2-2 Башня в верховьях реки Сукансу. План и разрез Замок Джабо-кала (разрез) Таблица 4 Замок Джабо-кала (реконструкция по фотоснимку 1959 года) Таблица 5 Башня Абаевых в селе Шканты (с рисунка З.П.Тулинцева, 1886 года) Таблица 6 Башня Абаевых в селе Кюннюм (разрез и план) Таблица 7 Усадьба князей Балкаруковых в Верхнем Чегеме (с фотоснимка 1924 года) Таблица 8 Усыпальницы Абаевых в селе Шканты (с фотографии 1913 года и рисунка З.П.Тулинцева, 1886 года) Таблица 9 Верхний Чегем. План некрополя Фардык Таблица 10 Некрополь Фардык, усыпальница №1 Таблица 11 Некрополь Фардык, усыпальница №9 Таблица 12 Бескамерное сооружение в форме наземной усыпальницы. Некрополь Фардык (с фотоснимка 1924 года) Таблица 13 Вещевые находки в укреплении Зылги (с.Верхняя Балкария) Таблица 14 Вещевые находки во второй башне Абаевых в с.Кюннюм (1,5), замок Курнаят (2) и Джабо-кала (3-4, 6-7) Таблица 15 Вещи из наземных усыпальниц №№2 (4), 3 (12), 5 (2, 10-11), 6 (1, 8), 9 (3, 5-7, 9) некрополя Фардык Таблица 16 Серебряные нашивки на женскую шапочку и наземной усыпальницы близ церкви Байрым (АЭ КБНИИ 1959 г.) Таблица 17 Инвентарь погребения №6 Кашхатауского могильника Таблица 18 Инвентарь погребения №13 Кашхатауского могильника Таблица 19 Одно из погребений Ташлы-Талинского могильника Таблица 20 Одно из погребений Верхне-Холамского могильника Таблица 21 Предметы из погребений Ташлы-Талинского могильника Таблица 22 Вещи из семейной усыпальницы замка Усхур (1-9); из погребений Ташлы-Талинского (10), Верхне-Холамского (11-13, 15-16) и Байрымского (14) могильников Таблица 23 Некоторые разновидности средневековых каменных надгробий (1 - Жанхотеко; 2 Безенги; 3 - Верхний Холам; 4 - Хабаз) Таблица 24-1 Христианская церковь на реке Гестенты (с фотоснимка 1913 года) Таблица 24-2 Разновидности крестов на каменных надгробиях и стенах архитектурных сооружений Таблица 25 Обследованный участок средневекового водопровода в селе Верхний Холам