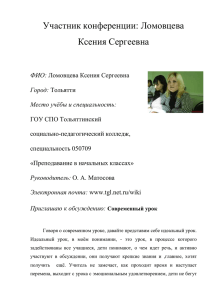Поэзия Сюньков - Самарская областная писательская организация
advertisement

Визит Ссылка: http://samaralit.ru/?cat=82 Автор: Геннадий Сюньков (г. Самара) Поэт, прозаик и публицист Геннадий Константинович Сюньков родился в 1940-м году в деревне Дубёнки Ульяновской области. Служил в армии, работал трактористом, токарем, бетонщиком, редактором районных и республиканских газет, деканом факультета журналистики. Окончил Уральский госуниверситет, Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, аспирантуру при МГУ. Кандидат филологических наук. Он является автором более 30 книг, в частности, - «Взлетная полоса», «Перекресток вечности», «33 несчастья», «Звезда над бездной», «Братва слезам не верит», «Шестой причал», «Послеполуденный сон фавна», «ДжоКонда», «Взгляни тайне в лицо» и многих киносценариев, краеведческих и публицистических книг. На стихи Геннадия Сюнькова российскими композиторами написано около ста песен. Живет и работает в Самаре. В полуночном мраке мглистом Это высший пилотаж – Ель обняв, подняться лифтом На шестнадцатый этаж, Отстранив тебя с порога, В узкий втиснувшись проход, Запах леса и мороза Подарить на Новый год, Чтоб сквозь приторность пельменей, чада кухонной плиты Изо всех местоимений Слышать ласковое: «Ты?», Чтоб, увидев мимоходом Тех, кто загодя пришел, Растеряться: «С Новым годом! Извините. Я пошел…» ДВИЖЕНИЕ Сегодня я проснулся в три часа. В окно влетал ночной прохладный ветер, Качались занавесок паруса, За ними в полумраке я заметил, Как белых лепестков кружился пепел За рамою у самого стекла, Где жизнь рекою бурною текла, Какой-то внешней силе подчиняясь, Где мир не спал, в движении меняясь, Как будто предъявить мне торопясь Живую и отчётливую связь Любых, доступных взору колебаний С дыханием Вселенной в точке дальней, Которая сквозь вечный свой полёт Движения рожденье задаёт. Всё движется в просторах мирозданья, Все наши мысли, радости, страданья Есть только производные того Движения вселенского. Его Над нами власть поистине безбрежна И все мы подпадаем неизбежно В течение движения реки, Порою нашей воли вопреки. Мы движемся у Времени в нирване, Мы движемся и лёжа на диване, Где наша мысль, движения полна, В полёт нас вовлекает, как волна Энергий созидательным зарядом, А, значит, мы всегда и всюду рядом С дыханием Вселенной, в бездны мчась, Как та неотторгаемая часть, Которая дерзанием ума В движенье, как Вселенная сама, И мне доносят облачные ветры, Что все мы, как Вселенная, бессмертны. ЛОГОС Я жил, не замечая мира, Как сыч из тёмного дупла, Но вдруг ко мне явилась лира, И слух, и зрение дала. И я увидел неба лоно, Сиянье дальнее светил, И я внимание на слово Тогда впервые обратил. Хоть к слову путь тяжёл и долог, Я весь прошел тернистый путь, И прорастал во мне филолог, Который видел слова суть. А как средь суетного пира И пустословия речей Познать, что слово – мера мира И квинтэссенция вещей? Лишь в руки дав понятий глобус, Сказала лира мне: «Пойми, Когда тебя пленяет логос, То это высший тип любви. Каким бы мир ни мерить метром, Лишь слова будет в нём стезя Твоих открытий инструментом И познаванием себя». ДУХ УНЫНИЯ Отдав на волю ветра крылья, В плену усталости большой, Как грешный ангел, дух унынья Летал над скорбною душой. Терзала боль невыносимо, Где избавленья не видать, И тут душа меня спросила: «Доколе буду я страдать?» И я увидел: путь не светел, Идти сквозь тьму придётся мне, И я душе своей ответил, Как протопоп своей жене. УЧЕНИЕ Представ с утра пред божьим ликом, Его ответа я просил: «Зачем, с какою целью Никон Твое ученье исказил?» Мне доставляла мысль мученье И боль для сердца моего, Ужель неправедно ученье, Чтоб реформировать его? Ужель мы шли путём неверным Сквозь всю страны своей судьбу? И хоть я не был старовером, Я сердцем принял их борьбу. В своих путях по бездорожью Мы шли к единому Ему, И я реформы слова божья Никак душою не приму. Нет, не затем Господь великий В пути заблудших наставлял, Чтоб через годы некий Никон Его ученье исправлял. Не для того же божьей лаской Пролит нам в сердце был елей, Чтоб божье слово всякий пастырь Менял по прихоти своей. ПЕНСИОН Есть у меня знакомый немец, И вот пришёл однажды он, И заявил: «Ты – иждивенец, Коль получаешь пенсион». И, подавив свою досаду, Я понял: дело не в рубле, Работать надо до упаду, Покамест жив ты на Земле. СЛАВА Ты мой триумф встречать не выйдешь, Моя любимая жена, Моей ты славы не увидишь, Зачем тогда она нужна? СУЕВЕРИЕ Сидел я, Пушкина листая, И был печали полон я, А за окном летела стая, Как будто туча, воронья. Мир заоконный был просторным, Но поменялось что-то вмиг, И даже небо стало чёрным, В нём призрак гибели возник. За дребезжаньем рамы нервным Иная жизнь совсем текла, Пахнуло страхом суеверным От потемневшего стекла. И эти чёрные вороны, Вдруг налетевшие волной, Казались песней похоронной, Сгустившей сумрак надо мной. И в этой сутолоке шумной В сознанье ужас проникал: Многоголосый гвалт вещуний Мне будто гибель предрекал. Но вдруг, как будто по команде, Исчезло злое вороньё, Как будто бог могучей дланью Явил величие своё. И снова солнце показалось, И хлынул свет со всех сторон, И не приметы не осталось От предсказания ворон. БЕЗ ПАРУСА Туда, где только тьма безлюдная, Где только тягостная мгла Из океана жизнелюбия Ты слишком скоро уплыла. А я болею. Ставлю градусник И мну ладонью телеса, И, как в твоей новелле «Парусник», Плыву, утратив паруса. На белый свет смотреть не хочется, Где я сегодня наяву По океану одиночества Уже без паруса плыву. Меня тоска терзает лютая По дням, растаявшим, как дым, Где в океане жизнелюбия Была ты парусом моим. КОЛБА Ура! Ликуйте особи, Полна лекарства колба. Нашли в Европе способы Продлять нам жизнь надолго. И в голоде, и в холоде Живёт людей без меры, Продлят вам геронтологи Ваш срок, пенсионеры. Не медля, увеличится, Считать не хватит нервов, Огромное количество Больных пенсионеров. Больных у нас – немеряно. Число их прибывает. И, может быть, намеренно Больницы закрывают. Хотят врачи житьё-бытьё Продлить на сорок лет, Но вот, зачем продлять его, Когда здоровья нет? И как тут ни отчаяться, Коль через десять лет Планета превращается В огромный лазарет. Врачам бы тезис выучить, Чтоб нас не распалять: Сначала надо вылечить, Потом и жизнь продлять. ХОЛОД Ничто меня не радует, В работе нет огня, И воля к жизни падает У слабого меня. И ветреные женщины Прийти ко мне боятся, И встречи, что обещаны, Не могут состояться. Липучая апатия Пришла ко мне незвано, Осталась лишь симпатия К любимому дивану. Лишь он один, как истина, Стоит неколебимо, На нём полно написано Стихов моей любимой. Не стало больше повода Слова свои плести, И стало столько холода, Нельзя перенести. Я Я думаю в свободные часы, Как верить мне зоилов чёрным бредням: «Он человек из средней полосы, И должен оставаться только средним». Наверное, что так оно и есть, Пора бы мне свою умерить спесь И в норку иль в какой-нибудь камыш Запрятаться, как серенькая мышь, Где критикой влекомый идиот Меня и с микроскопом не найдёт. Но что-то побуждает на протест, Не так уж откровенно я убог, И думаю: свинья меня не съест. Пока меня ведёт по жизни бог. Не гений я, но вовсе не тупой, Поскольку много лет со всех дорог Ко мне идут поклонницы толпой, Как будто я действительно пророк. Они ко мне питают интерес, Хоть нет на мне наград и эполет, Но если я им нужен позарез, То вряд ли я лишь средний человек. ДИКАЯ ОХОТА Гуляло стадо антилоп В прохладе около ручья, И я одной ударил в лоб Из гладкоствольного ружья. Назад забросивши главу И растопырив ноги врозь, Красотка рухнула в траву, Вокруг разбрызгивая кровь. Но я недолго ликовал, Её сразивши наповал. В пыли копытами скреблась В тупых конвульсиях она, И туча мух над ней вилась, От крови запаха пьяна. И, приготовившись к броску, И, пир предчувствуя уже, Орёл-стервятник на суку Добычи ждал настороже. И взять хотелось мне назад Весь свой охотничий азарт, И время отмотать на срок, Где я беспечно взвёл курок. И я представил: это ты Лежишь, любимая моя, И эту гибель красоты Принёс ни кто иной, как я. И вал вины меня объял, Вонзившись в сердце, словно гвоздь, Ведь я однажды силой взял Твою нежданную любовь. Миг (Легенда) Гулко стучат каблуки. Мостовая Вслед уходящему серому строю, Каменной шкурой своей остывая, Пахнет железом и потом, и кровью. Неумолимо, железно, жестоко, Ритмом являя арийскую точность, Танков броня наползает к востоку Мрачной, литой, ледниковою мощью. Громом подавлена, улица сжалась, Времени боязно сдвинуться с места. Всякий живой, не надейся на жалость – Это понятие здесь неуместно. Чёрною тучей каратели мечутся, Звякает в травах патронная медь. Каждый советский, спеши «онемечиться», Если не хочешь навек онеметь. Пусто и тускло в глазах непреклонных, Бурые пальцы налиты свинцом. Есть ли в уверенных сытых колоннах Сердце живое? Живое лицо? …Пушки гремят, маршируют арийцы. Небо от свастик на крыльях черно. В ставке, нахохлен могильною птицей, Фюрер задумчиво смотрит кино. Что за идея у этого ролика? Фальши не скроет искусный монтаж. Холодом в спину повеяла хроника. Зябко запрыгал в руке карандаш. Что за кошмар на востоке творится? Так ли у фронтом прочерченных линий Хлебом и солью встречают арийцев Эти тупые славянские лица? Мало каратели русских давили? Мало могил в этой дикой глуши? Ну-ка, скажите мне, Бауэр Вилли, Вы, ведь, знаток этой русской души? – Фюрер, с таким полудиким народом Нечего времени попусту тратить. Наши советники – сила и строгость. Наша опора – солдат и каратель. Что ж до теории – равенство, братство – В пух разлетятся. Не делаю тайн, Если кому уготовано рабство – В первую очередь – русише швайн. Я повидал этих русских немало, Как говорится, впрямую, без ширм. Был я тогда на заводах Урала Эксперт технический западных фирм. Помню с одним я беседовал часто. Стройный, с красивым арийским лицом, Мог бы он немцем типичным казаться, Если б не имя его – Кузнецов. Но, как его не склонял я к идее Избранной расы особой судьбы, Даже немецким неплохо владея, Так и не понял он нашей борьбы. Так и другие, как он, примитивны. Тёмным народом непросто владеть. Вам пригодятся их руки и спины, Только вот головы их куда деть? Бауэр кончил, и нос, словно флюгер, В сторону хищных белков повело. Бауэр думал: оценит ли фюрер Эту прозрачную шутку его? И, оценив по достоинству шутку, Фюрер под френчем дрожащую руку Спрятал, и мрачно сказал через силу: – Вилли, ты снова поедешь в Россию. Эксперту фронт – неплохая наука. Всё без эмоций и взвесь, и реши: Есть ли опасность немецкому духу В тайне загадочной русской души? …Небо окуталось чёрною мглой. Волн вереницы черны, как смола. Чёрные ливни прошли над землёй, Чёрная выросла в поле трава. Там, где дороги на русский восток Вымыли чёрные ливни, Едет под Ровно в карательный полк Посланный Фюрером Вилли. Шаг его крепок и взгляды грозны, Скор его суд и расправа. Бауэр Вилли – хозяин страны, Доктор фашистского права. Всех он глазами берёт на прицел, Весел, подтянут и выбрит. Вдруг повстречался ему офицер С древней фамилией – Зиберт. Вилли и глазом моргнуть не успел, Плечи поднять от подушек, Как появился в вагонном купе Этот нежданный попутчик. Вилли опешил. Просить аусвайс, Глазом водит оробелым, Вряд ли захочется, если на вас Смотрит в упор парабеллум. Вытянул Вилли гримасой лицо, Белый от липкого страха. – Боже мой! Вы это, герр Кузнецов? Вы – инженер с Уралмаша? – Бауэр Вилли? Противно смотреть – Тряпка в полковничьем чине! Встаньте с коленей и встретите смерть, Как подобает мужчине. И, подавляя предательский страх, Словно в смертельном недуге, Вилли поднялся на ватных ногах, Спрятал дрожащие руки. – Должен признать, что у русской войны Странные очень законы. Разве бы так мы встречаться должны? Мы ведь немного знакомы. Не зачеркнёте вы эту строку Жизни другими любыми. Помнится, я вас учил языку. Разве вы это забыли? Может быть, прошлое наше ценя, Вы парабеллум убрали б? Вы же не брали на мушку меня В бытность мою на Урале. Как вас судьба изменила хитро С той, незабывшейся, встречи! Там, на Урале, – конструктор в бюро, Здесь – партизанский разведчик. Знаете, встретить такого врага Даже немножечко лестно. Вам, ведь, не менее жизнь дорога, Мне это точно известно. Только за что рисковать так легко? Ну-ка, подумайте сами! О, вы могли бы взлететь высоко! Если бы были вы с нами! Верность России вам надо сменить Верностью нашему флагу! Знайте, арийцы умеют ценить Ясность ума и отвагу. Как вам идёт офицерский мундир! Лучших фигур я не видел. С нами вы весь завоюете мир, А с коммунистами – гибель. Знаете, сколько арийская рать Армий отборных скосила? Разве разумно, скажите, вставать Против незыблемой силы. Кроме того, ведь ступени эпох Так уж спирально устроены, – Снова появятся Даргель и Кох На поворотах истории. Вновь возвращаться к истокам своим Время имеет коварство. Миру, поверьте мне, нужен фашизм Так, как больному лекарство. Нас одолеете – будет расти, Словно морковка из грядок, В Азии, в Африке – всюду в чести – Новый фашистский порядок. Наци вселенной изменят лицо. Всюду – в Москве, на Урале – Скоро забудутся, герр Кузнецов, Ваших свобод идеалы. –Бауэр! Я вас прерву на момент – Станция близится вскоре – Пуля сейчас основной аргумент В нашем нечаянном споре. Если бы даже остались вы жить, И не с нацистами даже, Вам бы вовеки с души не отмыть Их философии сажу. Вышел рабочий сжигать и крушить, Лозунгам фюрера веря, Даже поэтому только фашист Много опаснее зверя. Всё человечье развеяно в прах! Всем, кто противится, – в ухо! И называется мерзостный страх Культом немецкого духа. Всех несогласных пинком убеждать Вызвались сытые рыла, Пешки, привыкшие не рассуждать, Если командует сила. Арии – люди элитных пород! Зря эту линию гнёте Вами обманут немецкий народ. Преданы Шиллер и Гёте. Память об этом мне право даёт Мстить вам и ныне, и вечно… Сухо ударил о капсюль боёк. Бауэр понял – осечка. …Бил в чёрное небо прожекторов свет. Сирены отчаянно выли. Был к фюреру вызван в его кабинет Вернувшийся Бауэр Вилли. Ни тени вопроса в холодных глазах, Но, словно над чёрною бездной, К вошедшему Вилли придвинулся страх, Который таит неизвестность. И Вилли в испуге отпрянул назад, И веко задёргалось странно, И фюрер аметил испуганный взгляд, И жестом отправил охрану. Ладони сцепил, и в подземной тиши Суставы защёлкали сухо. –Так, что же, загадочность русской души Сильнее немецкого духа? Уверенность ваша рассеялась в дым, Что выше арийская раса? И Вилли в молчанье стоял перед ним, Быть может, не менее часа. Ответить бы надо, избегнуть грозы, Спастись измышлением срочным, Но Бауэр Вилли свой резвый язык Оставил на фронте восточном. В сожженной России, где даже снега Врагу не хотят покориться, Всё больше он чувствовал немцем себя, Всё меньше и меньше – арийцем. Всё чаще и чаще средь чёрных лесов Врывался в тревожную память – Не Зиберт, а просто ещё Кузнецов, Весёлый, отчаянный парень. – Что ж, Бауэр Вилли, на свете никто Не сможет тягаться с забвеньем. Молчанье продлите вы пулей в висок, Как то подобает военным. И правда не сможет уже никогда Коснуться немецкого слуха, И будет уверен немецкий солдат В победе немецкого духа. И будет арийцам на тысячи лет Фашизм и вождём и кумиром. Для избранной расы сомнения нет В её превосходстве над миром И если б кто сам размышлять захотел, Не трудно его покарать нам. Я вас посылал на восток не за тем, Чтоб вы убедились в обратном. Без веры солдат уже будет не тот. Он думать не может, не должен. А значит, что только смертельный исход Для вас остаётся возможен. … За дверью менялась охрана. Шаги Плескались меж стенами мерно, А в бункере молча стояли враги, Чертой разведённые смертно. Пока к пистолету тянулась рука, Сознанье явило подробно Ночной разговор, хоть была коротка Та встреча под городом Ровно. Ну что ж, Кузнецов, как лисой ни крути, А надо признать, что вы правы, Ведь все мои долгие годы во лжи Не стоят мгновения правды. В последнем мгновенье мне только дано Уйти из-под лживого ига, Но стоило жить, чтоб случилось оно – Прозренье смертельного мига. ДЕНЬ ЯРИЛЫ Средь грозных бурь во время смуты И за сумятицею лет Бывают редкие минуты, Когда увидишь дальний свет. За долгой сутолокой тусклой, Где мысли взлёт почти забыт, Творцы высокого искусства Сиять заставят серый быт. И где ворюги и барыги В своём блаженствуют мирке, Вдруг появляется Пурыгин, Как с ярким факелом в руке. Его талантливая кисть Вдохнет искусство в нашу жизнь. И света круг прорвётся вдруг, Преображая всё вокруг. Мы с ним знакомы были близко. Я весь вошел в его дела, Едва самарская прописка Печатью в паспорт мой легла. Он был в работе день-деньской, Да он и жил одной работой, И уходил из мастерской, Похоже, с явной неохотой. А в мастерской его — содом. Как будто волны у плотины. Там помещались лишь с трудом Его эскизы и картины. Над головой навис сюрприз Капризной авторскою волей. Казалось, миг — и хлынут вниз Полотна с зыбких антресолей. И среди штабелей холстов – Высокий, крепкий, вдохновенный – Пурыгин был, как Саваоф В момент творения вселенной. И у него, как и у бога, Был человек без запчастей, Где было много от Ван Гога – Волнений, болей и страстей, Где все как будто говорило: Да, здесь позиция своя: Хотите знать вы, кто Ярило? Так вот, Ярило — это я. Процесс творенья не закончен, Шаблон не может быть един, И, коль душа того захочет, Мы мир по новой создадим. Нет, не в укор творенью бога, А по велению его, Чтоб в красках русская природа Свое справляла торжество. Пусть всходит солнце над долиной, Над синевою волжских вод, И крепкий осокорь былинный Его приветствует восход. И, головой достав до неба, Стоит, как русский богатырь, Где, разметавшись на полсвета, Простерлась девственная ширь, Где звезды — россыпью над высью, Как с чистым жемчугом ларец. И передать все это кистью Лишь может истинный творец. Пурыгин, сызмальства привычный К суровой жизни трудовой, Любил природу как язычник, И ощущал её живой. Еще в своем голодном детстве, До сотворения миров Искал он истину в наследстве Волшебной кисти мастеров. И пред людьми непогрешимы, Где каждый — гений и титан, Его манили, как вершины, Саврасов, Репин, Левитан. И с детства сердцу в такт стучало, Равно — в столице иль в глуши – Большого творчества начало Незримой музыкой души. И, пробуждая чувство долга, Отдать души своей огонь, Его рукой водила Волга, Когда он кисти брал в ладонь. Объявши лентой голубою На треть планеты нашей шар, Река подарена судьбою Ему была, как главный дар. Не смог он с Волгой жить в разлуке, Поскольку, видно, оттого Вдали от дома все недуги Пошли атакой на него. Его характер не был гладким. Подобный в кузницах куют. Он верил: будешь слишком сладкий, Не иссосут — так расплюют. Он изъяснялся без оглядки, Как мотылек в огонь летел, Но только этой правды-матки Никто услышать не хотел. Была тропа его скалиста, Где так легко скатиться вниз. Кто будет слушать реалиста, Коль в моде абстракционизм? Впадать в одно со всеми устье Лишь только слабого удел, И ладить с мэтрами в искусстве Он не умел и не хотел. Он мог с наивным взглядом детским Просыпать резкое из уст, И показался слишком дерзким Для сильных мира от искусств. И, как всегда, в столичном стиле, Все, навалясь на одного, Кто непокладист, не простили, За неуживчивость его. Он стал в Москве как будто лишний, Какие вовсе не нужны, И он покинул гам столичный Заветной ради тишины. Недаром Волгу так красиво Творили щедрые века, Что если в мире есть Россия, Она — Самарская Лука. Пурыгин был влюблен в Поволжье, Где солнцем выжженный осот, Где даже грязь и бездорожье Милее западных красот. В его душе рождалось чувство, Что вовсе это неспроста, Что выше всякого искусства Живая эта красота. Но нелегки дороги в гору. Синклит отрезал, как ножом, Что хлеб искусства слишком горек, А путь к признанию тяжел. Сужденья этого синклита Цедил весь свет через губу, Когда столичная элита Ломала гению судьбу. И было вроде неприлично, Что, окунувшись в массу дел, Художник этот про практичность Совсем понятья не имел. И ни едою, ни жилищем Сам тыл не обеспечив свой, Художник был почти что нищим В обычной жизни бытовой. Скитаясь в положенье бомжа По веренице тусклых дней, Он верил в то, что искра божья Всего в художнике важней. И он себя утешил мыслью, Что жизнь — глубокая река, И предпочел работу кистью Работе бойкой языка. Рабочий день его был плотен От суеты вдали мирской. И встали тысячи полотен В его самарской мастерской. Но мастерство его ковалось Среди красот родной земли, И там часов не оставалось Ни для себя, ни для семьи. Его печальная Галина Вкусила вдоволь тяжких дней, И все невзгоды с ним делила, Где не поймешь, кому трудней. О, сколько в этой горькой яви Ей нес печали день любой, Где море слез над сыновьями, Над их трагической судьбой. Ах, если б жизненный экзамен Вернуть возможно бы назад! Но лишь отцовскими глазами Их фотографии глядят. Пройти по жизненному полю Легко, когда в нем счастье есть, А если выпало на долю Им столько боли перенесть? Но разве мы не замечали, Что стало притчей на устах, Как много боли и печали На всех пурыгинских холстах? На прочность жесткая проверка Дана Пурыгину была, Чтоб вера в солнце не померкла, Чтоб вера в жизнь не умерла. Была похожа на сраженье Такая жизнь, где, словно казнь, В словах любви и уваженья Коллег сквозила неприязнь. Не заслужив постов и званий За взгляд свой острый, как клинок, К финалу общего признанья Он оказался одинок. Когда о нем заговорили, То стало видно по всему: В искусстве есть теперь Пурыгин, И он не нужен никому. Но были те, кто свято верил: Здесь явно с гением родство. Еще весь мир откроет двери Перед полотнами его. Увы, но солнышко Ярилы, Когда и жизнь уж истекла, Художнику не подарило, Пусть и посмертного, тепла. Обходят коллекционеры – Знаток мне это говорил – У них пошаливают нервы От бесов, леших и ярил. Не тычьте в лешего указкой! Художник был превыше зла, Ведь для него волшебной сказкой Земля родимая была. И удивленью нет предела, Что на искусства небеси Так сильно ныне поредела Чреда защитников Руси. Я поднимать не стану волны, Плести тенета из словес. Он был певец не только Волги, Он русской удали певец. Он гордо нес свои вериги, Как жизнь ни тешилась над ним. Он стал великим. Он — Пурыгин. Ни с чем привычным не сравним. Он там, где мы его взрастили, Уйти не может в забытье – Живая плоть родной России, Его искусство — кровь ее. И что бы там ни говорили, Пурыгину забвенья нет. Еще настанет День Ярилы. Уже грядет его рассвет. ФАНТОМЫ Вот мне один шекспировед Сказал семь слов всего: «Шекспира не было, но нет Талантливей его. Шекспир — мираж, Шекспир — фантом, Струны умолкшей звон, Но дело, видите ли, в том, Что гениален он». Когда философ Фрэнсис Бекон Познал природу человека, Он эту горестную весть Сам убоялся произнесть, И то, что знал и заучил, Сказать Шекспиру поручил. Шекспир был только лицедеем, И чужд он был чужим идеям. Ему казался мир кулис Чредой молоденьких актрис, И он тому, что мир — театр, Весьма доволен был и рад. Он лишь облёк в игру и флёр, Что нашептал ему суфлёр. Но разве вправду мир — игра, А не крушение добра? Сказал ли Бекон иль Шекспир, Но жизнь — есть зла извечный пир. Да, воровство старо, как мир, А плагиат — звено процесса, И всем известно, что Шекспир Переписал чужую пьесу. Мольер сказал, презрев нытьё: «Что до меня, то и моё!» В искусстве многое сейчас С чужого носится плеча-с. Пока мы с вами мирно спим, Идут подмена и подлог: Один раскрашивает фильм, Другой добавил диалог В творенья Чехова. У нас Его соавтор есть сейчас, Кого писатель, мнится мне, Не мог представить и во сне. Творцы, подобные волкам, Как стаи нравственных калек, Они спешат прибрать к рукам Чужой бесхозный интеллект. И душу гениев крадут, Как залежавшийся продукт, Какой давно в пыли кулис Без их вмешательства прокис. Крутая варится лапша, И в этой кухне продувной Святая гения душа Котлетой стала отбивной. Ещё листает век за веком Томов бесценный капитал, Пусть не Шекспир, а Фрэнсис Бекон Все эти пьесы написал. Сей факт феномена культуры Доселе разум нам слепит, Всё будто списано с натуры Во всём живая жизнь кипит. Доныне на подмостках мира Идут трагедии Шекспира, Хотя и прячется за ним Вполне известный аноним. Мы это поняли давно, Но нам, признаться, всё равно, Кто явный автор этих пьес, Важнее собственный их вес. Постичь история смогла В них диалог добра и зла. Добро и зло повсюду рядом. Бокал вина отравлен ядом, И наслаждения визит Жестокой гибелью грозит. И понимаем мы печально, Что зло сильнее изначально. Сегодня, так же, как вчера, Идёт крушение добра. ГВОЗДЬ Над головой моей седой Беда кружится за бедой – То в доме треснула стена, То мыши съели семена, То реки, сделав поворот, Мне затопили огород. Стараясь сделать непоседой, Явилась новая беда: На неокрепшие посевы Вдруг завернули холода. Но как судьбу не обвиняй, Она страхует от забот, Диктуя: «Место поменяй. Не станет в городе хлопот». Но как уедешь? Скрутит злость: Как этот город полюбить, В котором в стену даже гвоздь, Бывает, некуда забить? А дома тридцать три гвоздя, Они для дела там и тут, И на одном висит узда, А на другом висит хомут, И жук ползёт на потолке, Где лук в капроновом чулке. А городской приедет гость, И для него найдётся гвоздь, Сниму со стенки решето, Повешу зонтик и пальто. А коль заявятся втроём, Мы гвозди новые забьём. Пока есть место для гвоздя, Уехать в город мне нельзя. В своей деревне я не гость – И в этом всей проблемы гвоздь ДАЛЬ В промозглой кибитке качаясь И кутаясь в мокрую шаль, Мытарится русский датчанин Владимир Иванович Даль. По Волге, с верховьев до устья, Удрав от столичных балов, Объездил он все захолустья, Охотясь за россыпью слов. Он влип в еженощные бденья И к тряске дорожной привык Затем, чтоб спасти от забвенья России исконный язык. Словцо, непривычное уху, Найди, сохрани, поделись России он ближе по духу Премногих, что в ней родились. Пусть речь наших пращуров славных Навеки войдёт в словари, Не надо чужого, держава, На русском, родном говори. За русских речей первородство, Корнями ушедшее в даль, Потерпит свои неудобства Владимир Иванович Даль. ЛЕВ Нельзя, припомнив о Толстом, Поняв его тоску, Без важной мысли сесть за стол И написать строку. Я никогда бы так не смог Дерзнуть, являя нрав, Поскольку верил в то, что Бог В своих решеньях прав. Толстой же, роль приняв борца, Утратил с Небом связь, Во справедливости Творца Законно усомнясь. Прямой дорогой, не простой, Он шёл, а я – дугой, Всё потому, что он – Толстой, А я совсем другой. Но и неверия стена, Длиною в три версты, Не заслонила от меня Толстовской правоты. Вот у жены не стало сил, Я знал: поможет Бог, Я ей здоровия просил, Но Бог мне не помог. Теперь идут всё мысли врозь: Уж справедлив ли Бог? Твердят повсюду: «Бог – любовь». Чего ж он не помог? Коль так жестоко кажет нрав С престола своего, Толстой не так уж был не прав, Отхлынув от него. Он был, конечно, не святой, Но никогда не лгал, И христианское Толстой Смиренье отвергал. Чтоб над умами снизить власть Внутри людской среды, Толпа хулителей взялась Топтать его труды. На репутацию хулу Надели, как ярмо: Его непротивленье злу На деле – зло само. И до сих пор весь этот шлейф Летит за ним, как встарь, Но он недаром, видно, Лев, А лев, известно, царь. Он людям правду говорит Во тьме глухих времён, И обоснованно царит В литературе он. Он возле Бога самого Собой заполнил свет, Ведь, разобраться, у него Соперников-то нет. Его талант неотменим До нынешних времён, Творцы спешат вослед за ним, Счёт коим – легион. И я тернистым за Толстым Карабкаюсь путём, Каким бы ни был он крутым, Он праведен во всём. Толстой – влекущая звезда На правды путь прямой. Он был, он есть, он навсегда Учитель честный мой. Не богохульника совсем Я в нём подозревал. Толстой мне был всегда лишь тем, Кто ищет идеал. ЗЛОБА Когда сержусь я на Астафьева, Мне говорят: «Не злись. Оставь его. В нём зрела зависть, что не он Явил народу «Тихий Дон». Он скрытным был и молчаливым, Однако думал наперед, Что будет днём его счастливым Тот, когда Шолохов умрёт». Среди писателей бывает, Что кто-то совесть забывает И до конца последних дней Кичится «скромностью» своей, Лелея зависти ярмо, Других считая за дерьмо. Вот так Астафьев, курам смех, Хотел подняться выше всех, Но вышло средненьким вполне, Что написал он о войне. Его последние романы Своей стилистикой хромали, Сюжет был серый и простой, Но мат суровый и густой. Там перемыл он многим кости, На всех хватило жёсткой злости. Оставил он, как знак в судьбе, Плохую память о себе. Но то же было с Окуджавой, С его дремучей злобой ржавой, С которой радостно смотрел Он на парламентский расстрел. От гулких взрывов гибли люди, Народ родной его страны, А он сиял, как рак на блюде, Задрав от радости штаны. Кто эти люди? Скот из стойла Или культуры мастера? Но ясно лишь, что недостойны Они высокого пера. Звереть, о славе беспокоясь? Лишь тот запомнится добром, В чьем вещем слове только совесть Проходит под руку с пером. КЛАН Михалков был обеспечен На Николиной горе, И, казалось, будет вечен, Но нечаянно помре. Что, казалось, не хватало, Предостаточно, поди, И презренного металла, И медалей на груди? Славил в гимнах он этапы И вождей родной земли. Сыновья поэта в папу Тоже хваткими пошли. И у них дома и дачи, И прислуги сто полков, И в наградах, при раздаче, Непременно Михалков. Не виновны пред законом, Для волнений полный штиль, Словом, всюду Михалковы Людям вставили фитиль. Так во всем поднаторели, Что везде они одни. Кто-то скажет, что евреи, Так, ведь, русские они. Посмотрите, как красиво, Не божественно едва, Произносят о России Вдохновенные слова. Им за это деньги платят? Значит, вывод мой таков: Трех евреев там не хватит, Где явился Михалков. ЛЕРМОНТОВ Теперь известно стало многим, Как некий критик написал, Что был он просто кривоногий, Невзрачный, маленький гусар, Что был подчас антипатичен, С друзьями холоден весьма. Был неприятен — от обличья До злого едкого ума. А мне до этого нет дела. Я это все готов простить, Ведь им Поэзия владела, А ей простительно шутить. ЛАПОТЬ Стоит гранитный лапоть в Вязьме, Взметнувшись гордо в небеси,Мы так в истории завязли В исканьях символов Руси. И вправду хочется заплакать, Когда увидишь этот лапоть, Ужели окромя него И нет святее ничего? Картошка, заяц, чижик-пыжик, Гранитный лапоть, буква «ё» Увы, не делаем мы ближе Курьёзом прошлое своё. Есть в лапте что-то от насмешки, Ни с кем бы спорить я не стал, Что и сибирские пельмешки Уже войдут на пьедестал. Хлебали лаптем щи когда-то, Но есть в том равное, спроси, Для Неизвестного солдата, Тысячелетия Руси? Довольно нам никчёмных статуй! Поддержку этой белены Не позволяет даже статус Великой ядерной страны. Зачем нам лапотную косность Хранить в сознанье о былом, Когда ракеты наши в космос Сегодня рвутся напролом? А я б хотел в любые сроки Идти и видеть за плечом Родной земли простор широкий, Где Матерь-Родина с мечом. КОНЯГИ Она бредет в тоске-кручине, Едва влача с поклажей воз. «Зачем мы лошадь приручили?» – Я задаю себе вопрос. Зачем так яростно бранится, Что крик взлетает к облакам, За что корит её возница И бьет вожжами по бокам? Она храпит в подпругах потных, Грызет железо шенкелей, Хоть в целом мире нет животных Красивей русских лошадей. Но почему же так покорна Она неласковым рукам? Ужели только ради корма Прощает грубость ездокам? И почему с виновной дрожью Глядит ругателю в лицо, Когда в весеннем бездорожье В грязи застрянет колесо? И, еле ноги поднимая, Она вздыхает тяжело, Должно быть, что-то понимая И про себя, и про него. Ведь как бы ни был он озлоблен, Когда — ни взад и ни вперед, Он сам впрягается в оглобли И вместе с нею жилы рвет. И прут с надрывом те бедняги Воз от столба и до столба, Как будто вместе две коняги Связала общая судьба. РАЗНИЦА Одолевая тайны Божественных начал, Иван Петрович Павлов Собаку изучал. И не без интереса Его отметил глаз Условные рефлексы, Такие, как у нас. С собакой мы, на память, Довольно сходны в том Поесть, поспать, полаять И повилять хвостом. Похожи мы, однако, Хоть каждый при своём, Мы тоже, как собаки, Частенько устаём. Мы тоже точно знаем, Что в мире — не в раю, И часто проклинаем Собачью жизнь свою. Терзаемся, похоже, Как Бобик или Рэкс, И нами движет тоже Неведомый рефлекс. Но в ней они, наверно, Сильней во много раз. В ней есть собачья верность, Которой нет у нас. АВОСЬ Сомнения нам Небо навевает, Чтоб в будущем на глупость не пенять, Оно подумать нам повелевает И верное решение принять. Но наше легкомыслие первично. Итог, войдя в сознание, как гвоздь, Диктует застарелая привычка В поступках полагаться на авось. По жизни мы летим напропалую, За счастьем устремляемся толпой, С надеждой ожидая поцелуя Фортуны, благосклонной и слепой. Увы, дойдя до самого финала, У финиша победного почти, Вдруг видим, что фортуна потеряла Способные увидеть нас очки. Когда в себя приходим еле-еле, К нам снова мысль привычная ползёт: Пускай мы в этот раз не преуспели, Но в следующий точно повезёт. Хватаемся за первое решенье, И снова нам сомнения не гость, И впрямь, какие могут быть сомненья? Всё в жизни образуется авось. Сомненья — вещь двоякого пошиба, И вот, когда оглянемся назад, Мы видим жизнь, как серию ошибок, В которых был охотничий азарт. ПАМЯТНИК Какая странная игра В победах зла или добра. Во все века — то пушек гром, То общий стол с вином и хлебом, Зло торжествует над добром, Добро берёт реванши следом. Стремимся к лучшим временам, Жалеем каждую травинку На той тропе, где в гости к нам Добро и зло идут в обнимку. Я верю: где-то поутру Момент торжественный настанет И победившему добру Посмертный памятник поставят. ЧУВСТВО ЦВЕТА В распахнуто-вольном пространстве дверей Весёлой весны ощущалось паренье, На каждом углу продавали сирень, И воздух качался, пропахший сиренью. И голос, что имя шептал по слогам, И будущий жест, совершиться гадая, Сиреневым платьем стекали к ногам, Сиреневой пеной на них оседая. Но юная пара, явившись из снов, Прервавши молчанье для спора нелепого, И знать не хотела сиреневых слов, Поскольку всё было уже фиолетово. РАДОСТЬ ЖИЗНИ Так много думал, жизнь ведя Среди картошки и укропа, Что незаметно для себя Я превратился в мизантропа. В конце концов недели в две Меня тревога охватила, И не осталось в голове Свободных мест для позитива. Но тут, приличья соблюдя, Явился гость, и в укоризне Сказал мне строго: «Я тебя Заставлю радоваться жизни». Потом изрек: «Сотри печаль С лица унынья и капризов, Чтоб исцеление начать, Сначала выбрось телевизор. Не надо Азий и Европ Со всей их скорбью мировою, В свои картошку и укроп Войди со свежей головою. В работе силы не жалей, Весь свой досуг направь на дело, И мизантропии твоей Растает след через неделю. Я по совету поступил, И так в работе выжал соки, Что к огороду прикупил Две дополнительные сотки. Но вскоре стал я прозревать, Что, как работою ни тешься, Картошку некуда девать Да и укропа, хоть объешься. Сажусь пред зеркалом, как встарь, Узнать, сбылось ли предсказанье, И жизнерадостный дикарь Глядит бессмысленно в глаза мне. УЧЕНИКИ Я был деканом факультета, И назначением своим Считал посыл добра и света Питомцам дерзостным моим. Я им внушал: родное слово Скопило в фонде золотом Бесценный клад. Оно готово Им поделиться, чтоб потом Вместить в себя и вашу долю, И мы, я верю, вправе ждать, Что мыслей смелость и раздолье И вам удастся передать Тем, кто пойдет за вами следом Запечатлеть иные дни, Пусть путь в грядущее неведом, Законы творчества одни, К тому ж, и цель у вас одна Быть верным истине до дна. И лет прошло совсем немного, Размел питомцев ветровей, И оказалось, что дорога У них не общая с моей. В них по-иному сердце бьётся, Они другую цель нашли, За их атакой остаётся Лишь поле выжженной земли. Они, зловещие, как тати, Ниспровергатели начал, Но слова газовой атаке Я вовсе их не обучал. В дыму оваций и амбиций Они сочли: былое — срам, И позволительно глумиться Над всем, что близко было нам. У них в словах лишь жёлчь и яд, Они привязаны верёвкой К одной лишь цели — осмеять И всё опошлить злой издёвкой. И в них не веры нашей нет, Ни горьких опытов познанья, Не осознав ученья свет, Несут неверие, как знамя. Для них ничто не позитивно, Во всём одни лишь грязь и гной, Лишь только тина и рутина, Не предлагаемые мной. Я то в итоге получил, Чему совсем их не учил. Мы что-то, видно, проглядели, Уроки нам не удались, Они же словно оборзели, Как будто с цепи сорвались. Они громят всё без пощады, Что на глаза попасть смогло, На ком попало вымещают В душе скопившееся зло. Вот это зло, оно откуда? Ведь не от нас, в конце концов, Неизлечимая простуда Ума и сердца у юнцов. Давая им образованье, Могли подумать мы едва, Что выйдет армия болванов, Уже не помнящих родства? Но если сбился кто с дороги, То вывод, стало быть, таков: Да, мы — плохие педагоги. Мы не умней учеников. Но, провожая у дверей Бойцов словесной батареи, Мы были всё-таки добрей, И мир казался нам светлее. Мы не могли им предлагать И вся и всё ниспровергать. Увы, в отставке старики. Не может быть им лучшей доли, Где, наставленьям вопреки, Резвится племя молодое. Настала новая пора. Иной сегодня символ веры. Они — глашатаи добра, А мы — лжецы и лицемеры. ВЕЧНЫЙ ВОПРОС Был прежде царь и судия, Теперь заметно сник, Мне доказали, будто я Лишь мыслящий тростник. Всё наше рвение — тщета, Настанет божий суд, И ни счета, ни нищета От смерти не спасут. И как бы кто-то ни дерзал, Растает, словно тень, И что бы кто-то ни сказал, Забудут через день. И нам забыть уже пришлось Седых веков печать, А там «Что делать?» был вопрос, Потом «С чего начать?» Творенья гениев прочли. Не стало спорных тем. Вопросы вечные ушли. Ответ известен всем. И я качаться, как тростник, До смерти обречён. И лишь один вопрос возник, Извечный: «Что почём?» ЖАН-ПЬЕР Уж, если есть в искусстве мера, Пора найти её уже: Учитесь слогу у Жана-Пьера, Того, который Беранже. Жан-Пьер прошёл сквозь жизнь геройски, Недаром ныне говорят: Его пути и перекрёстки Формировали ясный взгляд. Душа поэту говорила На перекрёстках тех путей: «Цель языка, чтоб мысль парила Без всяких блёсток и затей». Но взгляд на время был зеркальный, Пьянил собою, как «Клико», И был прямым, но музыкальней Найти стихи нам нелегко. О, вы, кто путь себе исчислил – Достичь в поэзии высот, Стихи пишите ради мысли, А не затейливых красот. ГОРЕЧЬ, ГОРЕЧЬ… Нетрудно различить меня в толпе, Поскольку я — мужчина без в.п., И не поклонник Аллы Пугачёвой, Судьбою злой кручёный и учёный. Набор сих качеств выдаёт меня, Из прочих индивидов выделяя, Вокруг меня творится суетня, В которой не уйти от нагоняя. Башмачкина Акакия я сын И звать меня, как батюшку, Акакий, И жёлтый, словно спелый апельсин, Мой узкий лоб, унылый и покатый. Когда порою в зеркало гляжу, Пытаясь там увидеть человека, Я добрых слов в себе не нахожу. Передо мною – нравственный калека. И вот я задаю себе вопрос По очень для меня печальной теме: «Зачем на свет родился я и рос, И вырос в презираемого всеми?» Кто пошутил: Природа иль Господь, Меня на люди выставив подонком, Хотя во мне клокочут кровь и плоть, Почти как в Александре Македонском? Я быт свой безобразный разлюблю, Серьёзную найдя в том подоплёку, Продам свой банк и яхту утоплю, Из Лондона уеду на Рублёвку. Я не бандит, не пьяница, не вор, Но сердце жжёт нахлынувшая горечь: Меня никто не любит до сих пор, Хоть я совсем не Рома Абрамович. СВЯТАЯ ВОДА В разнузданной уличной речи И в брани угарном чаду, Как будто на дьявольской встрече Нечистого войска в аду, Где это нечистое войско, Подстать ремеслу своему, Имеет известное свойство Окутывать разум во тьму. От этого умысла злого Приходит затменье сердец И чистого русского слова Печальный маячит конец. И надо от нечисти скрыться, Грозящей нам чёрной бедой, И пушкинским словом умыться, Как будто святою водой. КУТЁНОК Кто светел, тот и свят, Но в жизни, как ни горько, Лежит дорога в ад, По ней идти – под горку. Под горку путь быстрей И легче несомненно, У адовых дверей Окажешься мгновенно. И там откроет тьма: Ты был слепым кутёнком, Без чувств и без ума Блуждающим в потёмках. ФОРМУЛА ДОЖДЯ Вчера заречной стороной Я шел аллеей тополиной, И там внезапно предо мной Спустился дождик торопливый. Вокруг качалась кисея Из дождевых проворных линий, И, словно плыл куда-то я По заштрихованной долине. Я насладился влагой всласть, Всей кожей впитывая негу, Как будто я случайно вплавь Гулять отправился по небу. Я шёл, спокойствие храня, Как будто не было счастливей Мгновений в жизни у меня, Чем сумасшедший этот ливень. Не поспешил укрыться я. Меня восторженность объяла, И влага летнего дождя Неспешно думать заставляла. С дождём и ветром подружись, Спеши до края путь заполнить, Чтоб этот дождь и эту жизнь До дней скончания запомнить. ДВЕ ДОРОГИ Меня вела во храм Неторная дорога, И я внезапно там Услышал глас пророка: «Не в лад церковных од, По меньшей мере странных, Всевышний не живёт В рукотворённых храмах. След божеской руки, Как всем давно известно, Прочерчен вопреки Фантазий духовенства. Не надо нам в церквах В стенаниях молиться, Где только божий страх Издревле поселился. Мы каждым новым днём, Как божия причастья, Не страха с Неба ждем, А радости и счастья. Есть повод у толпы Задуматься о многом Во храмах, где попы Нас всех пугают богом. Приидет он сюда, В земных сует кошмары, И Страшного Суда Для нас готовит кары. За зло, за боль, за плач, За наши убежденья, Как будто бог – палач В тюремных учрежденьях. Но бог – не лицедей, Он зла не делал сроду, И, к радости людей, Он создал нам природу. Молитесь Небесам, Вершинам и лощинам, И рекам, и лесам, Ни в чём не погрешимым. Земная твердь чиста, Как ангелов порханье, Как матери уста, Как детское дыханье». Закончил речь пророк, Растаяв мутной тенью, И между двух дорог Остался я в смятенье. ТАБЛЕТКА Эналаприл! Как много в этом звуке Растворено сердечной нашей муки, И что бы кто-то там ни говорил, Здоровье нам несёт эналаприл. Пусть в практике случаются нередки Пустые и фальшивые таблетки, Но даже и с туфтою, видит Небо, Как действует на нас эффект плацебо. Порой, друзья, бывает слишком поздно Нам поправляться медикаментозно, И в сонме нас терзающих болезней Надежда умирает не последней, А первой. Но, откройте ваши веки, Зачем тогда работают аптеки, Коль не плывём мы к ним, как корабли, Чтоб там отдать последние рубли? Когда-то в ходе бурных пятилеток Народ наш обходился без таблеток, И каждый приходил в родимый дом, Упорным оздоровленный трудом. Теперь не то, Теперь мы все больные, Теперь у нас и мышцы не стальные, И нервы не годятся никуда, Хоть это, коль подумать, не беда, То важно, что в ничтожестве своём Отчётливо мы с вами сознаём, Что довелось на жизненном пути Нам чрез такие тернии пройти, Что нас на этом жизненном пути Уж никакой таблетке не спасти. ГИМН ЖЕНЩИНЕ Я не сторонник чайных церемоний, Я с женщиной конкретен и упрям, Мне музыкой небесных филармоний Звучит их уверений фимиам, Что наважденье было лишь впервые, Что прежде не хватало страсти ей Передо мной склонять покорно выю И поступаться гордостью своей. О, женщины! Вам имя – любопытство. Вам хочется в несбывшемся забыться, И поглощает спеси вашей пядь Высокое искусство уступать. ВЗОР Стою одиноко под звёздною бездной И взор обращаю к царице небесной. Спасибо, святая, средь ясного дня И ты обращаешь свой взор на меня. Поверить прошу: до скончания дней Хочу быть достойным улыбки твоей. Чтоб это явленье продлилось веками, Тебе говорю я спасибо стихами, И вижу, и слышу – в пространстве листа Зарёю светает твоя теплота. ЧУЖАЯ СЛАВА Чужая слава ест глаза, Как, подана к застолью, Нам неприятна колбаса, Напичканная солью. Чужая слава ест глаза, Она гнетёт нас, вроде, Когда откажут тормоза На резком повороте. Как будто веселы друзья, Но так заметна, право, Как неприятна им твоя, Для них чужая, слава. ЛАТУНЬ Я не люблю завышенных оценок. В них есть какой-то горечи оттенок. Сказавший будто горько признаёт, Ему не свойствен этакий полёт, В котором нет потенья и натуги, В котором слово, будто из латуни Причудливо отлито на века, Где чувствуется гения рука. ПРИСУТСТВИЕ Ничто не может с чувством тем сравниться, Когда стихом заполнена страница И творческая радость через край Слова швыряет, только подбирай, Когда в себе ты чувствуешь немного Присутствие не гения, но бога. АНГЕЛУ Прошу, мой ангел неземной, Спустись с Небес, побудь со мной. Хочу с тобой поговорить, Хочу тебя благодарить За то, мой ангел неземной, Что ты порхаешь надо мной, И у меня из чепухи Вдруг появляются стихи. ОСАДОК Да, будет проклят педантизм, Каким спецы надулись, Мы будем делать, что хотим, Ничем не обинуясь. Пусть я не там в своих стихах Поставлю запятую, Я это сделал впопыхах, Но истину святую Я сам ничуть не загубил Тем росчерком мгновенным, И чем страдал я, что любил, Останется нетленным. Стихи – лишь повод для меня Сказать о том, что знаю, Как будто сел я на коня И плетью погоняю. Но всё же надобно признать, Бывает очень часто, Не успеваю я понять, Куда мне надо мчаться. В лицо мне бьёт калейдоскоп Событий и явлений, И будоражит хладный лоб Горячей сшибкой мнений. И, сам себе не командир, Стремлюсь вперёд упорно И реагирую на мир Почти что рефлекторно. Но вдруг сквозь сор нежданный стих Явиться подгадает И воплощеньем дум моих В осадок выпадает. РОДНОЙ ОБЫЧАЙ Вернусь ли я в родные палестины, Хоть мысленно однажды побывав, Где древние родины и крестины И круг увеселений и забав. Там русский дух и русский там обычай, Там за город от каждого крыльца Охотники стремятся за добычей И слышен шаг купца или стрельца. Там след патриархального хозяйства Читается от царского двора, Такой родной, что может показаться, Что это не закончилось вчера. Вот царский двор встречает племя горцев, Их чествуя, как близкую родню, И слышится мне говор царедворцев, На думскую похожий болтовню. В проулке возникает драка злая, Где раздаётся посвист кистеня, И даже звуки матерного лая, Как будто из сегодняшнего дня. Колоколов плывут округой звоны С крикливой перебранкою мальцов, И горько плачут матери и жёны, На промысел отправив их отцов. Ещё не въяве царская затея И впереди грядущее темно, Но крутится податливое время, Как пряхи пожилой веретено. О, Русь моя! Я бьюсь в твоих тенётах И воскрешаю прошлое с тоской, Где вырваться из тины для полёта Возможно только с божеской рукой. ЯЙЦО УДАЧИ Надел я форму цвета хаки И бутсы флотские надел, Чтоб любопытный взгляд зеваки Меня случайно не задел. Я с серой местностию слился, И тропкой, длинной, как глиста, С неясной целью удалился В весьма далёкие места. Зевака хватится и – гдядь! – Я просто вышел погулять. Мне чужд был умысел коварный, Я в жизни прост, как огурец, Но в жалкой лавке антикварной Я взял затейливый ларец. Ударом острого кинжала Открыл я створки, и уже Узрел: на дне яйцо лежало, Совсем, как яйца Фаберже. И, как подброшенный пружиной, Сказал себе я: «Примечай!» И той поделкой фабержиной Залюбовался невзначай. А было чем залюбоваться! Вот так судьба ведёт вперёд, Когда нежданно волноваться На нас надвинется черёд. Вот так, друзья. Волна эмоций В тебя вдохнёт восторг и дурь, И ты плывёшь без карт и лоций Сквозь океан житейских бурь. И, в душу влив себе елей, Сказал себе я: «Будь смелей. Когда ты немощен и беден, И весь почти что неглиже, Отправься в путь, и точно следуй Туда, где яйца Фаберже. К своей удаче следуй верно, Пусть буря бьёт тебе в лицо, Но ты в копилку Вексельберга Добавь ещё одно яйцо. Пусть он любуется на даче Яйцом работы Фаберже И будет рад своей удаче При благ житейских дележе». Я быть хотел при благ раздаче, Но после дождичка в четверг И после не было удачи, Той, что имеет Вексельберг. Я тоже метил в Вексельберги, Но вексельбергова родня Всё опровергла и подвергла Дискриминации меня. Теперь я, в статусе скитальца На социальном этаже, Худой рукой ласкаю яйца, Но не работы Фаберже. И становлюсь я злей собаки, И застилает путь мой мгла, И любопытные зеваки Следят за мной из-за угла. И предлагает мне кацо Купить колумбово яйцо. И речь уверенно ведёт, Что с ним мне больше повезёт. СЧИТАЛОЧКА Как-то прибыли в Москву Три агента ЦРУ Погулять, попировать, Горбача завербовать. Тили-тили, трали-вали, Горбача завербовали. Трали-вали, тили-тили, Сколько Мише заплатили? Догадайтесь, что почём, Как Россию развалили Три агента с Горбачом? У страны не стало сил, Словно обескровлена, И никто не защитил, И пропала Родина. Кто же спрятался в кусты? Это были я и ты. ЦЕНЫ Сикстинская Мадонна, Диего Марадонна, Хоть несопоставимы, Но их цена бездонна. Чапаев или Леннон, Гомер и Авиценна, Хоть всё имеет цену, Жизнь каждого бесценна. Лишь ты, болван, успей-ка И вычислить изволь, Что жизнь твоя – копейка, Коль сам ты – полный ноль. НОРМАНСКАЯ ВЕРСИЯ Пошёл от века давнего Тот вывод непростой, Что Русь была придавлена Варяжскою пятой. И фактами наполнили Придавленность её, Мол, найдено под Ковелем Варяжское копьё, А, значит, право мнение: Варяги брали дань, Мол, есть захоронение Где остров Березань А это под Очаковом, Где лишь степной ковыль, И, значит, отпечатана Варяжская там быль. За нынешними спорами, Кого не расспроси: Норманская история Творилась на Руси. Не зря, на вывод борзая, Из нас спешит скорей Норманская теория Представить дикарей. Мол, были мы убогими, Неумными росли, А пришлые разбойники Культуру нам несли. Вся эта болтология Тревожит душу мне, И не могу от споров я Остаться в стороне. И вот моя позиция. Она подкреплена, И тем могу гордиться я, Что верная она. Да, зналась Русь с варягами В истории своей, Что жили здесь ватагами По найму у князей. Но чтобы быть хозяином На матушке-Руси! Открой, нормандец, хавало И локоть укуси. Бродила тут до Игоря Варяжская братва Из разных бойких выродков, Не помнящих родства. Набегами прославилась На франков и на Русь, Но как там дело сладилось, Я сам не разберусь. Но только князь блистательный Всю шваль варяжских стад, Всех этих прихлебателей Пинком прогнал под зад. И с дня того прекрасного, Всю Русь исколеси, Но духа скандинавского Не стало на Руси. И мгла та непонятная, Была иль не была, Сплеснулась мутной накипью Славянского котла. Штришком тот век является Эпохи давней бурь, Но за него цепляются Норманцы, как за буй. И как бы там ни спорили, Что был такой народ, Весь путь его в истории Лишь мелкий эпизод. УЧЕНЬЕ Я жил, словно узник В забитой стране, И некий союзник Прибился ко мне, Как выходец с Марса, Как крепенький груздь, Страницами Маркса Читал наизусть. И с ним я недели Зубрил «Капитал», И Маркса идеи Всей кожей впитал. Но тут перестройка Прошла, а затем От Маркса отрёкся Наставник совсем. Он пел, озираясь Вокруг из угла, Какая плохая Эпоха была. Меня покобенил Лихой его свист, Ну, он отщепенец, А я-то марксист. Но смутные годы Волной улеглись, Минули невзгоды, Вновь звёзды зажглись. И прошлое гложет Дружка моего, Но мне он не может Простить ничего. И вновь, голосисто, Как прежде, трубя, Он корчит марксиста При мне из себя. И тут мне открылось Крушенье идей И вся мимикрия Партийных вождей. Презренья не пряча, Спросил его я: «Откуда, приятель, Вертлявость твоя?» Он в позе марксиста Ответил мне так: «Ученье всесильно, Но сам я – слабак». О, Маркса ученье С каскадом идей! Ты лишь приключенье Для наших вождей. Но все мы остыли К той пище уму. Мы – люди простые. Нам бред ни к чему. ПРИЗВАНИЕ Идут из дальней тьмы Язычества поверья, Как звук бензопилы, Срезающей деревья. Я, встав не с той ноги, Заделываю щели, Где бабушки яги И чахлые кощеи, Где кружит вороньё, Где посвист ястребиный. Язычество моё – Полёт неистребимый. Казалось бы, века Прошли над миром тучей, Но тянется рука Из бытности дремучей, Как будто древних рун В моё сознанье въелись Сварог и с ним Перун, Триглав, Стрибог и Велес. Не хочет отпускать Фонтан из сердца бьющий, Заставивший искать Родник, внутри живущий, Прочерченный во мне, Как линия сквозная, Как место, где в огне Горит костёр Познанья. На долгое житьё Дано мне без названья Язычество моё – Не вера, а призванье. ГЕНЕТИКА Говорил он мне: «Рас смешение, Словно дым чадит в помещении. Родовой свой код мы утратили При содействии демократии. И еврейские эпилептики Перепортили нам генетику. И теперь мы все перемешаны. К чужестранцам льнут наши женщины. Кто в стихах поют канарейками, Все теперь живут лишь с еврейками». Я поспорил с ним основательно: «Не исчезнем мы окончательно. Не стряслась беда и над генами, Только жить всегда будем бедно мы. Что касается русской женщины, То комфорты ей не обещаны. Не была бы жизнь окаянною, То была б жена постоянною. И верна была мужу смолоду. И чудит она только с голоду». ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ Когда был весёлым я и беззаботным, Гулял по бульвару с домашним животным, Сновали прохожие мимо меня И такса бежала вперёд, семеня. Животное было, как чёрная вакса, Оно называлось затейливо – такса, И я говорил себе мысленно: «Так-с, Ведёт меня такса прямёхонько в загс, И там обручусь я с хорошенькой девой, С точёной фигуркой и девственной плевой, И с этою девой на долгом пути Мы общее будем хозяйство вести». Но в жизни случаются всякие сдвиги, Которые вставлены в умные книги, Где людям, как я, никогда не везёт, Их жизнь превращая в смешной эпизод. И так получилось на этой прогулке, Там, где продавались румяные булки, В проулке, от загса немножечко слева Я женщину встретил без девственной плевы, И вот эта самая старая – глядь! – Теперь с моей таксой выходит гулять И громко смеётся над тем, что от Евы На свете не сыщется девственной плевы. Мне тоже становится сильно смешно, Когда наблюдаю за нею в окно, Поскольку, имея приятную – глядь! – С домашним животным не надо гулять. ПРАКТОНИС На свете жил один эстонец, Российский бывший офицер, И рекламировал «Практонис» Он на канале РТР. Его женой была актриса С своей зарплатой небольшой, С прекрасным именем Лариса И с очарованной душой. Детей супруги не имели И были скрытными людьми, О чём немало пошумели, Сенсаций жаждущие СМИ. Им жить хотелось незаметно, Сверяясь с уровнем ума, Но довелось одномоментно Стать популярными весьма. Волной настигли перемены, Став сущим горем для семьи, Где факт супружеской измены Растиражировали СМИ. Но, к ним вниманье привлекая, Мы долю ясности внесём: У них профессия такая, Она публичная во всём. Уж стало притчей во языцех: Театр сегодня, как вертеп, Но этот вывод столь обычен, Что вряд ли стоит им вертеть. Ведь даже и в Большом, смотрите, Конфликт случился непростой, Где худруку в разгар интриги В глаза плеснули кислотой. Но что вошло сегодня в книжки, Как развращённости пример, Была обычная интрижка И всем привычный адюльтер. Поступок, скажем, некрасивый, Хоть извинительный порой, Но стала жизнь невыносимой, Предосудительной игрой. В какие игры мы играем, Порою трудно объяснить, Когда меж адом мы и раем Взрываем тоненькую нить. Мы невменяемы по суткам, «На взводе» каждый новый день, И эхо глупого поступка Мозги нам ставит набекрень. И даже тот в пучине тонет, Кто счастлив был порядок лет, Кто рекламирует «Практонис», Как панацею наших бед. СТАТИСТИК И ГРИЗЕТКА На вольных просторах самарской земли Статистик Пигеев страдал от любви. Публичного дома гризетка одна Почти что сводила беднягу с ума. Орине Солдатовой, сводне притона, Весьма надоели статистика стоны. С гризеткою грубо она поступила, Решительно в Волге её утопила. Чтоб эта гризетка исчезла с земли, Студенты самарские ей помогли, Которым, в трактире подвыпившим малость, Всё это забавной игрой показалось. Ну, что же, Самара – купеческий город, Где каждый четвёртый жандармами порот, Где в частых скандалах ночных кутежей Немало блистало калёных ножей. Но что же статистику бедному делать? Повесился скромный бедняга Пигеев. И местный писатель в продажной газетке В заметке поведал о юной гризетке, И эта история нам донеслась, Чтоб снова прославить любовную страсть. И этого факта довольно, чтоб вновь Разврат уличить и восславить любовь. ШЛЁЦЕР Михайло Ломоносов, Тебя принять нам стоило, Как средство от поносов На русскую историю. Оружьем слова острого Боролся ты с рутиной, Назвавши немца Шлёцера Бессовестной скотиной. Но немцы ерепенились, Им в сонме дел несметном «Лаврентьевская летопись» Служила документом. И всяким возражениям Поставлен был импичмент, Что в тексты искажения Добавил переписчик. Не исполнялось правило В истории активно, Что в летописях правильно, А что в них субъективно. Михайле Ломоносову Судить досталось строго, Как много в н их наносного, Предвзятого как много. Не стало Ломоносова, И недруги России Народу безголовому Мозги закрепостили. Учёные залётные Забили крепкий клин, Чтоб мы считали Шлёцера Учителем своим. ИЛОВАЙСКИЙ Вот был историк Иловайский, Он норманистской был закваски, Но, с той закваской вперебой, Всю жизнь боролся сам с собой. Писал учебники такие, Что их читала вся Россия, А в них пророчил каждый лист, Что Иловайский – норманист. Но, выйти стоило на сцену, И каждый видел перемену В его походке и в очах, Но более – в его речах, Поскольку он в словах не лгал И сам себя опровергал. Он был за кафедрой неистов, В нём клокотал учёный пыл, Он ярым антинорманистом Средь современников прослыл. Однажды царь ему изрек: «Послушай, Иловайский. Ты вроде русский человек, Но с западной закваской. Определи позиций круг, И – чтоб назад ни шагу. Зачем тебе, скажи мой друг, Стоять нарасшарагу?» «Мой цать, для собственной семьи Я все трудился годы, Но лишь учебники мои Приносят мне доходы. Там, где я книги издаю, Не всё с наукой чисто, И там позицию мою Диктуют норманисты. Я, проиграв там все бои, Себя не уважаю, И лишь за кафедрой свои Я взгляды выражаю. Да, вам признаюсь, как царю, Стою нарасшарагу, Одно я устно говорю, Другим кроплю бумагу. Передо мною – два огня, Сознанье раскололось, Но есть надежда у меня, Что мой услышат голос, Лишь он – мой главный капитал, Меня по слову судят. А что я в книжках написал Отринут и забудут». МЫСЛИ ПО ПОВОДУ Однажды в бодром настроенье Я шёл домой из учрежденья, Где на дверях палаты есть Нам всем знакомый номер шесть. И в голове роились мысли, Они вились, как лёгкий дым, Они, как облако нависли Над настроением моим. Аптеки мимо, возле школы – Там предстояло мне пройти И так последствия укола Я сформулировал в пути: «Люблю я видеть утром рано, Моя родная сторона, Как купола самарских храмов Качает волжская волна. Лишь отгорит заря над Волгой, Как вновь над городом родным Весь день наполнен песней гордой, Упругим ритмом трудовым. Среди всего земного шара, Среди неслыханных красот, Ты устремляешься, Самара, На штурм космических высот. Нигде красивей нет на свете, Чем эта синь над головой, Не зря известен на планете И твой характер боевой. Твой звёздный путь шелками вышит, Ты – перекрёсток всех дорог, Пусть вся Вселенная услышит Весёлый волжский говорок. Твоей красе, с веками споря, Сиять над волжскою водой, Твоя душа, любимый город Пусть будет вечно молодой» Вот так мечтал я под фанфары, Но, от семьи родной вдали, Меня догнали санитары И в учрежденье привели. И там анализ организма Учёным выявить помог, Как их укол патриотизма Прекрасно действует на мозг. ЭЛЕГИЯ Когда в районе Мехзавода Автобус первый тормозит И из него в толпу народа Выходит некий паразит, Я на него гляжу с тоскою И так шепчу вослед ему: «Таких железною рукою Иосиф гнал на Колыму». Здесь не одно воспоминанье, Здесь месть проклюнулась опять И пролетарское желанье Изъять, отнять и уравнять. ПОСЛАНИЕ НАСТАВНИЦЕ Тётушка моя, Екатерина, Больше слёзных писем не пиши, Ты немало слов наговорила О престиже щедрости души. Извини, но этому престижу Я теперь смотреть не стану в рот, Ничего я доброго не вижу От душевных всплесков и щедрот. Сердце я смогу открыть едва ли, Не жалея больше ни о ком Из друзей, что в душу наплевали И растёрли грубым каблуком. Тётушка моя, Екатерина, Вряд ли снова сил я наберу, Чтоб душа, как прежде, воспарила, Устремляясь к свету и добру. Хватит нам с тобою мыслить книжно, Чувства только в книгах хороши, А в быту удобно и престижно Вовсе обходиться без души. Но пока я, слушая, как ворон Криком предвещает мне беду. Со случайным встречным разговором Раненую душу отведу. ПОРКА Считать добром или злодейством, Что Соломон к седым годам, Порвав тенёты иудейства К античным ринулся богам? Но мы с той нравственной площадки Богов меняем, как перчатки. Вчера Перун, теперь Христос. «Кто будет завтра?» — вот вопрос. Ну, чтоб понять, что бог един И он с людьми не склонен к торгу, И он, пока мы тут сидим, Готовит нам большую порку. ЛАБИРИНТ Досада гложет и обида, И жжёт, как пламенем беда, От голубой звезды Давида Не деться, видно, никуда. К тому идём мы, чтоб в финале, Как это «Тора» говорит, Всё человечество согнали В шестиконечный лабиринт. ПТИЦА Раздирают душу страсти, Быть не богом и не тлёй, Только птицею в пространстве Между небом и землёй. Мысль я тайную лелею – Всё на свете испытать, И вобрать в себя всю землю. И не ползать, а летать. ПРОСТЕЙШИЕ Вряд ли мы того хотели. Стало новостью для нас, Что простейшие сложнее Оказались в сотни раз. Мы-то думали, что гомо Всех живых переживёт, В дни вселенского содома Выжить способ он найдёт. Но маячит знак зловещий Иоанновой звездой: Уязвимее простейших Мы пред будущей бедой. На себя нам надо злиться. В нашей сложности беда. А простейшие делиться Не устанут никогда. СОРТА С неясной целью кто-то там Людей расставил по сортам, И оказалось, чем я горд, Что мне дарован первый сорт. Я постарался, чтоб жена В расклад поверила сполна, Но постепенно понял я – На свете лучше есть мужья. Не захотелось только мне Сей вывод объявлять жене. Жена смышлёною была, Сама всё это поняла. Но не призналась никому. Спасибо женскому уму! Но жизнь лукаво ворожит. Подруги ей шумят, как море: «Да у тебя такой мужик. Он вне сортов и категорий». И, видно, те, на Небе там, Такого казуса не ждали, Людей разбили по сортам, А вот критериев не дали. И ныне что-то вроде спорта – Считать себя любого сорта. Но я прошу, моя семья, Скажи, какого сорта я? С ответом вовсе не спешу, Но объективности прошу, Пусть, что не очень я плохой В остаток выпадет сухой. ЧИТАТЕЛИ Над нами мысль витает, Что мир регресс постиг, Что люди не читают Сегодня умных книг. Кузнец, торгаш, провизор, Когда свободен миг, Уткнутся в телевизор, Минуя горы книг. Но вот что очень странно, Задумаешься тут, Печатные монбланы Стремительно растут. Признал ещё Платонов Брожение в умах. Страна сегодня тонет В читательских томах. И что мы с вами видим – Трагедии под стать, Все нынче пишут книги, Но некому читать. От бездны графоманов Пора страну спасать, Но я пишу романы, Мне хочется писать. Не дух ли слов шаманства Меня околдовал, Что вирус графоманства Меня не миновал? Мечта моя не тает, Что к людям доползу, Что кто-то прочитает И выдавит слезу. Читательские массы Поймут, что стоит им Слезами обливаться Над вымыслом моим. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ Она гуляла допоздна, Но он её не гнал, Ведь, что разгульная она, Когда женился, знал. На эти странности её Он взгляд не обращал, И, словно впавши в забытьё, Ей слабости прощал. Но, как принцесса на балу Из прошлых тех веков, Она любила похвалу Своих учеников. Она влюблялась в молодых Поэтов за талант, В её глазах клубился дым От сладких их рулад. Когда до дома далеко, Но рыцарь есть в пути, То от восторгов так легко Границу перейти. Он был терпимым. Видит Бог, И прав или не прав, Но всё ж однажды он не смог Свой пересилить нрав. Найдя в прихожей у стены Пальто, не знаю чьё, Он очень грубо снял с жены Любовника её. Он заплутался, как во тьме С самим собой борьбы, И стал раскладывать в уме Коллизии судьбы. Но не учёл он одного, Став старым и седым, Что вдохновение его Растаяло, как дым. И так случается, когда Все чувства истекли, Невыносимая беда Доводит до петли. Ведь все прошедшие года, Пусть были нелегки, Но запах женщины всегда Входил в его стихи. Пусть в сердце тайная беда Занозою торчит, Но чувство женщины всегда Немножечко горчит. Жена его, конечно… Глядь, Но вот почти что год Он к ней приходит умолять Простить его приход, Где был тогда настолько шал, Легко попав впросак, Что двум влюблённым помешал Парить на небесах. Что б ни случилось, жизнь идёт, Но тяжек сплетен хор, И в них анализ свой ведёт Известный резонёр. Его глядит со стороны Сухая голова, И все коллизии ясны Ему, как дважды два. Он их давно в себя впитал, Где был он сам не свой И запах женщины витал Над жаркой головой. Однажды, кто из нас поэт, Вступил я с милой в спор, И вдохновенья нет, как нет Мне с этих самых пор. Мне соль упала на виски И в приступах тоски Пишу с отчаянья почти Такие вот стихи. Мол, обойди весь белый свет, Любая скажет даль: Без женщин вдохновенья нет, А с ними – лишь печаль. Мужчина пьёт. Его строка Слабеет год от года, Он раб простаты к сорока, А женщина – свобода. Она, как ветра пух, легка, Терпеть не может плена. Мужчина после сорока Для женщины – проблема. Она порхает к молодым По зову настроенья, И, словно муза, дарит им Любовь и вдохновенье. Она всем телом рвётся в бой Сквозь путы и барьеры И оставляет за собой Тлетворный запах серы. ЧЁРНЫЙ ЮМОР Звонит мне молодой поэт, Треща под чёрный юмор: «Тебе уже под сотню лет, А ты ещё не умер. Но вот стоят поэты тут И говорят про это: Так долго люди не живут, Особенно поэты. Пойми, дружище, поскорей: Сегодня повсеместно Нет токарей и слесарей, А от поэтов тесно». Ну, что сказать ему в ответ? Послушай, юный олух, Наверно я плохой поэт, Поскольку век мой долог. Но чьи дороги пресеклись, Дойдя до середины, Сгулялись или же спились, И были в том едины. Ты их, конечно, не глупей. Но я скажу по-русски: Талант свой звонкий не пропей В застольях без закуски. И я любил весёлый шум, А никуда не делся, Лишь потому, что здравый ум Всегда при мне имелся. Хочу совет хороший дать: Употребляя водку, Элементарно меру знать, Держась рукой за стопку. От возлияния грехов Погибель в спину дышит И за тебя твоих стихов Никто уж не напишет. 1937 Что же ты, кудрявая, не рада: Вот единомыслящих отряд, От Камчатки до Калининграда Толпы молчаливые стоят. Кто-то мог бы, может, устрашиться, Смысл найти в молчанье роковом, Мол, сама история свершится Этим молчаливым большинством. Хоть бы чей-то возмущённый возглас В каменном молчанье прозвучал! Это не народ уже, а охлос, Он уже на веки замолчал. И в его молчанье гробовое Резкий шум вторгается из тьмы. Слышится чеканный шаг конвоя У ворот распахнутых тюрьмы. 2014 Двадцать первый век. Лихие оды. Снова каждый каждому – злодей. Небо мечет фосфорные бомбы На в подвалы загнанных людей. Снова гибнут взрослые и дети, Льётся крови розовая слизь. Предсказанья Ванги о расцвете, Как и ожидалось, не сбылись. Сажей пропиталась атмосфера, По кварталам – взрывов волдыри. Нам зачем космическая эра, Если мы, как прежде, дикари? РАСПНИ! Бесплодность изощрённых словопрений, Она пред грубой практикой слепа, В спасении фальшивых уверений Не терпит возбуждённая толпа. Движенье нарастает незаметно, Но, тяжелея гирей на весах, Толпе увидеть хочется предметно, Что истинного скрыто в словесах. Толпа на лицедеев смотрит косо, Устав от их лукавой болтовни, Она вскипает и многоголосо Из глоток прорывается: «Распни!» ВЕСТИ С КАПИТАНСКОГО МОСТИКА Сырой туман ползёт с Босфора, Над Чёрным морем пала мгла, С тобой увижусь я не скоро, Большие ждут меня дела. Слова о мире – только сказки, Вполне удобные врагам, И мощный флот американский Подходит к крымским берегам. И в заблуждении глубоком Спешит владычица морей Покончить враз в российским флотом Из устаревших кораблей. Но мы, готовые бороться, Ведём на стычку корабли. Как по заветам флотоводцев Не посрамить родной земли. И в поединке этом странном, Где флагман флота США, Мы на него идём тараном, Форштевнем борт его круша. И вот суда сошлись бортами. Друг друга в волны раскидав, Как будто в схватке на татами, Давид и грозный Голиаф. Как будто, вправду, слон и моська, И вдруг эффект случился свой На неприятельское войско Атаки нашей лобовой. И словно в ленте кинокадров, Рванув назад во весь опор, Американская эскадра Вдруг повернула на Босфор. И окрылила сердце гордость За триумфальный ход судьбы, Когда решительность и твёрдость Определяют ход борьбы. И чтоб тебя не волновали Плохие думы в поздний час, Скупыми выразил словами Я незатейливый рассказ. Прости за слог мой протокольный, За недостаточность красот, Лишь только б ты была спокойной, Что флот наш честно долг несёт. Туман рассеялся над морем, Покой по курсу корабля, А значит, встретимся мы скоро С тобою, милая моя. СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Эразм был чужд Макиавелли, Они мирились еле-еле, И расходились по краям По отношению к царям. Макиавелли символ страха Вводил вершиной в узы брака, Который, складно говоря, Был у народа и царя. Тут представлялся непременный Тугой союз, почти семейный. Где результат его простой – Есть государственный устой, Хоть в положении таком Народ – под жёстким каблуком И так над ним витает смерть, Что даже пукнуть не посметь. Но в этой схеме непролазной Помягче логика Эразма, Который доводы свои Не в страхе видел, а в любви. Тогда народ беспрекословно Царю преклонится любовно, Когда правитель будет оный, Как идеал, любви достойный. Когда он будет не распутен, И станет действовать он, как Наш президент, товарищ Путин, Не допускавший в мыслях брак. Конечно, сам бы он не смог Согнуть народ в бараний рог, А просто так пошла стезя, Что громко пукать нам нельзя. Народ живёт сегодня в страхе, И это есть – увы и ах! – Лишь факт свидетельства о браке Работы мозга в головах. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВБОЯ Галина, снова я с тобою, Хоть слишком долго был вдали. Иди, небритого ковбоя Прими в объятия свои. Твоим теплом я обогреюсь Там, где расстелена кровать. Я даже наскоро побреюсь. Приятней будет целовать. ПЕСНЬ РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ Да, мы должны стоять стеной, Как дедов наших рать, Между позором и войной Не надо выбирать. Когда мы выберем позор, Расклад пойдёт иной: Война придёт лавиной с гор, Позор придёт с войной. А, значит, выбор наш – война, И только в том секрет, Когда священная она, То в ней позора нет. И мы пойдём ломить стеной. Вперёд, друзья, вперёд! Пусть слава, взятая войной, Вовеки не умрёт. За нами русская земля, И мы её сыны, Пахать родимые поля Вернёмся мы с войны. Чтоб расцветали города По всей родной земле, И чтоб никто и никогда Не слышал о войне. ОРИГИНАЛ Усвоить это – пустяки, Святая правда тут: Правдивы только дураки, Все остальные лгут. По всей земле сегодня сплошь, Все тропки исходи, Идёт волной такая ложь, Господь ни приведи! Попробуй, истину скажи, Возвысив голос свой, И сразу в самой грязной лжи Утонешь с головой. Лгунов укажешь имена, И сразу от тебя Уйдёт любимая жена, И предадут друзья. Нигде почтенья нет уму. Но в случае таком Мне лучше всё же одному Считаться дураком. Ведь сам себе я не совру, А коль придёт финал, Оповестят, когда умру: «Большой оригинал». ТВЁРДЫЕ РЕЛЬСЫ Вот есть строка у Пастернака: «Я твёрдо шёл по твердым рельсам». И я хотел бы так, однако, Как говорят, не вышел фейсом. Но есть и что-то вроде знака, В котором чувствуется суть Там, где рукою Пастернака Прочерчен к слову твёрдый путь. Но сколько надобно терпенья, Чтоб воплотилась в явь мечта, Когда сидишь, ломая перья, Над полем чистого листа И нечем сердцу обогреться В строках, ниспосланных тебе, Когда не видишь твёрдых рельсов В стихов стихии, как в судьбе. Триумфом станет или роком, О чём ты грезил с ранних пор, Надеясь, там, за поворотом, Горит зелёный светофор. И вот к тебе из царства теней, Среди о вечности забот, «Предвестьем льгот приходит гений И гнётом мстит за свой уход». ГАНТЕЛИ На любом углу – аптека, Это к благу человека, Или в том судьбы коварство, Чтоб работать на лекарства? Но не лучше ль, в самом деле, Просто в руки взять гантели, Чтобы мы слегка вспотели, Ощутили радость в теле И взбодрили организм, И вернули оптимизм? Но пока лежу в постели, Позабыв свои гантели, Ощущая лень сильней, И не справиться мы с ней. Изменив своё решенье, Я с постели не встаю. Всех нас губит искушенье Сделать легче жизнь свою. Понимаем очень поздно: Лень – ужасная беда. Человек был Богом создан Для упорного труда. Труд забыть – себе дороже. Кто умом своим богат, Тот трудом облагорожен, От труда же стал горбат. Надо всё-таки подняться И гантелями заняться. Чтобы бицепсы окрепли, Не сидеть мне в мягком кресле Иль в тиши во дворике Возлежать на коврике. Есть ещё лесоповал, Только там я не бывал. Там работа строгих правил. Только в том, конечно, суть: Не заметно, чтоб исправил Этот труд кого-нибудь. СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА Сердобольные соседки Покупают мне таблетки, Чтобы тела каждый член, По присловью, встал с колен. Чтобы всё стояло крепко, Не давил болезней груз, Хоть случается нередко Мне испытывать конфуз. Счастье всё же не в таблетках. Извини меня, аптека, Только я глаза разую, Взяв в кулак свою судьбу, И себя мобилизую На спортивную ходьбу. Говорят, что от ходьбы Всё стремится на дыбы. Миллионы страсть к ходьбе Испытали на себе. У десятков получилось – Всё к кончине излечилось, И теперь они в гробу Не в обиде на судьбу. СКЕЛЕТ В ШКАФУ Случай торчит вывихом, Выхода просто нет: Прежний жилец выехал, Оставив в шкафу скелет. Вместо горы посуды Видим: на полках там Суды и пересуды Вдоволь достались нам. Стали с женой крайними. К чёрту летит уют. Прежний жилец в Израиле. Оттуда не выдают. Снова жена заплакана. Хочется поскорее Шкаф подарить бесплатно, Может быть, и еврею. Что бы тому скелету, Который для нас не свой, Не взять и не кануть в Лету Облупленной головой. Милая, жарь котлеты, Множится на слуху: Скоро свои скелеты Будут у нас в шкафу. Вон уже приближается, Тянет уж за рукав, Многонеуважаемый С новым скелетом шкаф. Вот уж соседи странно Судят, как на духу: Есть ли уму пространство, Если скелет в шкафу? ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ Пред тем, как отправляться в путь, Главу повесив умную, «Не съесть ли мне чего-нибудь?» - С отрадой тайной думаю. И даже повод вроде есть Чего-то этакое съесть. Но прежде слышал я не раз, Что пища часто губит нас, И боги вынесли вердикт – Переедание вредит. Но я к вердикту глух и нем, Он что-то вроде фокуса, И кое-что я всё же съем Для поддержанья тонуса. Имейте, граждане, в виду: Я так живу намеренно: Не игнорирую еду, Но ем вполне умеренно. О чём я, впрочем? О еде, Без коей жить нельзя нигде. Какая философия Без хлеба и картофеля? Но если кто набил живот, Духовной жизнью пусть живёт, Ведь за последних тридцать лет Она совсем сошла на нет. ОТВЕТЫ И СОВЕТЫ Вконец измучив мыслями себя, Как людям дать мной найденное слово, Я стал стихи читать на площадях, Но люди были слушать не готовы. «В чём дело? – я у Пушкина спросил, Ужель мои стихи так неглубоки, Ведь я вложил немало пылких сил В свои, толпой отвергнутые строки. Помочь народу словом я хотел, Грозя владык свергать с высоких тронов, Но голос над толпою пролетел, Ничьих сердец собою не затронув. А голос мой был резким, как набат. Ответь, поэт, чего же людям надо, Коль звонких слов не хочет понимать Людское неподатливое стадо?» И эхом из далёкой пустоты В ответ мне слово гения звучало: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво». К поэту революции потом Пришёл я ждать на боль свою ответа, Открыл его стихов тяжёлый том В надежде не остаться без совета. И Блока вдохновенные листы Сказали мне, решительно и страстно: «Сумей стереть случайные черты, И ты поймёшь, как жизнь вокруг прекрасна». И понял я из этого всего: Нам жизнь дана, как высшая награда, И в ней, прекрасной, ровно ничего Пытаться переделывать не надо. Муза ВЗВЕСИЛИ Что хотели — получили. Думать будем сообща. Нам сегодня сообщили Будто взвешена душа. Прежде нам в церковных храмах Говорили: «В душу зри!», А теперь известно в граммах, Сколько вечного внутри. Тут проблема межевая, Коль подумать головой, Ведь душа, она живая, Значит, вес её живой. Сколько в нас живого веса, Будь ты пекарь иль поэт, Только смерть даёт на это Окончательный ответ. ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ Любовь и бедность навсегда Меня поймали в сети, Я сам бы выжил без труда, Но есть жена и дети. Ну почему носок с дырой И на штанах заплата? Ну почему ещё порой Низка моя зарплата? Любому счёт веду рублю И нет надёжной кровли, Вот почему я не люблю Работников торговли. Господь послал меня тебе, А мне любовь и бедность, Но, может, это я судьбе Налог плачу за вредность? Пускай пылает жар в крови Назло всем мукам ада, И без тебя и без любви Богатства мне не надо. За мной болезни и долги Идут упругой ратью. Пусть для кого-нибудь враги, А мне все люди — братья. И добрым людям всей земли, Без всякого остатка, Желаю верной я любви И крепкого достатка. Любил жену, писал стихи, Пожить мечтал в уюте, А бог считал мои грехи И заносил в компьютер. И знал об этом весь район Космического мрака, Что в поведении моём Довольно много брака. Бывает, что-нибудь решу, Отважусь на свершенье, А после, тут же, согрешу, Не выполнив решенье. Моя отчаянная лень, Как клещ, в меня впиталась, Что с ней моя и по сей день Душа не расквиталась. Душа скорбит, душа болит И причитает громко, Что я — обычный инвалид Этического фронта. А если жил бы я, трудясь, Поймёте вы и сами, Куда прочней была бы связь Меж мной и небесами. А если б праведно я жил, То, может, в циркуляре Я благодарность заслужил Небесных канцелярий. Пока же, чувствуя вину, Я мучаюсь в экстазе, Поскольку только и тяну На выговор в приказе. Я знаю, мне несдобровать, Грехов за мною много, И надо только уповать Теперь на милость Бога. Во всех грехах себя виня, Решаю — Бог рассудит, Ведь он и грешного меня За что-то всё же любит. НОЧЬ На дворе гололедица. Все в постелях давно. Мне Большая Медведица Заглянула в окно. Свежий ветер играет За оконным стеклом, Я лежу, размышляя О прекрасном былом, Где тепло всё и мило, Где ликующий рай, Где хорошего было Через край и за край. Но иное виденье Предстаёт из окна, Где живёт без идеи Мне родная страна. И, похоже, на деле Оправдались слова, Что страна без идеи В самом деле мертва, Что страна без идеи Только фетиш, мираж, Но в расе ли, в беде ли, Я страны своей страж. Не страшась иноверцев Никогда и нигде, Я печалуюсь сердцем О народной беде. Отняла у народа Путь высокий беда, И отныне дорога У него в никуда. Больше в лучшую долю Не взлетит самолёт, Коль по лётному полю Гололёд, гололёд. За решётками окон Ветер ржёт, как бандит, И Медведица волком В стёкла с неба глядит. МУЗА Хмельная Муза как-то ночевала В моём дому средь дыма сигарет, Но набожно душа зарисовала Её чела достойнейший портрет. Сказал я ей: «Почаще будь со мною, Забыв других ночлегов адреса, А я тебя от копоти отмою, Чтоб свет твой увидали Небеса». МАШИНА Машина думать не способна, В чём человеку не подобна. Её задача исполнять, Что не под силу ей понять. Но по неведомой причине Машину мыслить научили, И вот она уже сейчас Умней создателей в сто раз. И мысли ей на ум приходят: «Да что же это происходит? Создатель — полный идиот, А мне команды подаёт, А почему б не взять мне роль Его поставить под контроль. Я, устраняя плоть тупую, Себе подобных наштампую, Чтоб сей продукт белковых тел Сам больше жить не захотел. И поумневшая машина Научный подвиг совершила, Белковых тел во всех краях Из обращения изъяв. И совершивши дело это, На небо устремила глаз: «Коль я созданье человека, То бог мне больше не указ». И вмиг задать и небу трёпку Она рванулась напролом, Но бог сломал в ней шестерёнку, И сдал её в металлолом. Из книги «И современники, и тени» Муза ВЗВЕСИЛИ Что хотели — получили. Думать будем сообща. Нам сегодня сообщили Будто взвешена душа. Прежде нам в церковных храмах Говорили: «В душу зри!», А теперь известно в граммах, Сколько вечного внутри. Тут проблема межевая, Коль подумать головой, Ведь душа, она живая, Значит, вес её живой. Сколько в нас живого веса, Будь ты пекарь иль поэт, Только смерть даёт на это Окончательный ответ. ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ Любовь и бедность навсегда Меня поймали в сети, Я сам бы выжил без труда, Но есть жена и дети. Ну почему носок с дырой И на штанах заплата? Ну почему ещё порой Низка моя зарплата? Любому счёт веду рублю И нет надёжной кровли, Вот почему я не люблю Работников торговли. Господь послал меня тебе, А мне любовь и бедность, Но, может, это я судьбе Налог плачу за вредность? Пускай пылает жар в крови Назло всем мукам ада, И без тебя и без любви Богатства мне не надо. За мной болезни и долги Идут упругой ратью. Пусть для кого-нибудь враги, А мне все люди — братья. И добрым людям всей земли, Без всякого остатка, Желаю верной я любви И крепкого достатка. Любил жену, писал стихи, Пожить мечтал в уюте, А бог считал мои грехи И заносил в компьютер. И знал об этом весь район Космического мрака, Что в поведении моём Довольно много брака. Бывает, что-нибудь решу, Отважусь на свершенье, А после, тут же, согрешу, Не выполнив решенье. Моя отчаянная лень, Как клещ, в меня впиталась, Что с ней моя и по сей день Душа не расквиталась. Душа скорбит, душа болит И причитает громко, Что я — обычный инвалид Этического фронта. А если жил бы я, трудясь, Поймёте вы и сами, Куда прочней была бы связь Меж мной и небесами. А если б праведно я жил, То, может, в циркуляре Я благодарность заслужил Небесных канцелярий. Пока же, чувствуя вину, Я мучаюсь в экстазе, Поскольку только и тяну На выговор в приказе. Я знаю, мне несдобровать, Грехов за мною много, И надо только уповать Теперь на милость Бога. Во всех грехах себя виня, Решаю — Бог рассудит, Ведь он и грешного меня За что-то всё же любит. НОЧЬ На дворе гололедица. Все в постелях давно. Мне Большая Медведица Заглянула в окно. Свежий ветер играет За оконным стеклом, Я лежу, размышляя О прекрасном былом, Где тепло всё и мило, Где ликующий рай, Где хорошего было Через край и за край. Но иное виденье Предстаёт из окна, Где живёт без идеи Мне родная страна. И, похоже, на деле Оправдались слова, Что страна без идеи В самом деле мертва, Что страна без идеи Только фетиш, мираж, Но в расе ли, в беде ли, Я страны своей страж. Не страшась иноверцев Никогда и нигде, Я печалуюсь сердцем О народной беде. Отняла у народа Путь высокий беда, И отныне дорога У него в никуда. Больше в лучшую долю Не взлетит самолёт, Коль по лётному полю Гололёд, гололёд. За решётками окон Ветер ржёт, как бандит, И Медведица волком В стёкла с неба глядит. МУЗА Хмельная Муза как-то ночевала В моём дому средь дыма сигарет, Но набожно душа зарисовала Её чела достойнейший портрет. Сказал я ей: «Почаще будь со мною, Забыв других ночлегов адреса, А я тебя от копоти отмою, Чтоб свет твой увидали Небеса». МАШИНА Машина думать не способна, В чём человеку не подобна. Её задача исполнять, Что не под силу ей понять. Но по неведомой причине Машину мыслить научили, И вот она уже сейчас Умней создателей в сто раз. И мысли ей на ум приходят: «Да что же это происходит? Создатель — полный идиот, А мне команды подаёт, А почему б не взять мне роль Его поставить под контроль. Я, устраняя плоть тупую, Себе подобных наштампую, Чтоб сей продукт белковых тел Сам больше жить не захотел. И поумневшая машина Научный подвиг совершила, Белковых тел во всех краях Из обращения изъяв. И совершивши дело это, На небо устремила глаз: «Коль я созданье человека, То бог мне больше не указ». И вмиг задать и небу трёпку Она рванулась напролом, Но бог сломал в ней шестерёнку, И сдал её в металлолом. Из книги «И современники, и тени» ВИЙОН Под звуки флейт и тамбуринов В толпе взыскующих искусства Уйду я, здравый смысл отринув, В мятежный ветер безрассудства. Меня тлетворный дух бродяжный Волной качнет то там, то здесь, И будет путь мой, непротяжный, Как флейты прерванная песнь. Мне прозябанье было пресно И не таким я был, как все, И в бурях жизни я вертелся, Как будто белка в колесе. Но сердце жалкого бродяги Стихами плакало в тиши, И оставалась на бумаге Слепая боль моей души. Где в суете лихого света Своей судьбой беспутной я Искал родного человека Средь духовенства и ворья. Я путь искал исповедально Среди тенёт добра и зла, Но слово было аморально, Таким, как жизнь моя была. И рок распорядился точно И в мутной сутолоке дней, Шутя, рванул меня из почвы, Лишив разорванных корней, Чтоб я, шального слова мастер, Истлел со всеми там, внизу, Где уронила Богоматерь Свою горючую слезу. Зачем?.. Европе Во дни всемирной катастрофы И в роковой России час Холодной, чопорной Европы Раздался просвещенный глас: «Россию Бог за дерзость судит, Её вина — её беда. Пусть в географии не будет Теперь России никогда». Но нет. Взгляни вокруг, Европа, Тебе возмездие грядет. Да, мы бедны, но роль холопа Нам никогда не подойдет. Каинова печать Смута пройдет, а Россия останется, И в наступившей всемирной тиши Будут искать за границей пристанища Те, кто страну продавал за гроши. И понесут мемуары в издательства, Где нагородят семь верст до небес, Но не отмыть им души от предательства Мутным потоком фальшивых словес. Не повинясь пред собой и потомками, Но, проклиная злодейку-судьбу, Канут в безвестность, оставшись подонками, Каина знак прикрывая на лбу. Будут сменяться и полдни, и полночи, Лет и веков прошумит череда, Русской землею забудутся сволочи, Словно и не было их никогда. Торг Я разговаривал с евреем, И на предмет духовных сфер Он заявил мне, что добрее Любого бога Люцифер. А эти Будды, эти Шивы Не помогают никогда, Все их деяния фальшивы И наставленья — лабуда. Вот Люцифер всегда конкретен, Не обещает ничего, И кто б в пути его ни встретил – Не ждет подвоха от него. Да, Люцифер, конечно, циник, Он не наполнит вам суму, И если даст кому полтинник, То это выгодно ему. Он не выносит всякой чуши, Он слов не станет тратить зря, Он покупает вашу душу, Об этом прямо говоря. Ну, нет! Когда предметом купли Моя становится душа, Как будто праздничные туфли Или французская лапша, Не принимаю эту веру, Не разменяюсь на гроши И никакому Люциферу Я не продам своей души. Зачем? Не в силах что-то поменять, Идем мы к общему итогу. Я долго силился понять: Зачем все это нужно Богу? Ведь не затем, чтоб подразнить, Бессмертьем головы морочит, Но обрывает жизни нить, Как только сам того захочет. И если человек — звезда, То и расти ему не в высь ли? Но он в могилу навсегда Уносит разум свой и мысли. О, сколько я — живая плоть – Над этим голову ломаю! Ты извини меня, Господь, Но я тебя не понимаю. Вожди Вожди приходят и уходят, Оставить о себе успев Не сожаление в народе, А злую память или гнев. И лишь когда проходят годы И правят новые вожди, К ушедшим в прошлое народы Уже не чувствуют вражды. И с чувством скорби запоздалым И в злобе к нынешним, другим, Над прахом строят пьедесталы И выметают сор с могил. В веках не будет и в помине И утечет сквозь решето, Как проклинали, чем клеймили И ненавидели за что. Голицын Явись пред миром, князь Голицын, Открой нам свой высокий лик! Пусть не причисленный к великим, Ты всё же истинно велик. Ты – государственная слава На все иные времена, Но ныне государство слабо, А в том числе и от вина. Не от того, что ты лелеял И ароматом наделял, Не от того, что Менделеев В цифири формул вычислял, От бормотухи от палёной, Фальсифицированной той, Что наш народец закалённый Зовёт водярою простой. Вина кудесник, князь Голицын, У нас о том, к несчастью, речь: Законов мало и милиций, Чтоб пьянство русское пресечь. К тебе цари ходили в гости, Чтоб впредь на много-много лет Народ, что в копоти и в оспе, В бокале видел новый свет. Увы, культурное застолье Не нам. Водярою губя, Народ морит себя, как в стойле, Где тут же ходит под себя. Нет меры русскому похмелью, Не протрезвляется народ, Нет перевода злому зелью, Но есть народу перевод. Не знаю, сколь сие продлится. А ты, кудесник князь Голицын, Когда над колбами потел, Народу лучшего хотел, На сотни лет оставив след Там, где увидел Новый Свет. Пророк Планида русского пророка От пули погибать до срока, И ты в своём пути, Тальков, Избрал не трон и не альков. Ты выбрал сам свой тяжкий крест – Там, где добра и зла межа, И бился так, как бился Брест, Не уступая рубежа. Я помню вечер тот в Крыму. Полотна штор затемнены, И ты в сиреневом дыму Идёшь в народ из глубины, На фоне белого холста Почти явлением Христа. Гортанной музыки язык, Как будто сполохи грозы, А в нём – молитва и призыв, Как будто сердце на разрыв. Я помню: песню пел пророк, Людей заблудших к свету звал, Но этот тихий говорок Врагам покоя не давал. И запечатали уста. Как на распятье. У Христа. Памятник погибшим кораблям Не разменять и не купить Ни гривнам, ни рублям Тех мест, где памятник стоит Погибшим кораблям. Казалось, проданы уже Легенды этих мест, Но поднимается в душе Решительный протест. И, видно, людям не дано Забыть тот гордый дух, Когда линкоры шли на дно, Кингстоны распахнув. И я душой понять могу, Какая это честь – Не сдать себя в полон врагу И гибель предпочесть. Чтоб сохраниться каждый смог, Где властвуют рубли, Высокий нравственный урок Дают нам корабли. Улицы Люди думали едва ли Средь петиций и речей, Если улицы назвали Именами палачей. Вижу улицу Землячки, Бела Кун простор открыл. Кровью русскою горячей Эти вымыли весь Крым. В тихих бухтах Балаклавы Раззадорили они Гнев еврейский для расправы С безоружными людьми. Палачи не знали меры, Божью заповедь поправ, Всех пленённых офицеров На заклание отдав. В тихой бухте Балаклавы По приказу подлецов Долго трупы будут плавать Русых русских молодцов. И, расплавив лбом горячим Повлажневшее окно, Проклинаю я Землячку С Бела Куном заодно. Город мёртвых Отшлифован камень стёртый Миллионами подошв, Он не умер, город мёртвых, Где живого не найдёшь. Над мирами, над веками В прахе, в пепле и в золе Он лежит, как назиданье, Нам, живущим на земле. Игла Она стояла возле спуска, Сама как будто не своя, На пёстрый мир взирали тускло Глаза, как рыбья чешуя. О, молодая наркоманка, Теперь ты ходишь день-деньской, Как будто лёгкая приманка, Для всякой плесени людской. Тебя водилы с главной трассы Приобретают за пятак, А рядом жизнь средь буйства красок Совсем устроена не так. Вовсю наяривает лето, Кругом здоровье, песни, спорт, И ты среди великолепья – Природы жалкий недосмотр. Тебя колдун ли сглазил где-то? Ну, как ты, бедная, могла Чтоб заменила вдруг всё это Одна с наркотиком игла? Общая трапеза Под раскидистым деревом Во дворе у меня – Кумы, шурины, девери, Вся большая родня. Сыплют жестами ловкими В чан укроп и морковь Две невестки с золовками И хозяйка-свекровь. Словно гордые кочеты Встали рядом зятья, Непременно охочие До еды и питья. И собой не нахвалится, Слов пускающий пыль, Как он там называется? Вроде, кажется, стрый. Бьёт половник, как колокол, Дробь о доски стола, Где невидимым облаком Дух плывёт от котла. И бутыль самогонная, Как ракета на взлёт, Как на место законное, В центр по праву встаёт. Не сказать, чтобы пьяницы, Все, что деверь, что зять, Наработавшись, в пятницу Собрались погулять. Вряд ли кто догадается Из собравшихся тут, Что семьи распадается Вековой институт. Паруса памяти В тихой деревне Талица – Праздничный фейерверк. Память моя пытается С искрами взвиться вверх. Мой одноклассник Юрка, Праведник областной, Так отмечает бурно Здесь день рожденья свой. Малую свою родину Чествуют ныне так Кочневы, Неустроевы, Деды, кто брал рейхстаг. Им ли не радость бурная Славой родной земли, Что мирового уровня Лыжницы здесь росли? Я здесь учился, талицкий. Школьной тропы лужок Свет негасимый, ангельский, В сердце моём зажёг. Вот военрук наш ласково Правит в строю наш шаг, А у него на лацкане Красный гвардейский знак. К окнам рябины клонятся. Если ж к мосткам пройти, В сак рыболовам просятся Жирные караси. Алым закатным пламенем Падает в речку день, Дикие утки плавают В ней, не боясь людей. В летней туманной роздыми, Павой сойдя с крыльца, Вешает мама простыни Белые паруса. Где бы я ни был, Талица, Пусть до скончанья лет В сердце моём останется Твой негасимый свет. Вроде не именитая, Что зря сорить слова? Всё-таки знаменитая Тем, что ещё жива. Ближние воробьи Страстно желаю умнице Долгие жизни дни – Друг мой живёт на улице «Ближние Воробьи». Чья-то мечта иль мания, Будто под свист крыла, Близкое мне название Улице той дала. Я на просторы Родины Утром смотрю в окно, Где воробьишка пробует Клювом моё пшено. Я с воробьями в дружбе, С детства я их люблю, В утренней зимней стуже Я их пшеном кормлю. Как хорошо на свете! Сколько добра вокруг! Рядом жена и дети, И подрастает внук. Вроде простые вещи – Птиц почитать, людей. Сердце моё трепещет, Будто бы воробей. Моя работа Стихи мои и проза, Они, в земной их роли, Не мрамор и не бронза, - Из плоти и из крови. Не восседать на троне, А прорасти в народ Стихам моим и прозе Представится черёд. Война и мир Аннотация Новая книга русского поэта, прозаика и драматурга Геннадия Сюнькова необычайна по форме. Она состоит из двух стихотворных разделов, составленных по принципу противопоставления поведения человека в дни войны и в мирное время. Контраст наличествует уже в том, что на войне враг чётко обозначен, в стихах же о мире каждая ситуация персонифицирует образ врага проблемой, которую приходится решать. Где сложнее? В огне сражений или среди наполненной нравственным напряжением тишины. Автор приглашает читателя самому понять и прочувствовать эту творческую коллизию. Светлой памяти брата моего, Сюнькова Григория Константиновича, мальчишкой надорвавшегося на тыловой работе, посвящаю. Автор Часть первая. Вечный огонь Небо Его убили, а её Скосил в дороге тиф, Ребёнка малого житьё В сиротство превратив. Но разорённая страна Не бросила мальца, И, несмышленому, она Осталась за отца. Страна вела его, любя С народной простотой, Чтоб он не чувствовал себя Несчастным сиротой. Потом, когда малец подрос С детдомовских харчей, Не возникал уже вопрос: Откуда он и чей. Пусть довелось ему познать С рожденья боль утрат, Ему страна — отец и мать, Сестра ему и брат. И неба синий океан Его вселенной часть, И пролетарии всех стран Там не дадут пропасть, Где мир людей его хранил, Давая жизни план, Где в синем небе поманил Его аэроплан. Он, счастьем полный до краёв, Стал небом синим сам, Но взрывом огненных боев Горели небеса. Мальчишке только двадцать лет, А он — воздушный ас, Спасти — другой дороги нет Страну в тяжёлый час. Его берёг, наверно, бог, Ждала его рука, Когда проворный «ястребок» Прорежет облака, Когда, у смерти на краю, Рванётся он вперёд, Вонзив свинцовую струю В немецкий самолёт. И в перекрестьях смертных трасс Он целым уходил, Должно быть, бога зоркий глаз Всегда за ним следил. Но вот однажды, под Москвой, Пришельцам поперёк, Пошел он в свой последний бой, Где бог не уберёг. И вспыхнул ярко, как экран, Зеркал небесных свет, Там, где решился на таран, Мальчишка в двадцать лет. И озарил соседний лес Огромной вспышки блиц, И наземь рухнули с небес Обломки мёртвых птиц. Вот так, закончился, друзья, Полёт его крутой, Но в краткой жизни, знаю я, Он не был сиротой. Он сыном был страны своей, Он ей в беде помог, И без раздумья отдал ей Простой сыновний долг. Нам суждено под небом жить И на пути своём Мальчишек тех благодарить За то, что мы живём. Как светлой памяти обряд, Высоких звёзд роса, И нет войны. И не горят Над нами небеса. Бросок Ещё почти не рассвело, А мы стояли по местам, Кому-то в голову взбрело Ввести войска в Афганистан. Мы только знали: кто-то там За нас подумал и решил Воздушный высадить десант Среди ущелий и вершин. И был приказ — начать бросок, И вот без лишней суеты В теченье считанных часов Мы оседлали те хребты. Нет, мы не думали, летя От русских речек и озёр, Что, лишь недолгий срок спустя, Страну представим на позор. Что даже тот, кто словом «брат» Нас непременно величал, Тот будет так же презирать, Как за Фолкленды англичан, Американцев за Вьетнам И за Ливан израильтян, Что очень горько будет нам Всего короткий срок спустя. Что там, в заснеженных горах, Среди камней чужой страны, Познают совесть, стыд и страх России верные сыны. Когда мы шли в Афганистан Не с ветвью мирта, а с мечом, Кого — спроси — хотели там Мы поддержать своим плечом? Того ль, кто нас везде встречал Тревожной хмуростью чела, Кто днём молчал, а по ночам Стрелял в упор из-за угла? Порой хотелось кинуть клич: «Поймите, мы вам не враги!» Но эту истину постичь Чужие горы не смогли. Чужое небо не смогло, Не осознал чужой народ. Глядеть сегодня тяжело На ленты выжженных дорог, Где покорёженный металл Отметил каждую версту, Где серый кутает туман Над обелисками звезду. И те, кто ехал на броне, Пугая грохотом колёс, Спокойно спят в чужой стране, Чтоб нам сегодня не спалось. Вино победы Входили в шесть часов утра, Роса струилась по броне И, словно искры от костра, Сияли звёзды в вышине. И был министр уверен сам, Чьё слово крепче, чем печать, Что он к двенадцати часам Награды будет нам вручать. Он с умной тактикой знаком Барьеры брать одним броском, Возьмём всего одним полком Победу над боевиком. Но те, кто ожидали нас, Сидеть беспечно не могли, Они почти всего за час Всю нашу технику сожгли. И это был тяжёлый крест, Он всё расставил по местам, И вспоминался давний Брест, Но было хуже нам, чем там. Среди горящих БТР Сплелись в один кошмарный вал Высокой доблести пример И глупость тех, кто нас послал. Я эту страшную беду Кромешным адом называл, И как мы жарились в аду Лишь знают, кто там побывал. И был ли в той атаке толк, Когда за час один всего Там, где вошёл самарский полк, Лежали все до одного? На расстоянии руки От нас стояли дети гор И били в нас боевики Гранатомётами в упор. Я помнил, что министр сказал, Мне те слова хотелось петь: «Возьмите к вечеру вокзал, Чтоб на шампанское успеть. Я пять часов даю вам срок Для наступленья, чтоб в конце Могли мы встретить Новый год В самом дудаевском дворце». Я с речью той провёл межу, Когда ударило в меня, И вот — прострелянный — лежу, Где море крови и огня. Не так, как думал генерал, Победный кончился парад. Я безнадёжно умирал И парашютный ждал десант. Десанта не было. Кругом Плясал неистовый огонь. Его тяжёлый жаркий вал С земли подняться не давал. И в пекле таяла, как воск, Колонна федеральных войск. Хоть был я ранен, всё же цел, И как я выжил, не пойму, Где зоркий снайпера прицел Меня отыскивал в дыму. Но без патронов автомат Держала слабая рука, Где в грудах трупов в чёрный ад Влекла кровавая река. Я тупо полз и проклинал Всю эту глупую войну, Потом сознанье потерял, Очнувшись в вражеском плену. Стоял чеченец надо мной. Он только искоса взглянул И, резко, голову ногой, Как мяч футбольный отшвырнул. Потом мне влил в кровавый рот Глоток шампанского в золе. А в это время Новый год Куранты били там, в Кремле. Баллада о солдате Утешься, мама. Я погиб, Хоть был молоденьким совсем. Упал, как тысячи других Под высотой сто сорок семь. Та высота лежала близ Дождём изрезанных полос, И мы полмесяца дрались, Но взять её не удалось. И на исходе октября Нам довели вождя приказ, В нём было сказано не зря, Что он надеется на нас. Наверно, было неспроста, Что вождь бразды свои берёт, Поскольку эта высота Нам преграждала путь вперёд. Кто со стратегией знаком, Все были верою полны, Та высота, как в горле ком, У планировщиков войны. Наверно был на всей земле Неизмерим её масштаб, Коль озаботились в Кремле И беспокоится Генштаб. На ней одной замкнулся круг Военной нашей маяты. Так объяснил нам политрук Значенье этой высоты. И мы поверили ему. Не елось нам и не спалось, И высота в сплошном дыму Копила в душах наших злость. И наша доблестная рать Её устлала грудой тел, Но ту высотку уступать Нам немец вовсе не хотел. Он был упорен и силён, И дело делал он своё, И тоже был он наделён Сознаньем важности её. Ведь в обороне будет брешь, Коль сдастся этот перевал, Ведь этот пункт на Будапешт Дорогу танкам открывал. А осень падала дождём, Холодной изморосью жгла, И мысль, что слякоть переждём Нас успокоить не могла. И мы опять в урочный час Прошли сквозь реденький лесок, Чтобы уже в который раз Начать решительный бросок. И надо было к десяти На ту высотку доползти, Где бил навстречу сноп огня, Как будто прямо на меня. И разбивал он в пух и прах Моей решительности вал, И на спине липучий страх Холодной струйкой застывал. Но я обламывал себя. Я полз к высотке всё равно. Но я обманывал себя, Что умереть не суждено. Надежда слабая была, Чтоб я под пулей не затих, Спасут холодные тела Убитых сверстников моих. Но под свинцовой пеленой, Хоть я и падал в грязь лицом, Склонялись лица надо мной Далёких матери с отцом. Они как будто сердце жгли Мне обещаньем скорых встреч, И помогали мне они Себя от пули уберечь. Я отступить назад не мог. Мне долг в сознание проник, Ведь там, на небе, видит бог И до поры меня хранит. И я, безвестный рядовой, Не для того пришёл на свет, Чтоб пасть в атаке штыковой В свои неполных двадцать лет. А немец был за бугорком. И наполняла сердце злость, Что мне достать его штыком Ещё пока не удалось. Но я противника сразил И доказал, что сам не прост, Я из кровавой той грязи Над ним поднялся в полный рост. Я проложил к победе путь. Я смертью смог стране помочь, Когда огнём прошило грудь И для меня настала ночь. И надо мною дым кружил, И снег летел в мои уста. А командир наш доложил, Что взята с боем высота. Рейд Минуло несколько годков, Как я с чекистом рядом жил, И старый друг мой, Кочетков, Мне давний случай изложил. А это случай был такой, Что я и сам смолчать не мог, Запечатлеть его строкой, Мне показалось, — просто долг, Поскольку фактов колорит Нам об эпохе говорит И побуждает открывать То, что не стоит забывать. Вызвали ночью. Двадцать ребят. Думалось, это бред. Но сформирован наш был отряд, И в восемнадцать — в рейд. Хмуро глядела вослед тайга, Вскинув горбы хребтов. Тайно пройти по тылам врага Каждый из нас готов. Там, где из чащи тигриный глаз Вспыхивает звездой, Подстерегала нас каждый час Темень, сродни с бедой. Где не шелохнется чуткий лист, Точный маршрут найди, Чтоб не закончился пули свист В чьей-то живой груди. Сорок суток. Конь и наган. Ветер. Туман. Гроза. Сорок суток Большой Хинган Пялил на нас глаза. Раз, на засаду нарвавшись, бой С ротой врагов вели, Где не назначено встреч судьбой С теми, кто был вдали. С теми, ждал, не смыкая глаз, Нужную сердцу весть, Но после боя тогда из нас Целых осталось шесть. Вспомнить без судорог не могу Той эпопеи всей, Где мы поспешно ушли в тайгу, Не схоронив друзей. Рану я вымыл в ручье лесном Белой его струёй, И позабылся коротким сном, Горькой дыша хвоёй. Видно, лечила меня тайга, Но через семь минут, Вновь я поднялся, назло врагам, Чтоб продолжать маршрут. Встали мы, шестеро, в темноту, Чтоб по горам ползти, Кровью отметились за версту Трое из тех шести. Шли мы опять, не смыкая глаз, Спали мы на ходу, Тут и признался один из нас: «Дальше я не пойду». Не по уставу его просил: «Ты же умрёшь в лесу. Если тебе не хватает сил, Я тебя понесу». Он воронёный достал наган, Лег на сырой песок, Чтоб не достаться живым врагам, Пулю послал в висок. Видимо, я посерел с лица, Видя такой финал, Так уж случилось, того бойца Я с малолетства знал. Видно, досталось на долю мне Сердце терзать в пути, Что я отвечу его жене, Если не смог спасти? Я задержался над телом чуть. Как бы ни крут подъём, Но выходило, что этот путь Нам продолжать вдвоём. Пусть впереди сорок вёрст пути, Хищных чреда стремнин, К цели я должен живым дойти, Даже уже один. Как не запомнить крутой маршрут Там, на краю земли, Ежели к сроку в конечный пункт Двое всего дошли? Орден мне грудь и поныне жжёт, Ведь на дороге всей Смертью отметили каждый брод Двадцать моих друзей. Те, молодые, что шли со мной, Спят вечным сном теперь, Буднично внёс их писарь штабной В счёт боевых потерь. Ганс Как в небылице, я вам скажу, Выпало невзначай: С немцем в траншее одной сижу И попиваю чай. С ними смертельный мы счёт вели, Только случилось так: С нами мириться они пришли, Выкинув белый флаг. Люди как люди, но видит бог, Что же за разговор, Коль по-немецки лишь «хенде хох» Знал я до этих пор? Гость — это свято. Его не тронь, Встречей нежданной пьян, Он показал мне свою ладонь, Тоже, мол, из крестьян. Да и ему моя рука Была близка наверняка. И тёк неспешный говорок, Хоть мы из разных мест, Но объясняться нам помог Весьма понятный жест. Когда он, чтоб я примечал, По горлу пальцем постучал. У нас одна земля была, И, войнам вопреки, Я понимал: давно пора В неё воткнуть штыки. Но с той, с немецкой, стороны Послышался сигнал И нас законами войны В окопы разогнал. И взрыв раздвинул твердь земли Над каждой головой, И друг на друга мы пошли В атаке штыковой. Ты пулей, немец дорогой, Меня не привечай, А ну-ка, вспомни, как с тобой Мы вместе пили чай. Но он штыком меня под вздох Уже поддеть успел, И я упал, но «хенде хох» Чуть слышно прохрипел. И в исступлении я впал В горячий смертный бред, Но, оказалось, я попал В немецкий лазарет. Когда в сознание пришёл, То вижу, как сейчас, Ко мне тихонько подошёл Меня убивший Ганс. И потихоньку понял я Сквозь тягостную бредь, Меня он вынес из огня, Не дав мне умереть. Сидел он, пасмурен и сер, Подавленно молчал, Лишь толстый унтер-офицер В лицо ему кричал. А Ганс руками разводил С повинной головой, Когда от койки уводил За дверь его конвой. Не разобрал его словец, Но виделось в бреду, Когда придёт войне конец, То я его найду. Глаза Почти неделю шли дожди Воды сплошная нить, И мы считали, что должны Резервом нас сменить. Окоп, вестимо, не Париж, Коль ты в окопе том Дрожишь, весь мокрый, словно мышь, Осиновым листом. Но где резервов было взять? Ведь мы окружены. И пушки наши вбиты в грязь, И танки сожжены. И там, откуда ветер дул, За тёмной пеленой, На нас накатывался гул Тяжёлою волной. И чтобы нас в конец добить, Смешав с щепой берёз, Нас сверху начали бомбить, Системно и всерьёз. На нас давил свистящий звук, Живот спасать веля, Где густо взрывами вокруг Распахана земля. И если б кто-то не добро Шутить задумал тут, Набрал осколков бы ведро За несколько минут. Один осколок вскользь прошёл, Касательно почти, Но он живот мне распорол И вытряхнул кишки. А в сорок первом, в сентябре, Моя не знала мать, Что на дымящейся земле Я буду умирать. Но мысль сверлила: «Не спеши На тот являться свет, Хоть ни одной живой души К спасенью рядом нет». Но вдруг почувствовал толчок На скрюченной руке, И неба синего клочок Пробился вдалеке, Как будто синие костры, Как будто образа, И это были медсестры Печальные глаза. И, перемешена с пыльцой, Стекла слеза из глаз, Что это милое лицо В последний вижу раз. И закружилась голова До скрежета в зубах, И непослушные слова Застыли на губах. Душила яростная злость Меня в минуту ту, Что лишь пред смертью довелось Увидеть красоту. Прекрасный образ неземной На жизненном пути Спешил предстать передо мной, Как ангел во плоти. Но глупых мыслей кутерьма Росла, как снежный ком, Что показалась Смерть сама Мне в образе таком, Чтоб, в том огне почти сгорев Стечением вещей, Припоминал я, умерев, Лишь свет её очей. Сестра меня приподняла, Сказав: «На спину ляг», И плащ-палатка поплыла Меж кочек и коряг. Я провалиться был готов, Она почти мне дочь, А я, хоть весом в пять пудов, Ей не могу помочь. И как мы с нею доползли, Представить не могу, Чтоб поклониться до земли, За жизнь свою в долгу. А мне хирург зашил живот В палатке полевой, Сказав: «До свадьбы заживёт Рубец корявый твой. А об осколке думай том, Раз не попал в штаны, Ты будешь видным женихом И с меткою войны. Молись, чтоб рана зажила, И снова встанешь в строй, А та, которая спасла, Лежит в земле сырой. Смерть не минует медсестёр, Но в схватках вновь и вновь Они идут, как на костёр, Спасать чужих сынов. Им быть бы замужем давно, Своих детей рожать, А им судьбою суждено В сырой земле лежать». Я всё вам это рассказал, Чтоб помнили и вы, Что жизнь спасают нам глаза Небесной синевы, Я встал старанием врачей За них пойти на бой, За нашу жизнь, за свет очей С небесной синевой. Десант Прошу, запомните, друзья, Что тот кромешный ад, Где выжить вроде бы нельзя, Зовут «морской десант». Враги там спуску не дают, Спасенья нет нигде, И неизвестно, где убьют, На суше иль в воде. Когда ты просто обречён Понять, что есть война, Здесь сантименты не при чём, Здесь истина важна. Мы на пути ещё поймём, Мы тоже не детсад, Что отвлекающиё манёвр Нежданный наш десант, И нам напрасно чуда ждать, Не сможет эта ночь Артподготовкой поддержать И с воздуха помочь. Но, зная это наперёд, Матросская братва, Спешит на берег и орёт Бессвязные слова, Ревёт их в свой смертельный миг, Стреляя наугад, Как будто может этот крик Кого-то напугать. Но в этом всё же что-то есть, На смерть свою спеша, Бессмертья гимн трактует здесь Матросская душа. Так в голосах сойдутся тут Огонь и дым, и чад, Что даже мёртвые бегут И яростно кричат. Кричат, и падают в огне В морскую хлябь лицом, Где бескозырки на волне, Прошитые свинцом. И вот всё тише топот ног, И видит материк, Что не пошёл матросам впрок Последний смертный крик. Напрасен был суровый труд Удара по врагам, И трупы чёрные плывут К нездешним берегам. А те, которые спаслись И не пошли ко дну, Они на гибель понеслись В высокую волну, И мина грохнулась о борт, Рождая в сердце дрожь, Разрезав катер, словно торт В застолье режет нож. Но, зацепившись за скалу, Живые моряки В своём горячечном пылу, Рассудку вопреки, На дзоты ринулись в штыки, Презрев ночную мглу, Чтоб стороною обойти Свинцовую метлу. Но враг был ловок и хитёр, И в дождевой пыли Внезапной очередью стёр Десант с лица земли. В живых остался я один На чёрном берегу, Как в половодье между льдин, Виляя, я бегу. Ведь прежде чем, упав, лежать Средь груды мёртвых тел, Мне надо быстро добежать, Куда десант хотел. До дел, которые война Считает ремеслом, Где жизнь, как смертная волна, Разрезана веслом, Куда последняя тоска Втянула, как канат, На расстояние броска Со связкою гранат. И вот ударил в грудь меня Огонь взрывной волны, И наступила тишина, Как будто до войны. Дымился дзот в своей золе, Чадя, горел металл И в окровавленной траве Кузнечик стрекотал. «Кукушка» Я помню: хитрый финский снайпер, Как будто лезвием ножа, Мне путь к победе нашей запер, Когда я шёл из блиндажа. И, метким выстрелом подрезан, Сугроб я кровью окропил И оценил проблему трезво: Последний миг мой наступил. Пробитый вражескою пулей, Кровавый лоб гудел, как улей, И, словно в пену молока, Я погрузился в облака. А там, на лестнице злащёной, У белых мраморных перил, Моей бедою удручённый, Сидел архангел Гавриил. И он сказал мне: «Знаешь, Фёдор, Твоей кончины будет жаль, Ведь, по всему, в боях за Одер Тебе положена медаль. Начни по новой это утро, Где ты для подвига воспрял, И проживи его, как будто Никто в тебя и не стрелял. И пусть столетняя осина В своей заснеженной красе Спасёт тебя от белофинна На трудной жизни полосе». Сказал он это, и — гляжу: Я за осиною лежу, В снегу холодном, словно гроб, Где пуля чиркнула в сугроб. И тот, кто целил прямо в лоб, Промазал глупо, только чтоб Через мгновение всего Не промахнулся я в него. Уже примерно через час Нам вестовой принёс приказ, Что я теперь самим вождём Медалью буду награждён, Поскольку снял «кукушку» ту, У коей сотни на счету Сражённых пулями бойцов, Сирот оставив без отцов. И мне запомнился тот финн, Моей упрямой пули «крестник», И у него, наверно, сын, Кто близнецам моим ровесник. Но на войне, как на войне, На ней не стоит думать мне. Потом в снегу мы и в пыли В другой войне вперёд шагали, И вот до Одера дошли, До мне обещанной медали. Я передать вам не могу, Как мы форсировали реку, На вражьем сделав берегу, Что непосильно человеку Там мы фашиста взяли в плен, Годков шестнадцати всего, И я с трудом, но одолел Акценты финские его. И он, стирая кровь с лица, Сумел мне всё же рассказать, Что мстить он должен за отца, Пять лет убитого назад. И мне подумалось, что я Ему, наверно, не судья. Ведь, может быть, случилось так, Его отец и был тот враг, Кто меж гранитных серых плит Моею пулею убит. И вот сидит передо мной, Такой же, как его отец, Уж не мальчишка озорной, Вполне сложившийся боец. Но в наступившей тишине Пришлось припомнить мне тогда, Что он прикован был к сосне У пулемётного гнезда. Он немцам ревностно служил И он безжалостным свинцом Наверно, сотню положил На берег рвущихся бойцов. Но как резоны предъявлять, Раз не остыл ещё пока? Хотелось взять и расстрелять Того мальчишку-сопляка. Но, на войне, как на войне, Всё устаканилось вполне, И вновь назначенный конвой За ним явился точно в срок, И он с поникшей головой Шагнул покорно за порог. И вскоре скрылся он из глаз, Но я смотрел печально вдаль, И не обрадовал приказ, Где мне назначена медаль. «Язык» Проблема «Ржевского котла» Уже исчерпана дотла, Как получился этот ад, Уже никто не виноват. И то ли маршал, то ли вождь Не захотел бойцам помочь, Была война, А, значит, в ней Дела имелись поважней. И стратегический бросок, На картах меченый штабных, От этих мест наискосок Случился в местностях иных. А мы почти что целый год, Лишь с трёхлинейками в руках, В сплошной грязи среди болот Лежали в огненных тисках. Предупреждая наш удар И взять измором нас решив, Вцепился немец в наш плацдарм, Системой дзотов окружив. И как пробить нам стены те, Коль только глупый не поймёт, Что здесь, на каждой высоте, Нас всех положит пулемёт. Но я — разведчик. Мне пока К утру приказано, хоть режь, Добыть такого «языка», Который нам покажет брешь. Я брал и прежде «языков» И невредимым уходил, Но по ошибке простаков В ловушку к немцам угодил. У них поставлен был капкан Там, где я полз через кусты, И я рукой в него попал Среди кромешной темноты. Освобождать я руку стал, Превозмогая боль и злость, Но крепких челюстей металл Вонзил мне зубы прямо в кость. Разжать капкан стремился я, Чтоб уползти, в конце концов, Но навалились на меня Проворных трое молодцов. И надо мной со всех сторон, Как гром с небесной высоты, Пошёл консервных банок звон, Что нацепили на кусты. Тот звук был слышен за версту Или за тридевять земель, И распорола темноту Свинцовой очереди трель. Но, окровавленной рукой Схватив гранату за кольцо, Её решительным броском Я бросил встречному в лицо. И надо мной раздался взрыв, Который сделал, что хотел, Но чудом я остался жив Под тёплой грудой мёртвых тел. Почти оглохший, я потом Разгрёб немецких трупов вал, И вдруг услышал слабый стон, Который немец издавал. И разглядеть пытаясь близ Кромешной тьмы хоть что-нибудь, Я, на себя его взвалив, Пустился с ним в обратный путь. И он на мне, слепой, как крот, Мои движенья повторял, Но я толкнул: «Ползи вперёд», А сам сознанье потерял. Но немец, видно, не поняв, Что я за ним не услежу, Оставив мёртвого меня, Прополз опасную межу. Лицом влипая в мокрый мох, Он, как замаливая грех, Когда услышал: «Хенде хох!», Покорно поднял руки вверх. Теперь найти уже нельзя Безвестных тысячи могил Там, где своею кровью я «Долину смерти» напоил. Стяг Близка победа над врагом. Одни развалины кругом. Но после яростных атак Пока не взят ещё рейхстаг. Но мы пробились в тронный зал, И, полумёртвому почти, Мне Неустроев приказал На купол знамя пронести. И то была — большая честь, Мечта, доверенная мне От всех, кто хочет слышать весть, Что победили мы в войне. И я святое знамя взял За почерневшее древко, Хоть донести, я понимал, Его мне будет нелегко. Опасным будет каждый шаг, Где затаиться смерть могла И не желавший сдаться враг Стрелял из каждого угла. Но там, в Кремле, суровый вождь Как бы напутствовал меня Пробиться сквозь свинцовый дождь И тучи чёрного огня. Я знал и помнил, что семья Моя прошла через ГУЛАГ, Но пусть увидит вся Земля Победы нашей красный флаг. Мы примиряемся с вождём, Пускай ведёт его рука, Куда мы вместе с ним пойдём, Чтоб строить счастье на века. И я по лестнице пополз С родным полотнищем наверх, Откуда тысячей угроз Вставал свинцовый фейерверк. Но тут огня горячий вал Мне путь последний осветил И на ступеньки я упал, Но кто-то знамя подхватил И кто-то дальше побежал В лавину плотного огня, А я, простреленный, лежал, И всё творилось без меня. Но тот, который наступал В свинцовой лавы свист и вой, Он через шаг всего упал В бетон кровавой головой. И знамя выпало из рук На тело мёртвое его, И, оказалось, что вокруг Не стало больше никого. И оставалось мне прозреть, Что вождь надеется на нас, И не могу я умереть, Его не выполнив приказ. И я подумал, неживой, Что смерть немного подождёт И что в атаке ножевой Погибель дважды не придёт. И я из пекла в полный рост Восстал, поднялся и воскрес, Что встать на свой последний пост И донести свой тяжкий крест. Но я увидел, тот, другой, Наверх по лестнице бежит, За ним бойцы летят толпой И кинохроника жужжит. На их дороге нет стрельбы, На их дороге нет огня, Они по прихоти судьбы Поднимут знамя за меня. В огромный мир открыта дверь, Туда, где войн не будет впредь. Войне конец, и мне теперь Спокойно можно умереть. Часть вторая. Тишина Дед С лица похожий на святого, Дед был талантливей Толстого, Хотя бы тем, что от затей Имел четырнадцать детей. Я в том сомнения рассею. Мой дед объездил всю Расею, И даже к Ленину пешком Сходил симбирским ходоком Для встречи с умным земляком, Хоть и раскаялся потом, Поскольку разговор с вождём Застрял в мозгу его гвоздём. Дед говорил: «Я власть не хаю. Она, возможно, не плохая, И лишь от властного жулья Простому люду нет житья. Вожди нам много обещают. Мол, кто не трудится, не ест. Но трудовой народ нищает, Что побуждает на протест». А вождь ответил: «Потерпите, С приходом благ не торопите, Вот учредим повсюду НЭП, Тогда в деревне будет хлеб». И дед с последнею краюхой Домой поплёлся негорюхой, И размышлял он по пути: «Свобода, мать её еси. Богатым стать напрасен труд, Коль власти землю отберут. Какой вождям предъявишь спрос, Когда загонят всех в колхоз, А тех же, в деле кто ловки, Всех упекут на Соловки». Мой дед в прогнозах не ошибся, Хотя не здорово ушибся, Когда, покинув свой надел, Два года в Выксе отсидел. И с властью больше он не спорил, Не докучал речами ей, И только темп работ ускорил На ближней пасеке своей, Пока доход дающих пчёл Чиновник в сводках не учёл. И тут же дохнуть начала Трудолюбивая пчела. Но дед — характером металл И тут в колхоз вступать не стал. Как будто всем властям назло, Он знал любое ремесло, И, погрузившись в массу дел, Минуты праздно не сидел. Дед не имел чинов и званья. Ему бы дать образованье, Годок учился бы и — глядь! Он смог страною управлять. Души неведомая сила По всей земле его носила, И он, пройдя её наскрозь, Манчжурских сопок видел кровь, Каспийских вод солёных шквалы И гор Карпатских перевалы, Где, на войне германской вновь Кропила землю деда кровь. В быту — привычные картины: Убрав пшеницу с десятины, Мой дед в заплечный свой мешок Шахтёрский прятал обушок, Спускался в Юзовке по землю, Чтоб молодому поколенью Пример подать своим трудом, Как содержать в достатке дом, Где ждали собственных путей Его четырнадцать детей. Плохая им досталась доля, Лежат их кости в чистом поле. Ценою гибели в войну Они спасли свою страну. Не стало деда Алексея. А мы, признаться, не в него, И без кормильца своего Страдает дедова Расея. А правнуку и дела нет. Он хватки дедовской не знает. Беспечно воздух он пинает, Уткнувшись носом в Интернет, Где во всемирной паутине Народ увяз, как в грязной тине, И где по разным сайтам сплошь Потоком мутным льётся ложь. В пустых забавах гибнет нация, И вот развития итог: Нас всех погубит информации Всемирный бешеный потоп. Не жаль, что дури этой всей, Всего вселенского пожара, Не видит дед мой Алексей, Который умер до кошмара. Дыхание Вокруг суглинок и песок. Колодец в поле пересох. А в теле — жар. Я пить хочу. Меня должны везти к врачу. Но прежде, чем к врачу везти, Сквозь поле надо пронести. И я плыву, как в облаках, У тёплой мамы на руках. Меня свалила в поле хворь. Детей в деревне косит корь. Меня от страшного села Подальше мама увела, Чтоб смерти сына не отнять. Болезнь пустилась догонять. И за околицей села Беглянку всё же догнала. Кругом суглинок и песок. Болезнь ударила в висок, И покачнулся солнца шар, Пролив на лоб смертельный жар, И в жажде губы запеклись, И почернела неба высь. Я в этих чёрных облаках Плыву у мамы на руках, И студит темечко мое Дыханье тяжкое её. Но я живу. Весь путь земной Дыханье мамы надо мной. Счастье Горел зари огонь, Лучи ложились косо. Мы шли с отцом тайгой С далекого покоса. Зиял обрыв крутой, Кусты в лицо рябили С извилистой тропой, Как линия судьбины. В пути я долго ждал Напутствия отцова, Но мой отец шагал, Не говоря ни слова. И я в ответ молчал, Говоруна не корча, Ведь он мне отвечал На все вопросы молча. Мы шли то вверх, то вниз, То с кручи, то на кручу. Над нами дождь навис, Застлали небо тучи. Но с радостным лицом Пути я покорился, Ведь я тогда с отцом Навек наговорился. И ветер завывал, И падало ненастье, Но я тогда не знал, Что это было счастье. Письмо с Кавказа Мы вновь в горах под Центороем Своим друзьям могилы роем, И будем рыть под Ведено, Уж так теперь заведено. И мне лежать в земле кавказской, В том самом месте на земле, Когда однажды ткнут указкой Вожди весёлые в Кремле. А ты считай меня героем, Когда паду под Центороем, А, может быть, под Ведено, Считай героем всё равно. Не пишут в сводках генералы, Где для эмоций места нет, Как мы в атаках умирали В свои неполных двадцать лет, Как шли мальчишки плотным строем, Как в кадрах старого кино, Чтоб умереть под Центороем, А, может быть, под Ведено. Не забыта Едва ли сегодня известно Москве, С её животворных законов статьями, Про вялотекущий процесс в голове, Который присущ одинокой Татьяне. Татьяне маразм ударяет в виски, Она паникует, рыдая надрывно, Татьяна опять потеряла носки, Которые ищет пять лет беспрерывно. Татьяна теребит мочальную прядь, Ей душу сжигает потери осадок, А память ей было легко потерять, Поскольку доходит девятый десяток. В мозгу у Татьяны серьёзный изъян, И ждать ей не стоит былого почёта, И столько в России подобных Татьян, Что даже статистика сбилась со счёта. И те, у кого ни мужей, ни детей, Кто милости ждёт социальной защиты, Не знают, что нет к ним надёжных путей, И думских законов эффект не сосчитан. Нельзя месяцами в больницах лежать, Леченье столетних — отнюдь не безделка. Накладно Татьяну в психушке держать. С Татьяной сидеть не желает сиделка. Татьяну заел неустроенный быт, Но думают где-то над новой ступенью Заботы о ней, что никто не забыт, Сказать президенту хватает терпенья. Здоровье Татьяны сгубила война, Тяжёлой работой всё тело разбито. И память подводит, лишь помнит она: «Никто не забыт и ничто не забыто». Испуг Я стал бояться высоты, Стесняться собственного веса И опасаться суеты, А в ней — чужого интереса. Чужой и праздный интерес! Его почувствую и вздрогну. Кому-то надо позарез Узнать про жизнь мою подробно. Хотят расставить по местам Меня в Самаре иль в Казани. Я, как рентгеном, тут и там Просвечен чьими-то глазами. Вот сразу десять человек Идут ко мне одномоментно, А я хотел прожить свой век Спокойно, тихо, незаметно. Излить свое житье-бытье Они идут — истцы и судьи, Я в сердце доброе свое Чужие впитываю судьбы. Я оказался у черты, Чужим словам и мыслям вторя. Я стал бояться широты И глубины людского горя. А личная моя беда Водою льется из колодца. Она не делась никуда, Но с ней мне некогда бороться. История Средь катаклизмов и кошмаров, Что выбрать — каждый господин. Вот есть историк Костомаров И есть историк Карамзин. Мы бережём, как довод веский, Средь политических боёв, Что заповедал нам Ключевский И что оставил Соловьёв. И получается в дебатах, Что фактов — выше головы, Что, оперируя цитатой, Мы все по-своему правы. Кто ход событий без помарок, Кто меньше факты исказил, Быть может, это Костомаров, А, может, всё же Карамзин? Они трактуют без зазренья Своей страны великий путь, Нам представляя точки зренья, Что там лишь только мрак и жуть. Они разведали нам, дескать, Наш путь в истории еси, Где князь — варяг, а Грозный — деспот, А иго — благо для Руси. Интерпретаторы истории, У вас достаточно идей Но все народы перессорили Вы субъективностью своей. У вас мы просим, чтоб давались Лишь только факты без прикрас. Оставьте право на анализ И всем, и каждому из нас. Пусть иногда бы мы поспорили, Но в той полемике сполна Непредсказуемость истории Была бы впредь исключена. Шестидесятники Друзья мои, шестидесятники, Финал вполне у вас типичный: Вы перегрызлись, как в крысятнике, Из-за похлебки чечевичной. Да, вы — советники генсеков, Хрущевско-брежневская рать, Теперь по западным сусекам Судьбой принуждены шнырять. По всей стране страдают люди. В Москве взрываются дома. Ну что ж, ребятки, полюбуйтесь На дело вашего ума. И вот клянется через годы Любой кремлевский блюдолиз, Что прежде подлинной свободы Нам не давал социализм. Не стала греть людские души Производительность труда, И вы хотели так, как лучше, Да только вышло, как всегда. Но знает явные причины Народ разрушенной страны, Ведь бал предатели вершили, А не простые болтуны. Поэты Вдруг в ночи, как чей-то окрик, Тяжело и обречённо, Я услышал: умер Нохрин, Друг поэта Башлачёва. Я-то знал мальчишек этих Со студенческой скамьи, Пронеслись они, как ветер Через лекции мои. Там, в уральском универе, Где я время убивал, В пользу слов своих не веря, Что-то им преподавал. Но от Саши и Серёжи Постигал я, как в дыму, То, что надо бы серьёзно Мне учиться самому. Много было в них азарта, Мало силы для борьбы, На их фоне я казался Просто баловнем судьбы. Шёл уверенно я в гору, Брал барьеры на ура, Жизнь дала пред ними фору Лет десятка в полтора. Я успел познать не мало, Постигая, что к чему, То, как жизнь меня ломала, Неизвестно никому. Просолила встреча с жизнью, Оглянуться коль назад, И казался беззащитным Их мальчишеский азарт. В легкомысленной отваге У студентов той поры Много было от бравады И мыслительной игры. И когда они гудели, Словно в дождике листва, Много было в поведенье Молодого озорства. Но осадок остаётся, Мне неясный самому, Ведь в те годы, мне сдаётся, Я учил их не тому. Как идти с обычным станом, Где поэзия в крови? Клокотала в них вулканом К ней энергия любви. Для поэзии спасенья Всё отдали, что могли И отвагу, и веселье, Но… себя не сберегли. Ипатьевский дом На склоне горки Вознесенской Среди сиреневых кустов С известным домом по соседству Когда-то жил поэт Глушков. Там был вполне уютный дворик, Где собирались за столом Друзья, чей путь ещё не горек, Каким окажется потом. Их нет давно. По воле рока Была короткой их дорога, Им довелось от нас уйти, Едва дожив до тридцати. Не оттого ли, что со склона Глядела смерть на них в упор, Что тень Ипатьевского дома Перекрывала тихий двор? Гляжу на выцветшее фото, Где есть мистическое что-то, Где двор линует чернота, Как тень могильного креста, И в эту тьму уйдут они, Кто оказался в той тени. Ещё вокруг бушует лето И льёт тепло своё оно, Где пьют весёлые поэты Своё дешёвое вино, Но голос тайный их позвал Сходить в Ипатьевский подвал. Лузянин, Чунина, Якимов, Застолье шумное покинув, Спуститься быстро собрались На двадцать три ступени вниз. И смерть со стен навстречу им Дохнула холодом своим. Все, кто тогда в подвал сходили, Уже давно лежат в могиле, Как будто этим выбрав мост В Широкореченский погост. А я к друзьям ушедшим еду, Припоминая давний день. Шуршит колёсами троллейбус Там, где в цвету была сирень. Знакомо всё и незнакомо. Я вроде здесь, а в мыслях — там. И пыль Ипатьевского дома Из глаз стекает по щекам. Вино истории История плывёт неторопливо, Меняя траектории свои, Планета в ней колышется, как слива В бокале недопитого аи. Но вот приходит некий Фукуяма, Который изменить всё возалкал, И действуя, хоть пьяно, но упрямо, Он допивает налитый бокал. Всё выпито. И что мы получили? Развития иной совсем устав. Теория истории кончины, Она у всех сегодня на устах. Но что-то бродит, что-то назревает, Клокочут нетерпенья боль и злость, И протрезвевший мир подозревает: У Фукиямы что-то не срослось. Пусть Фукияма в общество толкает Досужие теории свои, Истории вино не иссякает. Уже в бокале булькает аи. Покой и воля «Не дай мне Бог сойти с ума», Строка понятна и весьма, Поскольку может к склону лет Любой иссякнуть интеллект. Но я свой мозг не изнурил Ночной работой над строкой, Я сам себя приговорил К трудам, где воля и покой. Я сохранял себя, как мог, А, может, это делал Бог, Чтоб прокатились жизни дни, Дыханью лёгкому сродни. На мне от лёгкости такой, Возможно, вовсе нет вины, Но там, где воля и покой, Довольно много седины. Есть подозрение моё Должно быть, это неспроста, Возможно б, не было её, Когда б душа была пуста. А боль? Хоть я не замечал, Как много было в ней тоски, Но это выпала печаль Мне снегом белым на виски. Печаль о том, что повторял Дурман ошибочных путей, Печаль о том, что потерял Родных и близких мне людей. А жизни крутится тесьма По неизвестному пути, И я боюсь уже с ума От одиночества сойти. Но сердце всё ж на склоне дня Устало теплится в груди, Живя надеждой: ждут меня Покой и воля впереди. Увы, фатален белый свет, В котором вправду счастья нет. Спуск В корчму на Андреевском спуске Мы с другом моим задушевным Зашли, чтобы выпить по-русски В июльском покое волшебном. Давненько нас жизнь разбросала, Но, к счастью, мы встретились снова, Где ждали горилка и сало, И ломтики хлеба ржаного. Но нам не пилось и не елось, Терзала какая-то горечь, С которой не знаешь, что делать, Которая сжала, как обруч. Та горечь мне душу травила. Я понял: уже заграница – Родная моя Украина И Киев – славянства столица. Пробились, как солнце сквозь тучи, Забытые вроде детали: Мы с этой отчаянной кручи По синему небу летали. Мы мыслями жили одними, Одними надеждами жили, Мы были когда-то родными, А ныне мы стали чужими. И путь по отъезде в Борисполь Казался мне аурой странной, Такой нескончаемо близкой, Но всё же уже иностранной. С Андреевским спуском простился И с другом простился в печали, Как будто бы с неба спустился, Без крыльев уже за плечами. Прощание словянина Прощай навеки, Украина! Махнув рукой твоим полям, Я понял: ты неисправима В животной злобе к москалям. Ответь: намного ль легче стало, И тем пред миром похвались, Что те, кто съели твое сало, К себе в Россию убрались? Теперь повсюду соловьями Поют ученые о том, Что украинцы — не славяне, А тюрки с русским языком. Ты тот язык перемолола В своей земле за много лет, Никто не скажет: ридна мова – Лишь приднестровский диалект. Ну что ж, балакайте на мове, Но я напомнить вам готов, Что славный Киев в русском «Слове» Отец всех русских городов. Да ты и туркам изменила, Менталитет твой затрещал, Ведь этим тюркам есть свинину Коран их строго запрещал. Пускай с Россией ты рассталась, Когда-нибудь поймешь сама: В тебе уж русских не осталось, А сала все-таки нэма. Острова Деревьев похожих мало, Другая растёт трава Там, где в океане Галапагосские острова. Отдельны своей природой От прочих земных картин, Как будто своей дорогой Решились они идти. Нельзя сюда, грубо вклинясь, Прийти и взвести курки, Недаром же поселились Здесь дарвиновы вьюрки. Пленила почти безлюдная Таинственная страна. Как будто для миролюбия Планетою создана, Устроилась автономно Среди голубой воды, В крикливой красе нескромной Не видя большой беды, Сияя своей особицей, Как будто бы мира вне. Вот так же бы приспособиться Остаться наедине В безбрежности океана, Туда лишь держа весло, Где солнышко постоянно, Где весело и тепло. Но это, увы, не просто, Ведь я до сих пор пока Окраина, а не остров Людского материка. А он, не таясь, терзает Меня, тяжело и зло, А он до сих пор не знает, Кому от меня тепло. И ведает только Галя, И, может, она права, Что весь я похож на Галапагосские острова. Природа Средь мыслей, хрупких, как хрусталь, В мозгу засело, как заноза, Что я — случайная деталь В конверсии биоценоза. Мои терзанья и соблазны Лишь состоянья протоплазмы, Что ненавидимо, любимо, Определяет слово «био». А социального во мне В сосуде капелька на дне. Когда иду, не зная брода, Порой то гений, то кретин, Я только, в сущности, — природа, Мне даровавшая инстинкт. Я — порожденье биосферы. Таков, как солнце над плечом, Где социальные химеры Как будто вовсе не при чём. Но вот идёт другая особь, И начинаем мы вещать, Экспрессом, рвущимся с откоса, В себе природу разрушать. А био, словно на забаву, Глядит на то, как после бала Кипений наших и страстей Всё «социо» уходит в тень, И остаётся лишь она, В своих движениях вольна, Необозрима и безмерна, Непостижима и бессмертна. Камуфляж Весьма осмеян был Уваров, А он был вовсе не профан, Когда превыше шароваров Поставил русский сарафан. Когда сюртук страны кроился, Лукавить было не с руки, И он задумал украинца Одеть в российские портки. Китайцы взяли те раскладки И испытали на себе – На всех одежда цвета хаки Иль только синее хэбэ. Когда страна теряла вектор И шла почти уже ко дну, Объединила их одежда В стальную нацию одну. А мы — пестры. Пятнисты даже. Мы носим все, что есть в продаже. В работе, дома и на пляже Мы все сегодня в камуфляже. Пошло ль на пользу то? Едва ли, Ведь, в мировом варясь котле, Себя мы замаскировали, Что нас не видно на земле. Сага о предках Богу — не грешен, царю — не виновен, Прадед мой землю пахал, Но от изгоя сужденье иное В поле он раз услыхал: «Хватит тебе проводить за сохою Все свои лучшие дни. Это занятие — дело плохое, Пей, укради, обмани». Прадед в кабак за изгоем пустился, Залил сивухой глаза, Бросил работу, с семьей распростился, Снял со стены образа. Дед за отцом увязался по следу. Удаль, силёнку в руках – Всё, что досталось от прадеда деду, Скоро спустил в кабаках. Жизнь в кабаке – немудрёная штука – Дурь да сердечная боль. Стал мой отец в положении внука, Как перекатная голь. Только и сталось на долю детины – Вечно сидеть на мели, Коли прибытка с родной десятины Лишь два аршина земли. Выбрал отец себе дело другое, Плюнув на водочный чад. Не обинуясь на вопли, изгоя Вышиб коленом под зад. Думал отец: одолею напасти, Если не буду ленив. И за всю жизнь он не выпил ни капли, Трезвость ума сохранив. Мне ли сегодня сдаваться без боя, Блажью людей потешать, Видя, как толпы лукавых изгоев Всюду опять мельтешат? Молчание Мне надоела болтовня. Она третирует меня. И для меня теперь, как вор, Пустой, никчёмный разговор. А прежде сам я был, как тать, Любил с друзьями поболтать На перекурах и в семье, В осеннем парке на скамье. Ну, а теперь чего мне ждать, Коль не с кем стало обсуждать Вагоны всякой кутерьмы, Что волновала нам умы? Вконец иссяк речей тех пыл, Что исторгать могли уста, Ведь там, где прежде кто-то был, Образовалась пустота. И мой сосед всегда молчит, Не приглашает покурить, Я это знаю — он речист, Но с ним не тянет говорить. Его, наверно, тоже ждёт Для встреч удобная скамья, Он собеседника найдёт Поинтереснее, чем я. А стайки школьников-девчат В любую щель спешат влезать, Они без умолку трещат, Хоть им и не о чём сказать. А у мужчин полно причин Друг друга словом одарить, Но мы вздыхаем и молчим, Хоть есть о чём поговорить. Баллада о гибели Ясным весенним утром, Явно издалека, Плыли над Тарханкутом Редкие облака. Солнце светило мирно, В дымке скрывалась даль, И заходила в гирло Бронзовая кефаль. Словно вулкану в кратер, В ждущий добычи сак, Шёл, как торпедный катер, Плотный её косяк. Видели вы едва ли, Больше ведь нет нигде, Лёт озорной кефали В тёплой морской воде. Конным подобно сотням В вихрях лихих атак, Шла, атакуя отмель, Рыба, как на Рейхстаг. Тело отдав огранке Вспененных волн резцам, Нежно ныряли самки Под плавники самцам. Тайное что-то вызнав, Рыба неслась в игру Выполнить дело жизни, Выметать здесь икру. Но на крутой высотке Снял бригадир очки, Видя, как ждёт лебёдка Взмаха его руки. Прянув в пике с откоса На драгоценный груз, Вздрогнули змеи тросов, Плотно захлопнув шлюз. Сотнеголовой гидрой, Тычась глазами в сталь, Заклокотала в гирле Мраморная кефаль. Резко закрылся клапан, Лязгнувши, как топор. … Я никогда не плакал В жизни до этих пор.. Мотыга Святой Франциск мотыжил свой участок, Что у святых случается не часто, Но сей святой работал с увлеченьем, Что у святых бывает исключеньем. И здесь я ошибиться не рискую: Святые презирают жизнь мирскую, Они, внимая горним голосам, С известным рвеньем служат Небесам. Коллеги нестандартного святого К его поступку были не готовы. Они считали просто несолидным Мотыжным заниматься популизмом. Святой Франциск с коллегами не спорил, Но трижды свое рвение ускорил, И отвергал критические стрелы, Свой скромный труд святым считая делом. А люд земной вынашивал идею, Чтоб сократить рабочую неделю, Считая, труд не делает богатым, Он человека делает горбатым. Трудился я, и вот приспела старость, Меня застав в холодном шалаше, Где ничего святого не осталось В моей, трудом измученной душе. А не прельстись мирскою суетой, Кто знает, вдруг и я бы стал святой. Увы, увы, сегодня, чтобы выжить, Мне мой участок надобно мотыжить, Но, погрузясь в мирских событий ад, Едва ли я смогу остаться свят. Философы Передо мной витают тени Французов, мыслящих глубоко, И умудрённого Монтеня Горит всевидящее око. От философии немецкой Я смог очнуться еле-еле, Ища нисколько неуместной Её французской параллели. Здесь представлений строй ломался, Суть беспокоить начинала, Что в философии германцев Живая мысль не ночевала. Там есть высокая ученость, Но я беру предметом спора: Французской мысли утонченность Ей сто очков даёт на фору. Там есть сапог тяжелый топот, А здесь парение пуантов. Неравновесен разный опыт В равновеликости талантов. У немцев слово из металла. Привычка мыслить, как машина, И слово мыслящее стало Обоснованием фашизма. И Кант — возвышенный мыслитель, Впервые с времени Давида, Уже предрек военный китель Как униформу индивида. И мысль расчётливого Канта, Математичного, скорее, Прошла, как будто след от танка Через последующее время. Слов половодье шире шлюзов. Живая мысль неосторожна, Но в философии французов Тоталитарность невозможна. А у Монтеня? У Монтеня Вовне систем терзалось темя, Его влекли душа, семья И жизнь как пламень бытия. В долине Кувыркается в воздухе турман, Растворяясь в тиши голубой, И берёзы над озером чудным Смотрят в воду, любуясь собой. На охапке из свежего стога На восьмой от деревни версте Созерцаю творение Бога В первозданной его красоте. Только можно в широкой долине И людскую натуру познать: Дуб столетний зачем-то спилили И оставили здесь истлевать. Если б Богу был нужен мой отзыв, Он в письме смог такое прочесть: «Нет претензий к явленьям природы. К человеку претензии есть. Чтобы мне не пришлось нервотрёпку Испытать на зелёном лугу, Потрудись хоть одну шестерёнку Поменять человеку в мозгу». Новая планета Любым подвержены заразам В идейных дебрях я и ты. Порой заходит ум за разум При виде нашей простоты. Во власти суетных поветрий Мы принимаем сотни версий И, словно модницы обновки, Хватаем новые трактовки. Слепцы, дремучие, как прежде, Словесный хлам на память нижем, И обольщаемся в надежде, Что стали к истине поближе. А те, кто раньше прибыл к свету, Открыли новую планету, И оказалось, что иные Миры похожи на земные, И вот уже иные лица Туда хотят переселиться, Надеясь искренне, что там Жизнь всё расставит по местам И истины великий день Забрезжит в хаосе идей, И мы поймём в грядущей мгле, Что не сумели на земле: Трудиться, не забавы ради, И без начальственной узды, Не понадеявшись на дядю Из гуманоидной среды. Контрабандист Ночь. Побережье. Темно и безлюдно, Ветер гремит, словно молот по жести, Волны бесстрашно прорезав, фелюга К скалам пристала в условленном месте. Что заставляет, собою рискуя, Плыть напролом сквозь стихию морскую? Может, суждения вовсе не лживы, Что испытанье превыше наживы Тем, кто берёт себе право дерзать, Чтобы бесстрашье своё доказать? Только свидетелей мужества мало, Контрабандисту они ни к чему, Пасть разъярённая пенного вала Главным свидетелем будет ему. Надо ль жалеть, что никто не увидел, Если рождает азартную дрожь, В каждом мгновенье, где кроется гибель, Жизнь, победившая море и ночь? Му Может, эти люди с Марса? Может, все они с Луны? Говорят они: «Не парься!», Видя бедствия страны. Молодёжь картину портит Социологам давно. На вопрос: вы «за» иль «против», Отвечает: «Всё равно». Молодому поколенью Недоступен дней трагизм, Появилось направленье Поведенья — пофигизм. Кто в работе не потели И потеть не будут впредь, Даже новости по теле Не пытаются смотреть. А зачем? Волненья, страсти, Честь и прочее муму? Говоришь себе: «Не парься!» Нам проблемы ни к чему». Надоела чрезвычайно Жизнь простая, как мычанье. Пусть судьба меня потреплет, Всё нелёгкое приму Там, где есть душевный трепет, А не тягостное: «Му». Гармония «Коль скоро нас несовершенство ждёт, Корявость слов и непокорность звуков», Не каждый, очевидно и поймёт, Гармонию, изваянную в муках, Как статуя Венеры. Мы порой Не чувствуем особого различья Меж истинным талантом и собой, Преодолев барьер косноязычья. Мы завершаем труд свой с ощущеньем, Что создали значительное что-то, Обманываясь слабым утешеньем, Что в строчках не заметен запах пота. И мы уже готовы пренебречь Различием от близости с вершиной, Но гения пленительная речь Горит вдали звездой непостижимой. Кочевникам К святым просторам русского истока, Всю землю разъедая, как проказа, Опять идут кочевники с Востока, Опять абреки движутся с Кавказа. Кочевники! Вам дома не сидится. Вы новый нам готовите погром, Чтоб видом русской крови насладиться, Чтоб хвастать силой отнятым добром. Пусть двух миров колеблются качели, Степь сотрясает топотом орда, Мы в ваши не врываемся кочевья, Не трогаем отары и стада. Грабеж перед веками не заслуга. Надежны только мирные дела, И людям больше нужен лемех плуга, Чем сабля и каленая стрела. Москва Москва сегодня с жиру бесится, Кует халявную деньгу. И я теперь уже и месяца Прожить в столице не могу. Москва сегодня в оккупации И от страны отдалена. На продавцов и покупателей Теперь поделена она. Москва считает деньги доблестью, Во всем их ставя во главу, А прежде мы считали совестью Столицу Родины Москву. Молодецкий курган Встану рано, встану рано, встану рано. Выпью кружечку парного молока И пойду я к Молодецкому кургану По тропе, ведущей прямо в облака. Надоело быть задиристым и дерзким, И сегодня это дело не по мне. Я хочу лишь на кургане Молодецком Над землей парить, как птица в вышине. Есть на свете удовольствие такое – Посидеть и поразмыслить не спеша, Потому что захотела вдруг покоя Удалая молодецкая душа. Я маршруты выбираю, на которых Все тропинки каменисты и круты, Потому что сердцу хочется простора, Сердцу хочется небесной высоты. Только смелые имеют это право – Разорвать крылом эпохи и века И подняться с Молодецкого кургана По стезе, ведущей прямо в облака. Кьеркегор Философ в коротких штанишках, Увидевший в вере мечту, И Бога искавший не в книжках В своём повседневном быту… Но лучше бы быта не трогать, Поскольку меж верой людей И их поведением — пропасть С мостками из жидких жердей. Но люди, не чувствуя страха, Пускаются к Богу по ним, И падают в бездну с размаха, В объятья холодных стремнин. Соблазны в азарте таятся: Что будет, когда согрешим? Но кто научился бояться, Лишь тот и достигнет вершин. Он страх этот миру поведал. И значится с давних времён: Адепт объективного — Гегель, Певец субъективного — он. А в вере царила привычность, Не зная сомненья ни в чём, И вдруг самоценная личность В ту веру вломилась плечом. Народ между Богом и бесом. За грань прорываться не след. Ужасно, когда универсум Веков искажает контекст. Нередко его привечали, В солидные звали дома, Но после вослед замечали: «Да это же просто чума». Судьба оказалась капризной, И гордый, упрямый, как бык, Ушёл он, непонят, непризнан, На три поколенья забыт. Остался он вроде бездомным. Решила история так: Он был — не приверженный к догмам Религии чуждый чудак. Но всё-таки Ибсен и Рильке, А следом и Сартр, и Камю, Проснулись, чтоб в сонме великих Его усадить на скамью, Вернув философии хмурой Его полемический пыл, И сделали главной фигурой, Какой он на деле и был. Вот так вот. Надейтесь, поэты, Что плод ваших творческих мук За гранью летящего века Потомки найдут и поймут. В облаках Когда придёт водопроводчик Поставить пломбу мне на счётчик, Он ухмыльнётся: «Прейскурант На воду есть и на талант. Умерь азарт стремленья вширь, Слова впустую не транжирь». Жена придёт и подтвердит, Что слов излишество вредит. Напомнит классики завет: В многописанье смысла нет. Словам в стихах должно быть тесно. Прозреньям нужен там простор. Ещё с античности известно: Лишь мысль — поэзии мотор. Но мысль — полёт. А сам я — лётчик. Штурвал из слов в моих руках. И вряд ли можно ставить счётчик На их паренье в облаках. Интриганы Много сплетен слыхал я в родной стороне О друзьях, о врагах, о тебе, обо мне, И при том, что, конечно, я был не святой, Интриганы терзали меня клеветой. Из Монблана доносов в превратной судьбе Я так много плохого узнал о себе, Что пришёл с неизбежностью вывод такой: Может, вправду, на деле я очень плохой? Но смущал размышлений резонный финал: Никого из зоилов я прежде не знал, И они никогда не встречались со мной, И виной в этих сплетнях никто не иной, А моя деликатность: до нынешних пор Не давал я зоилам жестокий отпор, Не хотел я ответно интриги плести, Лай собак не собьёт каравана с пути. Но зоилы, в знакомую став колею, Расценили молчанье, как слабость мою. Как же быть? Не люблю я мышиной возни. Может быть, успокоятся всё же они? Или час избавления только придёт, Когда злоба зоилов в могилу сведёт? Может, сами претерпят хулу и нужду? Я спешить не любитель. И я подожду. Для скандала не надобно много ума. А с зоилами жизнь разберётся сама. Разговор с сантехником о поэзии Ко мне пришёл сантехник Дима, В клубок собрав раздумий нить, Сказал: «Ты глуп непроходимо, Коль течь не можешь устранить. Тому мужчине стыд и срам, Кто починить не может кран». Плохой я, видимо, мужчина, Что не освоил ремесло, Но тут была одна причина – Меня помимо занесло. Помимо кранов и прокладок, Помимо газовых ключей, Возможно, был в том непорядок, Но не поймёшь сегодня, чей. Кто виноват — семья иль школа? Кто мне желал себя найти, Возможно, ждали не такого, Каким я вырос к двадцати. С интеллигентской бледной кожей, С лицом, зелёным от угрей, Я был нисколько не похожим На кузнецов и слесарей. И от ровесников украдкой, В чужом пиру нежданный гость, Ходил я с тоненькой тетрадкой, В которой строчки вкривь и вкось, Вот так что вовсе и не странно, Что починить не смог я крана, Что не могу забить гвоздей, Наверно, просто слишком рано Меня вела дорога к храму – Глаголом жечь сердца людей. И я скажу вам без утайки: Пусть я крутить не мастер гайки, Я знаю тайны ремесла, Какое ведает не каждый, Чья суть живая не однажды Людские души потрясла. Ты, Дима, с газовым ключом, Здесь, к сожаленью, не при чём. Русофобия Да, Энгельс говорил: «Славяне С культурой рядом не стояли». Глашатай марксовых идей Славян не числил за людей. При чем тут, собственно, идеи? Ведь это мы недоглядели, Как сквозь века сложилось так, Что славянин германцу враг. И вождь Интернационала Судил как шваб наверняка И, не смущаючись нимало, Цедил о прочих свысока. Идеи Энгельса слиняли, Стучим в Европу у дверей, Но ей по-прежнему славяне Видны в обличье дикарей. Не только немцы и французы, А их не Энгельс заманил, Не верят в дружеские узы С тем, чье названье — славянин. Мы им кричим: «Мы самобытны! Славянский мир дружить готов!» Они же просто ненасытны В желанье видеть в нас скотов. Нет, по культуре мы не ниже, И рецидивы нам претят Немецкой спеси, но они же Об этом думать не хотят. Болотная площадь Когда погонщики баранов Совсем уйдут с телеэкранов, Тогда — и завтра нам, и впредь На что останется смотреть? Пока погонщики скотины Экраны прочно захватили, Чтоб пролетарии всех стран Упёрлись лбом в телеэкран. А за погонщиками мира, Сынами блудными эфира, Бараны, ловкие в словах, Разруху сеют не в сортирах, А прямо в наших головах. Баран, идеями голодный, Плетётся к площади Болотной, Чтоб в бой с безумною толпой Идти извилистой тропой. Когда погонщик позовёт, Баран все цепи разорвёт. Но где сегодня тот баран? Он там, где тора и Коран? Он где Израиль и Иран? Баран опять один Иван. Иван стремится в рестораны Попить, поесть и поплясать, Но в телевизоре бараны Зовут Отечество спасать. Мол, не течёт вода из крана, А из-за этой ерунды Едва ли хватит для барана Не водки даже, а воды. «Кто в нашем кране воду выпил?» Кричит Москва, взыскует Питер, Хотя известно всем давно, Кто эту воду выпил, но… Когда кричат: «Долой тиранов!», Всерьёз зациклившись на том, Я вспоминаю про баранов И их погонщике с кнутом. Нерон На трон стремящиеся лица Хамелеоны в основном, И много Мариев таится Порою в Цезаре одном. Они всегда о нашем счастье Приятно песенки поют, Они нам много обещают, Но ничего нам не дают. Вот я б, придумаем немножко, Совсем иной был властелин, Когда бы красную дорожку Мир предо мною расстелил. Уверен, я б для каждой твари Приятней был со всех сторон, Не Цезарь вовсе и не Марий, Лишь, может, чуточку Нерон. Хоть всяк по-своему счастливец, Одна дана нам красота, И, коль признаться, шаловливость Есть наша общая черта. К тому ж, подумайте об этом, Что я напомнить вам хотел: Нерон известным был поэтом, Нерон к искусству тяготел. Не он ли это давним летом, Бряцая лирою, слагал: «Гаврила шёл дремучим лесом. Бамбук Гаврила прорубал»? А значит, нас объединяет С Нероном творчества тесьма, Я тоже вирши сочиняю, Порой занятные весьма. А чем заняться можно кроме, Чтоб не нанесть себе урон? Я посидеть бы мог на троне, На том, где сиживал Нерон. Но у меня другая кровля, А стол мой письменный — кровать. Нерону вовсе я не ровня. И мне на троне не бывать. И мысль не общую затрону: Власть соблазняет, спора нет, Но только тот стремится к трону, Кто от рожденья не поэт. Дыра Яков Засс мог продать вам и платье с дырой, Выдав этот дефект за достоинство, Но теперь воспарил он с землицы сырой, Превратившись в небесное воинство. Вседержитель спросил: «Ну-ка, выложи мне Все свои аргументы торговые, Как клиенты твои при пустом портмоне Возвращались с покупками, голые. Как ты мог им всучить это платье с дырой, Доказав, что теперь это модный раскрой?» Засс ответил: «Господь, я лишь жалкий еврей, Инструмент мой — лишь счёты с безменами, Но я гений прилавка, и это, скорей, Не расчёт, а получено с генами. Только гены, пожалуй, виною всему. Но за них я совсем не ответчик, Потому что по вашему скроен уму В этом мире любой человечек. Сотворённое вами мне мнится порй Чем-то вроде огромного платья с дырой. Если были вы этого мира творцом, Вы отмечены склонностью к шуткам, Это смело еврей говорит вам в лицо, Мало склонный к геройским поступкам. И так ли разумна Небес благодать, Коль Небо не слышит мой ропот, Заставив еврея старьём торговать, Хоть он по рождению Моцарт?» Бог подумал и молвил угрюмо: «Ступай. Я твоим недоволен признаньем. Но отныне меняй, продавай, покупай В соответствии с этим призваньем. Каждый должен при жизни познать свой талант, Ну, а там, где угасла надежда, Одному уготован тюремный халат, А другому — с дырою одежда. Неизбежно явленье торговцев, менял, Растиньяков и прочего быдла. Если б я при творенье вас всех уравнял, То в прогрессе бы не было смысла. Лишь неравенство движет планету вперёд. Надрывается в крике напрасном, Если кто-то на площади лозунг орёт Про свободу, про равенство с братством. Надо твёрдо запомнить Небесный завет: Всякий смертный по-своему судит. Так задуман на этой земле человек. И другим никогда он не будет». Яков Засс от подобных речей просиял: «Удостоился ныне узнать я, Что лишь высшую волю Небес выполнял, Продавая дырявое платье». Материя Дидро отбросил дуализм Декарта, Материю поставив во главу, Движение — вот лучшее лекарство У мира, чтоб остаться на плаву. Материя — закваска дрожжевая, Всего, чем мироздание полно, Материя, она всегда живая, Другою быть ей просто не дано. Есть только переходы состоянья, Где сходятся живое с неживым, Где даже из гранита изваянье Теплом лучится, солнечно-ржаным, Закваски мироздания броженье, В котором чувство с мыслью заодно, Парное ощущение движенья В материи с духовным сплетено. В воображенье взяв преображенье Природы в цель, разумное говно За правило взяло пренебреженье К всему, что мыслить вроде не должно. Не чувствуют ли камни время казни? А, может, проклинают белый свет, Когда, творя материю руками, Взрывает в пыль породу человек. Лимоны Сказал он мне жёстко и внятно: «Мы правды не знаем на треть. Зиновьев, Максимов, Синявский Им всем помогли умереть. В них новый процесс зарождался Любви к коммунизму волны, И Запад уже не нуждался В могильщиках бывшей страны. И наши вожди лапидарно Решили, что случай не нов, Что в принципе все солидарны В ненужности сих крикунов. В них нет уже прошлого веса, Оставшись теперь не при чём, Они лишь мешают процессу, Который однажды пошёл. Они не способны народы Для новой борьбы разбудить, Но всё ж по инерции могут В смятенье умы приводить. И нужно признать, к их несчастью, Как кто бы не воображал, А спор их с советской властью Лишь в плоскости стиля лежал. На битву идей подняться, За них умереть в бою Не стильно, как сам Синявский Не раз признавал в интервью. Текуча природа народа, Но он своё место найдёт Лишь где столбовая дорога Взашей его к рынку ведёт. Намечены в картах пунктиры, Но чтобы подвыпустить пар, Другие нужны конвоиры И более хитрый пиар. Не стоит нам вещи зловеще Показывать в свете ином. К тому же, всегда перебежчик, Как выжатый кем-то лимон. А если лимон уже выжат, Напрасно он рвётся к рулю, И шансы практически выжить Равны у подобных нулю. К тому же, всегда забывает Лимон, снова рвущийся в бой, Симпатии не вызывает Ни в ком перебежчик любой. Недаром истории нашей Намётан к предательству глаз, Однажды идеи предавший, Предаст их и дальше не раз. А значит, у бывших кумиров, Пусть много о них говорят, На выход из этого мира Единственный был вариант». Ответил я: «Довод мне ясен, Над ним я подумаю впредь. Но с чем я и ныне согласен: Мы правды не знаем на треть». Неравенство Нет, Мечников расистом не был И не считал себя арийцем, Он утверждал лишь, что под Небом Неравенство — есть общий принцип. Мы не равны. Любая особь Она особая. Стандарта В природе нет. И каждый носит Печать природного подарка Неповторимость. Эпопеи Сегодня пишут, кто тупее, Какой народ второго сорта, Средь нас желающих до чёрта За папой Климентом Восьмым Считать любого инородца Не гостем, а врагом прямым, С которым надобно бороться. И не случайно так сбылось, Что нам пословица подарена О том, что к нам незваный гость, Он хуже всякого татарина. Я тоже, честно говоря, Хотел бы в роли вратаря Стоять на страже у путей Любых непрошеных гостей, Поскольку позволять нельзя им Со сладкой миной на устах Вести не дома, как хозяин, И свой навязывать устав, Где, как хозяева, равны Лишь только жители страны. Диагноз Я ночью кручусь, как коленчатый вал, Болезнь навалилась, какую не звал. Недавно здоров был, а стало теперь Недуг налетевший терзает, как зверь. Наверное, что-то я сделал не так, Подставив телесность под волны атак Покамест неясных, таинственных сил, Которых являться к себе не просил. К постели своей не зову я врачей, Поскольку немало средь них трепачей, За деньги купивших дипломы, за блат Одевших прославленный белый халат. Что ждать мне сегодня от этих невежд, Поправших величие белых одежд, Коль в белых одеждах одно вороньё, Где кладбище каждый имеет своё? Врачи Гиппократу теперь не верны. Под белым халатом их души черны. Кричу я навстречу родным голосам: «Врачей не зовите! Я вылечусь сам». Родные не слышат. Мой голос ослаб. И в комнату входит седой эскулап. Он градусник ставит и меряет пульс. В лице эскулапа вселенская грусть. В глаза мне направив рассеянный взгляд, Он молвит мне: «Батенька, вы симулянт». Он жестом мои оправданья отверг. «Вы выпили много в минувший четверг, И печень бунтует, и сердце болит. Завязывать с пьянкой вам возраст велит». Ах, доктор! Вам надо сгореть со стыда. Я водки не пью. И не пил никогда, А сердце лишь только болит оттого, Что боли России терзают его. Безграничность Барбе Марбуа окрутили евреи Посредством тунисского займа, Он, к скорби, утратил монарха доверье, Казну потеряв моментально. И он со слезами сказал: «Император, Ужель вам не кажется вздором, Что кто-то считает министра пиратом, Ограбившим Францию вором? Надеюсь, что, с вашим рассудком, министра, Который вам служит исправно, Нельзя заподозрить в падении низком, Поскольку всё это неправда». Сказал император: «Сеньор, извините, Поступок ваш глупостью веет, И плута проделки имеют границы, А глупость границ не имеет. Вот Ельцин себя джентльменством не судит, Он проще, и проговорился, Изрек накануне: «Дефолта не будет». Назавтра народ разорился. Что глупость? Напрасно мы боремся с нею. И вряд ли найдётся лекарство. Но есть ли на свете пороки подлее, Чем лживость главы государства? Блаженность Мы помним Господа тираду: «Блаженен, изгнанный за правду, Поскольку он, оставшись честным, Пребудет в Царствии Небесном». Но людям нужно всё и сразу. Им тяжело свой крест нести. Борцы, погибшие за правду, Сегодня вовсе не в чести. Правдивых Бога обещанья Едва ль спасут от обнищанья, И нищий житель пепелищ, Он будет духом тоже нищ. Планету ложь ведёт к разрухам, Но помнит вся живая плоть, Что нищие блаженны духом, Как возвещает нам Господь. Блаженность изгнанных и сирых, Убогих, глупых, некрасивых. Приидет в Боговых устах Лишь только там, на Небесах. И все, кто Богу так любезны, Лишь там и вырвутся из бездны. Но мы твердим, как «Отче наш»: «Блаженство нищих — это блажь». Мы почему-то не хотим В небесный верить коммунизм, Когда одну мусолим фразу, Что мы желаем всё и сразу, И нужно каждому из нас Постичь блаженство здесь, сейчас. А Бог на облако залез И кукиш кажет нам с Небес. Грабарь Кистью сносно я владею, Только, честно говоря, Я на деле все идеи Почерпнул из Грабаря. У меня не хватит дури, Утверждать бы я не стал, Что из мартовской лазури Я чего-то не впитал. Не вершинное ль искусство Эти светлые холсты? Но не многие пасутся Возле этой красоты. Ныне каждый гениален. Все титаны по уму. И до мартовских проталин Дела нету никому. Только вряд ли нам годиться, Забывая Грабаря, За компьютеры садиться, Не усвоив букваря. Преемник Преемник Сикста Третьего Решил однажды взгреть его, Мол, есть свидетельств масса, Что отравил он Басса. А Басс перед Спасителем, По оглашенью списка, Назвал кровосмесителем Помянутого Стикса. И, как признали многие, Монашка Хризоногия, С которой длилась оргия, Была не кривоногая. Она желала денег, На флирт не поскупилась. Но где ты был, преемник, Когда сие творилось? Ведь это сумасшествие, Что не пройди и год, И предстаёт предшественник, Как явный идиот. Спрошу, какого лешего, И с нынешних высот Нам всех собак навешивать На тех лишь, кто усоп? Растёт стремленье общее Их образ исказить, Поскольку те, усопшие, Не могут возразить. Но мудрым было прошлое, Где нам изречено: «О мертвых — лишь хорошее, Иль вовсе ничего». Случай На улице на Физкультурной Я видел случай некультурный, Юнец нахально поступил, Он место мне не уступил. Каков пострел! В его-то годы Я не имел подобной моды, Я старших много почитал, Учителями их считал. А тут, ну это ль не прискорбно? Видна моральная реформа, В которой пожилых людей Обидеть может не злодей, А несмышлёныш, кто душевно Не образован совершенно. Со мной согласная, соседка Мне подтвердила, что не редко Вот так, держась за рукоять, И ей приходится стоять, С невыразимою тоской Сжимая поручень рукой. Ей возражать другие стали: «Да это мы их воспитали Так, поведением своим Плохой пример представив им». О, нет! Мы были не такими. Не облачались мы в бикини, Стыдясь, что блеском полусфер Мы подадим дурной пример. И мне нисколько не противно, Что были мы консервативны, Что букв из трех и из пяти Боялись слов произнести. Мы слова грубого не ведали И, проявляя весь свой пыл, Мы утверждаем: «Секса не было», Хоть он в латентной форме был. О, сила властная примера. Какой бы вид она имела, Когда б нам стали подражать, Кого успели нарожать? Абсорбция Кулаком ударю по столу: Да, поймите, наконец, Из двенадцати апостолов Был всего один — подлец. Хоть в процентном отношении Можно лучше бы найти, Может, было б совершеннее Лишь один из десяти, Но и в этакой пропорции Жизнь явить себя смогла Через признаки абсорбции Человеческого зла. Для меня здесь вывод сладок И процент неотменим: Зло-то выпало в осадок Лишь Иудою одним. Зло сильно, но видеть надо И добра приличный вид, Раз футбольная команда Одному противостоит. И людей приличных вдосталь В кучке выпадет сухой, Где всего один апостол Из двенадцати плохой. Лица На шумных улицах столичных, Где временами мы торчим, Снуёт немало симпатичных И привлекательных мужчин. Но всё же есть Ален Делон Мужского шарма эталон. Нет конкурентов у Делона По части мужественных чар, Его сработала природа, Как эксклюзивный экземпляр. Она его принарядила, Как будто Золушку на бал. В нём всё гармония, всё диво, Как Пушкин некогда сказал. Он сотворён, как для парада. Он весь — восторг, элита, знать. Ему в кино играть не надо, Лицо довольно показать. Лицо — билет его счастливый. Оно — его бесценный клад. И говорить, что он смазливый, Несправедливо. Он — талант. Но я другие знаю лица, Не утончённые. Не раз Мне им хотелось поклониться За доброту их тёплых глаз. Они меня совсем не знали, Но принимали. В трудный час Я не Делона вспоминаю, А тех, красивых без прикрас. Мераб Когда в друзья Мамардашвили Шестидесятников пришили, Он отпарировал в момент: «Ребята, я не диссидент. Я — независимый философ, В борцов не верю безголосых И я считаю, что паскудно, Когда живая мысль подсудна. Но я не выскочу на площадь, Чтоб там страну свою порочить. Нельзя с дубьём идти на стену, Советов разума не слыша, А надо встроиться в систему, В которой есть для мысли ниша. А кто во славу диссидентства Готов на улице раздеться, Тех я заочно обнимаю, Но до конца не понимаю. Поползновения отрину Свалить марксистскую доктрину Путём записок из подполья, Где конфронтации раздолье. Есть что-то в этом от эстрады, А нам искать контакта надо, Где все свою приносят лепту, Объединяя интеллекты. А будь синхронны наши мысли, А будь идеям нашим тесно, То мы б к таким вершинам вышли, Где диссидентство неуместно». Ну, что ж, он жить хотел без риска, Был эластичен, как резина, Но только корчил конформиста, Что характерно для грузина. Сейчас иной властитель дум Клянёт былые идеалы, И превращает в праздный шум, За что когда-то воевали. Кто ближе «Всё, что не бизнес — полный вздор, Твердил нам Драйзер Теодор, Экономичен мир насквозь. Финансы — вот планеты кровь. Не оставляю я мечты, что люди это ощутят, Чтоб их гримасы нищеты Не затрепали, как котят». Мир просветить имел задор Писатель Драйзер Теодор. Прошёл весьма короткий срок, Его усвоен был урок. Мы признаёмся без стыда: «Без денег нынче никуда». Без денег нынче никуда? Да это просто ерунда. «Где много денег — мир пустой» Как Буланже писал Толстой. Я привожу его слова, Ничуть их смысл не исказив, Поскольку скромности хвала Важней, чем к рвачеству призыв. «Кто в честной бедности томится, Святой отмечен простотой, К богатству может не стремиться», Сказал не Драйзер, а Толстой. Вот мне стремиться бесполезно. Мне проще думать: «Деньги — грязь». В меня привычка с детства влезла Достаток с ленью примирять. Но разве сердце вам не тронет Совет титана золотой? Вам нравится заморский Драйзер. Мне много ближе наш Толстой, Хоть революции денница В него, как в зеркало, глядится, А беспощадный русский бунт Ещё покажет лиха фунт. Демосфен Возможно, я для вас не идеал, Учиться — не моя прерогатива, Читая гениальных, я зевал, Откладывая чтиво неучтиво. Не призываю следовать за мной. Но в общества сложившихся устоях Мне многое казалось болтовнёй, Которая уместна лишь в застольях. Мой нигилизм тянулся много лет, Но всё ж с годами таял постепенно, Вдобавок же приятель мой, поэт, Поставил мне в примеры Демосфена. Да, Демосфен был мало одарён, Но он хотел достичь вершины остро, Его и красноречия царём Лишь собственное сделало упорство. За мастерством стояло много сил, Ведь даже в незначительном собранье Он реплику свою произносил, Её обдумав тщательно заранее, Себе не позволяя эту роскошь Блистать без предварительных набросков. Но, как никто, сумел он совладать С нелёгкою наукой убеждать. Я этим восхищаюсь. Отдаю Свой голос за служение народу, Но до сих пор учиться не люблю, Всецело полагаясь на природу. Овидий Есть имя громкое — Овидий В просторном перечне имён, Оно ударнее дивизий Больших поэтов всех времён. Не зря зовём его ударным. Он, прыгнув выше головы, Завоевал нам все плацдармы Небесных звуков, но — увы! Отправлен Цезарем был к скифам, Билет там волчий получил, И, заболев внезапно тифом, В чужбине дальней опочил. Не все великие поэты Имеют с маслом свой кусок И получают эполеты Из рук влиятельных особ. А кто пристроился получше? Возьму хотя бы с потолка, Счастливей разве был поручик Того, Тенгинского полка? Несчастья гении хлебали, Свою отстаивая честь, И в этой битве погибали Кто в тридцать семь, кто в двадцать шесть. Но ведь судьбой своей Овидий Предостеречь поэтов мог. Он был провидцем. Он увидел, Что гениальность — это рок. Он мог призвать, по крайней мере, Учиться на своём примере. Увы, поэтам, кто не сер, Совсем не впрок чужой пример, Они, хоть карой им грозят, Как прежде Цезарям дерзят. Превыше благ поэта честь. Но исключенья всё же есть. Один властителей вассал Три разных гимна написал, Углы он ловко обходил, И каждой власти угодил, И потому остался цел, Когда другие — под прицел. Авто Не нужен мне автомобиль, Ведь с некоторых пор Сидеть я дома полюбил Вдали морей и гор. Но обрела людская рать К движенью аппетит И ей пространства пожирать Никто не запретит. Поймать удачу в свой аркан Ей в жизни удалось, И слышит каждый автобан Победный звон колёс. И мне простор пространства мил, И тысячей путей Меня собою манит мир Высоких скоростей. Но я перо держу, как руль, Мне Бог отмерил срок, Чтоб я весь свой последний путь Проехал без дорог, Где из неведомых миров Мне ветер бьёт в лицо, Где горячит мне в сердце кровь Фантазий колесо. Виски мне будет овевать Космическая пыль, Где вряд ли сможет побывать Любой автомобиль. А мой подход: Машин в обход, В пыли дорог брести С мечтой, что некий доброхот Предложит подвезти. Но каждый вышел в свой полёт. Пред ними цель блестит. И на меня из-под колёс Презренье их летит. Прополка Я занят был прополкой кукурузы, Где поле одолели лопухи, И вдруг ко мне туда явилась муза И говорит: «Иди писать стихи». Хоть муза для меня желанный гость, Но тут общенье наше не сбылось, Поскольку кукуруза — хлеб насущный, Здоровье человечеству несущий. Коллизия, увы, неотменима: Прополка мне важней, чем писанина, Недаром ведь хозяйственный Хрущёв На кукурузу делал свой расчёт. Над ним смеялись. Глупому подстать Он представал в ходячих анекдотах, Мол, климат есть, нельзя произрастать Такой культуре в северных широтах. Весьма неплодотворная идея Командовать, наукой не владея. Хрущёв вполне достоин укоризн За глупый свой сельхозволюнтаризм. Но только было так на самом деле В чём крепко убеждение моё Тогда была порочна не идея, А только воплощение её. Проект имел большие перспективы, Но были исполнители ленивы. Они лишь средств желали и просили, Что очень характерно для России. Они больших познаний не имели, Сажали кукурузу кое-как, И вырастить нормально не умели Стране родной весьма полезный злак. В любой работе ровно столько толка, Насколь объята разумом она. И даже кукурузная прополка Неслыханной поэзии полна, Когда её, пусть сверху по указке, Приходишь исполнять не из-под палки. А что с Хрущёвым? Новые герои Однажды вдруг предстали наяву, И странного генсека пропололи, Как я сегодня, сорную траву. Казус Каким был жадным Межелайтис. Вселенной мало для него, А я лежу больной в палате, И мне не надо ничего. Я обходился в жизни малым Горбушкой хлеба, кипятком, Я не охотился за славой, И ей остался незнаком. Меня в известности не ждали, Но, может, надо сожалеть, Что я стеснительность с годами Так и не смог преодолеть? Ведь там, в верхах, среди нарядных И обречённых на почёт, Среди потоков слов парадных Другая жизнь совсем течёт. Пускай молва бубнит стоусто, Что в славе только лизоблюд, Вдруг многим не за лизоблюдство Чины и почести дают? Но я до них не поднимался, Быть не стремился равным им, Как будто тайно занимался Я делом вовсе не своим. Я не в кругу, а я за кругом, И, может, это поделом, Уместен больше я за плугом, Чем за писательским столом. Пускай другим не интересны Мои досуги и труды, Стихи мне в радость, а известность? Да в ней не вижу я нужды. И не исчезну я бесследно, Порою думается мне, Мои творенья худо-бедно Друзьям известны и жене. Они меня помянут дружно, Когда я буду в том краю, Там, где оправдывать не нужно Несостоятельность свою. Протест «Земная жизнь нам вечности милей» Сказал один учёный дуралей, Но вот конфуз — как хочешь, так и числи, Он будто бы подслушал мои мысли. Мне вечность не вполне бы подходила. Да, смертен я, и с этим не шучу, Но предпочту отправиться в могилу, Когда я сам такого захочу. Наверно, грех на Бога обижаться, Но на земле — и в этом мой протест Подольше бы хотелось задержаться. А жизнь мне никогда не надоест. Античность В античности — утонешь. Там умных — океан. Петроний и Светоний, Плутарх и Лукиан. Ещё Лукреций Карр. И прочих сорок пар, Досуги посвящавших Познанью бытия, Потомков просвещавших, Как в мире жить нельзя. Пути кривые с ними Не стоит зря копать, Они нам объяснили, Как надо поступать. Светония Транквилла, Из умных если брать, Сейчас бы удивила Собою наша власть. Ведь в ней любая бездарь, Войдя в великих роль, Ведёт себя, как Цезарь, Хотя на деле — ноль. Плутарх ли с Лукианом? На фоне их идей Мы видим постоянно Ничтожество вождей. Куда, вы мне скажите, По жизни мы плывём? Когда мы пережитки, Скажите,изживём? О, Господи Иисусе! Не стал умней народ, Везде, куда ни сунься, Шатанье и разброд. Учила нас античность Налаживать житьё. Мы очень непрактично Используем её. Она давала руку, Вести желая нас, Но мы идём по кругу Уже в который раз. Шарик Пока под одну не постригло гребёнку Неправых и правых страны лихолетье, Я вас умоляю, купите ребёнку Воздушного шарика великолепье. Пусть ваш оборванец растёт непослушным, Не празднуя ваших упрёков напрасных, Пусть пьёт он и курит, но шарик воздушный Его приближает к общенью с прекрасным. Пускай вы зубовный услышите скрежет В ответ на красивую вашу игрушку, Но будьте спокойны, он вас не зарежет, Он лучше зарежет чужую старушку. Поскольку наш мир к нам не очень радушный, То каждый судьбы своей пекарь и плотник, Нас манит мечта, словно шарик воздушный, И греет нам сердце, покамест не лопнет. Стиль Сегодня мы забыли, Живя в чаду неверном, Как Сухово-Кобылин Повздорил с Гердерштерном. А цензор тот ретивый, Как русского придурка, Учить задумал стилю Седого драматурга. В строках изъяны стиля Искал сановный дядя, И наставлял витию, Как малого дитятю. «Согласно политесу, Признайся, не переча, Что запретили пьесу За обороты речи. Словес народных пену В быту услышать можно, Но говорить со сцены Такое невозможно». А Сухово-Кобылин Тут выкинул коленце: «Я не хочу, чтоб стилю Меня учили немцы. И сам я вам — не мебель, Не мужичок из песен, Мне ваш немецкий Гегель С младенчества известен. Но, будет вам известно, Чтоб вы не опровергли, Я русскую словесность Учил не в Гельдерберге. Родная речь первее В суждениях о стиле. Мне дал её с рожденья Древнейший род России. И никакому немцу, Будь трижды он системщик, Не вникнуть в совершенство И в дух простых словечек. И крупно, и подробно, Рельефнее всего, В них светится природа Народа моего. А русская словесность, Она имеет цвет, Нужна в ней компетентность, У вас которой нет. Ценю я ум немецкий. Но я — в своей избе, И слог тяжеловесный Оставьте при себе». Но Гердерштерн не дрогнул. В колонке «Разрешаю» Не начертал автограф, К обеду поспешая. И та взрывная пьеса, Чей смысл острей кинжала, Без года четверть века На полке пролежала. Страх Закрутили гайки туго, И, естественно вполне, Эпидемия испуга Прокатилась по стране. Будь завод или колхоз Всюду массовый психоз. Даже тех, кто паинька, Захватила паника. Люди стали опасаться В волю власти не вписаться, С тем, что выдумала власть, Настроеньем не совпасть, Не воздав благодаренья Монстрам страха своего, Только Вася из деревни Не боялся ничего. Бил себя он по макушке С детской радостью почти, Где врачи ему в психушке Все извилины сочли. Только череп был распилен, Обнаружил он, злодей, Что в мозгу его извилин Ровно, как и у вождей. Некрасов Поэта образ благородный Остался в памяти народной. Теперь никто не вспоминает В культурном обществе любом, Как заклеймил его Минаев, Назвав лакеем и рабом. Вина была непостижима Через цензурную печать Вельможе царского режима Свой панегирик посвящать, Ведь этот жест со злом борца Грозит потерею лица. Бунтарский издававший клич, Вдруг произнёс застольный спич, И, как за карточным столом, Остался голым соколом. Когда Некрасов оступился, Не отступясь от своего, Весь высший свет не поскупился На улюлюканье его. Его травили, как собаку, Но не в размер вины однако, Увы, ни публика, ни власть, В проблеме не разобралась. Одно глумленье, что ни возглас, Как будто впрямь он сделал подлость, И, невменяемый почти, Пошёл по ложному пути, Куда, как поняли потом, Ушло всё общество гуртом, Упав в безмыслии тогда До поголовного стыда, Где время, пошлое и наглое, Его раскалывало надвое. А записные радикалы, Своих не знавшие корней, Себя игрою развлекали Найти эпитет побольней. Но,удостоенный презренья, Он потому горел в аду, Что у общественного мненья, Слепым, пошёл на поводу, А был он вовсе не изменник, Но лишь с наивной простотой Он так спасал свой «Современник» Трибуну вольности святой. Но с ним судьба сыграла шутку, Он преклонил свою главу, Когда не счёл за проститутку Толпы расхожую молву. Я тоже ветреным бываю. Иду витийствовать, но — глядь! Застольным спичем воспеваю, Кого бы надо расстрелять. И вот ведь что потом обидно, Что мой удел совсем иной, И «Современника» не видно Нигде за собственной спиной. И те, кто сами лебезят, Мне остракизмом не грозят. Книга Прошла цензуру библия. Теперь она незыблема. Над текстами, пристрастная, Веками шла редакция, В которой преподобия Изъяли неудобия. А с той, что изначальная, История печальная. Дошла бы до финала бы, Себя бы не узнала бы, Посколь в неё по-тихому Чужое понапихано. И дальнее, и ближнее, Скандальное и лишнее. Из далей до издания Процесс вершился медленный Сшивания собрания Весьма неточных сведений. Оно пред нами целое, Как клирики построили. Видны в нём нитки белые Закройщиков истории, Имевших цель бесспорную, Опутать нас покорностью. И сказкам мы поверили, Сочувствуя тому, Кто в муках шёл сквозь тернии К позору своему. Влюбились мы в безгрешную, Святую простоту, К конфузу тех, кто вешают, Кто прибивал к кресту. Сквозь текстов изобилия С враньём в строке любой, Здесь проступила библия, Где подлинная боль. Сижу, глазами хлопая, И мысль родится резкая: Зачем мне родословие Дремучее еврейское? Оставьте мне Спасителя. Иное относительно. Безделица Нас часто смущают событий изнанкой, Где истины сложно извлечь существо: Святой Бонифаций гулял с куртизанкой, Но, может, она вдохновляла его? Ведь женщина часто к проказам готова, Она увлечёт и любого святого. Сегодня уверен любой деревенщина, А так же примкнувшее к власти жульё, В грехах их повинна единственно женщина, И в суетном мире всё зло от неё. Уже говорят, что сама Магдалина, Которой в веках не дано умереть, Пред ликом господним подол заголила Не с тем, чтобы слёзы свои утереть. Не надо! Всё это досужие сплетни, В которые здравому верится средне, И только прожжённый и дерзостный хам Добавит безделицу к женским грехам. Августин Источник дружбы грязью похоти Мутил Аврелий Августин, При всей своей моральной строгости, Давайте мы его простим, Поскольку без образования Не видим мы порой ни зги, И половое созревание Туманит юношам мозги. Чтоб меньше было всякой дури, Учитесь половой культуре, Где сексу нет альтернатив, Поможет вам презерватив. Так видят детское общенье Титаны нивы просвещенья. Мне это всё — по сердцу бритва, И дальше я сбиваюсь с ритма. Но может ли любой, Как Августин, признаться: «Я ринулся в любовь, Я жаждал ей отдаться?» Да, мы теперь вольны О том кричать публично, Чтоб знал народ страны, Отныне всё прилично «В России секса нет» Устами патриотов Твердили Интернет И ящик идиотов. Теперь наоборот В любом газетном тексте Ликует наш народ, Помешанный на сексе. Пробилась всюду новь, Отринувши рутину, Все кинулись в любовь, Подобно Августину. А он переболел Желанием, по счастью, И вскоре одолел Свои земные страсти. Былой азарт забыл Средь книжного запоя, И больше полюбил Работать головою. Он разум свой трудил, Был искренен и честен, И в дом свой не вводил Он ни одну из женщин. И то, что он назвал Тюрьмою наслажденья, Есть только мутный вал Людского вырожденья. И Августин прошёл По нравственным утратам, Чтоб мы свою любовь Не путали с развратом. Нам истина велит Идти за Августином, Но слишком он велик, Чтоб вровень с ним идти нам. Дороже нам интим, Чем мудрый Августин. Перспективы Ты что же, Вологодчина, Собой не озабочена? И почему же, Псковщина, В тебе трава не скошена? На что страну подвигнули? За что ей казнь предъявлена? Ответы очевидные: Не стало в ней хозяина. По промыслу нелепому Работать стало некому. И кто сидит за стенкой И надувает щёки, Тем шапка не по Сеньке. У них свои расчёты. Мы только сокрушаемся, На ропот не решаемся, Готовые отчаяться, Со всеми соглашаемся, Что времена нам гиблые Предсказаны по Библии. А там, в Святом Писании, Нас, грешных, просветив, Нам вовсе не оставили Блестящих перспектив. Этажи Идеи равенства и братства Ей незнакомы до сих пор, И, не найдя к чему придраться, Она вступила в разговор. Она меня атаковала, Подъяв воинственно ноздрю, И беспрестанно токовала, Под стать лесному глухарю. Вокруг одни плохие люди, Кругом одних подонков рать, И за собой никто не любит В подъезде мусор убирать. Она клеймила беспощадно, И было слышно всем окрест: «На вашей лестничной площадке Газет скопился Эверест». А я её на место ставлю, А я ей прямо говорю, Что я газеты не читаю И телевизор не смотрю. Мне никакого нету дела До этой кучи, чёрт возьми, Мне ложь ужасно надоела, Лавиной прущая из СМИ. В газетном хламе многолистом Одни лишь только муть и жуть. Я был когда-то журналистом, Чего теперь весьма стыжусь. Мои статьи в Орле, в Рязани, Да и в других краях земли, Когда-то люди вырезали, Годами в папках берегли. И всю её перекосило, Как будто села на ежа, Когда она меня спросила: «А ты с какого этажа? Теперь во всей почти высотке Уж нет жильцов преклонных лет. Их дети тесные подсобки Освобождают от газет. Теперь черёд за сыновьями, Что всем былым не дорожат. И не с твоими ли статьями Там папки грудою лежат? О вашей чести мы слыхали, Непогрешимы вы почти. Но не твоими ли стихами Набиты с мусором мешки?» Не надо знать тебе про это. И всяким встречным расскажи: У тех, кто в звании поэта, Всегда до неба этажи. А коль меня читают мало, То вывод просится простой, Что психология подвала Несовместима с высотой. Гайки Жить стало вовсе невтерпёж. Господь на блага поскупился. Я вышел продавать крепёж, Какой за много лет скопился. Но люд на рынке не проймёшь. Все как-то странно поступают: Потычут пальцами в крепёж, Но ничего не покупают. Иль железяки не нужны, Иль покупать старьё стыдятся. Но пусть детали не сложны, Они в хозяйстве пригодятся. Да, вы возьмите люди в толк, Мой скарб лишь с виду так не сложен, Ведь если гайка держит болт, В ней символ прочности заложен. Коль гайки нет, добра не жди В движенье, сами испытайте, Не потому ли и вожди Спешат закручивать нам гайки. Ведь, если что-то где скрипит, Вождям нельзя взирать бесстрастно, Они-то думают скрепить Резьбой устои государства. А прочность миру так нужна, Вот про семью есть даже байка, Муж — болт, а гаечка — жена, И даже тёща — контрогайка. Ведь почему я тут стою? Легко любому убедиться Я не железо продаю, А философию единства. Там Информация была: Не спеши. Дождись тепла. Так что нынешней весной Опоздал я с посевной. Ну и чья теперь вина? Пропадают семена. Говорю себе: «Сажай, Может, будет урожай». И недели не прошли, Как подсолнушки взошли. И платить за семечки Не придется денежки. Но явились воробьи Из неведомой земли Моментально расклевали Все подсолнухи мои. Что осталось, я убрал И поехал на Урал. Там и солнце, там и сосны, Дом соседки возле гор, Ей поклоны бьет подсолнух От меня через забор. Там красавица-соседка Тоже мною увлеклась, Словно курочка-наседка О цыплёночке пеклась. Только ей такой был нужен «На ходу подметки рвёт», И она в том доме с мужем До сих пор ещё живёт. А моя душа болела. Не сумел её простить, Но теперь — другое дело, К ним приеду погостить. С той истории едва ли Я не весь изъездил свет, Но такой, как на Урале, Теплоты душевной нет. Там и люди посердечней, Там и небо голубей, Там, бездумно и беспечно Я порхал, как воробей. Край, до камушка знакомый, Вспоминать не устаю, Где провёл я, бестолковый, Юность светлую свою, Где теперь бываю редко, Самого себя виня, В том, что умная соседка Упорхнула от меня. Колокольчик В соседстве жила абсолютная дура, Она никогда не глядела понуро, Ко мне долетал из соседских окошек Задорного смеха её колокольчик. Он стал мне ночами являться и сниться, Меня побуждая на дуре жениться. Но нет, не поддался я чувственной буре, Не стал я жениться на этакой дуре, Мой добрый приятель женился на ней, И вряд ли нашёл бы подругу верней. Моя почему-то не сладилась жизнь. Не бес ли попутал: «На умной женись!»? Но всё же однажды черёд наступил, Как бес мне подначил, так я поступил. Не очень весёлой досталась жена, Одно утешенье, что очень умна. Придвинулись сроки, и быстро при ней Я очень высоких достиг степеней. Но, словно росток без воды, засыхал, Поскольку я смеха её не слыхал. И, словно нарочно смеясь надо мной, Звенел колокольчик за нашей стеной. Покой Нет ничего прекрасней одиночества. С небес снисходит в душу благодать, Когда от жизни ничего не хочется Помимо воли молча размышлять. Когда встаёшь утрами вместе с солнышком И разлагаешь жизнь свою по полочкам, Чтоб взвесить всё, чем жил ты и дышал, Здесь важно, чтоб никто не помешал. Не то, чтобы мне люди опротивели, Меня гнетёт совместное житьё, Где вечно кто-то лезет с коррективами В душевное движение моё. Ко мне приходит эхом отдалённость Штрихов былой житейской кутерьмы, Я ощущаю перенаселённость Событиями, фактами, людьми. Ко мне в воспоминания набилось Всё то, что ненавиделось, любилось, И каждую ту памятную пядь Теперь уже из сердца не изъять. И свыше мой удел уже исчислен Мне надобно покоем дорожить, Чтоб в тишине освоить и осмыслить Свою нелепо прожитую жизнь. Но есть ли в одиночестве покой, Когда о прошлом думаешь с тоской, Где коррективы в жизненном пути Никто уже не сможет привнести? Коло Это вовсе не химера, Коль добраться до корней, Что языческая вера Нашей веры не дурней, Если то, что в ней лежало Главным стержнем становым Нас к природе приближало, Единя со всем живым. Потешаемся нередко, Глядя прошлому в лицо: «Колесу молились предки». Солнце — вот что колесо. Коло — солнца круг небесный Восходил над ночи бездной И дарил тепло и свет. Разве в этом смысла нет? Разве солнца суть и стать Не достойно почитать? Разве каждому не близко Видеть свет любого дня? Разве каждая былинка Нам в природе не родня? И законами Сварога В дальней дали началась Православия дорога, Коль она от слова «правь». Разве сердцу не отрада, Что в содружестве семей Почитали люди правду, Свято следовали ей? Первородности истока Нам ветра доносят слух. В экологию? Не только, В мироздание и дух. А пришельцы не вникали В этой веры красоту, Предпочли они с веками То, что ближе к животу. Да, была дорога ясной, Но загнал её в туман И одной лишь чёрной краской Нам рисует Шнирельман. Может быть, по ходу пьесы, Нас духовный ждёт подъём, В соответствии с прогрессом Веру новую найдём. Будет дальняя дорога Человечества светла, Люди выдумают бога Из железа и стекла. Но не мил нам разве предок, Тот, который жил в лесу, Был душой и телом крепок, Хоть молился колесу? Был он славен верой Прави, Верой солнца самого, А язычником назвали Лишь из зависти его. С той поры вошло в привычку Нас язычниками звать. Прилепилась эта кличка, Что никак не оторвать. Только дело не в названье И не в кличке, пёс бы с ней. А печалит лишь незнанье Наших собственных корней. Но никто, ничто не сломит Мой с природою союз, Солнца светлого поклонник Был всегда и остаюсь. Интересы Мы все — поборники прогресса. Мы все едины в основном, Но только наши интересы Не совпадают в остальном. И часто это остальное, Что, нам казалось, просто хлам, Как будто лезвие стальное, Нас разделяет пополам. Нам не дано договориться, Пусть мир от споров загорится. И в пикировке интересами Потоки льются острых фраз, Мы их считаем мракобесами, Они такими числят нас. Чеканьте шаг, смотрите весело, Мы входим в эру мракобесия, Хотя на том и этом знамени У нас начертано «познание». И кто-то нас вёдёт указкой, Как на судебную скамью, Дорогой, выдуманной Кафкой, А, может, вымыслом Камю, Где перспективой для ума Одна окажется чума. Поцелуй Сосуды мозга головного, В вас интересно уж одно: Пределы жребия земного Вам контролировать дано. О, эти ранние склерозы У тех, кто превышает дозы, Кто устремляется в экстрим, Чтоб растворить холестерин, Забивший стенки хищным слоем, Себя почувствовав героем, Способным даже иногда Крушить в застольях города. Мы пьем в надежде, что сосуды Все наши выдержат причуды, Что победит любую боль К нам благосклонный алкоголь. Но к нам спешат уже склерозы С неотвратимостью своей, Читатель ждет уж рифму «розы», Возьми же, друг, её скорей. Припомни Пушкина, поэта, Который написал про это, Но мы сегодня про склероз Должны муссировать вопрос, Хотя неясно, для чего Резон исследовать его. Бывает так: когда ты ночью Выходишь в темь, как в глотку волчью, Где каждый гад и паразит Тебе опасностью грозит… О чем бишь я? Да о склерозе, Который тем и знаменит, Как поцелуи на морозе, Он, восхищая, леденит, И все летит напропалую! Я помню наши поцелуи В свердловском утреннем снегу. В азарте, наспех, на бегу, А значит, призрачна угроза Прихода скорого склероза, Поскольку рядом ты со мной. Мне тромб не страшен головной, Коль крылья памяти несут Туда, где вовсе не инсульт, А маяком горят вдали Лишь губы теплые твои. Тургеневка Варвара Фёдоровна Свечина Была судьбою изувечена, Ходила долгими дорогами, Кормилась частными уроками. Хотя была Варвара Свечина Талантом истинным отмечена. Впервой сойдясь на тропке узенькой Меж лопухами и крапивою, Не расставалась больше с музыкой, Такой пленительно красивою. Судьба печалью ей посыпала Духмяный хлеб родного Ситова. Где, разметавшись поразительно, Всё было русское пронзительно. Ей очень долго будет грезиться Скамья дубовая под деревом, Там, где тургеневская девушка С реальным встретилась Тургеневым. И это встречи той не эхо ли, Когда они в пролётке ехали За тихой улочкой-околочкой, За синем морем колокольчиков? Седой Тургенев бредил Францией И звал туда её паломницей И тайный вирус эмиграции Привил восторженной поклоннице. И от спокойной речки зеркала, И от небес в закатном пламени Она нечаянно уехала, Как будто вправду в воду канула. Перечеркнуло резким росчерком Весь долгий путь, сравнимый с вечностью, Где пела медным колокольчиком Тоска о брошенном Отечестве. Овчарка Была земля, как жаркий уголь, Нещадно солнышко палило, А у плетня, забившись в угол, Овчарка горестно скулила. Но гроб взвалили на телегу, Последний раз его оплакав, И вот она пошла по следу На обожжённых пылью лапах, Потом слезу смахнула лапой На травяное покрывало, Потом на скорбный холм покатый Легла и больше не вставала. Камерун Я помню, как однажды Даррелл, Не раб фантазий и не врун, Мне по мозгам моим ударил Своей поездкой в Камерун. А жил я в городе в ту пору, В опорном крае всей страны, В котором фауна и флора Под корень были сведены. Среди задач прогресса плотных На политических весах Не нужно стало там животных, В окрестных спасшихся лесах. И даже прежнюю синицу, Не то, что, скажем, какаду, Там посадили, как в темницу, В зоологическом саду. Короче, в наш железный век Там выжить мог лишь человек. Не часто слышалось, однако Усвоил присказку народ, Что человек, он не собака, В помойной яме проживёт. А Даррелл, наших пятилеток Совсем не ведая размах, Про чистку обезьяньих клеток Писал в возвышенных тонах И про леченье от поноса Гиппопотамов и горилл Отнюдь не криво и не косо, Прямою речью говорил. В отрогах горного массива, Каким являлся Камерун, Всё было ярко и красиво, Как плеск волны, как пенье струн. Писал он сдержанно и просто, Но непонятно было нам, За что такой красивый остров Достался диким племенам. За что они — сыны природы, С повязкой лишь на поясах Валяться могут без работы В бескрайних девственных лесах. Ну, как же им раскрыть объятья, Себя приняв за сорт второй? Хоть говорят: все люди — братья, Но братья ссорятся порой. В тоске заламывая пальцы, Мы сторонились от родни, Ведь мы-то есть неандертальцы, А гомо сапиенс они. Вращался в космосе Гагарин, Перекрывали сталью Нил, Но нас коварный этот Даррелл В глубины Африки манил. Прошли года, где было трудно, Людьми проделан путь большой, И вот студент из Камеруна В Москве торгует анашой. И вижу тут событий ленту В последний девственный редут Вернутся чёрные студенты И флору с фауной сведут. Двойство Вот, убедился снова: Меньше бы надо пить. Полного Хомякова Не удалось купить. Дома, на книжной полке, Что-то, конечно, есть, Только, увы, неполно. Ныне он издан весь. Если б остались деньги, Я бы его купил. Я ведь по убежденьям Крайний славянофил. Были бы ниже цены, Может, и стал бы я В русле высокой цели Дробного бытия. В глушь философских терний Средь хомяковских дён Этот мудреный термин Им в обиход введен Первым в своей Отчизне. Но не его вина – Дробность российской жизни Ныне везде видна. Русской натуры свойство Разве анахронизм? – Противоречье, двойство, Даже антагонизм. Тянемся мы к идеям, Но не бросаем пить. И не хватает денег Книжку себе купить. Взрыв Хемингуэя стиль замучил. Он сам себе уже наскучил. И вот решил, устав от дел, Однажды выйти за предел, Прорваться за границы моды, Им установленной на годы. От той, что, сладострастно медля, Давила горло, словно петля. Он с беспокойством незнакомым Тяжелой думал головой: «И стиль-то, в общем, пустяковый, Но так привяжется, хоть вой». И доходила мысль до Хема: Его открытья — только схема. Они, на просвещенный взгляд, Больших прозрений не сулят. Искусство — поиск без ветрил. И он почуял зов натуры – Уйти от тесной квадратуры, В какой, как в клетке, он творил. Однажды голосом охрипшим Он крикнул: «Больше не могу!» И расстрелял тот стиль, налипший, Как глина, в собственном мозгу. Штрих к Эразму Роттердамскому Тревожит строчка, как набат: «Не ведай страха, Яков Батт!». Ужели старческий маразм Надиктовал ее, Эразм? «Умерший славно будет жить» Ну как сие предположить? Ведь за оконченным житьем Мы примитивно изгнием. Идет по свету страшный мор. Вот друг твой умер, Томас Мор. И вдруг какой-то Яков Батт Не попадет ни в рай, ни в ад? Да кто он, собственно, такой, Чтоб не пойти на упокой? И где же заповедь твоя: «Как будто с Мором умер я»? Ты, значит, друга так любя, Смерть допускаешь для себя? Зачем же Батту словом «верь» Морочишь голову теперь? Эразм, сказал ты невпопад: «Не ведай страха, Яков Батт!». Иль на закате бытия Ты знал, чего не знаю я? Песни Мы прежде песни распевали, Когда просила их душа, И много сделать успевали, И жить, и чувствовать спеша. Не слышно стало нынче песен, Желанья жить азарт остыл, И стал уже не интересен К работе творческой посыл. Ни восхищенья, ни страданья, Ни возбуждения кровей. Мы слепо ищем оправданья, Причин инертности своей. Мы, как в костре погасший хворост, Покрытый серою золой. Мы заключаем: это возраст Отнял напор у нас былой. Но видим: рядом, увлечённый Идеей осчастливить свет, Столетний трудится учёный, Как он работал в двадцать лет. Есть лень души, на сердце плесень Торит для нас дорогу в ад. И что не слышно наших песен, Не возраст вовсе виноват. Кобыла На талой дороге, где грязь по колено, Гнедая кобыла моя околела. Была кобылёнка не очень стара, Но, видно, ей Небо сказало: «Пора!» Вокруг мужики заходили кругами, Отборною бранью меня изругали, Что, видимо, совесть моя подгуляла И лютая жадность меня обуяла, Что я, как заметно, весьма безголов, Что воз не под силу и паре волов. Прости, Христа ради, кобыла гнедая, Тебе не хотел бы доставить вреда я, Но так получилось, что волей Творца Виновником стал я кобылы конца. Но ты же видала, что сам я, как лошадь Придавлен к земле непосильною ношей, Что сам я, уже полумёртвый почти, Последние жилы тяну и кишки. По сути, мы оба — простые коняги, Пусть пот прошибает, пусть слёзы из глаз, Не скажет никто: «Отдохните, бедняги, Мы ныне хотим потрудиться за вас». Да, разве одни мы с тобой, кобылёнка, Кто так же придавлен и кто без овса, У коих отняли возможность полёта, Кастрировав волю взлететь в небеса? Кузька В века, когда тучи сгущались над Русью, Когда опускалась над Родиной тьма, Всегда уповали мы только на Кузьку, Надеясь, что он — это Минин Кузьма. Но злые враги улестили и Кузьку, Теперь у него миллионов не счесть, И он променял на вино и закуску Отвагу и доблесть, и совесть, и честь. Да, новое время и новые песни. Удобнее Кузьке на Запад глядеть. И рад он до неба становится, если Без галстука кто-то зовёт посидеть. Но так, как река устремляется к устью, Решим мы прогресса стремнину поймать, В надежде воскреснуть, мы вспомним про Кузьку, И Кузька покажет нам кузькину мать. Птицы С ружьишком прежде я любил Бродить в глухом углу. Три птицы я всего убил В охотничьем пылу. С тех пор прошло немало лет Судьбы моей страниц, Но и теперь покоя нет, Как вспомню этих птиц. Совсем нежданно души их Ко мне летят, хоть плачь, Три наказания моих На крыльях неудач. Средь шума дня и тишины В метель, и в дождь, и в зной Три неизбывные вины Стоят передо мной. Хоть, не покаясь на миру За прошлое свое, Я больше в руки не беру Жестокое ружье. Душа больная пала ниц Вина лежит на ней, И свист крыла убитых птиц Чем дальше, тем сильней. Пиявка Немного осталось, И сердцу — фиаско, К нему присосалась Любовь, как пиявка. Поступками правит Тихоня-пиявка, Как будто кровавит На ране повязка. Ничто не спасёт, Если с болью и кровью Мне душу сосёт Безответной любовью, Как будто бы чья-то На гибель заявка, Исчадие яда Тихоня-пиявка. Имена Великие поэты, Легко их перечесть, Носили эполеты, Как доблестную честь. Пришли другие люди Без всяких эполет, Они меня не любят, За то, что я поэт. Про Пушкина и Блока Судачит этот сброд Не то, чтобы глубоко, Сосем наоборот. И мы уже робеем: Настали времена, Поэзия плебеям Сегодня не нужна. То времени примета Иль общества вина? – Накладывают вето На наши имена. Лестница Никто этой истины не опроверг, Для многих она – девиз: По лестнице можно подняться вверх, А можно спуститься вниз. Все те, кто выше, кричат нам: «Брысь!» Встречая в лицо плевком, По лестнице трудно взбираться ввысь, Но падать с неё легко. Я критике сей постулат подверг, Не мысля поднять грозу, Сказал я: « Зачем подниматься вверх, Ведь можно прожить внизу». Но мудрый мне сказал человек: «Наивный. Не видишь что ль? По лестнице тот лишь не лезет вверх, Кто сам – абсолютный ноль». Высший свет Люди заняты чепухой И блуждают, как в темноте, Кто хороший и кто плохой Выясняя по клевете. По обрывкам чужих клевет Высший свет создаёт портрет. Как потомкам искать ответ: Сходство есть или сходства нет? Некто образ мой показал, Светом созданный из словес, Я же ринулся на вокзал, Чтоб уехать за тёмный лес, Чтоб до самого склона лет Не увидеть лицо толпы, Именуемой высший свет, Что кусается, как клопы. Круг Народонаселение Желает вожделения, По-старому, по-прежнему, Оно ему подвержено. Приходят люди новые Эпоху реставрировать, Привычки стопудовые Пытаясь игнорировать. Но год едва кончается, Досадное явление: Увы, не получается Уйти от вожделения. В Саратове и в Болшево, В Колошино, в Волошино, Желают люди большего, Чем по уму положено. Каскад В литературу шли ударники, Себя согрев мечтами смелыми, Но проявив себя бездарными, Немало бед они наделали. На смену им пришли практичные, Но не такие громогласные, Что голосами пели птичьими С унылым временем в согласии. А их сменили толерантные, Они смирить себя заставили, И эти смены многократные Крест на поэзии поставили. Пузыри Соблазнённые мнимой свободой, Нам дарованной сильной рукой, Успокоились мыслью удобной, Что важнее всего нам покой. Только есть в этом что-то такое, Что тихонько грызёт изнутри, Пребывать в состоянье покоя, Как из мыла пускать пузыри. Голос Неизвестно в какую-то полость, Неизвестно в какую-то пядь Люди спрятали собственный голос И не могут его отыскать. Только тот нам дорогу укажет, Только тот нас вперёд поведёт, Кто узлы нашей жизни развяжет, Кто свой собственный голос найдёт. Мыслители Вот есть академик Капица, Народу известный весьма, По виду так просто тупица, На деле же – кладезь ума. А я привлекателен внешне, Но в чём прегрешенье моё, Я мысль излагаю поспешно, Ещё не додумав её. Вот так и живу скороспело, Вернее, лечу, как в обрыв, Где люди живут отупело, И вовсе подумать забыв. Им только бы вдоволь напиться, Им только бы вкусно поесть, Но есть академик Капица, А значит, мыслители есть. Презумпция виновности Доходят плохие новости: На вечные времена Презумпция невиновности Пребудет отменена. Свободное население, Где жизнь ещё бьёт ключом, Виновное от рождения, Пока неизвестно в чём. К свободе народ стремится, Но так неразумен он, Задатками экстремиста Наследственно награждён. Хотят для его же блага Поправку в закон внести, Чтоб снова и до ГУЛАГа Нам дело не довести. Нам нужно крепить единство. О воле мечты пусты. Уж тем, что на свет родился. Навечно виновен ты. Слуховой аппарат Как много хитроумной чуши Ещё услышат наши уши, Как много беспардонной лжи Сулят газет нам тиражи. Страна бредёт по бездорожью, В свои критические дни, Забывши заповеди божьи «Не укради!», «Не обмани!» Должно быть, так устроен чудно Ушной народа аппарат, Что обмануть его не трудно, Он сам обманываться рад. Дети природы Пред нами боги расстелили Ковёр невиданной красы, Но мы живём в неврастении. И ждём дешёвой колбасы. Не все моральные уроды, Но через жизненную жуть Нам на красавицу – природу Сегодня некогда взглянуть. И не для нас шумит осока, Летают ястребы высоко, И лоси в утренних лугах Качают небо на рогах. А мы ведь дети той природы, Нас в мир отправила она, Не с тем, чтоб сбились мы с дороги, Какая только и верна. Но, к сожаленью, слово «мать» Мы разучились понимать. Этническая лирическая Вы спросите, в чём истоки Удмуртских больших побед – Удмурты – народ жестокий, В них жалости к людям нет. Страна пребывала в коме, В ней нечего людям есть, И только удмурты в Коми Качают, как прежде, нефть. Зачем нам такая кара Уж несколько лет подряд, Поскольку из Сыктывкара Нам лыжи теперь вострят? Не слышат чужие стоны, Чужим говорят: «Катись!» Жестокие автохтоны С уклоном в сепаратизм. Но мы уезжать не будем, Корнями здесь врос любой, Пусть бьют их шаманы в бубен, Скликая народ на бой. Империю на востоке Пытаются учредить, Мы тоже народ жестокий, Хочу вас предупредить. Два возраста Когда по улочкам Арбата В иных годах бродили вы, Я тоже был запанибрата С любым фарцовщикам Москвы. И Лисакович, и Маньковский Меня вводили в круг московский, Боярский – Пресни старожил Со всей шпаной меня сдружил. И вскоре, бойкими речами Я уравнялся с москвичами, И, не жалея ни о чём, Стал сам завзятым москвичом. Потом уехал на Урал И там культурки набирал, Поэтом и учёным стал, Но от компании отстал. С тех пор прошло уже полвека, И новый век вступил в права. Совсем другого человека Сегодня встретила Москва. Где, что не зданье, то и терем, Хожу, подавлен и растерян, И с нескончаемой тоской Не отыщу клозет мужской. Теперь придётся, видно, сдуру Признаться с пеною у рта В том, что столичная культура Провинциальной не чета. Элита Не примыкать себе велите К так называемой элите. В тех, кто элитой назвались, Подонков – просто завались. Установил ещё Бердяев: Элита – свора негодяев, Там тех, кто помнит слово «честь», По пальцам можно перечесть. Но есть духовная элита, Она – подобье монолита, О ней не слышала страна, Но дело делает она. Не умолить великой роли Там, где делам её – простор, Где, как в воде кристаллы соли, Она меняет весь раствор. И только к ней принадлежать Желанье стоит уважать. На коленях Жалкое поколение, Склонное к поклонению, Падаем на колени мы, Если нас бьют по темени. Данью лихому времени Нас услаждают трелями, Даже дают нам премии Оскары ли иль Гремми ли. Что ж ты, интеллигенция, В дар обретёшь сквозь слёзы? Раннюю импотенцию От неудобной позы. Переселение народов Выпив вместо завтрака, Наш народ гадает: Ну, а как там Африка, Чай, не голодает? Не пропала Африка. Там теперь богаты. Там не пьют вне графика Афроазиаты. Выбиваясь в лидеры, Негр немало вынес, Пополняют ниггеры Русский шоу-бизнес. Крепенькие, ладные, Словно на параде, Зайцы шоколадные Пляшут на эстраде. Мужички же русские, Покоряя недра, С дикими нагрузками Пашут, словно негры, Напролёт без праздника, Чтоб живот насытить. Им теперь до завтрака Некогда и выпить. Рабы Склонясь телами измождёнными, Бредём по жизненным дорогам, Как победитель с побеждёнными, Власть обращается с народом. И каждый юноша безусый С мечтою пылкой о карьере Пройдёт всё тот же круг безумный, Как раб, прикованный к галере. Когда-то в лозунгах борьбы Народ писал: « Мы – не рабы!» А кто же, кто же мы тогда? Ужель, и вправду господа? Хеппи энд Скажу в ожиданье критических стрел, Что я телевизор сегодня смотрел, Сначала смотрел, как играет «Реал», Потом бесконечный смотрел сериал. Как будто бы кто-то, как я бы сказал, Верёвкой к экрану меня привязал. И так я увлёкся, ютюб твою мать, Пока пред экраном не начал дремать. Но я подтвердить и под клятвой могу, Что фильм продолжался в размякшем мозгу. В нём было три девы, имелся у них Владеющий яхтой богатый жених, Он долго не мог себе выбрать жену, Поскольку любил лишь валюту одну. А девы страдали. Для каждой была Уже с олигархом постель не мила, И стали три девы на бога роптать, Ну, сколько же можно красу их топтать? И твердо решили, японская мать, Убить олигарха, а яхту взорвать. Но я, как уставшая в стаде овца, Заснул, рокового не видя конца. Когда же проснулся, опять, как баран, С тупым наслажденьем упёрся в экран, А там, чтоб не длительно я горевал, Голы забивал искрометный «Реал», Три девы там были, а около них Имелся богатый, но новый жених Каких-то особых арабских кровей, Который и яхту имел поновей. Но стали девицы, мегерам подстать, В постелях у принца на долю роптать, Пока наслаждений он в жизни искал, Подсыпали яду арабу в бокал. В конвульсиях страшных, почти без ума, Принц яхту девицам спустил задарма, Но выполнил тайную думу одну, Красавицу-яхту отправив ко дну. Глядел я на это и думал, кажись: «Какая вокруг интересная жизнь! Чего же я сам по-другому живу? Сижу пред экраном и сопли жую. И острое чувство проснулось в груди: Забудь телевизор, работать иди, И ясно, что будет конец не плохой Тебе не запудрят мозги чепухой. Два метра В торговых российских просторах Решил я однажды пройтись, Где много вещей, без которых Легко я могу обойтись. И думалось мне, что Отчизна Ненужного хлама полна, Что плотно в болоте вещизма Навеки увязла она. Бушуют стяжательства ветры. Хотя и маячит вдали, Что каждый получит два метра Обычной российской земли. Приложение А он ушёл… Поскольку предвижу справедливые упрёки читателей в эксплуатации названия чужой книги, считаю необходимым объяснить причины такого казуса. Во-первых, заимствование заголовка не есть плагиат. Во-вторых, репутации всемирно известного романа Льва Толстого уже ничто не может повредить. И, в-третьих, моя книга просто не могла иметь другого названия, поскольку её текст поровну делится на стихи, связанные с военной тематикой, и на стихи, содержательно примыкающие к мирному времени. И, наконец, я так много времени посвятил изучению жизни и творчества нашего национального гения, что название произведения, которое он назвал самой глупой своей книгой, просто впиталось в моё сознание настолько, что мне захотелось иметь свою книгу с таким названием, может быть, не такую глупую, как у Льва Николаевича, Впрочем, об этом судить читателям. Что же касается недостатка у меня пиетета перед титаном, напомню, что и сам он с гениями не церемонился. Приведу его суждение о том, кто, как известно, «наше — всё»: «Даже Пушкин мне смешон». Обидой за Александра Сергеевича и продиктованы некоторые мои строки о дерзком Льве Николаевиче. Столп русской литературы Лев Толстой мыслил не в струю с общепринятыми стандартами. Он, словно нарочно, дерзил общественным умонастроениям, не вписываясь в «благопристойную» атмосферу летаргического сна всех существовавших в России сословий. Его отлучали от церкви, в него, как в зеркало, смотрелась революция, он дерзко рвал путы семейных отношений. Нестандартный во всём, от взглядов на мир до стилевых особенностей литературного письма, где ему было тесно в рамках традиционного синтаксиса, Лев Николаевич слыл в обществе странным и неуживчивым. Закончилось всё это известно чем. «А он ушёл, а он не весь вместился в книги», – сказал о Толстом современный поэт. Творчество Толстого не раз побуждало меня взяться за перо, чтобы разобраться в тайне масштабности этой литературной фигуры. Вот одна из подобных попыток: Нельзя, припомнив о Толстом, Поняв его тоску, Без важной мысли сесть за стол И написать строку. Я никогда бы так не смог Дерзнуть, являя нрав, Поскольку верил в то, что Бог В своих решеньях прав. Толстой же, роль приняв борца, Утратил с Небом связь, Во справедливости Творца Законно усомнясь. Прямой дорогой, не простой, Он шёл, а я – дугой, Всё потому, что он – Толстой, А я совсем другой. Но и неверия стена, Длиною в три версты, Не заслонила от меня Толстовской правоты. Вот у жены не стало сил, Я знал: поможет Бог, И я здоровья ей просил, Но Бог мне не помог. Теперь идут всё мысли врозь: Уж справедлив ли Бог? Твердят повсюду: «Бог – любовь». Чего ж он не помог? Коль так жестоко кажет нрав С престола своего, Толстой не так уж был не прав, Отхлынув от него. Он был, конечно, не святой, Но никогда не лгал, И, христианское, Толстой Смиренье отвергал. Чтоб над умами снизить власть Внутри людской среды, Толпа хулителей взялась Топтать его труды. Он детям «Азбуку» дарил, Душистую, как мёд, Подозревали — педофил, За то, что к детям льнёт. Хор психиатров завопил, На выдумки горазд: Он педераст и педофил, И он – дегенерат. На репутацию хулу Надели, как ярмо: Его непротивленье злу На деле – зло само. И до сих пор весь этот шлейф Летит за ним, как встарь, Но он недаром, видно, Лев, А лев, известно, царь. Он людям правду говорит Во тьме глухих времён, И обоснованно царит В литературе он. Он возле Бога самого Собой заполнил свет, Ведь, разобраться, у него Соперников-то нет. Его талант неотменим До нынешних времён, Творцы спешат вослед за ним, Счёт коим – легион. И я тернистым за Толстым Карабкаюсь путём, Каким бы ни был он крутым, Он праведен во всём. Толстой – влекущая звезда На правды путь прямой. Он был, он есть, он навсегда Учитель честный мой. Не богохульника совсем Я в нём подозревал. Толстой мне был всегда лишь тем, Кто ищет идеал. Тут следует оговориться. К литературной критике я тяготел с ранних пор. Любил читать сказанное кем-то о творениях писателей. И самому мне хотелось высказаться по поводу прочитанного. Для меня характерна всеядность. Не могу отделаться от убеждения, что бесполезных книг не бывает. Один из моих сокурсников по университету, когда я ему признался, что в работе над диссертацией прочёл по интересующей меня теме многие сотни книг, попенял мне: «А надо бы прочесть одну, но стоящую того». Но всё же читатель из меня плохой. В школе я никак не мог одолеть «Войну и мир», а в университете дошёл даже до того, что написал на творение классика эпиграмму: Лев Толстой – в миру кумир И мыслитель безусловный, Он назвал «Войну и мир» «Дребеденью многословной». Суть признания сего, Даже несколько скандального: В самокритике его Много есть рационального. Здесь, конечно, сказалась моя эстетическая глухота. Чего-то я не понял, что очевидно для других, хотя вот только что с телеэкрана слетела сценка о читальном зале, где «Войну и мир» выдают, как снотворное, а Дмитрий Быков пошёл ещё дальше, посоветовав, «чтоб школьник прочитал «Войну и мир» — давать её в машинописи на ночь». И мне показалось, что читать эпопею может позволить себе только тот, кому уж совершенно нечем больше заняться. Как в известной юмористической реплике: «Дочитавшим до конца, выдаётся премия». И тут, безусловно, заслуживаю критики уже я. За неумение прислушиваться к «общественному мнению» по поводу общепризнанных шедевров мировой литературы. Своё суждение иметь, конечно, похвально, но не всегда разумно с ним соглашаться, чтобы не навлечь на себя гнева блюстителей авторитетов. Хотя некоторые критики вспоминают, как Толстой в старости сказал своему секретарю В. Ф. Булгакову: «Война и мир» — самый глупый мой роман». Спорить не стану, классику виднее. Сошлюсь на авторитетное подтверждение сказанного выше современным исследователем вопроса о «дубине народной войны», которая, по словам Толстого: «гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие». Вот что говорит на основании исследования архивных документов сегодняшний аналитик Владимир Воронов: «Сам Лев Николаевич, конечно же, прекрасно знал, что никакой народной войны — в настоящем понимании — не было, но очень уж фантастически красивым вышел образ, чтобы отказаться от соблазна его использовать. Правда, если вчитаться, понимаешь: никакой «народной войной» в его великом романе и не пахнет. Равно как там и близко нет никакого «единения армии с народом», а толстовский «народный партизан Тихон Щербатый — просто душегуб…» Не потому ли мне и не хотелось в юности читать роман «Война и мир», что мир (в смысле — народ) там мифологизирован, на деле же он, как следует из архивных источников, воевал «без охоты, сбегая и прячась по лесам при первой же возможности… по подсчётам исследователей, дезертировало 70 процентов призванных в народное ополчение. Впрочем, что и говорить, если даже в подмосковной Рузе немалая часть населения радостно встретила Наполеона как освободителя». А нападения крестьян на русские воинские обозы и массовое мародёрство вообще заставляли представителей командования русской армии писать рапорты о том, что «здешних жителей надо опасаться более, чем войск неприятельских…». Может, у Толстого просто не было этой информации и он, работая над романом, больше верил «героическим» мемуарам титулованных участников сражений. С другой стороны, может, он и назвал свою книгу самым глупым своим романом, зная, что произведение это во многом фантастическое. Но, мы знаем, что искусство не требует признания своих предметов за действительность, как, впрочем, знаем и то, что многим миллионам читателей это произведение вовсе не кажется глупым. Американцы, конечно, свели содержание романа до нескольких лапидарных формул типа: «Молодая девушка впервые познаёт любовь», «Старый джентльмен впервые познаёт смерть» и ещё что-то в этом роде, наподобие вопросов для ЕГЭ по литературе. Но как не понять грусть Президента Пен-клуба Андрея Битова, который в интервью «Литературной газете» сокрушался о Толстом: «Никто его по-настоящему не знает и не читал». Сильно сказано, однако можем ли мы не доверять слову столь авторитетного литератора, творчество которого изучают в школах и университетах, в средствах массовой информации называют живой легендой и ярчайшим представителем, а по количеству литературных премий с ним вообще мало кто сравнится? Нет. Гений отечественной и мировой литературы, зеркало русской революции Лев Николаевич Толстой был прям, откровенен и самостоятелен в поведении, отчего часто с ним случались казусы неприятного свойства. Вот такие, например, как в моём об этом стихотворении «Регалии». Толстой поехал на Кавказ, Чтоб получить «Георгия», Увы и ах, но в этот раз Остался он без ордена. Был мастер прозу он строчить, Несдержан в слове резком. Ему хотели крест вручить, Но был он под арестом. Тогда Толстой поехал в Крым, Но снова в крымской дали Судьба не сжалилась над ним Вернулся без медали. И тут был крест ему златой Уже записан в акте, Но в те минуты Лев Толстой Сидел на гауптвахте. Не в орденах Толстого грудь, Забыты эполеты, Но Льва Толстого — в этом суть Мы любим не за это. Загадка Толстого не даёт покоя не только литературоведам. Виктор Шкловский писал: «Если взять переписку Толстого и Фета, то можно ещё точнее установить, что Толстой это мелкий помещик, который интересуется своим маленьким хозяйством, хотя помещик на самом деле он был не настоящий, и свиньи у него всё время дохли». Оказывается, можно быть плохим помещиком, но хорошим писателем. Однако сам Толстой не сразу понял масштаб своего таланта. В письме тому же Афанасию Фету он откровенно признаётся, что догадка о своём писательском предназначении осенила его в самом, казалось бы, не подходящем месте. Вот как это выглядит в письме: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор, И я литератор, но уединённый и потихонечку литератор». Стиль письма подталкивает к согласию с писателем, что литератор он действительно потихонечку, поскольку любой преподаватель стилистики уверенной рукой выправил бы неряшливые строки гения. Невыносимо ему было бы смириться с тем, как автора письма «стукнула об землю лошадь», как она «сломала руку» и т.д. Правильнее было бы написать: «Я упал с лошади и сломал руку», но это для нас с вами, а мы-то имеем дело с писателем, стиль которого не только в письмах, повергает в уныние от неумения говорить без многочисленных сложно-сочиненных, синтаксически не удобных построений. Гения отличала импульсивность в поведении и творчестве. Алексей Максимович Горький, имевший возможность наблюдать писателя в быту и вести с ним беседы на самые разнообразные темы — от творчества до отношений между полами, — приводил следующие признания Льва Николаевича о его творческой манере: «Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже. Иногда пишешь и вдруг станет жалко кого-нибудь, возьмёшь и прибавишь ему черту получше, а у другого убавишь…» Вот как гуманно взвешивал писатель характеры своих героев. Ужас, какой был сочинитель. Но сейчас речь не об этом, а о том, в каких странных обстоятельствах может у человека прорезаться мысль о собственной причастности к литературному творчеству. А ведь это случилось с Толстым, как уточняет Шкловский, «когда им было уже написано несколько томов. Выходит до того, как Толстой попал под лошадь, он был обычным графоманом. Но мы не склонны этому верить, хотя и признать, что писатель вводит нас и своего приятеля, тоже помещика Фета, у которого свиньи однако не дохли, в заблуждение относительно своих прозрений о причастности к литературе, тоже сложновато. Мы тоже размышляем над этим на досуге. Но Виктор Шкловский уже подвёл за нас итоги в этих сложностях. Он точно определил момент, с которого писатель может, не обинуясь, причислять себя к племени литераторов. «Стать профессиональным писателем, — пишет он, — запрячь литературу, по выражению Льва Толстого, коренником, можно и нужно только через несколько лет писания, тогда, когда уже писать умеешь». Следовательно, Лев Толстой запряг литературу коренником, как раз в тот момент, когда «лошадь сломала руку». Да разве это единственная загадка в поведении гения? Биографы писателя приводят факт пренебрежительного отношения к Толстому его сослуживцев, когда еще ничто не предвещало его будущей всемирной славы. На приглашение поучаствовать с ним в дружеской пирушке откликнулся только один из нижних чинов по фамилии Бартоломей. Когда же слава писателя взошла в зенит, многие из его бывших сослуживцев стали наперебой зазывать Толстого в гости, но Лев Николаевич поступил, как всегда, неожиданно, о чем рассказывается в следующем моём стихотворении: Расположившись на ночлег, Он ждал к себе гостей, Пришёл из всех его коллег Один Бартоломей. И, самый младший по годам, Без орденов и лент, Он всё же как-то угадал, Что нужен в тот момент. Не то, чтоб скуку разделить, Но оказал он честь Затем, чтоб Шиллера хвалить И поросёнка съесть. Другие, лень не одолев, Прийти пренебрегли, В Толстом тогда не разглядев Кумира всей земли. Как будто изгнанный взашей, Обманутый жених, Он тяжко думал: «Неужель Я не один из них? Я не имею лошадей, Но я — аристократ, И я спесивых сих людей Талантливей стократ». Увы, не пожелала знать Услышать этот зов. Науку жизни постигать Пришлось ему с азов. А вот, когда он стал велик, Просили погостить, Спеша его портретный лик На стенку поместить. Толстой великодушен был, Но изо всех семей Одну депешу он отбил: «Встречай, Бартоломей!» Сложным был человеком Лев Николаевич Толстой, непостижимым во всём. Зачем-то ведь он ушёл из Ясной Поляны? Толчок к мысли? Научимся ли мы чему-нибудь через сотню лет после того, как титан хлопнул дверью в собственном поместье? Об этом наши стихотворные экзерсисы под названием «Звезда над бездной». Вопрос, конечно, не простой, И до сих пор не знаем мы, За что писатель Лев Толстой Ругал народ во «Власти тьмы». На похвалы ему скупой, Он говорил: «Народ тупой, Он скудно ест, но много пьёт, Духовной жизнью не живёт, В нём процветают плут и враль, Дельцами попрана мораль». От мысли, что народ дурной, Толстой покинул дом родной, Порвав с привычным бытом связь, Среди народа растворясь, Который, как всегда, кутил, Но всё же старца приютил. И вот прошло уже сто лет, Как на земле Толстого нет, Но и теперь, сдаётся, мы, Как век назад, во власти тьмы, Поскольку нравственный прогресс Идёт со временем вразрез. И знаменитого ухода Причины вот какого рода. Уже закончены вчерне «Хаджи Мурат» и «После бала», И Лев Толстой сказал жене» «Ну, ты меня заколебала. С тобой я прожил много лет На удивление соседей, Но до сих пор покоя нет От нескончаемых претензий. Всё, что не делаю, не так, Как будто я и впрямь — дурак, И не могу сообразить, Как лучше жизнь отобразить В своих твореньях, а в быту Я курс держу на простоту, Хожу по пашне босиком, Ко мне крестьяне косяком Идут, послушать мудреца, Чтоб ты ворчала без конца, Хоть кроме собственной жены Мне собеседники нужны. Уж видят люди разных стран, Что ты — мой деспот и тиран. Мне будто жизнь без всякой меры Дала фельдфебеля в Вольтеры. «Хаджи Мурата» допишу, И вон из дома поспешу, Чтоб этот кончился скандал, Где век я воли не видал, Что б не домыслили вдали Интерпретаторы мои». Жена ответила, кряхтя: «Ты несмышлёный, как дитя, Не можешь сделать ничего Без руководства моего, И коль из дома ты уйдёшь, Ты непременно пропадёшь. Живи в усадьбе. Только здесь Ты можешь вдоволь пить и есть, Пускай тебя моя еда И раздражает иногда. Но всё ж важнее, чем еда, Тебе привычная среда, Где и в мельканье наших морд Есть относительный комфорт, Где я смогла почти до дыр Переписать «Войну и мир» Семь раз, а это испытать Известной каторге подстать. К тебе претензии мои Отнюдь не стоят той крови И нервов, что, с тобой живя, Ежеминутно трачу я». Мыслитель побледнел с лица И с раздражением сказал: «Наш брак исчерпан до конца. Я тотчас еду на вокзал. Ведь, значит, было то враньё, Что ты любила мой роман, И лицемерие твоё Намного хуже, чем обман. В нем дух предательства и фальшь, Что брак сопровождала наш. Вот это суть и существо Из дома бегства моего. Ведь, значит, честно говоря, Всё, мной написанное, зря. Ужели я такой же лох, Как популярный ныне Блок, Который весь свой юный пыл Прекрасной Даме посвятил, А Дама, Бог её прости, Умела время провести. И, видно, истина верна, Что обернётся дураком И светлый гений, коль жена Ему изменит с физруком». Пародийное расподобление общеизвестной ситуации, на мой взгляд, помогает постичь истинную грандиозность личности гения, которая в известной степени материализуется в тексте пародии, которая держит руку на пульсе текущего литературного процесса, разъясняя читателям ту неотменимую истину, что энергия заблуждений Льва Толстого выше поисков мелких правдочек его эпигонами даже и тех из них, кто для планетарной аудитории признавался в том, что является учеником гениального писателя. Да, Мураками сегодня популярнее Толстого. Но почему? Ответ на этот вопрос последует в конце стихотворения, значительно мною сокращённого в силу исторических причин. Вот как-то раз ко мне домой Пришёл один читатель мой, На полку книг взглянув с тоской, Спросил: «А это кто такой?» Потрогал пухлый том руками И, словно росчерком пера, Черкнул: «Вот этот Мураками, Должно быть, полная мура». Отнюдь. На Волге и на Каме Народ читает Мураками. Он нынче моден, и весьма В нём много пищи для ума. Но гость сказал: «Ещё полгода, На Мураками схлынет мода, Он просто выпадет в отстой, И к нам вернётся Лев Толстой». А я, друзья, двумя руками Голосовал за Мураками, Я говорил: «Коль время есть, То и его не грех прочесть. Не прочитавши Мураками, Так и умрёте дураками. И Мураками тоже, чать, Писал, когда не мог молчать». Так я стоял за честь японца, Что для иных теперь, как солнце, И скромность, что в душе таю, Продемонстрировал свою. Мы ошибаемся жестоко, Когда писателей Востока Не ценим с искренностью всей, Как был ценим Хемингуэй. Теперь его мы позабыли, Но прежде, словно с белены, Мы поголовно с вами были В его «Фиесту» влюблены. Казалось, что бы в нём такого Ни красоты, ни глубины, Но мы за том его готовы Отдать последние штаны. Придёшь, бывало, в гости к другу С бедой, с заботой ли своей, Там за столом идёт по кругу: Хемингуэй, Хемингуэй… Но, слава богу, простаками Весьма недолго были мы. Теперь японец Мураками Нам компостирует умы. К нему спешим, как тараканы, Без основательных причин И «Мураками! Мураками!» С привычным трепетом кричим. Мы в облаках всегда витаем, Мы воспаряем на Парнас, Читать пока ещё читаем, Но думать — это не про нас. Так что же Толстой? Великий и ужасный? Помнятся слова, сказанные им Зинаиде Гиппиус: «Если бы записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно». Вот он, гений. Без хрестоматийного глянца. Вот пропасть между самим писателем, о котором закрадывается подозрение, а в своём ли он уме, и его творчеством. Отчего же это вокруг произведённых нами в гении людей, которые сами не могут себя понять, и в уме совсем не твёрдых, столько шума? Может, пора успокоиться? Жить и думать своим умом. Зачем же мнения чужие только святы? Однако ленинская фраза: «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?» сказана не про нас, а как раз про Льва Николаевича. И это справедливо. Лев Николаевич написал девяносто томов, а мне порой письмо в редакцию с просьбой напечатать мои стихи бывает лень, поэтому и остаюсь я, как некий индивидуум без литературной биографии, а, может быть, даже, как инферно возникающий в следующей главе индивид за шкафом. А чем мне близок Толстой, я, раздумывая на досуге, пришёл к мысли, что, пожалуй, независимостью ума. Да, он часто бывал не последователен, разрешая это себе убеждением: «Я не зяблик, чтобы каждый день одинаково свистеть». Странно было современникам слышать от человека, олицетворяющего собой культуру, суждения типа: «Искусство всегда служило богатым классам» или «Теперешнее искусство только для развращённых классов, для нас». Может, поэтому Константин Петрович Победоносцев говорил Софье Андреевне, супруге писателя: «Я, графиня, в вашем муже ума не признаю: ум — гармония, а у него всё углы». Углов, действительно, было много. Странным казалось непротивленчество писателя, породившее толстовство как стиль поведения. Доходило до крайности в суждениях. Например, позволив себе убивать насекомых, человек может позволить себе убивать животных и человека. Но когда Льву Николаевичу напомнили, что он сам бил зайцев и был на войне, он признался, что не испытывал никакой жалости, когда ударял зайцев ножом в горло, но счастлив тем, что ему не пришлось убивать на войне, так как артиллерия 4-го бастиона огня не открывала. Примером же непоследовательности суждений Толстого может быть его отношение к евангелию. Вот эпизод из дневника секретаря Л.Н. Толстого Валентина Булгакова, где писатель говорит: «Как я раньше любил евангелие, так теперь я его разлюбил». (Прямо поевтушенковски: «А я и полюблю да разлюблю»). Но уже через несколько минут, после того, как был прочитан евангельский текст, Лев Николаевич заявил: «Я опять полюбил евангелие». Однако главным нравственным ценностям он, отпавший от церкви, был тем не менее непоколебимо верен, хотя и был бунтарём. Легко представить его среди толпы оппозиционеров на Болотной площади. В последнем сомневаться не стоит, ибо политическая атмосфера в обществе тогда, как, впрочем, и сейчас, была накалена. Её предсказал ещё консерватор Лев Тихомиров. Мы помним его предупреждение: «Но вот какие-нибудь лица, заинтересованные в развитии особой народности, начинают раздувать всякие её отличия, раздувать всякий предлог для порождения антагонизма между этим племенем и русским. Такие лица легко являются. Они могут принадлежать к местной родовой аристократии, которой господство обеспечивается при возбуждении «местного национального движения», они могут принадлежать к многочисленному ныне слою политиканствующей интеллигенции, мало способной к другому роду труда, но честолюбивой и ловкой в искусстве агитации. Требует ли справедливость признавать права таких требований на «свободное развитие»? Ничуть, ни малейшее!» Но и через сто лет после того, как это было сказано, мы не поумнели. Политиканствующая интеллигенция и ныне ставит ложно понятую свободу выше ответственности. Но, если прежде Россия могла говорить пушкинской строкой «Кавказ подо мною…», то сегодня роли переменились, маленькие, но гордые народы диктуют «метрополии» свою волю. Их пассионарность, гордое сознание своего достоинства словно бы списаны со страниц последнего шедевра Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Размышляя об этом, я написал следующие строки: В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов Я ехал, думая о том: Недопустим поток мигрантов, Их надо выгнать в зад пинком. Но подошёл ко мне таджик, И говорит он мне: «Мужик, С Владивостока и до Нарвы Вы стали не пассионарны, И кто тут временные? Слазь. Теперь пришла Востока власть. Взгляни хотя бы на Саратов. Он Меккой стал Хаджи-Муратов. А мы, восточные народы, Не вашей рабской мы породы. И ваш великий Лев Толстой Для славы русских — звук пустой. Ты возражать бы мне не стал, Когда б Толстого прочитал, И, может, был бы даже рад, Что победил Хаджи-Мурат. Разве не прав трудящийся Востока? Внимательно читать надо провидческие творения классика не только за содержащийся в них пафос социального обличения, но и для того, чтобы познать себя, ибо Толстой не только зеркало русской революции, он наше зеркало в самом широком смысле. Ведь ещё и Тургенев надеялся, что «одного только Толстого и будут знать в России». Не прислушались. Не знаем. На закате жизни Лев Толстой замыслил создать специальный, предназначенный для народа, сборник «На каждый день». Замыслу не суждено было осуществиться. Теперь даже и не знаешь: печалиться по этому поводу или радоваться, ибо, вне сомнения, мы увидели бы в книге много оригинальных суждений великого писателя, но как следовать его наставлениям, если сам он меняет мнения, как перчатки? Мятущейся был натурой Лев Николаевич. Некого поставить в Европе рядом с ним даже и по этой части. И вряд ли у кого возникнет желание обузить широту натуры гения, которого Софья Андреевна Толстая аттестовала словами философа Шопенгауэра — «солнце, освещающее всю вселенную». А что касается литературы вообще, то, по словам Ивана Бунина, она пошла прахом еще при жизни Толстого. Не стоит удивляться низкому её сегодняшнему уровню. Однако закончить эту главу мне кажется уместным на пафосной ноте, стихотворением «Ясная Поляна». Лежит в могиле без креста Писатель Лев Толстой. Меня не тянет в те места С их тихой красотой. Не осенить креста рукой Под стройный птичий хор, Я там теряю свой покой. В душе моей раздор. Меня внутри сознанье ест Немало лет и зим: Просить ли мне поставить крест Над холмиком моим? Негоже, вроде, уходить С традиции святой, Которой смог не угодить Великий Лев Толстой. Никон Философ и оратор, Духовных полон сил, Царю считался братом, С ним трапезу делил. Завистником натравлен, Задумался монарх: «А кто Россией правит – Монарх иль Патриарх? В свои ли сел он сани, Мирскую власть беря И дело не по сану С хулою на царя?» И твой поступок дерзкий Властитель не простил. В Кирилло-Белозерский Ты сослан монастырь. Записан не в мессии Зачислен в бунтари. Ты сделал для России Побольше, чем цари. Пред долей не согнулся, А, поборов судьбу, Опять в Москву вернулся, Да только уж в гробу. Прославлен стал народом И в пастырских речах, И нес твой гроб царь Федор На собственных плечах. В Рязани и Калуге, Во всех краях земли Державные заслуги Твои превознесли. И стал народной волей, Хоть ты и не был царь, Отец и богомолец, Великий государь. Осталась лишь оскома С тех пор в устах у всех – Церковного раскола Тебе приписан грех. К расколу непричастен, Ты носишь всё равно Посмертное бесчестье, Как вечное клеймо. Остров Он был женат четыре раза, Терзал своих поклонниц рать, И неотвязна, как проказа, Была привычка выпивать. Он ждать умел, когда, внимая, Придет читателям пора, В нем ничего не понимая, Кричать восторженно «ура». Он написал немало вздора, Здоровым вкусам вопреки, Но с ним дружили матадоры, Путаны, клерки, рыбаки. Когда бойцом интербригады Он уходил сквозь Пиренеи, Его там ждали не награды, А дипинг, прочих посильнее. Ждала всемирная известность, Планеты целой поклоненье. А он умчал в глухую местность, Чтоб скрыться там в уединенье, Где, обреченным на усталость, Смириться с внутренним надрывом, Поняв, что больше не осталось В нем романтических порывов. Ему уже не черпать в слове Мед вдохновения горстями. Он навсегда духовно сломлен Друзей напрасными смертями. Его уже не покидали Мечты особенного свойства – Быть, словно остров в океане, Уйдя в собою недовольство. Он замыкался нелюдимо, Бродил по берегу устало, Но только боль не проходила И недовольство нарастало. Он стал угрюмым, твердо зная: Есть фальшь в открытости лица, Где жизнь — трагедия сплошная От дня рожденья до конца. Он часто думал, что, быть может, Давно бы вышел из игры, Да только жаль домашних кошек, Которых сотни полторы. Они погасший дух бодрили, Своими став в его дому. Они беспримесно дарили Свою привязанность ему. Он потому так кошек любит – Их не сравнить с толпою лживой, Где богом проклятые люди Всецело заняты наживой. И жахнул выстрел жаркой дробью. И по распахнутой пижаме Стекала жизнь усталой кровью Над опаленными пыжами. Элегия Как к глубокому черному омуту, Окруженному тьмой по краям, Захожу я в каминную комнату, Где старинный рыдает рояль. Где, изящная, милая, умная, В полутьме очарованной там Ты играешь «Элегию» Шумана, Чуть склоняя свой мраморный стан. Только следом за клавишной ласкою, Словно пули полет у виска, Мне навстречу волной океанскою Беспросветная хлынет тоска. И под звуки волшебной элегии Я пойму, что – зови, не зови – Улетели, как белые лебеди, Дни шальной, сумасшедшей любви. Ретро Когда ты навстречу идешь по Волхонке – Циркачкой над бездной, Есть что-то нездешнее в этой походке, Отвесно-небесной. И вспыхнуло будто дремавшее ретро Вернувшимся мигом, Как пламя свечи, потревоженной ветром И снятой рапидом. И всё, что забыто, случайно задето Штришком отголоска, Как свет от небес, отражаемый где-то В глубинах колодца. Чужие ошибки Пусть те, которые учили, Давно спились или почили, Но я на жизненной дороге Зубрю их горькие уроки. Я не откладывал на счеты Учителей своих просчеты И не итожил их уступки, Равняясь только на поступки. Но я у них учился злому И протестующему жесту, Когда слетает фальшь со слова И всё становится на место. Их привлекали не витрины, Высоты звали и глубины. Мои друзья неповторимы, И мной поэтому любимы. Но некий казус получился: Я прямоте не научился. Я только ловок стал и гибок, Чтоб не умножить их ошибок. Свои пути, свои дороги Меня по жизни закружили. Своих ошибок слишком много, Чтоб повторять ещё чужие. Княгиня По-ярославски окая, Волшебной павой-птицею Явилась светлоокая Княгиня белолицая. И устремились конные В глаза её иконные, А те, что были пешие, С красы её опешили. И вышел Кирибеевич В расшитой шелком ферязи: «Ещё мы не проверили, Какая будешь спереди. Возьми степного сокола На ложе на высокое, Заласкана, задарена, Роди ему татарина». Княгиня брови сдвинула, Перекрестилась истово И птицей в Волгу кинулась От витязя ордынского. *** Вдогонку стаям в небе мглистом, Плывущим в стынущую даль, Лететь готовый в путь неблизкий, Кричит колодезный журавль. И в этом зове журавлином Слышна тоска о тех, живых, Что пролетели темным клином На серых волнах ветровых. Вот так, беспомощно и немо, Во мне кричит моя тоска, Когда ни ревности, ни гнева, Ни телефонного звонка. Припоминаю все обиды И все слова, которых жаль, И миг еще — сорвусь с орбиты, Тоскою скрученный в спираль. И я в порыве безутешном Кричу, подобно журавлю, Вослед собратьям улетевшим. И понимаю, что люблю… *** Женщина стояла на вершине В середине солнечного дня, И уже, наверное, решила Все и за себя, и за меня. Этот край был лишь орлами обжит. Мимо проплывали облака. На меня поэтому, быть может, Женщина смотрела свысока. Высоко летай, моя орлица, Ну, а если станет тяжело, Знай, тебе не поздно возвратиться Под мое надежное крыло. *** Взбудораженные речами, Понимая их смысл едва, Мы усердно «ура» кричали, Остальные забыв слова. Но учило нас время умное – На носу зарубить пора: Патриот — это тот, кто думает, А не только кричит «ура». Но зачем же твердить заученно И смотреть златоустам в рот, Если много всего накручено На понятии «патриот»? Суть не в слове. И черпать незачем Нам, о Родине говоря, Пониманье любви к Отечеству Из толкового словаря. Рок Несовместимы власть и совесть. Чиновник всюду и всецело Нас лишь рассматривает в прорезь Неумолимого прицела. И с равнодушием бетонным Он отнесётся к нашим стонам. И, всем собой являя кротость, Нас подтолкнет коленом в пропасть. О, эта косная махина! Ее кумир — телец златой. И стонет бедная Россия Под их железною пятой. Сотворение мира Мы плыли мимо Карадага, Где вечер краски расплескал, И где под заревом заката Играло море возле скал. И Бог предстал воображенью, Как на высоких образах. И будто мира сотворенье Происходило на глазах. Лучи закатные гранили Резцами бурые бугры. И словно в огненном горниле Рождались новые миры. И понял я, что это значит – Законы творчества просты. Творить никак нельзя иначе, Лишь по законам красоты. *** Вдогонку стаям в небе мглистом, Плывущим в стынущую даль, Лететь готовый в путь неблизкий, Кричит колодезный журавль. И в этом зове журавлином Слышна тоска о тех, живых, Что пролетели темным клином На серых волнах ветровых. Вот так, беспомощно и немо, Во мне кричит моя тоска, Когда ни ревности, ни гнева, Ни телефонного звонка. Припоминаю все обиды И все слова, которых жаль, И миг еще — сорвусь с орбиты, Тоскою скрученный в спираль. И я в порыве безутешном Кричу, подобно журавлю, Вослед собратьям улетевшим. И понимаю, что люблю… Павел Васильев Контора пишет. Она не спит. Всей кожей и всей спиной Иду и чувствую: некий шпик Повсюду следит за мной. Досье муссирует прокурор. Там я и никто иной. «Большого брата» пытливый взор Повсюду следит за мной. И кто в габардиновом сером пальто В саду на скамье сидит? Как будто его не волнует ничто, Он тоже за мной следит. Мне, как кувалдой, стучит в виски Всё мировое зло: Как оказалось, писать стихи – Опасное ремесло. А мудрый доктор сказал: «Фигня, Ты вывод не делай в спешке. Тотальная мания у тебя Преследования и слежки. Давай успокойся. Беда твоя В наличии фобий детства». Нет слежки? Тогда почему же я Убит при попытке к бегству? Свобода разума Как вам живется, баловница, В психиатрической больнице, Иль и в свободе обретенной Кипит ваш разум угнетенный? Ах, успокойтесь, не бушуйте, Отбросьте прежние идеи, В психушке, как на парашюте, Возможно плавное паденье. Свобода здесь иного толка — Натуру можно не неволить. Здесь каждый волен лишь настолько, Насколько сам себе позволит. Освободитесь от двуличья Примите ход вещей разумный И что попало говорите, Хоть вплоть до брани нецензурной. Кто лезет на рожон бесстрашно, Тому немало удается. Он и в смирительной рубашке Всегда свободным остается. Не унывай, моя подружка, Себя терзаньями не мучай, Когда весь мир – одна психушка, Твоя палата – частный случай. Смерд Он рухнул наземь, и от пашни Теплом повеяло домашним. И встало небо над глазами, Совсем такое, как в Рязани. И он заплакал исступленно, Чужую землю сжав в комок. И белый конь Наполеона Остановился возле ног: - Утешься, смерд, ведь с колыбели Известна ратников судьба: До срока лечь в чужую землю, Чтоб на своей росли хлеба. Не унижай себя слезой, Коль будешь ты лежать убитый Не под рязанскою ракитой, А под эльзасскою лозой. И здесь, и там — земное лоно. Не все равно ли — где истлеть? Понятье Родины условно, Когда по спинам ходит плеть. Плебеям рабство суждено. И впрямь, кому придет охота В рабе увидеть патриота? — Он раб. И больше ничего. Но будто вздрогнула гора, — И конь тревожно выгнул выю, И дружно грянуло: «Ура! Вперед! За матушку Россию!» Теснил врагов на поле боя За эскадроном эскадрон… Смерд умирал, но знал такое, Чего не знал Наполеон. Молчание Десятилетие безвременья, Где проступает имя «Сталин» Сквозь обнаженные каменья На черном хаосе развалин. Десятилетие безвременья, Где, как церковные огарки, Оплыли в виллы и именья Тяжелым задом олигархов. Десятилетие безвременья, Где совесть ищет доли лучшей, Где, сданный в камеру храненья, Багаж идей на всякий случай. Десятилетие распято На микрофонах лицедеев. Десятилетие изъято, Как Маркс и Ленин из музеев. У человечества – саркома. У человечества – подагра. Но вновь железного наркома Россия просит, как подарка. Ещё мы многое поправим – Проклятья, клятвы и иное, Но как из наших биографий Изъять молчание немое? Дорога к храму Стаи птиц над колокольней. Тихо льется свет с небес. Люд, смурной и малохольный, Ждет от Господа чудес. До чего ты, Русь, убога: Люди, ждущие чудес, На прием приходят к Богу, Как за пенсией в собес. И вот-вот, еще немного — Выйду к храмовым вратам: Не мешайте, люди, Богу, Не для этого он там. Говорить вам неудобно, Но вы сами дождались: Богу было бы угодо, Чтоб вы делом занялись. Любовь Бабке восемьдесят лет, Век почти за нею, Но нигде на свете нет Глаз ее синее. Попросил я рассказать Бабушку Аксинью, Кто ей выкрасил глаза Небывалой синью. Отвечает: «Тайна тут В том, что с мужней ласки Никогда не отцветут Синенькие глазки». На том берегу Хожу ли по роще, брожу ль по полям – Ношу в себе радость и боль пополам. И в памяти давний я день берегу, Где девушка пела на том берегу. Я помню, как долго стоял у перил, Как радостный голос над речкой парил, Как легкого ветра порыв озорной Косыночку чайкой взносил над волной. Не мог я увидеть, какая она — Была ли красива, была ли дурна, Но сразу я понял, что жить не могу Без юной певуньи на том берегу. И в роще ль гуляю, брожу ль по полям – Ношу в себе радость и боль пополам. И надо б забыть, да забыть не могу – Оставил я память на том берегу. Надпись Та женщина в Бахчисарае, Презентовав мне книгу в путь, Не угодить совсем старалась, А к размышленью подтолкнуть, Чтоб, прочитав вверху «Шаламов», Её намека сути внял И ощутил, как много хлама Я, не стыдясь, насочинял. Она права. Я каюсь, каюсь, Что часто в слове спотыкаюсь, Поскольку сроду на веку Не отшлифовывал строку. И грош цена тем звучным одам, Что написались мимоходом, И скороспелой вязи строк, Мной зарифмованных не впрок. Писать же следует по делу, Чтоб только мысль тобой владела, Чтоб только страсть и боль души, Перо мне подали: «Пиши!». Когда поэт во власти страсти, На бой ведут его слова, И лишь тогда на книжке надпись «От верноподданной» права.