Сосланд А.И., Фундаментальная структура
advertisement
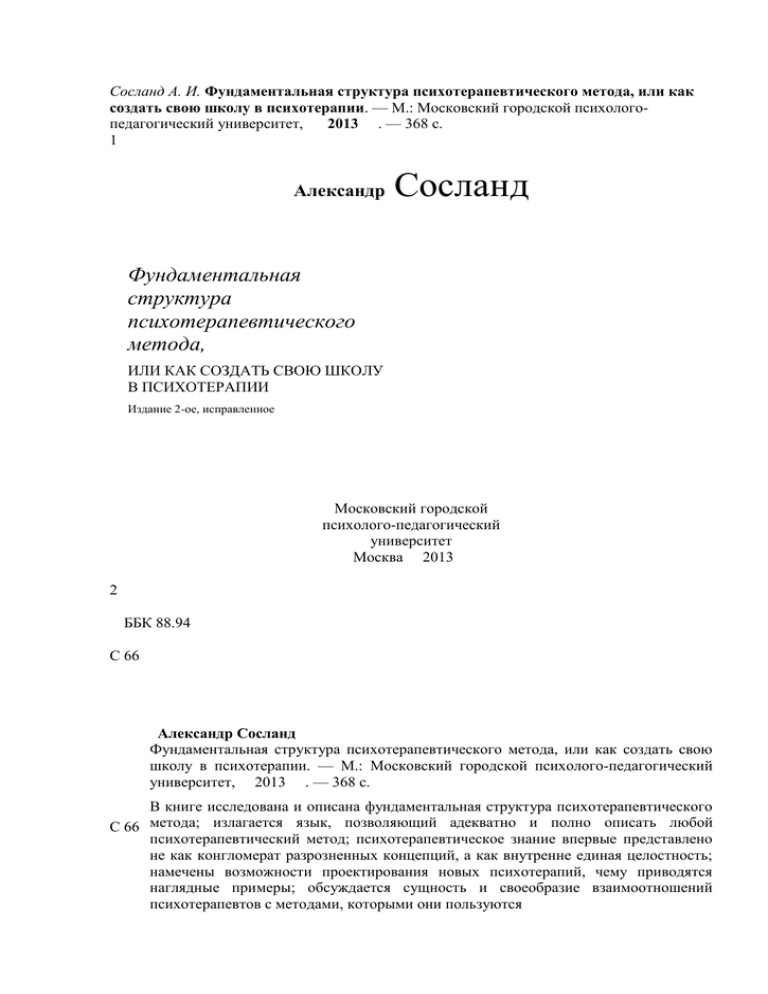
Сосланд А. И. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как
создать свою школу в психотерапии. — М.: Московский городской психологопедагогический университет,
2013 . — 368 с.
1
Александр
Сосланд
Фундаментальная
структура
психотерапевтического
метода,
ИЛИ КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ШКОЛУ
В ПСИХОТЕРАПИИ
Издание 2-ое, исправленное
Московский городской
психолого-педагогический
университет
Москва 2013
2
ББК 88.94
С 66
Александр Сосланд
Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою
школу в психотерапии. — М.: Московский городской психолого-педагогический
университет, 2013 . — 368 с.
В книге исследована и описана фундаментальная структура психотерапевтического
С 66 метода; излагается язык, позволяющий адекватно и полно описать любой
психотерапевтический метод; психотерапевтическое знание впервые представлено
не как конгломерат разрозненных концепций, а как внутренне единая целостность;
намечены возможности проектирования новых психотерапий, чему приводятся
наглядные примеры; обсуждается сущность и своеобразие взаимоотношений
психотерапевтов с методами, которыми они пользуются
ISBN 978-5-94051-125-1
© Сосланд А. И.
2013
. Автор.
© Поликашин Евгений, Сосланд А. И. — художественное оформление
© ГБОУ ВПО МГППУ. Москва,
2013
.
3
Оглавление
7
12
55
100
106
113
120
130
132
136
139
139
147
153
168
177
186
190
195
205
215
222
233
251
267
272
282
297
300
314
321
332
339
355
363
45
Предисловие
Психотерапия как предмет исторического анализа
Харизматическая личность в психотерапии
Структурный анализ теории психотерапевтической школы. Синхронический раздел
Целое
Другой
Инстанции
Тело
Границы
Каналы
Структурный анализ теории психотерапевтической школы. Диахронический раздел
Архиниция
Эвольвенция
Купидо
Обстанция
Дефект
Рефекция
Идеал
Психотерапевтическая акция или сущность и структура психотерапевтической
техники
Игра
Консоция
Эксквизиция
Транстерминация
Конвинкция и дизвинкция
Меситация
Сопротивление
Психотерапевтический текст
Виртуальная психотерапия
Кайнотерапия
Танатоаналитическая экстатическая терапия
Плероматерапия
Волапюк-терапия
Деиксотерапия
Заключение
Литература
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вся предыдущая литература по психотерапии исходила, на наш взгляд, из достаточно
ограниченного взгляда на вещи. А именно предполагалось, что психотерапевтический
метод создается ради нужд пациента. Ясно, что если мы будем придерживаться этой точки
зрения, то в истории психотерапии ничего не поймем. Всем известно, что никогда
созданию метода не предшествовали серьезные сравнительные исследования
эффективности нового подхода. Всегда речь шла о том, что старый метод переставал чемто удовлетворять того, кто им пользовался. Объективное исследование эффективности
осуществлялось чаще всего задним числом и на явно неудовлетворительном научном
уровне.
Правда заключается в том, что новые идеи и техники появлялись чаще всего для
обслуживания интересов их создателя. Кроме того, без сомнения, важным мотивом
нововведений было желание обустроить терапевтическую ситуацию так, чтобы она была
созвучна его же предпочтениям и склонностям. Однако самое важное заключалось, на
наш взгляд, в том, что новая теория и техника очерчивали некую область, в которой их
автор (и вслед за ним его последователи) осуществлял свое господство. Нам даже не надо
особенно затруднять себя здесь примерами из истории психотерапии, ибо, мы уверены,
это все понятно и так.
Все эти очевидные обстоятельства и подтолкнули нас к идее нашего проекта. Самое
важное в нем — структурное исследование основных направлений в психотерапии,
существующих на сегодняшний день. Нам представляется очевидным, что основные
известные методы могут быть разложены на составные элементы, которые, собственно,
представляют собой некую “нотную грамоту”, по правилам которой “писались” уже
существующие на сегодняшний день методы, но вполне могут быть написаны и новые.
Мы представляем себе все это дело так, как если бы изначально существовали записанные
на “невидимых скрижалях” те основные составные части и некоторые принципы, по
которым эти части складываются в единое целое. Получается, таким образом, что
существовавшие до сих пор школы есть не что иное, как отдельные варианты реализации
того, что было на этих скрижалях записано.
6
При таком подходе быстро выясняется, что далеко еще не все “невидимые скрижали”
прочитаны и что остается очень много такого, что лежит мертвым грузом. Иначе говоря,
мы приходим к пониманию, что многие составные элементы, исследованные нами, могут
быть использованы не в таком виде, как это было до сих пор в конкретных методах.
Именно эти соображения подсказали нам подзаголовок названия нашего исследования,
которое, разумеется, не ограничивается инструкцией о том, “как создать свою школу”. У
нашего проекта могло бы быть еще несколько названий, столь же уместных, как и
титульное, а именно: “Как компетентно и основательно осуществить критический
анализ психотерапевтического метода”, или “Как разобраться, из чего состоит теория
и техника какого-либо метода”, или “Как обогатить и улучшить уже имеющиеся
методы”, или “Как оптимально сконструировать эклектический терапевтический
метод” и т. д. Так что не следует воспринимать титульное заглавие одномерно.
Очень важной для нас оказалась и другая задача, а именно: зачем создателю метода
нужны те или иные из упомянутых составных элементов? Как уже было сказано, нелепо
было бы считать, что изменения в структуре теорий и техник, приводящие к появлению
новых школ или к изменениям внутри уже существующих, порождены только
стремлением сделать терапевтический процесс более эффективным, то есть внести какието изменения в него в интересах пациента. Главное здесь, как нам представляется, — это
то, как именно те или иные составные части школьной теории могут делать метод более
привлекательным в глазах как пациентов, так и возможных последователей новой школы.
По нашему замыслу, такой проект должен привести к новому пониманию психотерапии
как единого целого. Именно этого понимания не хватало психотерапевтическому
сообществу, которое формировалось и развивалось отдельными школами, агрессивно
враждовавшими между собой. Если психиатры, например, после выхода в свет в 1913
году “Общей психопатологии” К. Ясперса, а также многократно переиздававшегося
учебника Э. Крепелина смогли выработать единый для своей науки язык, то, к сожалению,
в психотерапии ничего такого пока нет.
Исследование и описание структуры психотерапевтического знания требует,
соответственно, выработки адекватного языка. Такой язык по отношению к
терминологии школ выполнял бы функцию метаязыка, на котором могли бы
разговаривать психотерапевты разных направлений, обсуждая в подробностях сходство и
различие в своих методах. Но, что еще более важно, мы получаем возможность взглянуть
на любой метод как бы со
7
стороны. Мы сможем понять, из чего, он, собственно, состоит, имеет ли он в своей
структуре тот или иной элемент или же не имеет. Другая наша цель, помимо прочих —
представить весь спектр школьных концепций в возможно более сжатом, емком,
компактном виде.
Итак, из чего же состоит наше исследование? В первую очередь нам показалось
необходимым проследить те исторические тенденции, которыми определяются процессы
как развития психотерапевтических школ, так и их угасания. Раньше историю
психотерапии принято было излагать описательно-эмпирически в виде нарративов,
излагавших историю отдельных школ. События этой истории и судьбы психотерапевтов
преподносились как в некоей хронике. Нам же представляется важным попытаться
выявить или хотя бы наметить существенные закономерности, позволяющие представить
себе историю психотерапии не как поток случайных событий, а как структурированное и
осмысленное движение, что мы и попытаемся сделать.
Очень важным разделом нашего проекта является часть, посвященная роли
харизматической личности в психотерапии. Мы пришли к выводу, что среди
потенциальной клиентуры существует спрос не столько на метод терапевтической работы,
сколько на особые свойства личности, которыми, как это представляется пациенту,
наделен “эффективный” психотерапевт. Именно эти особые свойства, позволяющие
оказывать эффективное влияние на других, и составляют главное в структуре
харизматической личности. Разумеется, речь идет о влиянии на других в пределах, жестко
ограниченных общепринятыми конвенциональными нормами; не может быть и речи о
том, что в этом контексте допускается манипулирование другой личностью. Как мы
покажем ниже, формирование харизмы, у психотерапевта в частности, невозможно вне
определенного идеологического контекста, вне системы новаторских теоретических
положений и техник, которые обладатель харизматических свойств вводит в общий
обиход. Это соображение, собственно, и увязывает часть нашего проекта, посвященную
харизматической проблематике, с общим замыслом. Чтобы была хоть какая-то
возможность вести речь о некоем персонаже как о харизматическом, необходимо
обозначить ту идеологическую сферу, в которой он осуществляет свое влияние. Иными
словами, создав свой метод или, на худой конец, некую модификацию чего-то уже
известного, терапевт обеспечивает себя идеологическим пространством, которое, как
упоминалось, необходимо для формирования его харизмы.
Но главная часть нашего проекта, как уже сказано, посвящена описанию структурных
элементов психотерапевтической теории и техники и соответственно этому его
структурный раздел
8
делится на две большие части. Та часть, что описывает структуру теории, делится в свою
очередь на синхронический и диахронический разделы. В синхроническом описываются
те элементы, что отражают статическую часть теории, в ней не содержится понятий,
очерчивающих теорию развития. Основное внимание уделяется соотношению частей и
целого (тема не новая в теории), границам, каналам доступа к личности. Обсуждается,
помимо всего прочего, то, зачем нужен каждый из обсуждаемых элементов для целостной
теории и каким образом его лучше оформить и преподнести в теории возможной.
Диахронический раздел посвящен тому, как существующие и возможные теории
представляют себе динамику развития как личности, так и патологического расстройства,
равно как и путей его преодоления. Здесь вводится определенное количество новых
понятий. Индивидуальная история развития личности, нашедшая свое отражение в
различных теоретических построениях, прослеживается от исходного момента до
возникновения патологии. Особое внимание уделяется здесь теме влечений, ключевой для
многих теоретических систем, а также препятствий, возникающих на пути
удовлетворения этих влечений и приводящих к развитию патологии.
В части нашего проекта, посвященной структуре техники, основной упор делается на
два основных элемента психотерапевтической акции: на процедуру изменения состояния
сознания и разрушения патологических связей и/или формирования терапевтически
действенных связей. При этом подробно классифицируются способы проведения таких
процедур. Становится понятно, что своеобразие психотерапевтической техники зависит от
неповторимого сочетания обоих элементов.
Такое исследование приводит к возможностям сравнительного анализа школ по самым
разным признакам, в том числе и по очень заинтересовавшей нас характеристике, скажем
так, богатства метода. Помимо всего прочего, быстро обнаружилось, что у истоков
подавляющего большинства структурных элементов общей теории стоит именно идея, в
первый раз употребленная в дело в классическом психоанализе. Нам представляется, что
самая значительная историческая заслуга психоанализа заключается в том, что он, как
никакой другой метод, способствовал созданию основ психотерапии как таковой.
В заключение мы приводим несколько вариантов возможных, виртуальных так сказать,
проектов психотерапевтических школ вкупе с возможными биографиями их авторов. Они
предназначены только для того, чтобы продемонстрировать, как может быть разработан и
встроен в новый метод любой из описанных нами элементов общей структуры.
9
***
Нам хотелось бы выразить здесь нашу признательность тем, кто так или иначе оказал
влияние на процесс создания этой книги.
В первую очередь хотелось бы выразить чувство исключительной, глубокой
благодарности нашему другу Вячеславу Цапкину. Его влияние на идеи, изложенные здесь,
сказалось как на интеллектуальном уровне, так и на информационном, а главное — на
личностном. Наш проект обсуждался с ним еще на самом начальном этапе нашего
замысла, и его дружеская поддержка была для нас очень важным делом.
Будет уместным, с моей стороны, поблагодарить известного филолога Нину
Брагинскую, которая оказала нам серьезную помощь в терминологической работе,
проявив при этом исключительную изобретательность.
Концепция этой книги создавалась исподволь и излагалась на многочисленных
семинарах, которые велись в течение многих лет. Обратная связь, которую мы при этом
получили, оказала решающее влияние на многие аспекты нашего исследования. Здесь,
понятно, нет возможности перечислить всех участников семинаров поименно, однако
каждый из них может быть уверен, что эта благодарность обращена к нему персонально.
10
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПРЕДМЕТ
ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Перед исследователем, который хотел бы разобраться с историческими закономерностями
развития психотерапевтического знания, который хотел бы подарить психотерапии
историю, стоят известные трудности. Они связаны с относительной краткостью
временно́го отрезка, в рамках которого психотерапия развивалась, как самостоятельная
дисциплина. Речь идет о двух столетиях (если вести отсчет истории психотерапии от Ф. А.
Месмера) или даже об одном столетии (если вести отсчет от З. Фрейда). Естественное
следствие таких обстоятельств — относительная бедность эмпирического материала, ибо,
несмотря на обилие методов, направлений, школ и т. п., немногие из них имеют реально
“богатую” историю. Немногие проделали путь с ясно ограниченными этапами, путь,
достаточный для того, чтобы можно было говорить о закономерностях развития
психотерапии.
Ясно, что тут не может быть и речи об абсолютно непреложных законах или о фатально
неизбежных закономерностях развития. Разговор пойдет именно о тенденциях. Причем
все это, по нашему замыслу, не может привести к ясной формулировке принципов четкого
предсказания событий в психотерапевтическом мире, предсказания судьбы, расцвета и
падения тех или других направлений в психотерапии. Наше знание о том, почему та или
иная школа вдруг получает распространение или, наоборот, теряет свое место на рынке
психотерапевтических идей или почему после периода забвения она вдруг становится
популярной вновь, — так вот, это знание может быть только приблизительным.
История психотерапии — это сумма нарративов, описывающих истории появления и
развития отдельных школ. Такие повествования состоят из параллельного описания
развития идей отдельной школы и путей становления и утверждения, борьбы и
преодоления сопротивления. Психотерапевтические методы находятся в состоянии
постоянного состязания друг с другом, что, разумеется, накладывает отпечаток на всю
психотерапевтическую жизнь в целом. Создание новых методов, как ясно всем (об этом
мы подробнее будем говорить ниже), зачастую никак
11
не связано с действительными потребностями терапевтической практики, с
интересами пациента. Это ясно хотя бы из того, что большинство методов создается без
серьезного сравнительного анализа изменения эффективности нового метода. Толчком к
созданию новых методов в большинстве случаев не являются соображения, связанные с
интересами пациента. История психотерапии — это в первую очередь история желаний
психотерапевтов создавать свои школы. “Школьный” характер развития психотерапии
очевиден, как ни в какой другой терапевтической практике, что связано в первую очередь
с очевидными трудностями легитимации теорий и техник. Надежное объективно-научное
обоснование валидности школьных теорий и эффективности техник — дело крайне
затруднительное. Это всем известное обстоятельство делает ситуацию конкурентной
полемики между различными методами неразрешимой и при этом как бы закрепляет ее,
не
оставляя
других
возможностей.
Школа,
как
форма
существования
психотерапевтического знания, обеспечивает терапевту возможность существования и
влияния в среде, регламентированной междушкольным “общественным договором”.
Школьно-исторические нарративы всегда в своей основе имеют некую “биографию
героя”, основателя школы. Это обстоятельство является одним из решающих факторов
формирования самосознания психотерапевта вообще. Существует постоянный соблазн
создания метода, борьбы за распространение идей, соблазн превращения изобретенного
метода из ограниченной психотерапевтической практики в развернутую идеологическую
систему, вкупе с техникой ее преподнесения. Все это в удачных случаях порой приводит к
созданию транснациональной психотерапевтической империи, что делает этот род
деятельности еще более привлекательным. Исторические модели, которые могут пролить
свет на закономерности такого развития дела, должны прояснить структуру и динамику
такого соблазна и, таким образом, по нашему замыслу, призваны в первую очередь
затрагивать область желаний психотерапевта.
Несмотря на определенную моральную устарелость моделей, предложенных в свое
время А. Тойнби для описания динамики общественно-культурных формаций, их
определенное достоинство заключается как раз в том, что они имеют непосредственное
отношение к жизни упомянутых желаний. В этом смысле интересной является, в
частности, модель вызов – ответ, по поводу которой А. Тойнби пишет так: “...можно
сказать, что функция “внешнего фактора” заключается в том, чтобы превратить
“внутренний творческий импульс” в постоянный стимул, способствующий реализации
потенциально возможных творческих
12
вариаций” (А. Тойнби, 1991, с. 108). Таким образом, модель вызов – ответ подводит нас к
проблеме воздействия внешнего фактора на развитие психотерапии.
Эта модель, надо сказать, функционирует не только в крупном историкоидеологическом пространстве. Она так или иначе включена в любое восприятие текста, о
чем мы читаем, к примеру, у М. М. Бахтина: “...Всякое реальное целостное понимание
активно ответно и является не чем иным, как начальной подготовительной стадией ответа
(в какой бы форме он ни осуществлялся). И сам говорящий установлен именно на такое
активное ответное понимание: он ждет не пассивного понимания, так сказать только
дублирующего его мысль в чужой голове, но ответа, согласия, сочувствия, возражения,
исполнения и т. д.” (М. М. Бахтин, 1979, с. 247).
И в самом деле, даже самое приблизительное знакомство с историей психотерапии
позволяет нам утверждать, что она является в высшей степени открытой наукой, весьма
сильно подверженной влияниям извне. Эти влияния оказывают на нее решающее
воздействие, определяющее ее сущность и своеобразие. Клиническая психиатрия, на
которую
психотерапевтам
все
время
приходится
оглядываться,
будучи
естественнонаучной дисциплиной, получает стимулы для своего развития из других
естественных наук (физиологии, биохимии, фармакологии). Психотерапия, относящаяся,
безусловно, к разряду гуманитарных наук (“наук о духе”, по В. Дильтею), получает “свои”
стимулы, соответственно, из гуманитарной сферы. Это могут быть стимулы от
философских, мировоззренческих систем, социологии, филологии. Это могут быть
импульсы, исходящие из различных сфер искусства. Наконец, что, на наш взгляд, очень
важно, на психотерапию может влиять современная социально-общественная ситуация,
так сказать “дух времени”. Именно здесь берут свое начало многочисленные вызовы,
берущие на себя функцию “внешнего фактора”.
Примеров здесь множество. Давно уже общим местом стало мнение (совершенно
правдоподобное), что переоценка З. Фрейдом значения сексуальности в этиологии и
патогенезе неврозов явилась ответом на чрезмерность моральных запретов культуры
викторианского общества второй половины XIX века. Разумеется, для самого создателя
психоанализа так называемая подавленная сексуальность выглядела эмпирической
реальностью его клинической практики. С другой стороны, клиническая практика
предоставляла в его распоряжение множество других элементов реальности,
предоставлявших другие возможности для интерпретационной стратегии. Выбор вызова,
как мы видим, совершается в рамках определенной свободы.
13
Совершенно ясно, что клиническая реальность для психотерапевта является
транслятором
реальностей
другого
порядка.
Узрение
этих
реальностей
(социобиологических, экзистенциальных и т. д.) всякий раз приводило к созданию новой
теории. Ответ на выбранный внеклинический вызов приводит к конструированию теории
патогенеза, в котором задействованы соответственно внеклинические факторы,
существенно расширяет идеологические возможности создателя метода, создает
возможность для ставшего неизменным фактором терапевтической жизни выхода за
пределы собственно психотерапевтического обихода. Поиск вызова, таким образом,
является предметом коренных интересов терапевта. Свобода выбора в этой области
предполагает, разумеется, что иные вызовы могут игнорироваться в пользу такого, ответ
на который предоставляет возможность выхода за пределы собственно терапии, ибо, как
мы увидим ниже, это открывает множество возможностей, которыми разумнее не
пренебрегать. Как известно, еще один “внешний фактор”, повлиявший на классический
психоанализ, — мир идей “философии жизни” (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон и т. д.).
Влияние его сказалось, в частности, в том, что в психоанализе было сконструировано
представление о человеке как о носителе не осознаваемых им влечений, препятствия на
пути которых и приводили к возникновению различной патологии.
Другой известный исторический пример — распространение феноменологии и
экзистенциализма вначале в мире философской мысли, а позднее — в
психотерапевтическом пространстве. Этот сдвиг традиционно связывают с кризисом в
европейском самосознании, имевшим место на фоне двух мировых войн. Совершенно
ясно, что нет и не может быть никаких эмпирически обоснованных причин, клинически
выверенных показаний для применения в том или ином конкретном случае именно
экзистенциальной терапии (безразлично, дазайнанализа М. Босса или логотерапии В.
Франкла). Клиническая реальность сама по себе не дает и не может давать оснований для
работы именно в этой парадигме (равно как и ни в какой другой). Она, эта реальность,
получается опять, выступает как бы посредником между терапевтом и неким,
внеклиническим, как уже было сказано, вызовом.
С другой стороны, понятно, что проблемы пациента в любом случае, чем бы он ни
страдал, так или иначе могут быть весьма правдоподобно связаны с темами смысла
жизни, ее пустоты или наполненности — словом, всем тем, что попадает в фокус
экзистенциалистского видения мира. Казалось бы, речь идет о само собой разумеющихся
вещах. Однако, как мы видим, потребовались серьезные культурно-мировоззренческие
сдвиги, чтобы все это было усвоено психотерапевтической средой.
14
В качестве еще одного примера можно вспомнить о влиянии леворадикального
студенческого и интеллигентского движения в индустриальных странах 60—70-х гг. на
развитие антипсихиатрии.
Другой источник влияния извне — это разного рода культурные практики, которые
порой целиком заимствовались психотерапевтами для их нужд и после незначительной
перекройки употреблялись в дело. Тут достаточно вспомнить о психодраме и о
разнообразных видах арттерапии. Другой пример — религиозные практики. Влияние
аскетических ритуальных практик йоги на создание различных систем саморегуляции
общеизвестно. Как мы видим, искомый вызов может относиться как к сфере теории,
идеологии психотерапевта, так и собственно к терапевтической технике.
Отношение к реальности как к “вместилищу вызовов” предполагает активное,
“ищущее”, скажем даже, хищное всматривание в психотерапевтическое пространство и за
его пределы. Осознание своих желаний, безусловно, должно этому всматриванию
предшествовать. Скажем сразу, что именно осознанию психотерапевтами своих желаний
и посвящено в первую очередь наше исследование. Чтобы поиск желанного вызова
осуществлялся целенаправленно, самое время выделить два типа вызова, существующих в
культурном пространстве, отличающихся друг от друга, так сказать, манерой “вызывать”.
Вызов-пример, или положительный вызов, заключается в том, что во
внепсихотерапевтическом пространстве появляется (или пребывает там долгое время)
некое явление, которое может оказаться сподручным или просто привлекательным в
смысле использования его в психотерапевтической теории или технике. Это может быть
некая идеология, привлекательная наличием в ней скрытой медицинской модели. Как
сказал по этому поводу Л. Витгенштейн: “Философ лечит вопрос как болезнь” (Л.
Витгенштейн, 1994, с. 174). Ясно, что философия жизни и экзистенциализм, о которых
шла речь выше, оказались привлекательны для психотерапевтов именно в силу того, что в
них имплицитно содержится такая модель.
Вызовом-примером, с другой стороны, может быть, как уже сказано, некая культурная
практика. Ее привлекательность будет, однако, заключаться уже в другом, а именно в
формировании особого состояния сознания, а кроме того — в сподручной организации
психотерапевтического пространства. Эти “вызывающие” моменты могут быть
использованы при конструировании психотерапевтической техники. Оговоримся, такого
рода сподручность оценивается в основном задним числом, ретроспективно. До того как
мы стали в психотерапии “подражать природе и
15
жизни”, мы ничего не знали о том, насколько некая теория, а тем более некое действие,
является действительно подходящим элементом будущей психотерапии. Выбор вызова
связан с известным риском. До того момента, как выяснилось, что нечто оказалось
действительно полезным для терапии, мы можем только приблизительно судить о его
“пригодности”. Так, оглядываясь назад, мы без труда понимаем, что проделанный Дж.
Морено перенос в психотерапию принципов и техник театрального искусства был крайне
удачным во всех отношениях предприятием.
“Правильный” ответ на вызов-пример — это ответ-подражание, назовем его
миметический ответ. Сочиняющий терапевтический метод автор первоначально
заимствует основные положения или черты вызова-примера и, подгоняя их под
обстоятельства своей практики и под собственный опыт, конструктивно подражая, дает
таким образом ответ с большим или меньшим успехом.
С другой стороны, мы всегда имеем дело с тем, что можно обозначить, как вызовпроблему или негативный вызов, причем он может помещаться как во внутри-, так и во
внепсихотерапевтическом пространстве. Это явление, если оно существует вне
психотерапевтического знания, чаще всего связано особенно тесно с ситуацией и
структурой культурного пространства. Оно, это вызывающее, может оказывать тем или
иным способом отрицательное влияние на современное ему сознание в целом, так что
клиническая реальность неизбежно будет это влияние так или иначе транслировать.
Школьная теория неизбежно фиксирует некую глобальную психогению, тотальную
вредность, исходящую от общества в целом, и отрицательные последствия действия этой
вредности обнаруживаются у попадающих в поле их зрения пациентов. Приводившийся
выше пример с “антиэротической” культурой викторианской эпохи и ответным
фрейдовским “пансексуализмом” демонстрирует это отчетливо. Вообще же можно
сказать, что поиск и обнаружение “патогенных” факторов в культуре и обществе —
надежный источник для сочинителей психотерапий.
Негативный вызов может, что очень важно, помещаться и внутри профессионального
психотерапевтического пространства. Тот же Фрейд, разработав и распространив
психоанализ, явившийся ответом на господство гипноза и рациональной психотерапии, в
свою очередь, создал множество вызовов для целого ряда позднейших исследователей.
Как “вызывающие” были расценены свойственные психоанализу “позитивизм”,
“редукционизм”, “пансексуализм”, “биологизаторство”, но при этом, с другой стороны,
“ненаучность”, “радикализм”, то есть “просчеты” прямо противоположного характера.
Это — в сфере метапсихологии.
16
В том, что касается техники, разные авторы сочли вызывающими для себя известную
терапевтическую пассивность, а также обращенность содержательной части анализа в
прошлое наряду с игнорированием аспекта “здесь и сейчас”, эмоциональную
нейтральность, как это было, например, в случае Ш. Ференци, предложившим в качестве
ответа активную аналитическую технику (Ferensczi, 1921).
Перечислить всех, кто воспринял фрейдовские построения как негативный вызов и
попытался дать на него ответ, — это значит, в сущности, описать почти всю
послефрейдовскую историю психотерапии. Интересно отметить, что психоанализ и по сей
день остается тем пунктом, от которого отталкиваются создатели новых концепций,
начинающие зачастую описание своих построений с критики именно классического
психоанализа. Тут с самых, казалось бы, разных позиций сходятся в одной точке К. Г.
Юнг и К. Роджерс, Д. Гриндер с Р. Бэндлером и К. Хорни, Дж.-Вольпе и А. Бек (список
легко продолжить). Совершенно ясно, что кроме Фрейда с последователями, никто пока
не создал в психотерапии столь значительного негативного вызова для множества
деятельных “ответчиков”. Вполне естественный вопрос в этой связи, почему, дескать,
другие школы не вызывают такой сильной реакции отторжения? Очень легкомысленным
ответом здесь был бы тот, что объяснял это обстоятельство их, скажем так,
достоинствами.
Заслуга классического психоанализа заключается в том, что это была действительно
первая психотерапевтическая школа, объединившая в своей структуре теорию, метод и
институциональную структуру. Фрейд, кроме того, первым показал то, что автор,
сочинивший привлекательную психотерапию, оказывается на пике идеологического и
харизматического влияния. Первотолчок в эволюции психотерапии придал всей
дисциплине вполне очерченные формы, а именно — формы изолированной школы со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно с тех пор история психотерапии
осознает себя как постоянная реализация желаний психотерапевтов создавать новые
методы и строить вокруг них школы. Персонаж этой истории — именно создатель такой
идеологически-организационной конструкции.
Само собой разумеется, что работающий в реальных обстоятельствах психотерапевт не
ставит перед собой изначально специальной задачи ответить своей “мыследеятельностью”
на некий сформированный культурой и обществом вызов. Во всяком случае, так обстояло
дело до сих пор. Он старательно делает вид (и, судя по всему, склонен думать так на
самом деле), что ориентируется на свой непосредственный клинический материал, и вряд
ли всегда отчетливо осознает зависимость наличия или частоты
17
той или иной патологии от влияния культуры и общества, в том разумеется, случае, если
он заранее на это не сориентирован. Такое положение дел, на наш взгляд, нуждается в
исправлении, что мы, собственно, и попытаемся сделать. Понятно, что если ставить
задачу такого рода ориентации перед обучающимся терапевтом, то путь к осознанию всех
этих, несомненно важных, обстоятельств существенно сокращается.
Вызов-проблема может проявлять себя при соприкосновении с неким клиническим
материалом. Здесь, однако, следует заметить, что, кроме неких особых, краевых случаев
патологии (психозы, например), все психотерапевты имеют дело приблизительно с одним
и тем же клиническим материалом. Само по себе это обстоятельство ясно говорит в
пользу уже высказанного нами предположения, что произвол в сочинении психотерапий
определяется скорее желаниями терапевта, чем реалиями терапевтической ситуации.
Трансляция внетерапевтической реальности происходит и в тех случаях, когда
терапевты сталкиваются с неким особым массовым видом состояний, вызванным, к
примеру, общественными катаклизмами (войны, миграции и т. д.). В этих случаях, редко
приходится наблюдать создание полностью новых методов. Речь чаще идет о
модификациях уже известных техник. Так что вызовы клинической реальности на самом
деле не так уж и сильны. Новые методы отвечают не на них.
Так получается, что знакомство с новым, невиданным ранее типом состояний не
приводит к ситуации, когда старые объясняющие модели и соответственно
терапевтические процедуры не действуют. Такая ситуация возникает скорее при смене
культурной ситуации. К примеру, обстоятельством, меняющим восприятие реальности
психотерапевтической практики и, соответственно, создающим определенный вызов,
может стать миграция терапевтов (чаще всего это э-миграция, вспомним массовый
переезд в США спасавшихся от нацизма европейских аналитических терапевтов). Дело
оборачивается так, что на новом месте, в условиях иного культурного контекста,
психотерапевт встречается с новыми типами патологии, что само по себе заставляет его
менять свое терапевтическое мышление и поведение (по А. Тойнби, это соответствует
“вызову новой земли”, см.: А. Тойнби, 1991, с. 129). Да, собственно, просто меняющаяся
сама по себе ситуация в мире, где терапевт сталкивается со своими пациентами, требует
внимания к новым “вызывающим” возможностям.
Вот еще почему имеет смысл ориентироваться на модель вызов – ответ. Автору,
сочиняющему новую терапию, всячески надо постараться оформить свою инициативу
именно как ответ на
18
некий имперсональный вызов. Иначе говоря, речь должна идти об обстоятельствах, никак
не связанных с его собственными интересами. Новые идеи ни в коем случае не должны
выглядеть результатом собственного интеллектуального произвола. Психотерапия, к
сожалению, будучи гуманитарной дисциплиной, требует, однако, легитимации как
терапевтическая практика. Так что новации должны легитимироваться здесь ссылкой на
так называемую реальность и выглядеть, таким образом, вполне закономерно.
Модель вызова – ответа частично перекликается с предложенной Т. Куном схемой
аномалия — кризис — открытие (Т. Кун, 1977). С точки зрения психотерапевта — автора
нового метода, подобная схема представляется наиболее адекватной моделью,
обосновывающей закономерность его открытия. С его позиций дело обстоит так: он
столкнулся с неким новым патологическим феноменом или с тем, что старый метод
(которым он пользовался на момент грядущего открытия) не действует по отношению как
к новому феномену, так и к уже известным. Он пробует новый подход (или сочиняет
новое объяснение). Это оказывается правдоподобным и действенным, после чего он
исподволь переводит это открытие в ранг новой методики, теории и т. д. Однако здесь, в
отличие от естественных наук (для которых и была создана схема Т. Куна), мы не можем
говорить об однозначной связи между аномалией и открытием.
Ученый-естественник, наблюдая аномальное явление, предлагает объективно-научный
способ его интерпретации, верифицируемый, а главное, надежно воспроизводимый в
идентичных условиях. Например, определенный металл, погруженный в определенную
кислоту, будет при той же температуре и тех же соотношениях ингредиентов давать
всякий раз то же самое количество соли, замещая катионы водорода и вступая в
соединение с анионами кислоты. Такого рода исследования применительно к
психотерапии немыслимы. Мы не располагаем возможностями проверить ни
справедливость предлагаемых объясняющих концепций, ни адекватность методик,
удостоверяющих эффективность психотерапевтических техник.
Бросается в глаза резкое несоответствие постоянно совершающихся в психотерапии
открытий и отсутствие заинтересованности в очевидных доказательствах увеличения
эффективности от этих открытий. Критика фрейдовской концепции либидо Юнгом и
Адлером не сопровождалась, к примеру, выкладками по росту эффективности применения
анализа, основанного на ином понимании природы влечений. Не составит труда привести
множество других примеров изменений в психотерапевтических теориях и техниках, не
сопровождавшихся основательными
19
исследованиями улучшения показателей эффективности от их внедрения. Психотерапия
со времен Фрейда до такой степени стала неотъемлемой частью гуманитарного знания,
что приходится констатировать частичное забвение ее изначальной природы как
терапевтической практики. Это обстоятельство будет неизбежно создавать серьезные
проблемы с легитимацией любых исследований в психотерапии.
“Научная революция” в психотерапии никогда не приводит к радикальной смене
научной парадигмы, как это, по идеям Т. Куна, происходит в естественных науках. Новая
парадигма не становится господствующей, реально осуществляется только
перераспределение сфер влияния. Это вполне понятно, ибо здесь смена научной
парадигмы
не
может
быть
надежно
легитимирована
экспериментальной
воспроизводимостью.
Скорее всего, психотерапевтическая новизна более близка новизне художественной,
когда автор свободно отзывается на изменения “духовной ситуации эпохи”; она далеко
отстоит от новизны научной, которая сформирована логикой научного доказательства, где
намного меньше места произволу личности исследователя, озабоченного реализацией
собственных интересов. Когда мы наблюдаем изменения в психотерапевтическом
сообществе, даже и думать не следует о том, что мы имеем дело с тем, что менее
эффективная технология сменяется более эффективной. Речь зачастую идет только о
перемене интеллектуальной моды (Лиотар, 1997).
Как уже сказано, психотерапевт свободен как в выборе вызова, так и в сочинении
ответа. В сущности, все, что угодно, вне психотерапии, как и внутри нее, он волен
использовать как повод для сочинения школьной теории или техники. Такое соображение
может радикально поменять прагматику психотерапевтического текста, то есть способ
взаимоотношений между читателем и автором. Если обычно автор излагал собственный
метод, предлагая как бы ему следовать, то другой, новый автор может предложить
разумному читателю сформировать свой школьный дискурс и, по меньшей мере,
уподобиться первому типу автора, что само по себе уже очень неплохо. Однако при этом
не худо иметь в виду еще одну модель развития.
Другая известная историческая модель зарождение — расцвет — упадок в разных
редакциях встречается во многих работах, посвященных истории цивилизации (А.
Тойнби, О. Шпенглер, Л. Н. Гумилев и др.). Предполагается, что каждая культура
проходит на своем пути определенные стадии: начальное формирование ее существенных
черт, дальнейшее их развитие до некоего оптимального состояния, после чего наступает
упадок, деградация, и т. д. На наш взгляд, несомненный подтекст такого
20
взгляда на вещи — в наложении временных ограничений на жизнь желаний.
Как мы говорили уже, история психотерапии относительно коротка и пока говорить о
полностью завершенных циклах процесса развития того или иного направления трудно.
Однако все же возможно уподобить психотерапевтические школы целостным культурноисторическим образованиям, имеющим свои стадии и циклы развития, и посмотреть, что
здесь у нас получится.
История психотерапии — как уже сказано — история независимо друг от друга
развивающихся школ, замкнутых в себе направлений. Психотерапия никогда не
существовала как единая, целостная наука. Такое же положение дел сохраняется на
сегодняшний день. Проекты, заявляющие себя как “эклектические”, “синтетические” и
т. д., тоже фиксируют это вполне определенное положение дел, поскольку отталкиваются
от фундаментальной реальности психотерапевтической жизни — школьной
множественности.
Как известно, поначалу школа формируется, по меткому наблюдению К. Ясперса, “как
секта, группируясь вокруг глубоко почитаемого учителя” (K. Jaspers, 1973, s. 685).
Исторические нарративы, описывающие становление школы, неизбежно сконструированы
из элементов действия и противодействия, борьбы и сопротивления. Биография создателя
метода — неотъемлемая часть такого нарратива. Важно, что эта биография не внеположна
ему, как это имеет место в естественных науках, но так или иначе встраивается в
структуру метода. Хорошо известно, например, что инфантильные переживания Фрейда
имеют непосредственное отношение к формированию концепции Эдипова комплекса.
Опыт пребывания В. Франкла в концентрационном лагере неразрывно связан с ядром
логотерапевтической доктрины. Школьный исторический нарратив первоначально
разворачивается именно вокруг структуры личности создателя метода. Повествование о
начальном периоде развития каждого метода почти всегда носит бойцовско-героический
характер. Этот период заполнен энергичной борьбой за место в психотерапевтическом
мире.
Далее, разрастаясь вглубь и вширь, метод обрастает новообращенными
последователями. Он превращается в крупную сборку, достигая в удачных случаях
размеров транснациональной империи с ассоциациями, обучающими учреждениями,
печатными органами во многих странах. Видимо, этот период и следует считать аналогом
эпохи расцвета той или иной культуры, как это описывается в известных текстах,
посвященных истории цивилизации (А. Тойнби, О. Шпенглер, К. Леонтьев и т. д.).
21
Этот период отмечен интенсивными процессами экспансии, которая происходит
одновременно в разных направлениях. Распространение учения, его, стремящееся к
тотальности, проникновение в различные профессиональные, идеологические и т. д.
пространства, осуществляется разными путями. Эта экспансия является, безусловно,
отражением мира желаний терапевта. “Грандиозное Я” (H. Kohut, 1977) терапевта ищет
таким образом простор, чтобы заполнить его впоследствии своим продолжением —
школьной теорией. Одним из этих путей является проблемно-клинический. Обычно дело
обстоит таким образом, что определенный метод разрабатывается применительно к
одному какому-нибудь кругу клинических проблем. Впоследствии этот круг может быть
расширен, и таким образом, завоевывая для себя все новые клинические или проблемные
сферы, он приобретает в конце концов характер некоей панацеи, становясь в большей или
меньшей степени универсальным. Пример — все тот же психоанализ, поначалу
применявшийся в случаях, которые Фрейд расценивал как “неврозы” (проблема реальной
диагностики этих случаев является весьма непростой), более конкретно — “истерию” и
“невроз навязчивых состояний”. Фрейд, как известно, предостерегал от использования
анализа при психозах, хотя и не исключал этого в принципе (З. Фрейд, 1991, с. 54).
Впоследствии это ограничение было снято и психоаналитическое направление в терапии
шизофрении обрело множество последователей (см., например, А. Холмогорова, 1993).
О возможности такого пути в развитии метода и формировании школы, о проблемноклинической экспансии ни в коем случае не следует забывать. Даже если обстоятельства
сложились так, что в поле зрения попадают пациенты только одного круга и типа,
ограничивать сферу применения метода в условиях сложности экспериментальной
экспертизы по меньшей мере неразумно. Всякая психотерапия — “лучше, чем ничто”.
Хорошо известно, что разумные терапевты берутся за все, что им попадается под руку,
избегая, может быть, только случаев с заранее безнадежным прогнозом. В огромном
большинстве случаев противопоказания для применения отдельного метода совпадают с
противопоказаниями для применения психотерапии вообще. Однако ясно, что этими
противопоказаниями все и всегда стремятся так или иначе пренебрегать. В самом деле,
кто же добровольно сознается в том, что его достойная во всех отношениях школьная
терапия — это всего лишь ограниченный в применении, пригодный только в отдельных
случаях метод, а не всесильная панацея, как это утверждают в большинстве своем все
остальные авторы школьных теорий? Политика, направленная на сужение объема
применения метода, никак не совместима с практикуемой
22
повсеместно тенденцией расширения показаний для применения отдельной терапии.
Расширенное таким образом пространство предназначено для того, чтобы быть
заполненным “грандиозным Я” терапевта.
Второй путь экспансии можно обозначить как патографический. Выросшая из
классических биографических дискурсов, патография исследует, каким образом
психопатологическое встраивается в структуру жизненного мира. Традиционно значение
термина “патография” связано с известным жанром жизнеописаний исторических
личностей с психиатрической точки зрения. Этот жанр сформировался во второй
половине XIX века и, несомненно, связан так или иначе с интеллектуальной модой того
времени — противопоставлением “героя и толпы” в духе Т. Карлейля и др. В целом это
направление исследований длительное время было очень распространенным среди как
клинических, так и глубиннопсихологически ориентированных авторов (см.: W. LangeEichbaum, 1928).
Однако, следовало бы иметь в виду и расширенное понимание патографии. По нашему
убеждению, патографией следует считать любое усмотрение, описание и анализ
психопатологических и патопсихологических феноменов за пределами собственно
психиатрической и психотерапевтической деятельности. “За пределами”, то есть в таких
областях, как культура, искусство, наука, религия, история, общественная жизнь. Объем
патографического, так сказать, “вмешательства” может быть разным — от развернутой
психиатрической биографии в духе П. Мебиуса до даваемой походя психиатрической
оценки бытового поведения. Совершенно ясно, что “патографическое поведение”
реализует интересы влияния как психиатра, так и психолога далеко за пределами,
ограниченными рамками профессионального обихода.
Как клинические психиатры, начиная с Ч. Ломброзо, так и глубиннопсихологически
ориентированные исследователи, начиная с З. Фрейда, весьма охотно двигались в области,
которые на первый взгляд лежат далеко от сферы их непосредственных
профессиональных интересов. Описывались душевные расстройства известных личностей
мира культуры и политики, связь расстройств с биографией описываемого персонажа. Все
культурные практики (литература, искусство) встраивались таким образом в
психопатологические дискурсы.
С другой стороны, внутри патографического проекта произведения искусства
исследовались на предмет наличия “патологических” механизмов, содержание и форма,
образный строй изучались в зависимости от патологических особенностей биографии и
личности их автора. Без преувеличения можно сказать,
23
что почти каждое направление в психотерапии создает собственную патографию или, во
всяком случае, проявляет склонность к се созданию. (Заметим, что, если и есть школы, где
ничего такого пока не наблюдается, нет причин, чтобы такое положение дел сохранялось.
Для любой психотерапии не составит большого труда сконструировать соответствующую
патографию.) Очевиден также и обратный процесс, когда, обращаясь к дискурсам,
порождаемым в контексте художественной культуры, сочинители психотерапий
заимствуют оттуда материал для метафор, помогающих наглядно обозначить структуру и
механизм патологического феномена или способ воздействия на них (пример в отношении
метапсихологической метафоры — Эдипов комплекс, пример в отношении способа
воздействия — психодрама). Что касается, например, юнгианской аналитической
психологии, то здесь вообще трудно найти грань, где, собственно, кончается
метапсихологический дискурс и начинается патографический, и наоборот.
Другой источник формирования патографической традиции — идущие от психоанализа
этнографические экскурсы в исследование культур примитивных народов. Расширение
идеологического пространства совпадает здесь с расширением пространства
географического и создает здесь, без сомнения, очень привлекательную перспективу.
Исключительный интерес ко всему этому делу, несомненно, выходит за рамки
профессиональных потребностей. Среди психологов и особенно клинических психиатров
распространен феномен, который можно было бы назвать патографической паранойей
или патографической обсессией, в зависимости от степени выраженности и особенностей
проявления. Этот клинический феномен заключается в той особой предвзятости, с
которой многие из нас вглядываются во все происходящее вокруг и с некоей особой
жадностью фиксируют там все психопатологическое, при этом часто игнорируя все, что
собственно определяет подлинное своеобразие наблюдаемого предмета (будь то
произведение искусства или же некий феномен общественной жизни, а то и просто любой
персонаж, попадающий в поле зрения).
Ясно, например, что прицельная психоаналитическая охота за “фаллическими
символами”, ведущаяся повсеместно, равно как и стремление клинических психиатров
испытать “диагностический оргазм”, есть, безусловно, проявление экспансионистской
динамики терапевтического нарцистического Я. Очень велико искушение тотализации
своего
профессионально-идеологического
влияния.
Патографический
дискурс
превращает произведение искусства, биографию человека или ритуальный
24
обычай в еще один клинический случай. Произведение искусства, в свою очередь,
встраивается в структуру школьного дискурса, и этой структурой поглощается и
усваивается. Оно не просто является подходящим для иллюстративных целей, но и очень
показательно, наглядно. Такое поведение в рамках одной школы (исходно это был
психоанализ) не может не быть соблазнительным для представителей других школ. Даже
если не подвергать сомнению каждый отдельный текст такого рода, экспансионистская
природа патографического поведения несомненна.
Потестарная (от лат. potestas — власть) природа патографического дискурса проявляет
себя и тогда, когда психопатологические доводы встраиваются в полемику между
различными
психотерапиями.
Взаимоперекрестная
“диагностическая”
критика
обосновывает полемику между различными направлениями в психотерапии, когда авторы
различных методов рассматривают позиции оппонентов как манифестацию его
психопатологии или, к примеру, “комплексов”. Метод оппонента вполне может быть
представлен как “болезнь”, лекарством от которой в свою очередь может быть метод,
которого придерживается автор критики. Так, К. Г. Юнг пишет, сравнивая подходы
Адлера и Фрейда: “Адлер делает акцент на субъекте, который охраняет себя и стремится
добиться превосходства над объектом...; Фрейд же, напротив, упирает лишь на объекты,
которые в силу их определенного своеобразия либо способствуют, либо препятствуют
удовлетворению стремления субъекта к удовольствию. Это различие есть, вероятно, не
что иное, как различие темпераментов, противоположность двух типов духовного склада
человека, из которых один определяется преимущественно субъектом, другой —
объектом” (К. Г. Юнг, 1996, с. 76). Разумеется, Юнг всего лишь намечает здесь
возможность патодиагностики своих оппонентов.
В других, более радикальных, случаях можно наблюдать, как целые направления в
психотерапии рассматриваются в качестве своеобразных психопатологических
феноменов: “Здесь так же, как и в классических Фрейдовых работах, ясно видятся
клиницисту закономерности оторванного от клинической практики аутистическипсихоаналитического мышления, цепляющегося лишь за то, что его поддерживает, и не
воспринимающего то, что ему противоречит” (М. Е. Бурно, 1989, с. 12). “Ясно увидеть”
здесь помогает именно обостренный школьным интересом взгляд. “Противоречит” же,
разумеется позиция другой метапсихологии и “невосприятие” ее, натурально —
проявление патологии (в данном случае — “аутизма”).
Кроме того, само по себе неприятие какого-либо метода может быть представлено как
психопатологический феномен. В
25
этой связи показательна позиция Фрейда: неприятие психоанализа есть сопротивление,
связанное с подавленными влечениями (см.: Э. Джонс, 1996). Напрашивающееся само
собой лекарство от такого неприятия — соответственно психоаналитическая ортопедия
оппонентов, психоанализ причин сопротивления психоанализу с целью их преодоления.
Так что патографическую экспансию ни в коем случае не следует воспринимать только
как практику, обусловленную явными профессиональными нуждами с, одной стороны,
или как праздное занятие — с другой. Она коренится в самой основе профессиональноцеховых интересов в целом и школьных — в частности. Вложивший теоретический
капитал в патографическое предприятие, пускай побочное, может приобрести
значительные дивиденды.
Другой аспект экспансии мы можем обозначить как доктринальный. Общим местом
стало известное утверждение, что, например, психоанализ превратился из специального
лечебного метода в мировоззренческую систему. В сущности, более адекватным
термином будет доктринальное расширение, ибо речь идет не столько о захвате чужих
идеологических пространств, сколько о тенденции внутреннего роста или
инкорпорирования метафизических дискурсов в психотерапевтические. Таким образом,
дискурсы, изначально обслуживавшие клинико-терапевтические потребности, легко
разрастаются до размеров, позволяющих им обрабатывать несравненно более крупные
идеологические пространства и т. д. В общем-то, в основном на примере развития
классического психоанализа мы этот вариант школьной динамики и видим достаточно
отчетливо, ибо авторы всех позднейших методов приобрели таким образом
возможность начать не с лечебного метода как такового, а с развитой
метапсихологической доктрины, и в этом одна из многочисленных исторических заслуг
психоанализа.
Здраво рассудив, что все равно после З. Фрейда, так и так, неизбежно придется
обзаводиться школьной “философией”, авторы иных направлений решили, видимо, не
терять понапрасну времени на преодоление пути из медицины в метапсихологию.
Создатели экзистенциальной психотерапии, например, даже и не пытались скрыть
влияние “внетерапевтического” философского дискурса на их метапсихологию и
практику, а прямо взяли и построили у себя все на основе заимствований из этого
дискурса. Тут можно также поделиться наблюдением, что даже те терапевты, что
ограничиваются исключительно техническими процедурами, стремятся в что бы то ни
стало спроектировать для своих методов некие глобальные контексты. Так, приходится
слышать от тех, кто занимается гипнозом, о некоем особом значении
26
гипноза, который, мол, конечно, не является только лишь тривиальной лечебной
процедурой, но есть нечто такое, что свойственно человеческой коммуникации вообще.
По их словам, гипноз, дескать, есть некое универсальное состояние, основа на пути к
социальной гармонии, творческой самореализации личности и т. п. (есть серьезное
подозрение, что существуют и тексты в таком духе).
Возвращаясь к аспекту доктринального роста, скажем, что, конечно, такая возможность
не заказана никому. Более того, доктринальное расширение может происходить
параллельно патографической и клинической экспансии, и тогда, видимо, они имеют
взаимообогащающий характер. Отличие здесь в том, что клиническая и патографическая
экспансии имеют прикладной характер, в то время как доктринальная —
фундаментальный, расширяющий пространственный объем учения не за счет завоевания
новых пространств, а за счет углубления и обогащения собственной концептуальной
структуры.
Разумеется, никому из психотерапевтов не хочется быть просто “лекарем”. В этом
смысле психотерапия имеет преимущество перед всеми другими терапевтическими
практиками. Всякому ясно, какие прибыли можно извлечь из школьной метапсихологии.
Хорошо располагать собственным идеологическим пространством, местом, где ты
осуществляешь свое идеологическое влияние. Есть куда пригласить как пациентов, так и
возможных единомышленников. “Грандиозное Я” психотерапевта (о котором пишет,
например, М. Якоби, 1996) получает в результате всех этих расширений необозримое поле
для выпаса. Да и потом, если дискурс, трактующий проблемы этиологии и патогенеза
невротических страданий, доктринально расширяется, то это означает, что мы делаем
заявку на идеологическое влияние в совершенно иных размерах. При таком раскладе без
его, психотерапевта, консультирования уже не обойтись далеко за пределами
терапевтического кабинета. Таким образом, терапевтическая, она же школьная, идеология
в интересах терапевта охотно и почти неизбежно выходит за собственные
профессиональные границы.
Помимо всего вышеописанного самым внешне заметным феноменом эволюции
психотерапевтического направления является институционально-организационная
экспансия. Любое психотерапевтическое учение, подобно религиозной секте, деятельно
стремится расширить свое влияние в мире, рекрутируя все новых и новых последователей,
создавая все больше и больше исследовательских и обучающих центров по всему миру,
расширяя свой информационный поток через периодические издания, монографии,
средства массовой информации. В конце концов мы получаем из первоначально
ограниченного терапевтического
27
метода, вокруг которого образовалась группа единомышленников, крупную
транснациональную институциональную империю. Желания психотерапевтов, как,
впрочем, и всех других, стремятся к выходу за все мыслимые пределы и, поэтому ясно,
что каждое новое изобретение может стать поводом для распространения его
повсеместно.
Итак, каждая школа поглощает и переваривает на своем пути груды болезней и
проблем, двигаясь в направлении проблемно-клинической экспансии. Она вовлекает в
свой оборот произведения искусства, феномены общественно-политической жизни,
биографические повествования — посредством патографической экспансии. Она
пропускает через себя кучи пациентов, последователей, создавая при этом развитые и
многообразные
профессиональные
структуры,
действуя
в
направлении
институционально-организационном. В этом смысле любая психотерапевтическая школа
являет собой пример машины желания (см.: Ж.-Делез и Ф. Гваттари, 1990, с. 9—26) Как
пишут Делез и Гваттари, “желание может мыслиться как производство и как
приобретение” (там же, с. 18). Именно сочетание производственной и приобретательской
практик придает школе такой характер.
Другое важное дело эпохи расцвета — формирование и распространение нарратива
“легенды” той или иной школы. Этот нарратив конструируется всегда вокруг личности
создателя метода, являясь определенным соблазном для всего последующего
психотерапевтического сообщества. Легенда оказывает решающее влияние на создание
образа метода, и именно этот образ в итоге определяет привлекательность метода.
Школьный “апокриф” начинается с повествования о раннем героическом периоде борьбы.
“Зажигание” в моторе школьной машины желания включается агрессией против
предыдущей терапевтической системы, натурально, препятствовавшей будущему отцуоснователю в утверждении нового метода, исключительно эффективного по сравнению с
предшествующими. Неизбежной частью такого нарратива является повествование о
чудесных исцелениях, демонстрирующих, понятно, историческую необходимость
совершенного открытия, равно как и победоносная борьба с консервативным окружением.
Повествование разворачивается в направлении от чудесных исцелений к процессу
широкой экспансии по всем описанным направлениям.
Получается, в сущности, так, что исторически миф о психотерапевте сложился как
нарратив о преодолении рамок практической психотерапии. Все описанные виды
экспансии создают основу для совершенно особой идентичности психотерапевта,
выделяющей его среди представителей других терапевтических практик. Он, как уже
сказано, вовсе не просто лекарь, как
28
хирург, физиотерапевт или даже клинический психиатр. Он, совершив доктринальное
расширение, становится практическим философом. Затем, совершив патографическое, —
искусствоведом. Расширяясь институционально, он ведет себя как миссионерконкистадор. Все виды экспансии в конце концов направлены на беспредельное расширение
самоидентификационного поля психотерапевта.
Институционально-организационная экспансия может рассматриваться и под
количественным углом зрения. Иначе говоря, осуществляется подсчет того, как велико
число последователей того или иного направления в абсолютном, например, исчислении и
как велико оно же по отношению к последователям других школ. Далее —
географическая, так сказать, ситуация: в каких странах психотерапевты охвачены
эпидемией данного метода. Понятно, что географические и — назовем их так —
популяционные показатели могут не совпадать. Нетрудно представить себе ситуацию,
когда заражению подвержено много стран, но не так уж и много индивидов и, наоборот,
стран немного, но охват носит поголовный характер. Для уточнения всех этих подсчетов и
калькуляций неплохо было бы ввести какой-нибудь что ли популяционно-географический
индекс: делить количество людей на число стран. Интересно было бы также разобраться с
возможными
количественно-динамическими
показателями
институциональноорганизационной экспансии, которые продемонстрировали бы нам, сколько терапевтов
какой метод бросает и к какому приходит. Что бы кто ни говорил, институциональноорганизационная экспансия зримо и наглядно свидетельствует о достоинствах метода,
независимо от его эффективности, каковую продемонстрировать зримо и наглядно не в
пример труднее. Никакой другой из описываемых здесь видов экспансии школы не может
дать материал для весьма привлекательных арифметических экзерсисов. Судя по всему,
многое для методологии исчисления институционально-организационной экспансии
можно почерпнуть из эпидемиологических исследовательских практик. Влияние
контролируется не в последнюю очередь посредством цифр.
Само собой разумеется, однако, что распространенность методики вовсе не обязательно
отражает ее реальные достоинства. Что касается популяционного, так сказать,
преуспеяния, то оно зависит не только от достоинств метода, но и от коммивояжерскомиссионерско-конкистадорско-рекламной активности ее представителей, и это крайне
важное обстоятельство никогда не надо недооценивать.
Следующий этап в существовании психотерапевтической
следующий за расцветно-экспансионистской
школы,
неизбежно
29
эпохой, мы можем обозначить как инфляцию. Его, понятное дело легче всего проследить
там, где экспансия носила наиболее активный и динамичный характер. Этот этап упадка
характеризуется осознанием моральной устарелости некоего направления и
сопровождается утерей к нему интереса, отходом от него последователей и т. д.
Относительную утрату интереса к психоанализу можно пронаблюдать по
многочисленным публикациям (R. Liebert, 1979; E. Fromm, 1970). То же самое произошло,
в сущности, с классическим гипнозом. В период первой половины XX века наблюдается
отчетливое снижение интереса к нему по сравнению с эпохой расцвета в конце XIX века
— так называемого “золотого века” гипноза. Что касается других направлений, то как уже
было сказано выше, они и существуют-то не такое уж и длительное время, чтобы
проследить на их примерах все этапы взлетов и падений. Однако даже если в
определенный период какая-нибудь школа переживает период расширения своего
институционального пространства, надо понимать, что этот процесс обратим.
Именно отсутствие четких критериев, которые давали бы возможность предпочесть
один метод другому, делает историю психотерапии историей гуманитарной науки. Сдвиги
в истории психотерапии аналогичны изменениям в истории литературы, смене ведущих
литературных стилей. Моды на методы сменяют друг друга подобно тому, как в свое
время классицизм в русской литературе был вытеснен сентиментализмом и далее —
романтизмом или эпоха символизма сменилась акмеизмом, модернизм —
постмодернизмом. Смена типов и стилей актуальных философских и иных культурных
дискурсов оказывает отчетливое влияние на сдвиги в психотерапевтическом мышлении.
Так что, на самом деле, вести речь можно только о моральном старении метода.
Моральное утомление связано также с выходом школьных методов за пределы
профессионального обихода. Идеи психотерапевтической школы, обретая определенный
резонанс за пределами профессионального сообщества, могут вследствие этого оказывать
скорее общественно-профилактическое воздействие. Приходя к психотерапевту, пациент
может многое знать как о своих “неврозах” и “комплексах”, так и методах борьбы с ними.
Борьба с “дилетантским” психоанализом (Laienanalyse) стала проблемой еще для Фрейда.
Усилия создателей метода и их последователей по распространению их детища в итоге
могут обернуться против них самих. Школьная машина желания, распространяясь вширь,
пожирает саму себя.
В отдельных случаях влияние психотерапевтической школы настолько велико, что
может оказывать серьезное воздействие
30
на изменение сознания общества в целом, на отдельные черты культуры вообще.
Дискурсы, порожденные в обстановке врачебного кабинета, порой превращаются в
лозунги общественных движений или становятся основой повсеместно распространенных
практик. Эти движения, в свою очередь, инициируют определенные сдвиги в
общественном сознании. Происходящие сдвиги, хотя бы отчасти, снимают с повестки дня
те обстоятельства, которые в свое время сформировали вызов, ответом на который и было
создание того или иного метода. В частности, психоанализ, как известно, был одной из
основных инициирующе-движущих сил так называемой сексуальной революции. Ее
победа, ее углубление и распространение в значительной степени ослабили систему
запретов в сфере официальных практик ограничения “пользования удовольствиями”.
Предполагается, что этот сдвиг, конечно же, не мог не сказаться на состоянии
психического здоровья обществ, которые так или иначе испытали на себе благотворные
последствия этой революции.
Другой пример: идеология гуманистической психологии, в значительной степени
отвечавшая на вызов “дегуманизации” индустриального общества. Получив широкое
распространение, в частности, на волне группового движения, она оказала существенное
влияние на стиль жизни в развитых индустриальных странах. Породивший ее вызов был
тем самым по меньшей мере смягчен.
Здесь важно оговориться, что процесс инфляции в большинстве случаев не ведет к
полному исчезновению крупного психотерапевтического направления или, во всяком
случае, этого пока не происходило до сих пор. Отсутствие таких наблюдений связано с
относительной непродолжительностью наблюдаемого периода. Последствия инфляции
проявляются лишь уменьшением влияния в профессиональном сообществе, ослаблением
рыночных позиций, но не полным исчезновением.
Весьма важный аспект инфляции имеет отношение к влиянию личности создателя
метода, отца-основателя школы. Образ метода, его привлекательность находятся в
прямой связи со школьной мифологией, которая конструируется вокруг биографии
сочинителя этого метода. Вполне естественно, что с его отходом от дел или уходом из
жизни, влияние метода неизбежно ослабевает (подробнее об этом — в сл. главе). Заметим,
в сущности, что нет ничего нового в соображениях о том, что то в ходе исторического
процесса один какой-то феномен сходит с исторической сцены и теснится, а то и просто
заменяется другим. Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что школьные
психотерапевты чаще всего не желают принимать во внимание этот фактор “моральной
усталости” своего метода, относясь к нему
31
как к внеисторически существующей и неизменно актуальной, не подверженной никакому
износу, универсально действенной практике.
Кроме того, помимо “когда”, вне всяких сомнений, очень важен вопрос “где”.
Невозможно представить себе, что одна и та же психотерапия будет одинаково
востребована в странах с различными культурами и историческим опытом.
Вслед за А. Тойнби (А. Тойнби, 1991) следует обратить внимание на еще одну
историческую модель, а именно уход – возврат. Какой бы сильной инфляции ни
подвергалось то или иное учение, все равно всегда есть надежда на то, что оно не совсем
уйдет прочь с исторической сцены, но, пробыв некоторое время в тени, в состоянии
относительного забвения, вернется и даже расцветет опять. Возврат может произойти без
существенной коррекции когда-то провозглашенных принципов или сопровождаться
определенными видоизменениями по сравнению с тем, что было когда-то в эпоху
первоначального расцвета и заката. Гипноз, отодвинутый в сторону глубиннопсихологическими направлениями в первой половине нашего века, возвращается потом
вновь, преимущественно, однако, модифицированный, в первую очередь М. Эриксоном и
его школой. Начавший было терять влияние психоанализ получает новый толчок и
обретает второе дыхание стараниями Ж. Лакана и его последователей. Здесь, как и выше,
речь идет не о строгой закономерности, а только о возможности, которую не следует, на
наш взгляд, забывать.
Существует ли в исследуемой нами области какой-нибудь прогресс? Оценочное
суждение в условиях ожесточенного состязания является важнейшим делом. Все
полемики в психотерапии носят аксиологический характер, иными словами, упираются в
неизменные “бинарные оппозиции”, а именно “хорошее – дурное” или “лучше – хуже”.
Однако полемический этос неизменно гаснет, наталкиваясь на одно и то же постоянно
упоминаемое нами обстоятельство: непреодолимые трудности в оценке эффективности
психотерапии драматически осложняют такую оценку.
Итак, новые методы, идущие на смену старым, улучшают ли они существенно
состояние дела в целом? Предвосхищая наши затруднения, О. Мандельштам в своем
исследовании “О природе слова” высказался по интересующему нас вопросу с
исчерпывающей ясностью:
“Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отвратительный вид
школьного невежества. Литературные формы меняются, одни формы уступают место
другим. Но каждая смена, каждое приобретение сопровождается утратой, потерей.
Никакого “лучше”, никакого прогресса в литературе быть не может,
32
хотя бы потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее
других доскакать.
Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория
улучшения — здесь каждое приобретение также сопровождается утратой и потерей. Где у
Толстого, усвоившего в “Анне Карениной” психологическую мощь и конструктивность
флоберовского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция “Войны и мира”? Где
у автора “Войны и мира” прозрачность формы, “кларизм” “Детства и отрочества”? Автор
“Бориса Годунова”, если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов, совершенно так
же, как теперь никто не напишет державинской оды. А кому что больше нравится —
другое дело. Подобно тому, как существуют две геометрии — Эвклида и Лобачевского,
возможны две истории литературы, написанные в двух ключах, одна, говорящая только о
приобретениях, другая — только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же” (О.
Мандельштам, 1987, с. 57).
Мы полагаем, что в этом тексте на место заглавий литературных произведений можно
было бы смело поставить названия известных методов, причем ход нашего рассуждения
был бы тот же самый. Мы усмотрели бы относительные завоевания и потери в той или
иной терапии, но выделять абсолютные преимущества — дело крайне ненадежное.
Крайне сложно было бы определить, чем клиент-центрированная терапия “лучше”
психодрамы, чем когнитивная превосходит трансперсональную (разумеется, у их
последователей найдутся доводы в пользу своих теорий и практик).
Несмотря на определенную тривиальность, оценочное суждение обнаруживает свое
присутствие и свою востребованность в любом психотерапевтическом тексте. Без
сомнений, стремление к получению и раздаче оценок является целью любого школьного
теоретического построения и технического предписания. Школьные интересы всегда
подскажут доводы “за” и “против”, однако беспристрастному наблюдателю всегда
очевидны и потери при переходе к новым парадигмам. Автору этих правдивых строк тоже
есть что сказать в похвалу тем методам, которыми он пользуется, и в укор тем, что
вызывают у него возражения. Но, честное слово, как хорошо, что в конце концов
пришлось взяться за текст, требующий от тебя добросовестной беспристрастности,
открывающий глаза на достоинства и недостатки терапий вне зависимости от их
принадлежности.
Тем не менее сравнительный анализ в психотерапии необходим и выработка критериев
для оценки методов — проблема важная и обойти ее в принципе невозможно ни при каких
обстоятельствах. Что здесь, однако, по нашему мнению надо иметь в виду?
33
Во-первых, будучи исключительно стеснены в сравнительной оценке эффективности
терапевтической техники, мы еще меньше можем судить о том, действительно ли
соответствует реальному положению вещей теоретический дискурс. “Разница меж именем
и вещью” в психотерапии очень существенна. Несмотря на это, ситуация в
психотерапевтическом сообществе, определяемая сосуществованием множества
различных направлений, делает проблему оценки достоинств метода неизбежной и
насущной. Весь драматизм положения, однако, в том, что мы не в состоянии оценивать
именно по тем факторам, которые делают терапию терапией.
Повторимся, надежная оценка эффективности метода в психотерапии крайне осложнена
целым рядом труднопреодолимых факторов. Различные методы ставят перед собой
разные задачи, так что критерии терапевтического успеха могут быть самыми разными.
Терапия длится разное время. Диагностическая неразбериха делает трудным понимание
исходных задач и сравнение аналогичных ситуаций. Мы не можем проверить
эффективность техники двойным слепым методом, как это происходит, например, при
оценке действия психотропного препарата, и, следовательно, воздействие личности
терапевта трудно отделить от воздействия метода (обо всем этом более обстоятельно см.:
В. Н. Цапкин, 1992). Известное исследование К. Граве (K. Grawe, 1994), во-первых,
касается весьма ограниченной группы методов, во-вторых, оценивает действенность
методов ретроспективно, по материалам других авторов, в-третьих, также весьма далеко
от того, чтобы дать основание для определенного и окончательного суждения.
Не будет большим преувеличением сказать, что оценка психотерапевтического метода в
большой степени не связана с его прямым назначением — быть эффективным.
Общепринятое мнение, что все психотерапии “лучше, чем ничего”, вряд ли может быть
подвержено серьезной ревизии в ближайшем обозримом будущем. Экспертиза здесь,
скорее всего, неизбежно будет носить определенного рода эстетический характер. Мы
оцениваем психологическую теорию приблизительно с тех же позиций, что и
произведение искусства, роман или спектакль. Важными критериями такой оценки могут
быть банальные эстетические суждения вроде “верности природе и правде”, “глубины
изображения характера”, а с другой стороны, достоинства стиля, формы, так называемых
выразительных средств.
Что касается школьной техники, то здесь важную роль играют такие факторы, как
эстетическая привлекательность, а также сподручность, интенсивность, экономичность.
Кроме того, на наш взгляд, очень важно то, что мы обозначаем как гедонистические
34
факторы (об этом подробнее ниже). Короче, в сравнительной оценке разных подходов
фактор эстетической экспертизы, на наш взгляд, имеет решающее значение.
Формулировка основных положений и принципов психотерапевтической эстетики есть
важнейшая задача, стоящая перед исследователями. Многие психотерапии, что важно,
носят весьма выигрышный демонстративно-спектаклевый характер. Внешне
привлекательный артистический жест важен для создания образа метода, и это
обстоятельство является несомненным, особенно на фоне полной неясности с оценкой
результативности.
Школьные “машины желания” рвут на части профессиональное пространство.
Оценочное суждение — главное оружие в этом процессе, и, вполне естественно, оно
постоянно востребовано. Состязание школ имеет, без сомнений, двоякий характер
естественного отбора и рыночной конкуренции.
В случае психотерапии мы имеем дело с уникальной практикой, когда терапевтическая
дисциплина должна легитимироваться посредством гуманитарных критериев. С точки
зрения обыденного врачебно-медицинского сознания, это вещи немыслимые, но тем не
менее реальные, совершенно невозможные, но вполне очевидные, недопустимые, но
несомненные.
***
Если говорить о других важных, на наш взгляд, тенденциях в развитии психотерапии, то
одной из определяющих можно считать постоянное движение в сторону либерализации
как техники терапии, так и системы взаимоотношений пациент/терапевт. Нам показалось
уместным пометить эту тенденцию термином laisser-faire (фр. буквально: давать делать).
В традиционной экономической теории, как известно, этот термин употребляется для
обозначения невмешательски-поощрительного отношения государства к инициативе
свободного предпринимательства. Предпринимателю именно “дают делать” свое дело.
Разумеется, здесь речь идет о закономерностях, свойственных культуре вообще и
находящих сходное отражение как в экономико-политической сфере, так и в медицинской
психологии.
В психотерапии принцип laisser-faire противостоит дидактически-директивному стилю
в отношениях терапевта и пациента, столь распространенному в допсихоаналитическую
эпоху. Такой стиль преобладал в гипнотических техниках эпохи “золотого века гипноза” в
конце XIX века, в рациональной психотерапии Ж. Дежерина или, например, в
протрептике Э. Кречмера. Эти терапии были ориентированы на представление о больном
как о пассивном по преимуществу существе, чье участие в терапевтическом процессе
сводилось к восприятию текста, исходящего
35
от терапевта, и по возможности полному подчинению предписаниям этого текста.
Пациент был не более чем объектом применения знаний и навыков, и чем более
безусловным было его следование терапевтической воле, тем лучшим показателем
терапевтического процесса это могло считаться. Идеалом пациента в такой терапии мог
считаться так называемый медиум, то есть человек, полностью отказывавшийся от
собственной воли в процессе терапии и безусловно выполнявший внушенные в
гипнотическом состоянии поручения. Врач, формировавший от начала и до конца
терапевтическую ситуацию, выступал в роли безусловного авторитета, носителя
одновременно абсолютного рационального знания и иррациональной мистической силы.
Рационально-терапевтическая установка предполагала, что болезнь больного есть
результат его заблуждений, каковые могут быть искоренены в результате разъяснительнокорректирующей деятельности врача. Во всех директивных методах текст
терапевтического процесса формировался почти исключительно врачебным дискурсом.
Больной или молчал (закрытые при гипнозе глаза усугубляли эту молчаливую
подчиненность), или соглашался.
Нетрудно предположить, что вся директивная тенденция в психотерапии являлась в той
или
иной
степени
отражением
директивно-дидактических
общекультурных
закономерностей, формировавших “духовную ситуацию эпохи” (К. Ясперс) в Европе
времен царствования королевы Виктории (конечно же, и других эпох тоже). То же самое
можно было наблюдать в традиционных воспитательных практиках, основанных на
подчинении авторитету педагога; также можно было бы привести множество параллелей
из религиозно-практического опыта. Понятно, что примерами такого рода
взаимоотношений наполнен житейский (в частности, семейный) опыт каждого. Как в
общественной сфере, так и в психотерапии директивно-дидактическая традиция идет рука
об руку с иерархическими межличностными отношениями, и совершенно ясно, что
авторитарный учитель или священник являются как бы прототипами авторитарного
психотерапевта — гипнотизера или рационалиста.
Либерализация психотерапии шла по следующим направлениям:
1. Стимуляция собственной активности пациента, то есть увеличение удельного
объема дискурса пациента в общем объеме текста, порождаемого в процессе терапии
(сюда относится, естественно, и двигательная активность, понимаемая как часть этого
текста). Терапевт не задает целиком, а только направляет речь и действия пациента,
которые в той или иной степени носят спонтанный самостоятельный характер, при
обсуждении же
36
их максимально стремится к равному с пациентом “праву голоса” в оценке
происходящего, а то и вовсе этой оценки избегает. В любом случае терапевт предпочитает
активность пациента своей собственной.
В сущности, эти изменения начались с психоанализа, когда первой же после
предварительного интервью инструкцией больному предлагалось говорить все, что ему
приходит в голову. “Молчаливый” психоаналитик сменил “многословного” гипнотизера,
отдав пациенту существенную часть терапевтического пространства. Эти метаморфозы в
раннем психоанализе по сравнению с дофрейдистскими терапиями носили столь
радикальный характер, что были даже труднопереносимы для некоторых терапевтов.
Протест против всего этого выразился, в частности, у уже упоминавшегося Ш. Ференци с
его так называемым активным анализом, где аналитику не возбранялось все же развить
некоторую собственную деятельность (глядеть в глаза, активно побуждать пациента
высказываться, не возбранялся даже, вопреки строжайшему запрету Фрейда, физический
контакт) без боязни нарушить спонтанность проявлений бессознательного пациента (S.
Ferenszi, 1921).
Однако фрейдовская либерализация не идет ни в какое сравнение по своей
радикальности с позднейшей, связанной с развитием групповой и клиент-центрированной
терапиями, где самостоятельность и активность пациента ставились во главу угла и
стимулировались еще более заметно. Иллюзия равенства между терапевтом и пациентом,
свобода высказывать свои эмоции, критику в адрес терапевта и т. д. знаменовали собой
дальнейшее продвижение все в том же направлении — laisser-faire.
2. Изменение роли терапевта. Эта тенденция тесно примыкает к предыдущей. Понятно,
что если активность пациента претерпевает такие изменения, то терапевт тоже не может
себя вести как раньше: директивно-дидактически, занимая по отношению к пациенту
авторитарно-менторскую, суггестивно-просветительскую позицию. Терапевт в новой
ситуации стремится, наоборот, как можно меньше демонстрировать свою
профессиональную компетентность, которая дает ему всяческое превосходство над
пациентом. Он теперь не только “специалист”, он скорее то, что Л. Бинсвангер обозначил
как “партнер по бытию” (Daseinspartner).
Развитие в этом направлении изменило также набор требований к терапевту, а именно
— от былого сочетания профессиональной осведомленности с авторитетной
внушительностью центр тяжести переместился в область собственных психологических
проблем терапевта. Впервые возможность их существования была признана
психоаналитической школой. Необходимость
37
проходить учебный анализ, само по себе признание наличия собственных “комплексов” у
терапевта радикально изменили его самосознание. Он перестал быть абсолютно
уверенным в себе источником интеллектуального и волевого превосходства, все более
становясь как бы “просвещенным” пациентом, которому помогла данная терапия, чем он,
собственно, и хочет поделиться со своим товарищем по несчастью, не вкусившим пока
еще прелестей замечательного метода.
Трудно не заметить глубокую внутреннюю связь между требованиями обязательного
пациентского опыта и попустительски-нестеснительного отношения к клиентам
послепсихоаналитических школ. Здесь надо, понятное дело, оговориться, что речь идет не
о необязательности профессиональных знаний как таковых. Подразумевается только
изменение восприятия образа терапевта пациентом и его роли в процессе лечения. Другая
важная оговорка — “равенство” терапевта и клиента носит скорее внешний, условный
характер. Это обстоятельство, однако, ни в малейшей степени не противоречит общей
обозначенной здесь тенденции — в сущности, в психотерапии условно очень многое, но
об этом подробнее ниже.
В сущности тенденция laisser faire призвана смягчить взаимоотношения “господина и
раба” (Г. В. Ф. Гегель), складывавшиеся в психотерапии на первых этапах ее
существования, в классическом гипнозе и пр. Первые “авторитарные” школы очень явно
обнаруживали манипулятивные желания психотерапевтов, и всю дальнейшую историю
психотерапии можно рассматривать с точки зрения стремления терапевтов как-то скрыть
эти свои желания.
3. Изменение отношения к симптоматике. Это важнейшее направление либерализации
описано Л. Рибель (L. Ribel, 1984), предложившей для понимания этих изменений
метафорическую оппозицию аллопатический/гомеопатический (В. Н. Цапкин, 1992). При
аллопатическом подходе мы стремимся избавить пациента от страдания путем
прицельного действия, направленного на уничтожение симптома (проблемы). В гипнозе,
например, мы внушаем, что “неприятные явления” или же вредные привычки проходят, и
то же самое в аутотренинге пациент внушает себе сам. Рациональный терапевт ломает
“неверные” умозаключения, которые лежат в основе проблемы. В любом случае здесь
патологическое явление есть несомненное зло, с которым никак нельзя вступить в
полноценный диалог или же научиться у него чему-то полезному, это однозначное зло,
подлежащее уничтожению.
При гомеопатическом подходе мы, наоборот, избегаем прямой агрессии против
симптома, но вступаем с ним в диалог, попустительствуем
38
ему в какой-то мере, порой даже парадоксально усиливаем. Вместе с этим мы пытаемся
проникнуть в его смысл, оправдывая в известной степени его наличие или даже
обосновывая его полезность как проявления защитных или компенсаторных механизмов
организма и личности в целом. Примеров такого подхода в современной психотерапии
великое множество. Парадоксальная интенция В. Франкла и терапевтическое
сумасшествие К. Витакера (C. Whitaker, 1975), метод иммерсии и предписание симптома
— все это примеры психотерапевтической гомеопатии (более подробно см. В. Н. Цапкин,
ibid.).
4. Процесс либерализации отражается не только на отношениях терапевт — пациент,
прием — симптом, но и на внутрипсихотерапевтических взаимоотношениях. Без
сомнения, к либеральным процессам можно отнести тенденцию по размыванию жестких
границ психотерапевтических школ, откат от односторонне-догматических позиций в
отстаивании принципов своего направления, развитие эклектически-интегративных
подходов (см.: Н. Omer and P. London, 1988; J. C. Norcross, 1986).
Итак, тенденция laisser faire, безусловно, является доминирующей в пространстве
психотерапевтических идеологий. Они заменили собой стратегии авторитарнорационального давления, существовавшего в классическом гипнозе и рациональной
психотерапии. Либеральный стиль почти всех позднейших психотерапий обусловлен
необходимостью стратегии соблазнения пациента. Предоставляя ему больший простор и
большую часть порождаемого в процессе работы дискурса, освобождая от запретов и
зажимов, психотерапевт, безусловно, привлекает намного больше клиентов и адептов, чем
не делая этого. Эти очевидные и немаловажные обстоятельства должны быть всякий раз
учтены при сочинении новых методов.
***
На одном из моментов, существенно определяющих успех любой психотерапии, следует
остановиться особо. Мы имеем в виду гедонистический фактор, понимаемый нами как
соответствие принципу удовольствия в самом широком смысле слова. Это соответствие
имеет отношение как к школьной технике, так и к теории. Со времени появления и
развития первых крупных школ — классического гипноза и психоанализа — так повелось,
что теория и практика в той или иной степени противостоят репрессивнопроизводительному миру житейской повседневности, где доминируют рутина и
принуждение,
обыденно-регламентированный
характер
существования.
Психотерапевтический процесс неизбежно сопровождается как бы “бегством” в него
(вспоминаем здесь известное “бегство в болезнь”).
39
“Удовольствие” от терапии (ср. “удовольствие от текста” Р. Барта 1994, 462—512) —
это всегда погружение в особый мир, расслабляюще-карнавальный, выхватывающий из
надоевшей повседневности. “Параллельная реальность”, создаваемая в процессе
психотерапии, не может не быть гедонистической в своей основе. В частности, внушаемая
в гипнозе виртуальная реальность соотносится зачастую с известными видами пассивного
отдыха. Здесь уместно оговориться, что, конечно, “гедонистическими” элементами
никоим образом не исчерпывается психотерапевтическое действие, но именно они, без
сомнения, являются существенными в формировании привлекательности образа метода в
любой психотерапии.
С другой стороны, психотерапии, построенные на принципах “этики собственного
усилия”, скажем, аутотренинг, а также различные виды саморегуляции, в сущности, на
наш взгляд, имеют немного шансов на достойное существование и результативную
экспансию. То же самое можно сказать о методах, построенных на рационалистически-
педагогических принципах. Рациональное убеждение, предписание определенного
поведения (сюда не относятся парадоксальные предписания), а то и какое-нибудь
“воспитание воли” — все это в отдельных случаях, быть может, и возможно, но в качестве
последовательных психотерапевтических стратегий, на наш взгляд, лишено перспективы.
Без сомнения, такие подходы будут неизбежно вытесняться из психотерапевтического
пространства, даже несмотря на то, что им также не чужда известная гедонистическая
тенденция (например, в аутотренинге — релаксация, индукция так называемых “приятных
ощущений”). Или будет даже более уместно сказать, что в этих-то тенденциях,
собственно, и заключается их главная надежда на выживание. Во всех заслуживающих
внимания психотерапевтических системах, как в практике, так и в теории, пациент
находится в самом центре мира карнавально-праздничной реальности, где происходит
очень много такого, чего он тщетно ищет в реальности обыденной и не находит;
обыденная же реальность, как мы все, к сожалению, помним, проникнута чрезмерным с
любой точки зрения директивно-дидактически-принудительным духом.
Если говорить более предметно об “удовольствиях” в разных психотерапиях, то в
первую очередь следует упомянуть психоанализ. Он, проходящий в своеобразной
обстановке “райской ситуации”, обостряющий трансфером чувства и чувственность,
привлекателен еще и тем, что снимает с желаний пациента множество запретов. В анализе
речь идет о многом из того, о чем в другой ситуации говорить было бы немыслимо. В
гипнозе вообще ничего негедонистического нет, и то же самое можно сказать
40
о значительной части психотерапий, основанных на форсированном изменении состояния
сознания, взять хотя бы трансперсональную пневмокатартическую терапию.
В групповых терапиях происходит своеобразное изменение сознания в некоем
карнавальном духе. Различные виды арттерапии привлекают приобщением к миру
катартических радостей без тяжкой необходимости добиваться художественного
совершенства и принимать участие в напряженном состязании поэтов и артистов, без чего
немыслима никакая реальная художественная практика. Психодрама в этом смысле
особенно показательна, равно как и имеющие широкое хождение психодраматические
вкрапления в иные групповые техники. Не вызывает сомнений, что эта же (широко
понимаемая) гедонистическая тенденция привела к повальному увлечению “телом” в
современной психотерапии — не только телесно ориентированной.
Быть может, далеко не всегда путь от терапевтической техники к конкретному
удовольствию прямой и ясный. Однако не вызывает сомнения, что так или иначе с этим
связаны даже самые гротескно-агрессивные (вроде ЭСТ В. Эрхарда, см. Л. Рейнхард,
1994) или даже жестко-надрывные (вроде первичного крика А. Янова, см. A. Janov, 1970)
терапии. При более внимательном отношении к этой проблеме можно было бы без
большого труда расклассифицировать методы на процессуально-гедонистические, то есть
такие, когда сама процедура напрямую связана с получением удовольствия,
результативно-гедонистические, когда процедура приносит ощутимое облегчение до
того момента, как пациент покинет пространство кабинета, в духе какого-нибудь
катарсиса. Нет сомнения, что такого рода ощущения сами по себе воспринимаются как
терапевтический результат как клиентами, так и терапевтами. Но мы не будем здесь
подробно заниматься этим делом. Ясно, что осведомленный читатель сам успешно
продолжит перечень способов испытать удовольствие, принятых в рамках различных
методов.
В сущности, дело обстоит так, что разные направления в психотерапии, помимо всего
прочего, есть разные способы так сказать “l’usage des plaisirs” — пользования
удовольствиями, психотерапевт же соответственно в том или ином варианте — “maitre des
plaisirs”, то есть обучающий этому делу. Однако если пациент (сам того не осознавая,
естественно, а желая всего лишь избавиться от своих проблем) приобщается к
удовольствиям как таковым, то собственные удовольствия терапевта — в основном от
реализации, скажем прямо, стремления осуществить господство над пациентами и
коллегами. Психотерапия, что и говорить, дает для этого замечательные возможности, и
обсуждавшиеся выше удовольствия пациента выступают как некое воздаяние, выдаваемое
41
ему за возможность в той или иной степени использовать его как пищу, поглощаемую
терапевтической машиной желания.
***
Наблюдая за психотерапевтической жизнью, ясно понимаешь, что было бы абсолютной
нелепостью считать, будто психотерапия творится руками авторов, действующих под
влиянием научных и терапевтических интересов. Как всем давно совершенно ясно ни о
чем таком тут не может быть и речи. Именно сила соблазна, исходящая от психотерапии
как рода деятельности, вкупе со сложностями в оценке результативности обусловливают
своеобразие этой дисциплины. Терапевтические школьные концепции и приемы есть
всегда в значительной мере результат сочинительского произвола авторов с
харизматически-миссионерскими склонностями. Школьные дискурсы неизбежно
обнаруживают напряженное желание создать, обустроить, а затем и расширить ad
maximum идеологическое пространство, в котором упомянутый автор будет
осуществлять свое теоретическое влияние. Находясь под постоянным зорким контролем
критика-супервизора из другой школы, он постоянно создает и переиначивает структуру
своих практик, вплоть до самых мелких технических приемов, именно в силу этого
давления. Само по себе существование школ, не имеющих возможностей
продемонстрировать свои реальные преимущества над другими, но тем не менее успешно
существующих и ведущих друг с другом агрессивную полемику, есть обстоятельство,
которое ясно говорит в пользу этого, вполне очевидного положения.
Очень важно понимать, что психотерапия сама по себе, как уникальная
терапевтическая практика представляет собой значительное и своеобразное искушение.
Ясно, что здесь, наряду с возможностью реализации стремления к идеологическому
воздействию, как это имеет место в философии, академической психологии и т. д.,
существует еще один соблазн — осуществления своеобразной власти над личностью
клиента, будь то в индивидуальной терапии или в группе. Коренная сущность
привлекательности психотерапии — в возможности добиваться реальных изменений
посредством воздействий, носящих отчасти трансцендентально-магический характер. Это
все не может не рождать у терапевта сознания особого могущества, видимо, аналогичного
тому, что имеет место у тех, кто занимается религиозными или политическими властными
практиками.
Потребность в реальной помощи, с одной стороны, легитимирует такое положение дел,
с другой, что еще более важно, заставляет принимать очень многое из того, что
происходит в процессе такой работы. Очень многое из того, что происходит
42
в процессе психотерапии с позволения и согласия клиента, совершенно немыслимо ни в
какой другой ситуации. Упоминавшиеся “удовольствия от терапии” также примиряют его
со всем этим. Таким образом, “генеалогия власти” в психотерапии имеет два источника и
носит двоякий характер. Получается так, что терапевт реализует через школьную
технику свое влияние на клиента и через школьную теорию — на профессиональное
сообщество, стремясь при этом выйти за его пределы.
Понимание природы любой идеологии как орудия влияния является вполне
закономерным делом. “Классическим философским учениям в той или иной степени
свойственна просветительская, миссионерская установка. Их автор чувствовал себя
монопольным обладателем истинных очевидностей, которые он должен донести до
неразвитой ограниченной массы... ” (М. К. Мамардашвили и др., 1972, с. 57). В сущности,
то же самое можно сказать о психотерапевтических школьных теориях. Они, как и
философские системы, по выражению Э. Блоха, являются “руководствами для пророков”,
“системами теоретического мессианизма”. Безусловно, они отражают отнюдь не только
потребность в концептуальном постижении мира пациента и природы его страдания (хотя
об этом, конечно же, тоже не стоит забывать), но и, как уже сказано, центробежновластное стремление сформировать собственное идеологически-влиятельное поле.
Последователи его таким образом обретали бы убежище, определенные структурные
рамки, где они могли бы пользоваться всеми преимуществами, которые дает такого рода
существование в сообществе. Оплачиваются же эти преимущества, как водится, тем, что
все уступают вожаку лучшее место у костра, самый вкусный кусок мяса, самых красивых
самок, если здесь вспомнить картину, которую З. Фрейд нарисовал в “Тотеме и табу”.
Иначе говоря, если раньше психотерапия рассматривалась с точки зрения возможной
пользы, приносимой пациенту, то, по нашему убеждению, настало время основательно
заняться ей с точки зрения тех — очень больших — преимуществ, которые она приносит
терапевту.
Вопрос о “пользе” конкретной терапии для терапевта имеет несколько аспектов. Вопервых, психотерапия в школьных рамках нужна терапевту в той или иной степени как
способ проецирования вовне собственных личностных смыслов. Сочиняя метод, он
реализует возможность примирить собственный опыт, склонности, вкусы,
мировоззрение и так далее с желанием заниматься психотерапией. Отдельный метод как
бы создает канал для реализации такого желания. Все хорошо знают: нет тому примера,
чтобы теоретическое новшество вводилось в сопровождении надежных исследований
улучшения терапевтических
43
показателей. Не бывает так, чтобы терапевт исследовал при этом контрольные группы,
занимался подсчетом статистических ошибок, терпел длительный катамнестический срок
для того, чтобы убедиться в хороших отдаленных результатах, несравнимых с теми, что
имели место при работе в рамках старого метода. Кроме того, почти нет случаев, чтобы
предлагающий новый метод автор до того перепробовал бы множество или хотя бы
несколько различных терапий, прежде чем рекомендовал бы к внедрению собственные
изобретения. Ведь невозможно представить себе, чтобы, к примеру, клинический
препарат был рекомендован к употреблению без подобного рода исследовательских
процедур. Для создания и распространения психотерапевтического метода вполне
достаточно убежденности его создателя и его последователей в том, что он обладает
определенной действенностью и этому не противоречит некий, чаще всего достаточно
ограниченный, опыт автора и его товарищей.
По мнению некоторых авторов, изгнание пациента из процесса сочинения метода носит
весьма радикальный характер: “Действительно, почти каждый создатель психологически
сложного психотерапевтического приема-системы прежде всего лечил данным приемом
себя самого и только потом, осознав-обдумав его, начинал применять к пациентам”
(например, З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, В. Франкл) (М. Е. Бурно, 1992, с. 90). В сущности,
разнообразие методов необходимо, скорее всего, для того, чтобы примирить как можно
больше различных терапевтических индивидуальностей с психотерапией как со
специфическим видом деятельности, а также создать им всем ощущение рабочего и
личностного комфорта.
Думается, что эти соображения делают вполне понятным то обстоятельство, что
психотерапевт, предлагающий вниманию заинтересованной публики какое-нибудь свое
новое изобретение, не “присоединяет” его к уже существующему опыту других терапий,
не пытается создать некую “общую психотерапию” (конечно, есть и исключения вроде К.
Граве, вознамерившегося такую общую психотерапию создать, см.: K. Grawe, 1995), а
всячески норовит представить это дело как независимо существующий метод и на
основании его начинает разворачивать миссионерскую активность по формированию
школы.
Оговоримся, что последнее время все же есть немало попыток создать “общую
терапию”, причем безразлично, как именно разные авторы обозначают свой проект в этом
духе — эклектическая, интегративная терапия или как-нибудь еще. В общем и целом
позиции сторонников эклектически-синтетического подхода ясна. Теоретический жест,
который скрывается за этими соображениями, понятен и привлекателен: преодоление
суеты
44
борьбы вечно противостоящих друг другу школ, возвышение “над схваткой”. С другой
стороны, здесь может подразумеваться иная достойная позиция, подразумевающая
тотальное использование всего объема психотерапевтического инструментария,
накопленного в профессиональном сообществе, вместо того чтобы работать с заведомо
более бедным набором схем и методов, ограниченных одним каким-нибудь направлением.
“Количество” теории и техники, употребляемых здесь в дело, будет несравнимо большим,
чем при проведении терапии вне синтетической парадигмы. Ну и конечно же,
эклектически-синтетический терапевт выглядит заведомо несравненно более гибким, чем
любой “школьный”, который сам себя неразумно обкрадывает из-за своей узколобой
преданности школьным принципам. Так что, при любом раскладе, “грандиозное Я”
психотерапевта, который становится на синтетические позиции, разрастается еще сильнее.
Любой опыт наблюдения за психотерапевтической жизнью дает богатый материал для
разговора о феномене терапевтического нарциссизма. Своеобразие психотерапии как
специфической практики заключается в том, что воздействие на пациента практически
ничем не опосредовано. Терапевт “сращен” с методом в намного большей степени, чем в
любой иной терапевтической дисциплине. Основной инструмент воздействия в хирургии
или, скажем, в пульмонологии — скальпель и медикаменты — не имеют никакого
отношения к структуре и интересам личности терапевта. Для успешного обращения с
ними вполне достаточно профессиональной компетенции. Личность терапевта как
таковая, с ее интересами, ценностями, желаниями, смыслами, в рабочий процесс не
вовлечена никак. Психотерапевт, наоборот, включает в структуру терапевтического
воздействия собственную личность, и известная часть школьных теоретических
концептов так или иначе связана с этим обстоятельством (например, учение о переносе и
контрпереносе). Проблема терапевтического успеха и неуспеха есть не только вопрос
профессиональной компетенции, но и вопрос личностной состоятельности.
Терапевтический неуспех здесь будет не просто профессиональным просчетом, но и
нарцистической травмой. Получается так, что, помимо всего прочего, психотерапия есть
род терапевтической деятельности, формирующей и обостряющей профессиональноличностный нарциссизм терапевта. Существенная часть школьных теорий личности и
терапевтического вмешательства связана с этим обстоятельством напрямую. Помимо
разделов, посвященных особым отношениям терапевта и пациента, эти реалии влияют на
тенденцию laisser-faire, о чем шла речь выше, а также на особое внимание к методам
изменения
45
состояния сознания, о чем мы будем вести речь ниже в соответствующей главе.
Психотерапевтический нарциссизм — сродни нарциссизму артистическому.
Он проявляется, помимо всего прочего, в некритическом отношении к результатам
терапевтического воздействия. Давно было замечено, в том, что касается результатов
лечения сплошь и рядом имеют место несомненные искажения действительного
положения дел. Известные интервью К. Обхольцер с “человеком-волком”, поставившие
под сомнение терапевтический успех фрейдовского анализа, показывают, что даже
исключительно щепетильный Фрейд был склонен к серьезным преувеличениям в том, что
касается его собственной терапевтической успешности (K. Obholzer, 1980).
Профессиональная нарцистическая защита, бегство от нарцистических травм делают
любого терапевта весьма близоруким в оценке собственных неудач, очень зорким при
поиске положительных изменений в процессе терапии, а, кроме того, очень
изобретательным в объяснении причин отсутствия успеха.
Помимо, так сказать, индивидуального нарциссизма мы можем говорить, естественно, и
о нарциссизме школьном, который проявляется во всех известных феноменах школьного
изоляционизма, агрессии по отношению ко всем остальным школам. В
лингвотеоретическом плане “школьному” нарциссизму может соответствовать
“школьный” же солипсизм. Этот солипсизм наиболее заметен в терминологической
плоскости. Концептуальная терминология, принятая в рамках одного какого-нибудь
направления, неизбежно формирует сознание тех, кто оказался включенным в это
теоретическое пространство, в духе гипотезы лингвистической относительности Э.
Сепира и Б. Уорфа, согласно которой, как известно, структура языка определяет структуру
мышления и способ познания окружающего мира. Понятно, что терминологические
системы, принятые в различных психотерапиях, делают невозможным, или по меньшей
мере серьезно затрудняют коммуникацию в профессиональном сообществе. Создание
языка, адекватно описывающего основные реалии психотерапевтической деятельности,
— несомненно, одна из насущных проблем сегодняшнего дня, и наше исследование
направлено не в последнюю очередь на решение этой задачи. Опасения, что перевод
терминологии, закрепленной за конкретными терапиями, на “межконфессиональный”
язык ущемит так или иначе нарцистические интересы школьных психотерапевтов, не
должны здесь приниматься во внимание.
Но в общем и целом психотерапевт находится в несравненно более выгодном
положении, чем описанный М. Мамардашвили с соавторами философ классической эпохи
(см. выше). Если
46
философ может заниматься только идеологическим конструированием, предоставляя
другим действовать по сочиненным им рецептам, то психотерапевт не только
теоретизирует, но и практикует, наглядно демонстрируя всем действенность
изобретенных им теорий. Практическая легитимация теоретических положений в рамках
психотерапевтической практики является делом относительно необременительным и при
этом весьма наглядным. Нарцистическое подкрепление теоретической деятельности через
терапевтические практики имеет здесь определенные преимущества. Авторы,
сочиняющие свои концепции для сравнительно ограниченного клинического материала,
тем не менее получают основания для утверждений, что и при увеличении масштабов
экспериментирования до крупных социальных размеров исходная теория, доктринально
расширенная, окажется столь же валидной, а практика — столь же действенной.
Как уже было сказано, многие терапевты стремятся к формированию некоего
идеологического пространства для осуществления своего господства. Поскольку таких
пространств уже много и большинство из их хозяев имеет выраженные
экспансионистские склонности, на границах этих пространств постоянно имеют место
стычки и столкновения. Крайне сложно, например, постигнуть значение полемики, ну,
скажем, между Фрейдом и Адлером по поводу природы и значения влечений.
Исследователей, как известно, занимал вопрос, какое из влечений является “первичным” и
существенным — властное или половое, какое из них в большей степени задействовано в
формировании патологических феноменов. На самом деле невозможно воспринимать этот
спор как основательную научную полемику, направленную на уточнение
верифицируемых фактов. Совершенно ясно, что речь здесь идет не о столкновении
научных мнений, порожденных реальным опытом работы, а о борьбе за доминирование
своего идеологического пространства над другим, за расширение его границ за чужой
счет. В этих случаях все пытаются представить дело так, что, дескать, идеологическая
территория, занимаемая иной школой, является как бы подчиненной территории
собственной (в данном примере — властный инстинкт с точки зрения психоанализа
вторичен по отношению к сексуальному, с точки зрения адлеровской психологии —
наоборот). В других полемических ситуациях внутри психотерапевтического сообщества
дело обстоит в большинстве случаев так же, хотя порой, конечно, нельзя полностью
исключить совпадений положений той или иной концепции с действительным
положением дел.
Весь опыт наблюдения за психотерапевтической жизнью говорит за то, что терапевта
следует воспринимать как существо,
47
движимое определенными желаниями, особенно же тогда, когда он сочиняет, а затем
пытается повсеместно распространить сочиненные им методы, конструируя вокруг них
собственную школу. Язык, которым пишутся психотерапевтические тексты, — это
язык желаний, в первую очередь язык стремления к идеологическому доминированию,
короче, язык воли к власти.
До сих пор, однако, проблема “страстей” терапевта рассматривалась только в контексте
так называемого “контрпереноса”, то есть когда речь шла о вожделении терапевтом/шей
пациентки/та. Контрперенос рассматривался как симметричный ответ на перенос
пациента, и все эти обстоятельства расценивались как решающие для результативности
психоаналитического лечения. Кроме того, все это дело было записано в
психоаналитических этических кодексах, понятно, в том смысле, что контрпереносным
желаниям не следует потакать и давать им ход. В отдельных случаях на эти желания
накладывались жесткие ограничения.
Однако действительное положение дел таково, что психотерапевтическая ситуация —
как относящаяся непосредственно к терапевтической процедуре, так и определяющая
жизнь психотерапевтического сообщества — не только предоставляет удобную
возможность для удовлетворения “контрпереносных” влечений терапевта/ши,
злоупотребляющих “переносными” чувствами пациентки/та. Она — что намного важнее
— являет собой уникальную ситуацию для удовлетворения-реализации властных желаний
терапевта. Ясно, что в поле действия этих интересов пациент неизбежно превращается в
заложника школьного метода. В любом случае правда заключается в том, что
психотерапевтический метод есть всегда предмет частного интереса терапевта.
С другой стороны, демонстративная сциентистская академичность многих
психотерапий является неотъемлемой составной частью их “образа метода”. К этому
их создателей вынуждает сама природа психотерапии, как терапии, смысл которой в ее
действенности, каковая верифицируется и контролируется вовсе не методами,
заимствованными из гуманитарных наук. При этом метапсихология множества
психотерапий носит отчетливый антисциентистский характер. И глубиннопсихологические методы, и экзистенциально-гуманистически ориентированные, не говоря
уже о трансперсональных, последовательно противопоставляют свою идеологию
позитивистски-экспериментальной парадигме. Ясно, однако, что при этом их
существование может быть надежно легитимировано только в рамках именно этой
парадигмы. Это одно из основных внутренних противоречий существования
психотерапии вообще.
48
Таким образом, демонстративная позитивистская академичность должна внушать
доверие и создавать впечатление надежности и экспериментально проверенной
эффективности терапевтического товара. Сциентичность, так сказать, метода, без
сомнения, в данном случае надо понимать как довод в борьбе за место на
психотерапевтическом рынке и за влияние в профессиональном сообществе.
В сущности, жесткость школьных рамок обусловлена в значительной степени тем, что
психотерапия является областью недостаточно легитимного знания. Это происходит в
силу уже упоминавшихся причин — невозможности экспериментального контроля,
трудностей в оценке эффективности. Экспериментальный контроль может
осуществляться за методом в целом, но никак не за элементами антропологической части
школьной метапсихологии, каковые зачастую служат основным содержанием школьных
дискурсов. Так, можно говорить, в частности, об эффективности психоаналитической
терапии вообще, но никак не о влиянии на результативность того обстоятельства, что
терапевт принадлежит к школе объектных отношений или к школе Ж. Лакана.
Другое своеобразное условие существования психотерапевтического знания — это его
маргинальность. С одной стороны, мы имеем в виду ее “краевое” положение между
гуманитарными и терапевтическими дисциплинами, о чем уже сказано. Другая
маргиналия обусловлена постоянным соприкосновением с воззрениями и культовыми
практиками экзотических религий — от аутогенной тренировки до трансперсональной
психотерапии и распространившихся имитаций шаманских обрядов. Нуминозномифологические представления сохраняются в корпусе психотерапевтического знания и
постоянно так или иначе дают о себе знать. В школьных метапсихологиях это проявляется
постоянным тяготением к мифологизаторству, что особенно заметно, скажем, на примерах
юнгианской аналитической или той же трансперсональной терапии. Получается, что
психотерапия занимает отчетливо маргинальное положение по отношению к миру
академической науки.
Что касается краевого положения психотехник, то здесь обращают на себя внимание
самые разные методы воздействия — от гипноза до пневмокатарсиса. Кроме того, нельзя
пройти мимо включения в групповые терапии репрессируемых обществом сексуально
ориентированных, равно как и прочих асоциально-провокационных (раздевание,
например) практик. Наконец, парадоксальные методы воздействия, такие, как
терапевтическое сумасшествие, трикстерски-карнавальные провокации, тоже выглядят
вызовом академически легитимированной практической
49
деятельности. Все это усугубляется институциональной маргинальностью, исторически
идущей от психоанализа. Эта “сектантская” форма существования направлений внутри
науки дополняет картину своеобразия статуса психотерапии как рода деятельности.
Совершенно ясно, что маргинальность и нелегитимность есть факторы
обусловливающие жесткость школьных рамок. На самом деле, если нет реальных
критериев, которые обосновывали бы валидность школьных практик, функционирование
школьной машины желания может быть обеспечено только укреплением границ влияния,
иначе говоря, охранительно-институциональными мерами.
Справедливости ради надо, однако, сказать, что в нынешнее время агрессивнополемическая напряженность между различными школами стала сходить на нет.
Взвешенность объединяющего жеста справедливо представляются многим весьма
привлекательными.
Итак, первый и важнейший вызов, на который нам хотелось бы дать ответ, может быть
обозначен как вызов конца истории психотерапии. Сегодняшний день развития
психотерапевтического дела характеризуется, на наш взгляд, сочетанием ощущения
избыточности деятельности в области создания новых методов и — одновременно —
ощущения исчерпанности возможностей для этой работы. Мнения относительно
переизбытка психотерапий и как следствие этих мнений — интегративно-эклектические
идеологии основаны, на наш взгляд, на непонимании коренной сущности
взаимоотношений психотерапевта с его практикой, с методом, который он употребляет в
дело. Правильное понимание этих отношений может быть основано только на признании
метода, как уже сказано, предметом частного интереса психотерапевта. Безусловно, до тех
пор, пока число психотерапий не превышает числа действующих психотерапевтов, задача
создания новых методов будет оставаться насущной. Прекращение их производства как
раз и будет означать действительный конец истории психотерапии.
Эклектически-синтетический проект действительно является реальной отметкой
конца истории психотерапии. Этот проект, на наш взгляд, выглядит малоинтересным. Он
в целом вписывается в получившую широкое распространение постмодернистскую
идеологию, которая обосновывает возможность смешения различных стилей в рамках
одного художественного творения. Коллажи из различных психотерапевтических приемов
могут быть уподоблены текстам, состоящим из одних цитат. “Я понимаю под
интертекстуальным диалогом феномен, при котором в данном тексте эхом отзываются
предшествующие тексты” — пишет по этому поводу У. Эко (У. Эко, 1996, с. 60).
Соглашаясь
50
на сознательную замену порождаемого собственного текста цитированием других, автор
— текста ли, психотерапевтического ли метода — идет на сознательный отказ от
возможности реализации авторских желаний. Размеры авторского влияния
пропорциональны удельному объему собственного текста в общей массе текста.
Такая коллажная идеология не предполагает создания какой-либо собственной
продукции, а занимается только перераспределением старой. Интертекст не порождает
новых конфигураций. Если мы ограничимся подобными рамками, то в итоге нас ждет
бесконечное перекладывание ингредиентов из одного салата в другой. Обращает на себя
внимание и другой просчет эклектической идеологии: если для каждого из отдельных
методов не найдено убедительных доказательств его относительной эффективности, то
каким образом это можно сделать для эклектически-синтетических терапий — тем более
непонятно. Но все же главный недостаток такого проекта в том, что эклектическое
перемешивание готовых элементов снижает напряженность основного соблазна
психотерапии, соблазна создать свой метод.
Исходя из всего этого, мы в нашем исследовании предполагаем радикальное изменение
метанарратива психотерапевтического дискурса как такового. Как известно, под
метанарративом (метадискурсом) Ж.-Ф. Лиотар (см. Ж.-Ф. Лиотар, 1998) подразумевает
некое положение, которое вообще делает возможным составление текстов в некоей,
допустим, области знания. Так, в психотерапии все тексты основаны на положении, что
терапевтический метод создается ради интересов пациента. Как ясно из всего
вышеизложенного, такое понимание не может объяснить нам истории психотерапии ни в
какой степени. Психотерапевтический метод создается как реализация желаний его автора
очертить собственное идеологическое пространство, сформировать дискурсы, где была бы
осуществлена запись его предпочтений, опыта и склонностей. Метод в психотерапии
отражает интересы автора и формируется именно под эти интересы. Именно такой
метанарратив, отражающий реальное положение дел, мы считаем подходящим именно для
нашего исследования. Эта смена метанарратива позволяет нам исследовать психотерапию
именно как практику реализации некоей власти, то есть в русле идей круга авторов от Ф.
Ницше и А. Адлера до М. Фуко и Ж. Бодрийара.
Так, в духе известного исследования Ж. Бодрийара “О соблазне” мы считаем, что
следует рассмотреть все структурные элементы школьной теории и техники с точки
зрения их привлекательности для возможного пользователя того или иного школьного
метода. Разумеется, именно состоявшийся соблазн
51
выступает во многих случаях как превращенная форма осуществления власти. У Ж.
Бодрийара мы читаем: “Всякая система, которая втягивается в тотальный сговор
(complicite) с самой собой, так что знаки перестают иметь в ней какой-либо смысл, именно
по этой причине оказывает замечательное по силе гипнотическое, завораживающее
воздействие. Системы эти завораживают своим эзотеризмом, предохраняющим их от
любых внешних логик. Завораживает резорбция всего реального тем, что самодостаточно
и саморазрушительно. Это может быть все, что угодно: философская система или
автоматический механизм, женщина или какой-то совершенно бесполезный предмет...”
(Бодрийяр, 1995, с. 54). Как уже ясно, мы исходим здесь из вполне обоснованного
соображения, что психотерапевтическая школа есть целостное образование,
предназначенное именно для соблазнения последователей и клиентов, и этому, очевидному
положению мы будем следовать, разворачивая наш текст дальше.
Другой важнейший вызов, на который приходится давать достойный ответ, —
отсутствие в психотерапии общих фундаментальных основ как единой науки. Ответ на
этот вызов, как нам представляется, может быть дан через составление индекса элементов
структуры школьного метода. Однако исследование структуры основных направлений в
психотерапии, существующих на сегодняшний день, не должно быть самоцелью. Его
задача заключается в том, чтобы наметить основные составные части как несущие
конструкции возможных психотерапий.
В целом сочетание нового исследовательского метанарратива с основательным
структурным анализом дает нам возможность осуществить деконструкцию
психотерапевтического дискурса во всей его тотальности. При этом мы, разумеется, не
забываем ни на минуту, что психотерапия является на самом деле высокоэффективным
видом помощи. В конечном итоге наш проект направлен на то, чтобы она утвердилась
именно в этом своем качестве, очистившись при этом от множества необязательных
привнесений.
Вопреки повсеместно господствующей озабоченности переизбытком школ, нас
преследует совсем другая, “мальтузианская” настороженность, что, возможно, запас
новых возможных конфигураций школьных теорий и техник исчерпан. Определенная
часть нашего текста предполагает проектирование новых “превращенных форм”
различных структурных элементов структуры школьного метода, равно как и возможных
методов в целом. Несмотря на некоторую утопичность такого подхода, мы полагаем такое
проектирование необходимым, ибо так мы можем пробудить желание читателя двигаться
в верном направлении, а именно в том, которое указано в титуле нашей книги.
52
Новые методы могут строиться и по новым правилам, нами не предусмотренным. По
этому поводу Ж.-Ф. Лиотар высказывается так: “Постмодернистский художник или
писатель находится в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он
создает, в принципе не управляются никакими предустановленными правилами и о них
невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому
тексту или этому творению каких-то уже известных категорий. Эти правила и эти
категории есть то, поиском чего и заняты творение или текст, о которых мы говорим” (Ж.Ф. Лиотар, 1994, с. 322). Современный психотерапевт находится, в сущности, в такой же
ситуации и занят поисками рамок, которые позволили бы ему осуществлять свои
интенции.
Итак, история психотерапии сформирована совершенно особым отношением
терапевта к своему рабочему инструменту. Влекомая своей сущностью, психотерапия
двигается в самых разных направлениях. Задача ответственного исследователя
заключается не просто в том, чтобы отследить эти направления, но и, по возможности, в
том чтобы придать им определенный импульс. Причем будет лучше всего, если желаниям
психотерапевтов будет дан этот импульс не только в одном каком-то направлении, а сразу
во многих, что мы и попытаемся сделать.
53
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПСИХОТЕРАПИИ
Несомненно, каждый, кто ориентируется в литературе, посвященной общим вопросам
психотерапии, сталкивался с текстами, в которых перечисляются и обосновываются
профессиональные требования, предъявляемые психотерапевту. Соблюдение требований
нормативного порядка в психотерапии имеет особый смысл. Ведь речь идет, в частности,
о том, чтобы хоть как-то обуздать интенсивность желания психотерапевтов реализовывать
свою власть над клиентом, легитимированную рамками терапевтической необходимости.
С одной стороны, речь идет о том, что составляет компетентность терапевта, то есть о
вполне естественных требованиях к надежности владения психотерапевтическим
инструментарием — техниками, приемами, теорией. Бюрократически эта компетентность
удостоверяется соответствующими сертификатами, дипломами и свидетельствами.
Во многих случаях набор образовательных требований этим не ограничивается. Порой к
спектру терапевтической компетентности присовокупляется целый ряд гуманитарных
знаний. Так, психоаналитическое образование, как известно, по замыслу Фрейда, должно
было включать в себя, помимо психиатрии и психологии, такие дисциплины, как история
цивилизации, мифология, психология религий, история и литературная критика. Наличие
такого рода образовательных требований, на наш взгляд, как ничто другое, обнаруживает
известную тенденцию в развитии психотерапии, а именно — стремление являть собой
феномен культуры, не в меньшей степени, чем терапевтическую практику. Кто бы что ни
говорил, намного легче обнаружить в психотерапевтическом сообществе именно такую
интенцию, нежели стремление быть только действенной терапевтической практикой.
Понятно, что никакими мыслимыми средствами нельзя обосновать то, что обучение
психологии религий или истории цивилизации способно оказать влияние на
результативность терапевтических усилий. Это ясно тем более, что есть методы, которые
обходятся без всего этого.
Другой блок требований охватывает морально-этическую сферу. Это касается в
основном правил, трактующих особенности взаимоотношений терапевта и клиента в
вопросах уплаты гонорара, сохранения врачебной тайны и недопустимости
нетерапевтических
54
отношений, в первую очередь сексуальных. Это само по себе примечательное
обстоятельство опять-таки подчеркивает особое положение урода-психотерапии в
достойной семье терапевтических практик. Ни в какой хирургии или гематологии
опасность возникновения нетерапевтических взаимоотношений не связана с коренной
сущностью процедуры. Опыт, однако, показывает, что именно здесь запреты оказываются
наименее действенными. Совершенно ясно, что слишком велико искушение терапевта
закрепить свою иллюзию влияния на клиента такими зримыми доказательствами, как
сексуальное доминирование.
Нетрудно заметить, что в текстах, затрагивающих так или иначе этическую
проблематику в психотерапии, нам до сих пор не приходилось встречать вполне
естественного, почти само собой разумеющегося требования, а именно — не сочинять
нового метода без серьезной проверки на эффективность и, соответственно, не
пытаться создать вокруг него новую школу. Разумеется, речь здесь может идти только о
сравнении с эффективностью других методов, а не о простой результативности (“лучше,
чем ничто”). Отсутствие такого рода требований может объясняться, безусловно, крайней
степенью их неприемлемости для психотерапевтов. Лишать их возможности формировать
пространство, в котором осуществлялись бы их нарцистические желания, — это значило
бы поставить под вопрос существование психотерапии как специфической практики.
Большинство современных авторов считает, и не без оснований, надо сказать, что
оптимальная терапевтическая подготовка предполагает наличие у терапевта собственного
пациентского опыта, естественного, так сказать (это если повезет и до того, как стать
терапевтом, удастся побыть “настоящим” пациентом), или же искусственного, то есть
полученного в результате учебного анализа или тренинга. Предполагается, что такого
рода опыт помогает основательно понять суть страданий и правильно отнестись к
переживаниям пациента, ну и основательно приобщиться к тайнам использования метода.
Это, конечно, тоже имеет явное отношение к тому, чтобы как-то окоротить уже
неоднократно обсуждавшиеся желания терапевта.
Все, кто внимательно следит за психотерапевтической жизнью, обращали внимание на
одно, всем известное, обстоятельство, а именно что сплошь и рядом серьезный успех
имеют терапевты, которые так или иначе не вписываются в общепринятые представления
о профессиональной компетентности. В других случаях мы наблюдаем за деятельностью
вполне, казалось бы, профессионально адекватной, но понимаем, что эта адекватность не
имеет никакого отношения к исключительному терапевтическому успеху и дело здесь в
чем-то другом.
55
Чаще всего в таких случаях заводится туманная речь о так называемом “воздействии
личности” психотерапевта. Когда же мы ставим перед собой вопрос о специфике этого
воздействия, его параметрах, то получается, что вразумительный ответ получить здесь
довольно сложно. Мы, однако, попытаемся приблизиться к пониманию этой проблемы, и
очень важно здесь вспомнить об учении Макса Вебера о харизматическом типе
господства в обществе.
М. Вебер, как известно, выделял три типа общественного господства:
1) Легитимный тип, присущий европейским буржуазным демократиям. В его основе
лежит подчинение не определенной личности, но законам, обеспечивающим поддержание
порядка и преемственность власти.
2) Традиционный тип господства, присущий, например, феодальным средневековым
государствам и основанный на вере не столько в силу закона, сколько в священность
существующих с давних пор традиций власти и управления.
3) Харизматический тип, основанный на слепой вере в экстраординарные способности
лидера сообщества, на безусловной преданности его воле. Этот тип присущ чаще всего
тоталитарным государствам. (M. Weber, 1966, см. также: П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов,
1991).
Сам термин “харизма” заимствован социологами из религиозного обихода. Изначально
так назывались дары Святого Духа, излитые им на апостолов. В более широком смысле
харизма — это благодать, божественная сила, ниспосланная человеку для преодоления
греховности и достижения спасения. Однако М. Вебер, исследуя феномен харизмы в
контексте общественной жизни, придал ему несколько другое значение.
Харизматический лидер обладает, по М. Веберу, особыми дарованиями, пророческими,
в частности, способностями, исключительными волевыми качествами. Среди известных
историй харизматических персонажей есть основатели мировых религий — Будда,
Моисей и Христос. К ним относятся создатели направлений внутри мировых религий —
Лютер и Кальвин, например. С другой стороны, это великие государственные и военные
деятели, такие, как Чингисхан или Наполеон. В XX веке среди крупных харизматических
персонажей — Гитлер и Муссолини, Ленин и Троцкий, однако также Ганди и Мартин
Лютер Кинг. Дело обстоит таким образом, что свойство харизмы относительно
безразлично к роду деятельности и морально-этическому содержанию этой деятельности:
это с равным успехом может быть и признаваемый святым пророк, и человек,
ответственный за массовые военные преступления.
56
По Веберу, “харизмой следует называть качество личности, признаваемое
необычайным,
благодаря
которому
она
оценивается
как
одаренная
сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически
особыми силами и свойствами, недоступными другим людям” (M. Weber, 1988, с. 139).
Здесь следует обратить внимание на процитированное определение. Получается, что
харизма — качество, благодаря которому человек, ею обладающий, оценивается как
одаренный вышеперечисленными свойствами. Однако оценка эта производится только на
основании внешних впечатлений, ибо совершенно ясно, что надежная проверка наличия
“сверхъестественных, сверхчеловеческих” или даже “специфически особых” свойств по
меньшей мере крайне затруднительна. Естественно предположить, что в основе харизмы
лежит всего лишь умение производить впечатление обладания такого рода свойствами.
Таким образом, харизматический — это тот, кто может убедить других в том, что он
таковым является.
Следует сделать важную оговорку. Любой дискурс, посвященный харизматической
проблематике, непременно связан со ссылками на заметных персонажей из истории
общества, религии. Как бы само собой предполагается, что харизматическое неизбежно
стремится к иерархическому пику. Таким, казалось бы, само собой разумеющимся
повествовательным ходом определяется исключительная привлекательность текстов,
ориентирующихся на эту тему. Получается так, что харизма есть средство продвижения
вверх по любой иерархической лестнице. Однако в самом определении нет никаких
указаний на то, что харизматический — непременно герой учебника истории. Как уже
сказано, речь здесь идет только о некоем умении производить определенное впечатление.
Непременное соотнесение харизматической проблематики с так называемым “культом
великих людей” — это не более чем дань интеллектуальной моде прошлого века и рубежа
XIX—XX веков. Получившие тогда широкое хождение дискурсы о взаимоотношениях
“героя” и “толпы” (М. Штирнер, Т. Карлейль, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский и др.) на
самом деле связаны с дискурсами о харизме только исторически. Одна из наших важных
задач — это демистификация концепции харизмы, а особенно в том смысле, чтобы
освободить ее от совершенно необязательной, хотя и крайне привлекательной
гиперболизации размеров влияния харизматической личности. Наша задача заключается в
том, чтобы проанализировать несомненное, бросающееся в глаза присутствие
харизматических феноменов в самой сердцевине психотерапевтической реальности.
57
Выше мы уже приводили известное наблюдение К. Ясперса о том, что психотерапия
развивается “сектами, формирующимися вокруг обожествляемого учителя”. Нет никаких
сомнений в том, что ситуация рождения и формирования школы в значительной степени
всегда связана с деятельностью личности, претендующей на харизматическое влияние.
Если не принимать во внимание это исключительно важное обстоятельство, то история
психотерапии останется непонятой именно в том, что касается ее коренной сущности.
Дело обстоит так, что некий учитель провозглашает новые, представляющиеся порой
революционными, идеи, вокруг которых формируется группа последователей,
противостоящая окружению, не приемлющему эту новизну.
Нарративы, повествующие о создании психотерапевтических школ, преподносят эти
идеи вовсе не как результат сочинительского произвола их автора. Они, конечно же,
появляются в результате якобы долгой исследовательской работы, каковая, безусловно,
обнаруживает несостоятельность старых подходов и исключительную благотворность
новых. Именно гипотетические достоинства этих новых, а также необходимость
проводить их в жизнь и защищать от консервативных сторонников устаревших парадигм
определяют пафос ситуации, в которой востребован харизматический персонаж. Дело
обстоит здесь так, что идеология нового подхода (как в психотерапии, так и в
общественной жизни) утверждает себя не столько путем научного обоснования, сколько
через пропагандистски-миссионерскую деятельность.
Харизматическая личность востребована в психотерапевтической практике именно
потому, что эмпирическая легитимация обоснованности школьных теорий и
эффективности техник является крайне сомнительным делом. Своеобразная
маргинальность психотерапии также создает предпосылки для спроса на
харизматическое. Нет другой терапевтической практики, подобной психотерапии, где
харизма субъекта практики компенсировала бы проблему недостатка легитимности.
Что касается самой терапевтической ситуации, то здесь, безусловно, существует
большой спрос на харизму, хотя и в несколько другом аспекте. Не секрет, что
подавляющее большинство пациентов убеждены (или, во всяком случае, ожидают этого),
что психотерапевт не просто несет в себе сумму знаний и навыков, каковые позволяют
ему рационально понять суть расстройства и технически разумно построить ход
терапевтического процесса. Он, терапевт, считают они (безразлично, осознают они это
или нет), одарен некими нетривиальными способностями, позволяющими ему с особой
силой, не поддающейся рациональному объяснению, влиять на личность и здоровье
пациента.
58
“Он обладает гипнозом”, — приходится часто слышать от пациентов, оценивающих
эффективность того или иного гипнотизера. Подчеркнем — именно “обладает”, а не
“проводит” или, скажем, “делает” это. Здесь для нас важно отметить то обстоятельство,
что пациент изначально настроен на это гипотетическое необычное свойство. Адекватно
сформулированная фраза об “обладании гипнозом” звучала бы приблизительно так. “Он
обладает достаточно выраженной харизмой, чтобы эффективно оказывать на нас некое
особо благотворное, в том числе и гипнотическое, влияние”.
Точно так же нетрудно предположить, что пациент, отправляющийся к психоаналитику,
полагает, что тот не просто “проводит анализ”, но этим анализом “владеет”. Иначе говоря,
в представлении пациента аналитик приобщен каким-то образом к некоему особому
тайному знанию, способствующему проникновению в скрытые механизмы, управляющие
жизнью пациента. Именно это в конце концов окажет решающее воздействие на
успешный исход терапии. Понятно, что признанию наличия особых свойств предшествует
их вполне понятное ожидание. Готовность их признать естественным образом задана
самой ситуацией. В любом случае мы должны постоянно иметь в виду, что существуют
два основных вектора харизматического влияния: один вектор направлен на возможных и
действительных последователей, другой — на пациента.
В сущности, самое непосредственно-практическое значение харизмы с точки зрения
структуры психотерапевтического действия в том, что ее бытование само по себе связано
так или иначе с измененным состоянием сознания. Восприятие харизматического его
паствой происходит в контексте особого настроения, выходящего за рамки обыденнорутинного восприятия действительности. Обладатель сильной харизмы как бы заранее
“экономит” на неизбежной в ходе любого терапевтического процесса возне с переводом
сознания пациента в “иное{''`} состояние.
В психотерапевтическом мире происходит неизбежный “отбор” харизматических, и
этот отбор осуществляется в первую очередь самими пациентами. Совершенно ясно, что
при этом “риск” появления новых школ и теорий в результате этого отбора неизбежно
возрастает. “Отобранные” пациентами “эффективные” терапевты, естественно, будут
стремиться обосновать свой успех теоретически, строя границы той идеологической
сферы, в которой они займут господствующее положение. Рано или поздно у имеющего
успех терапевта (очень может быть, что и у неуспешного тоже) возникает потребность
закрепить свой терапевтический успех четко сформулированными правилами, оформить
их посредством новой терминологии. В свою очередь,
59
терапевтический успех — единственное средство легитимации новой теории. Без
достижения достойных результатов в случаях Анны О. или Элизабет фон Р. расширение
метапсихологии психоанализа до Я и Оно, тотема и табу, Эроса и Танатоса было бы
невозможно.
В контексте общественной жизни спрос на харизматическую личность всегда или почти
всегда сформирован кризисной ситуацией. Если нет кризиса, то, естественно, нет и
потребности в лидере, способном в ожесточенной борьбе справляться с трудностями и
сплачивать на это дело своих верных. Возвращаясь к психотерапии, мы видим, что
потенциальные потребители помощи изначально помещены в кризисную ситуацию.
Спрос на терапевтическую харизму сформирован, получается, двояким образом. С одной
стороны, пациент настроен на “по меньшей мере специфически особые свойства”
терапевта, видя в них залог своего спасения, с другой — сам терапевт озабочен поиском
идей и приемов, которые дали бы ему в руки безотказное терапевтическое оружие.
Распространено мнение, что харизма является неким врожденным свойством, не
дифференцированным ни по степени выраженности, ни по качественным особенностям, и
что, таким образом, его невозможно ни выработать, ни как бы то ни было на него
повлиять в смысле углубления, усиления и т. п. Здесь важно понимать следующее.
Проблемы “врожденности” харизмы, ее природы, ее происхождения могут
рассматриваться только как псевдопроблемы. Конечно же, нет, да и трудно представить
себе такие методы, которые позволили бы нам определить будущего харизматического
лидера в той или иной сфере. В отличие, например, от музыкальной одаренности,
харизматические способности предсказать или, например, протестировать невозможно.
Мы исходим из того, что потенциально харизматическим может считаться любой
человек, до тех пор, пока он не докажет обратного.
Можно, разумеется, предсказать в особо ясных случаях полную неудачу при выборе
жизненного стиля, основанного на харизматическом влиянии, введя в связи с этим в
обиход, например, такое понятие, как харизматическая дебильность. Детальные
исследования в этой области вполне могли бы привести к описанию некоей
харизматической шкалы, на одном полюсе которой будет сильно выраженная, всеми
признаваемая харизма, в то время как на другом — упомянутая “дебильность”.
Собственно, движение по этой шкале в сторону первого полюса и составляло бы цель
возможной практической работы в этой области.
Другая, на наш взгляд, псевдопроблема — вопрос об источнике этого свойства. Здесь
мы допускаем самый широкий спектр
60
толкований — в зависимости от исходной мировоззренческой позиции. Здесь мы
неизбежно столкнемся с мистическими дискурсами, которые строятся на понимании
“трансцендентного как имманентного”. Харизма предстает здесь как дарованная высшими
сущностями способность, недоступная рациональному пониманию, не подлежащая
обсуждению с точки зрения возможности ей сопротивляться. Это один из полярных
локусов воображаемого спектра понимания этого феномена. Середину этого спектра
составляют дискурсы, ставящие харизму в один ряд с такими феноменами, как, скажем,
литературная или артистическая одаренность. И, наконец, другой полюс могла бы занять
несколько экстремистская точка зрения, согласно которой харизма — это феномен,
определяемый набором конкретных параметров, и при этом — приобретаемое
посредством
тренировки
умение,
сумма
целенаправленно
вырабатываемых
профессиональных навыков.
Согласно этому подходу, нет ничего невероятного в идее, скажем, тренинга
харизматических навыков. Мы исходим из того, что, как бы кто ни относился к
происхождению харизматических свойств, нет и не может быть никаких
противопоказаний к работе с ними, даже в том случае, если считать их иррациональномистическими по своей природе. Правильное отношение к этому феномену никак не
исключает возможности работы с ним с целью его углубления или усовершенствования.
Однако преимущество представляемой нами точки зрения заключается в том, что вопрос о
работе с харизмой рассматривается как приоритетный, сам же феномен очищается от
совершенно лишних соображений. Некоторое противоречие, однако, в дискурсах,
посвященных такому пониманию харизмы, останется неизбежно. Это противоречие
между исключительностью харизмы как “особого”, по М. Веберу, свойства и ее
востребованностью как части повседневной психотерапевтической реальности.
Рационально-технологическая сторона дела должна здесь быть так или иначе примирена
с магически-мифологической.
В текстах, посвященных харизме, мы можем сталкиваться с двумя типами дискурса, а
именно — с дискурсом, ограничивающим возможности обретения харизмы и
расширяющим их. Расширяют эти возможности соображения вроде тех, что упоминались
выше, а именно то, что харизматическое не есть что-то недоступное, что речь идет о
свойстве, которое можно сформировать или “разогреть” посредством целенаправленных
тренинговых усилий, а также что харизматическое не есть нечто, прочно увязанное с
исключительной ролью в истории и т. д. Ограничивающий же дискурс мог бы строиться
на соображениях противоположного порядка, которые уже были приведены (врожденное
61
свойство героических персонажей истории). Оба дискурса имеют равное право на
существование и могут быть положены в основу полемики на этот счет. В любом случае
привлекательность этой темы связана с тем, что харизма так или иначе носит
компетиционный характер, то есть является фактором, способствующим успеху в любом
идеологическом состязании.
***
В том, что касается разнообразных аспектов харизматической проблематики, мы будем
поначалу опираться на исследование И. Шиффера “Charisma” (I. Schiffer, 1973). Он
рассматривает проблему исключительно в контексте общественной жизни, не касаясь, к
сожалению, вполне уместных, на наш взгляд, вопросов роли харизматической личности в
психотерапии.
Оговоримся заранее, что ни один из перечисляемых аспектов не имеет строго
обязательного характера. Все из того, что будет здесь обсуждаться, в той или иной
степени способствует развитию харизмы, но не может считаться безусловно необходимым
или вполне достаточным для того, чтобы сделать его обладателя носителем этого
свойства.
Первый обсуждаемый И. Шиффером аспект — харизма человека со стороны (I. Schiffer,
1973, р. 24), charisma of foreigner. Предполагается, что очень трудно осуществлять
иррациональное эффективное воздействие на людей, среди которых вырос. Все это
намного легче получается у человека, который пришел со стороны к людям, на которых
он имеет намерение как-то особым образом повлиять. Биографии (которые неизбежно
встраиваются в дискурсы на тему о харизме) могут опираться на примеры корсиканца
Наполеона, француза (чужака в Женеве) Кальвина, грузина Сталина. Понятно, что речь в
этой связи может идти вовсе необязательно о стороннем происхождении в прямом смысле
этого слова, видимо, для формирования харизмы достаточно наличия хотя бы признаков
иного происхождения.
Другой важный аспект — харизма неполноценности, charisma of imperfection (ibid., p.
29). Биографические нарративы здесь немыслимы без описаний телесности. Здесь
отмечается то обстоятельство, что харизма нуждается в каком-либо признаке,
указывающем на ущербность, болезнь. Очень важно располагать каким-нибудь
бросающимся в глаза дефектом, стигмой. Этот признак как бы переводит его обладателя в
особое измерение, оказывает неоднозначное влияние на воображение окружающих в
смысле уже упоминавшегося изменения состояния сознания. К стигмам можно отнести
резко бросающиеся в глаза патологии, скажем, горб, хромоту, заметное родимое пятно.
Сигматическими являются также внешне ярко проявляющиеся
62
душевные болезни, причем особое преимущество здесь, понятное дело, у эпилепсии. Тут
возможны ссылки на “карлика” Наполеона, одноглазого Маше Дауна, а главным образом
на большое количество великих эпилептиков, от основателей мировых религий Магомета,
Будды до Петра Великого и того же Наполеона. “Священная болезнь”, эпилепсия,
особенно наглядно и выпукло демонстрирует
патологического и “исключительного”.
глубокую
внутреннюю
связь
Безусловно, к стигмам, к проявлениям “неполноценности” относится и парадоксальнодемонстративное поведение, в котором прочитывается указание на “безумие”. Склонность
совершать поступки, которых от тебя не могут ожидать в конкретном социальном
контексте, — это конечно, “королевская дорога” к цели любого претендующего на
иррациональное влияние героя, а именно — к измененному состоянию сознания зрителя,
созерцающего зрелище харизматического спектакля (здесь можно вспомнить, к примеру,
героя “Бесов” Достоевского, Николая Ставрогина, который кусает за ухо человека в
общественном месте). Здесь, собственно, важен внешний аспект “безумия”, та его часть,
которая зримо явлена постороннему взору, а вовсе не реальное душевное расстройство
само по себе. Вообще же нет никаких сомнений в том, что в психотерапии многое
строится на противопоставлении обыденно-рутинного карнавально-праздничному и на
этом же в значительной степени основано харизматическое влияние.
Первые два аспекта, выделенные И. Шиффером, служат, в сущности, одной и той же
цели, а именно — как-то выделить будущего героя из его окружения, пометить его
запоминающимся знаком, подчеркнуть его особость, противостоящую повседневнообыденному. Повторим, что ни один из них не носит обязательного характера, однако
совершенно ясно, что оба признака, несомненно, усиливают общее ощущение
необыденности и ожидание особых дарований у их обладателя.
Обсуждающийся далее харизматический элемент — “призвание”, calling (ibid., p. 34).
Созревший для своей миссии герой получает свыше прямое приглашение к общественно
значимой деятельности, или некий знак, недвусмысленно указывающий ему на его
особую миссию. Крайне правдоподобно описано это у А. С. Пушкина в “Пророке”:
“Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, / И шестикрылый серафим /
На перепутье мне явился; // Перстами легкими как сон / Моих зениц коснулся он: /
Отверзлись вещие зеницы” — и т. д. Сакрально-мистическая повествовательная традиция,
естественно, предполагает, что призвание осуществляется посланцем высших сущностей
или же недвусмысленно толкуемым знамением, от них же исходящим.
63
Конечно же, здесь не составит большого труда привести большое количество
соответствующих примеров.
Много сходного имеется в традиции построения биографических нарративов в рамках
светской традиции. К героической деятельности в светской области человек может быть
призван более заурядными побуждающими событиями, в частности так называемыми
инсайтами, то есть как бы неожиданно приходящим ясным пониманием своего ответа на
некий вызов, своей особой миссии, в духе некоего “озарения”. Совершенно
необязательно, чтобы это озарение носило мгновенный, одномоментный характер. Оно
может быть и неоднократным, и растянутым на более длительный срок. Самым важным
здесь, надо полагать, является сочетание интеллектуального рецепта разрешения некоей
проблемы с волевым выбором в смысле готовности к борьбе и жертвам. Биографическое
повествование фиксирует здесь известную синхронность формирования особого круга
идей и изменения состояния сознания носителя этих идей. Оно меняется в сторону,
скажем так, сужения сознания до размеров, очерченных границами пространства
функционирования этих идей и сопутствующих им практик.
Не будет большим преувеличением сказать, что призвание, как в сакральном нарративе,
так и в светском, может осуществляться, во-первых, постепенно, во-вторых неоднократно.
“Высшие силы” могут навещать и подбадривать своего избранника много раз или
исподволь, точно так же потенциальный светский обладатель харизмы может идти к
своему решающему прозрению длительно или дробно. Деление на сакральное и светское
призвание носит здесь весьма условный характер. Наитие в делах светских любой вправе
воспринять как некое мистическое явление, а с другой стороны, нет ничего невозможного
в том, чтобы проинтерпретировать явление посланцев вышней воли во вполне светскисциентистском духе (в том числе и психопатологическом), как если бы речь шла о
галлюцинации или о чем-нибудь еще в этом роде. В конце концов, не так уж и важно, как
именно задним числом интерпретируется событие, в котором совершается это призвание.
Главное, чтобы это событие функционально встраивалось в историю героя как ключевой
импульс, чтобы так или иначе состоялась некая “встреча с судьбой”.
Далее следует разобрать исключительно важное, на наш взгляд, обстоятельство, а
именно то, что И. Шиффер обозначает как бойцовскую позицию харизмы, the fighting
stance of charisma (ibid., p. 37). Как уже говорилось выше, харизматическая личность
востребована всегда определенной ситуацией, а именно определенным кризисом.
Понятно, что кризисный статус требует и специфического отношения к нему, и особого
типа
64
поведения. Если речь идет, например, о некоей общественной ситуации, когда
находящаяся в состоянии кризиса группа ищет человека, которому бы она могла
делегировать свое стремление к действиям, направленным на выход из тяжелого
положения, то, конечно, человек, проявивший инициативу принять на себя такую роль
лидера, совершит очень важный шаг к тому, чтобы обрести харизматический статус.
Разумеется, любое действие по выходу из кризиса наткнется на сопротивление, будь то
враждебное окружение или труднопреодолимые факторы внешней природной среды.
Борьба со всем этим и выносит на повестку дня “особые способности” или, по меньшей
мере, их видимость у упомянутого лидера, взвалившего на себя ответственность за
сочинение сценария преодоления кризиса и его реальное воплощение.
Исключительно важно здесь демонстрировать свое намерение пойти до конца за
интересы своей паствы. Такая экстремальная интенция, безусловно, необходима для
закрепления на иерархической вершине. Дать обогнать себя в готовности вступить в бой с
каждым, кто перейдет дорогу пастве, делегировавшей лидерство определенному
персонажу, — значит порушить такую иерархию.
Естественно, что любое поражение на этом пути, любой видимый жест, читаемый как
послабление себе (в меньшей степени, понятно, соратникам), крайне отрицательно
сказывается на динамике харизмы. Бойцовская позиция предполагает в любом случае
определенный радикализм, в то время как неопределенность позиции, колебания, уступки,
компромиссы ведут к неизбежной утере безусловного доверия к особым достоинствам
лидера. В очень хорошем положении находится лидер, который сам диагностирует,
описывает, провозглашает и т. д. кризисную ситуацию, прежде чем начать борьбу с ней.
Он таким образом своими руками строит идеологическое пространство, в котором
осуществляет свое влияние. Понятно, что в этом случае надо особо позаботиться о том,
чтобы диагноз и описание как можно больше совпадали с действительным положением
дел, однако при этом, по возможности, всячески драматизировали бы действительный
кризис.
Верное поведение харизматического заключается в том, что он никогда не успокаивает
окружающих и никогда не пытается преуменьшить масштабов описываемой им кризисной
обстановки. Идеологическая стратегия здесь в любом случае должна носить, так сказать,
гиперболизаторский характер. Ясно, что никого не следует успокаивать в отношении
глубины и серьезности проблем, которые предстоит преодолеть. Наоборот, говорит
харизматический всем и каждому, беды налицо, они труднопреодолимы,
65
но, к счастью, есть и человек, способный возглавить борьбу с ними. Окружающим
остается теперь догадаться, кто же он, этот человек. И, само собой, ответ находится
быстро.
То же самое справедливо и по отношению к психотерапии. Разумное дискурсивное
поведение не должно сводиться к тому, чтобы успокаивать пациента, убеждая, что, ничего
страшного с ним не произошло, это, дескать, со всеми случается, мол, порой бывает,
знаете ли, еще намного хуже, вы же, считайте, легко отделались. Или того хуже: все это
вскоре и вовсе пройдет само по себе или же после незначительных усилий. Банальное,
весьма распространенное указание на универсальность расстройств, на преувеличение их
опасности в большинстве случаев не годится и для пациента, однако для терапевта оно
еще вреднее.
В психотерапевтическом мире бойцовская позиция реализуется в первую очередь в
коллегиальной среде. Так повелось уж со времен фрейдовского психоанализа, что новый
метод появляется на свет, энергично порывая с предыдущими подходами. Почти всегда
речь здесь идет о конфронтации с психоанализом. В предыдущей главе мы отметили, что
огромное большинство создателей новых школ полагало, что своим новым направлением
они дают ответ на вызов, брошенный психоанализом, на котором, собственно,
опробовались все известные стереотипы психотерапевтической критики. Одна из причин
этого коренится, безусловно, в крайне агрессивном полемическом поведении
психоаналитиков эпохи начала фрейдистского движения, в первую очередь, конечно,
самого “дедушки”. Конечно, эта агрессивность была порождена в значительной степени
атакой на сам психоанализ. Благоразумно посеявший ветер, в конце концов благополучно
пожнет бурю. При этом вполне естественно предположить, что такая идеологическая
стратегия стремится к преодолению эклектической позиции, допускающей различные
способы смешивания разных психотерапий, варианты синтеза школ и методов.
Charisma of hoax, харизма притворства, по И. Шифферу (ibid., р. 48). предполагает
наличие известного элемента игры, определенных усилий по формированию внешнетеатральной стороны деятельности. Совершенно необходимо, чтобы харизматическая
активность всячески бросалась в глаза, обращала на себя внимание. То есть помимо
усилий, направленных на реализацию основных целей, много внимания следует уделять
привлечению к ним внимания, причем желательно в ярком, возможно, даже динамичноагрессивном стиле. Здесь хороши любые средства. Всякая деятельность, не в последнюю
очередь психотерапевтическая, может быть обставлена соответствующей символикой,
эмблемами и гимнами, знаменами и ритуалами. Любая
66
соблазняющая стратегия предполагает выстраивание системы знаковых приманок. Для
любой ситуации очень хорошо продумать компактно-энергичные лозунги,
сформулировать свои цели и программы афористически-суггестивно, так, чтобы это легко
запоминалось, и при этом оказывать действие, способное изменить состояние сознания.
Разумеется, важное дело — заботиться об изоморфности содержательной части идеологии
и демонстративно-театральной.
Известная театральность в психотерапии имеет место сплошь и рядом. Порой она
проявляется в карикатурно-утрированном виде. В сущности, charisma of hoax
основательно представлена в биографическом нарративе первого врача, сделавшего
психотерапию своей специальностью, Ф. А. Месмера. Это ясно, например, из такого вот
описания терапевтической сессии: “Серьезный и спокойный, он входит медленно, с
величавым выражением лица, излучая покой в общее беспокойство... На нем длинная
шелковая фиолетовая мантия, вызывающая мысль о Зороастре или об одежде индийских
магов; сурово, сосредоточившись в себе наподобие укротителя зверей, который, имея
лишь легкий хлыст в руке, единственно силой воли удерживает зверя от прыжка, шагает
он от одного больного к другому. Перед некоторыми он останавливается, спрашивает
тихо об их состоянии, потом проводит своей магнетической палочкой по одной стороне
тела книзу и по противоположной кверху, приковывая к себе в то же время, властно и
настойчиво, исполненный ожидания взгляд больного” (С. Цвейг, 1992, с. 73). И далее в
том же духе. В терапевтической целесообразности такого поведения Месмер отдавал себе
полный отчет: “Если бы мои приемы не были разумно обоснованы, они должны были бы
казаться столь же нелепыми, сколько и смешными, и в них, действительно трудно было
бы проникнуться верой” (там же, с. 72).
Нетрудно предположить, что по линии Месмер-Шарко-Фрейд происходило
формирование традиции харизматического влияния в психотерапии. Эта традиция
определила, что психотерапевтическое воздействие требует оформления определенным
антуражем. Этот антураж (театральный или идеологический) подчинен одной цели, а
именно незаурядному преподнесению образа терапевта клиенту. В этом же ряду — от
Месмера к Фрейду — можно отчетливо наблюдать тенденцию снижения в удельном весе
харизмы театрально-внешних факторов при возрастании значения фундированной теории.
Нет никакого сомнения, что директивно-суггестивные психотерапии требуют
наибольших стараний по созданию выразительного театрально-харизматического
антуража. Однако подчеркнутый демократизм недирективных психотерапевтических
67
ритуалов вовсе не означает полного отсутствия элемента театральности. Просто для
продажи психодинамического или, к примеру, поведенчески-когнитивного товара
требуются совсем другие мизансцены, сценография и костюмы.
Другой важный момент заключается в необходимости известного постоянства, как
идеологического, так и внешне-ритуального. Харизматический всегда в той или иной
степени — человек одной мысли. Какова бы ни была ее реальная ценность, он при любых
обстоятельствах ей исключительно предан. Это диктуется необходимостью борьбы за
свои идеи, причем не как за объективно-научные “данные”, которые можно
экспериментальным, например, путем подтвердить или опровергнуть, а как за
несомненные экзистенциальные ценности, объективная верификация которых скорее
могла бы им повредить, чем помочь. Вне всякого сомнения, представительская часть
харизматической деятельности должна носить характер по возможности неизменный,
точно так же как и содержательная часть. Ритуалы и символы, правила поведения и
приветствия — это то, чему необходимо хранить верность, нечто незыблемое. Вот что
пишет М. Вебер по этому поводу: “Величайшие конфликты в сфере чистой догматики
даже в рационалистических религиях переносятся легче, чем новшества в символизме,
угрожающие магической эффективности действия... Например, спор о том, следует ли
составлять крест из двух или из трех элементов, послужил основной причиной раскола в
русской церкви в конце XVII-го века” (M. Weber, 1964, Bd. 1, s. 324, цит. по П. П.
Гайденко, Ю. Н. Давыдов, 1991, с. 111).
К психотерапевтической жизни все это относится самым непосредственным образом. В
сущности, не важно, какую именно технику предлагает терапевт-новатор, важно его
подчеркнуто жесткое отношение к необходимости соблюдать терапевтический ритуал во
что бы то ни стало. Если же его идеология носит подчеркнуто либеральный характер, то и
стиль работы соответственно должен быть выдержан в духе “либерального террора”.
Любая перемена может быть расценена окружающими вовсе не как позитивная эволюция,
но как предательство интересов дела, в которое они дали себя вовлечь. Харизматический
всегда так или иначе — заложник своей идеологии и созданного им же самим образа.
Charisma of hoax перекликается с разобранной выше charisma of imperfection. Понятно,
что стигма так же служит фиксации образа лидера в сознании окружающих, как эмблема
или лозунг. В этом смысле горб или какое-нибудь родимое пятно оказывают, видимо,
примерно такое же действие, как особое ритуальное приветствие или сигара во рту.
68
Мы отдаем себе отчет в том, что апология демонстративности может показаться
неприемлемой для традиционного интеллигентского сознания. Любой интеллигентский
поведенческий кодекс, писаный или устный, конечно же, предписывает неброскую
внешность, неприметное поведение в сочетании с подчеркнутой деликатностью,
рефлективностью, жертвенным самоотречением и демонстративным отсутствием
властных устремлений. Ясно, что даже на таком мировоззренческом и поведенческом
материале возможно построение харизмы. В этом случае харизматическое влияние будет
основано на последовательном, упорном, быть может даже героическом, отстаивании
вовсе, казалось бы, негероических ценностей. При некоторой ловкости возможно
построение харизмы даже на принципиально “антихаризматических” позициях, то есть в
духе отрицания властного лидерства как такового, воспевания идеалов духовного
богатства и аскетического равенства в противовес стяжательской суете. Под такую
идеологию можно даже не подбирать соответствующей знаковой атрибутики.
В целом же вопрос о произвольности харизмы, об умышленном и целенаправленном ее
построении останется открытым и проблематичным. Насколько человек может осознавать
или до какой степени он может скрывать от себя то обстоятельство, что сам он
действовать на других особым образом на самом деле никак не может? Возможно ли
вообще длительное время сознательно и последовательно культивировать видимость
своих экстраординарных свойств? Каким образом следует обойтись с внутренним
сопротивлением этому делу, которое неизбежно появится в такой ситуации? С другой
стороны — как технически решать вопросы обеспечения харизмы в целом? Каким
образом возможно сочетать одновременно новаторскую идеологию, бойцовскую
позицию, демонстративно-ритуальную часть? Вопрос о пропорциях и соотношениях
решается в каждом случае особо, однако серьезная и насущная необходимость иметь в
виду все это при анализе деятельности любого психотерапевта (в том числе и своей
собственной), думается нам, по прочтении этого текста ни у кого уже не вызовет
сомнений.
Innovative life style, новаторский жизненный стиль (ibid, р. 53) предполагает, что
харизматический привносит в свою внешне-демонстрационную часть харизмы какой-то
новый элемент. Вообще, харизма живет новизной. Невозможно представить себе, чтобы
носитель экстраординарных способностей обосновывал их общепринятыми идеями или
оформлял общепринятым образом. Собственно, отсутствие новых идей делает харизму
ненужной. В тех же случаях, когда в ее основе лежит какая-нибудь традиционалистская
консервативная идеология, то
69
она неизбежно противостоит, так сказать, “духовной ситуации эпохи”. Ее носители,
конечно же, производят остроноваторское впечатление — быть может, даже совершенно
того не желая.
Надо сказать, что аспекты, разобранные И. Шиффером, не систематизированы и только
очерчивают описываемый феномен, дают не более чем приблизительную картину этого
дела. Однако, на наш взгляд, это все не столько просчеты самого исследователя, сколько
результат сопротивления материала исследования. Мы отдаем себе отчет в том, что никто
не в состоянии с полной четкостью определить и диагностировать феномен харизмы. Мы
не располагаем инструментом, позволившим бы нам надежно измерить наблюдаемое
явление или же установить исчерпывающе ясно те психологические механизмы, которые
лежат в основе харизматического воздействия и его рецепции. Однако разговор на эту
тему, безусловно, приближает нас к пониманию проблем, лежащих в самой сердцевине
воздействия психотерапевта на пациента, а кроме того, к пониманию проблем
взаимоотношений внутри психотерапевтического сообщества.
***
Итак, харизматический драматизирует свои идеи, как было выше сказано, всячески
гиперболизирует их. Можно сказать, что значительная часть его дискурсивной
деятельности заключается в формировании неких “крупных” смыслов. Между этими
смыслами и его поведением создаются определенные прагматические отношения, иначе
говоря, взаимоотношения между личностью и миром идей, которым он живет. Это,
скажем так, “паранойяльная” прагматика. Паранойяльная сверхценность здесь
определяется не столько своеобразием идей, сколько тем центральным, жестко
самодовлеющим положением, которое они занимают в пространстве харизматической
личности. Главное назначение идеологии в этом контексте формировать некий
экзистенциальный центр, требующий, соответственно, защиты от экзистенциальных
врагов. Безусловно, такая прагматика будет основана на максималистско-аскетических
жестах, мизансцене постоянного самоотречения во имя пространственного,
демографического и иерархического распространения идеологии.
Цель такой аскезы не только идеология как таковая. Ситуация состязательной
коммуникации превращает любое идеологическое построение в средство соблазнения
другого. Главное свойство любой идеологии, исходящей от претендента на любое
харизматическое влияние, — быть привлекательной. Любой мало-мальски
привлекательный дискурс соотносится не только с описываемой им реальностью, но и со
своей задачей рекрутирования. Как пишет Ж. Бодрийар: “Соблазнять — значит умирать
как
70
реальность и рождаться в виде приманки.... Ведь если производство (production) только и
знает, что производит какие-то материальные, какие-то реальные знаки, через них обретая
некоторую силу, то соблазн (seduction), со своей стороны, производит лишь приманки, но
получает благодаря им все мыслимые силы, в том числе силу сманить производство и
реальность к их основополагающей иллюзии-приманке” (Ж. Бодрийар, 1995, с. 47).
“Производство” психотерапевтического метода — сочинение школьной теории и
формирование техники — сориентировано, не только на результативность работы с
проблемами, но и на соблазнение пациентов и коллег. Всякому ясно, что “интересность”
школьных теорий, эстетическая привлекательность техник — вещи намного более
ощутимые и явные, чем с трудом доказуемая эффективность. В любом случае состязание
между различными психотерапиями идет в русле именно этих, соблазняющих, сфер.
Когда мы сталкиваемся в психотерапевтической литературе с дискурсами, посвященными,
скажем, неким “ценностям”, “смыслам” и т. п., то должны ясно понимать, что речь идет не
только о ценностях и смыслах как таковых, но и о привлекательности такого текста.
Впрочем, идеологическая соблазнительность — забота далеко не только лишь одной
психотерапии.
Но мы помним, что не только идеология подчинена стратегии завоевания
идеологического пространства. Да, безусловно, психотерапевтическая жизнь несет на себе
печать ожесточенного состязания различных школ, которые, как уже было сказано, могут
рассматриваться в качестве “машин желания” в духе Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Именно с
этой точки зрения харизма не только в своих идеологических, но и в своих внешнетеатральных проявлениях, безусловно, необходима и выступает в роли важнейшего
фактора конкурентной борьбы, в некоторых случаях, возможно, и решающего.
Психотерапевт формирует свою харизму как по отношению к пациентам, так и по
отношению к коллегам. Если первое, как мы отчетливо выяснили, — дело почти
необходимое, востребованное терапевтической ситуацией как таковой, то второе —
результат отдельных, особых специфических усилий, вовсе не таких обязательных с точки
зрения профессионального идеала, однако при любых обстоятельствах — почти
неизбежных. Одно из таких специфических усилий — формирование собственной, по
возможности развернутой идеологии. Эта идеология и есть то главное богатство, которое
защищает харизматический.
Формирование и распространение теории может вполне осуществляться в русле
“антиидеологической” пропагандистской стратегии, в духе “поругания” интеллектуализма
и теоретической деятельности вообще как “кабинетной учености”. В противовес
71
этому может иметь место стратегия восхваления “практического” подхода к делу,
“конкретного действия”. Однако будет очень худо, если вся концепция, фундирующая
такой пропагандистский дискурс, ограничится только этим и останется неразвернутой.
Главное назначение школьной теории — не столько трактовать реальное положение дел,
сколько обслуживать харизму ее автора, формировать “под нее” идеологическое поле.
Концепция, обслуживающая харизматическую личность, естественно, ориентирована на
экспансионистские устремления автора, причем тут мы можем иметь дело со всеми
описанными выше видами экспансии одновременно (см. предыдущую главу). Кроме того
эта концепция должна носить сотериологический характер, то есть содержать в себе не
только рецепты для терапевтических нужд, ограничивающихся клинической сферой, но
предлагать верный и надежный способ преодоления глобальных проблем. Сотериология,
разумеется, оправдывает любую экспансию. Речь может идти по меньшей мере о двух
основных составных такой теории.
Первое — это диагностика некоего глобального дефекта, всеобщей беды, от которой
страдает, скажем, человечество в целом. Клинические последствия, невротические
проблемы — не более чем частный случай этого зла, весьма обширного по своим
размерам и глубинного по своей природе. Получается так, что картина, наблюдаемая в
психотерапевтическом кабинете, не более чем эпифеномен этого глобального.
Подавленная цивилизацией сексуальность в классическом психоанализе; тревожность,
вызванная давлением общества, построенного на соперничестве, в неофрейдизме;
экзистенциальная пустота, существующая, по В. Франклу, не только в клинических
рамках, но и далеко за их пределами, — вот примеры такого рода глобальной
диагностики, практикуемой в разных школах.
Важно, однако, не только рассказать историю о беде, которая больше чем болезнь, но
описать ясный проект ее преодоления. И здесь дело не может ограничиться рамками
клинического обихода. Доктринальное и патографическое расширение теорий
легитимирует их применение за пределами собственно терапевтической практики.
Нелишне заметить, что интересный, привлекательный, в особенности же
“эпатирующий” теоретический дискурс сам по себе способствует формированию
харизматического образа и позволяет “экономить”, например, на усилиях по созданию
внешне-театрального антуража, столь необходимого для харизматического дела.
Итак, харизма являет собой определенное единство образа, идеологии и инициативного
действия, направленного на расширения
72
пространства и влияния ее обладателя. Это действие должно обладать одной интересной
особенностью, а именно — оно должно быть успешным. Успех, как бы он ни был
достигнут, необходим любой ценой. Ничтожна цена упомянутых выше
“сверхъестественных, сверхчеловеческих или, по меньшей мере, специфически особых
сил и свойств”, не приводящих к наглядному эффективному результату. Харизма
кормится успехом.
Приговор М. Вебера в этом случае суров: “Если продолжительное время ему
(харизматическому — А. С.) изменяет успех, и в первую очередь если его руководство не
приносит благополучного исхода подчиненным, то его харизматический авторитет может
исчезнуть” (М. Вебер, 1988, с. 140). Все биографические нарративы из жизни
харизматических — это повествования о достижении успеха.
Вот что можно, например, прочитать в этой связи в биографии обладателя крупнейшей
харизмы нового времени — Наполеона. Речь идет о его свидании с Меттернихом в
Дрездене в 1813 г. Как известно, Меттерних приехал к нему с предложением мира на
условиях, казалось бы, вполне почетных, но тем не менее требовавших от Наполеона
определенных уступок. Ответ Бонапарта был таков: “Ваши государи, рожденные на троне,
не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными
в свои столицы, и для них это все равно. А я солдат, мне нужна честь, слава, я не могу
показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться великим, славным,
возбуждающим восхищение!” (Е. В. Тарле, 1991, с. 307). Осознание носителем харизмы
своеобразия своего влияния и закономерностей, которые его определяют, как мы видим,
дело вполне возможное.
В любом случае деятельность в таком ключе начинается с определенных успехов,
свидетельствующих об особых качествах. В том же случае, если реальная карьера с такого
успеха не началась, следует, видимо, подождать удачной полосы, чтобы эту полосу
объявить задним числом началом своего пути. Все же остальное, что было до того,
считать подготовкой, ученичеством, накоплением сил, опыта, чего угодно. Успех
формирует харизму, она, в свою очередь, порождает ожидания, которые, распространяясь
все дальше и дальше, способствуют новым успехам. Таким образом получается то, что
можно назвать харизматическим кругом: успех — харизма — успех — усиление
харизмы — успех и так далее. Этот круг, конечно же, прерывается или, по меньшей мере,
размывается, когда выпадает звено успеха.
Выпадения такого рода, конечно, не редкость, главная же беда — не всегда получается
их скрыть. Поскольку характер свойства, которое мы здесь обсуждаем, таков, что главное
для его обладателя — его видимый, публичный характер, то именно публичность,
73
несокрытость неудач является абсолютно недопустимым делом. Не
психотерапевтическая литература практически не описывает случаев неудач.
случайно
К сожалению, порой неудачу не скроешь никак, и поэтому надо быть готовым
построить свою дискурсивную стратегию так, чтобы создать защиту от неизбежной
критики. Несмотря на всю нелепость и унизительность для харизматического подобной
ситуации как таковой, объяснения придется давать, особенно если речь идет о
психотерапии, где задействованы в лучшем случае уже упоминавшиеся “специфически
особые” силы, а вовсе не “сверхъестественные и сверхчеловеческие”. Однако такого рода
оправдания здесь имеют особый характер, харизматический должен уметь любое
поражение обращать себе на пользу, то есть владеть процедурой, которую можно
обозначить как харизматическая утилизация. Эти оправдания направлены в две
стороны. Во-первых, надо внушить пациенту, что отсутствие эффекта есть несомненное
благо, а во-вторых — объяснить критикам, а заодно и своим адептам по возможности то
же самое. Оптимальный вариант оправдания сводится к тому, что в данном неудачном
случае, который по всем признакам должен был быть, несомненно, успешным, как,
впрочем, и все остальные, терапевтический путь, по которому шло развитие событий, был
выбран абсолютно верно, однако стихийные, непредвиденные, сверхчеловеческой мощи
обстоятельства помешали реализовать то, что было намечено.
Отсутствие эффекта или ухудшение состояния в результате терапии могут быть
объяснены, к примеру, намерением вызвать или продлить необходимый кризис, каковой
сам по себе действует благотворно и необходимо только дождаться результатов этой
благотворности. Если такова оправдательная легенда, то мы можем говорить о
парадоксально-кризисной утилизации, назовем это так. Однако вовсе необязательно
говорить о кризисе, можно объявить терапевтическое действие свершившимся (к примеру,
комплекс — вскрытым, гештальт — завершенным), однако не проявляющим себя в силу
известных терапевту причин, при этом несомненно ожидаемым в будущем. Такую
утилизацию можно было бы обозначить как темпоральную, то есть эффект неизбежен, он
просто немного отставлен во времени. Смещение ожидания результата во времени вообще
очень толковый ход для оправдания терапевтических неудач. Вот что говорят по этому
поводу Дж. Гриндер и Р. Бэндлер: “Есть ли здесь кто-нибудь, кто был у Милтона
Эриксона? Он рассказывал вам истории, верно? И через шесть, восемь или двенадцать
месяцев вы обнаруживали в себе изменения, которые были как-то связаны с этими
историями? — Мужчина: Да. — Это типичный самоотчет. Через полгода
74
человек внезапно замечает, что он изменился, но, как это получилось, он совершенно не
представляет” (Дж. Гриндер, Р.-Бэндлер, 1993, с. 141). Временная отставленность эффекта
вполне коррелирует здесь с его определенностью. Речь идет об “изменениях, которые както связаны с историями”.
Возможны также самые тривиальные доводы вроде банально-статистических: малое
число неудачных случаев не портят общей успешной картины. Этот способ утилизации,
весьма малопривлекательный, может быть обозначен как стохастический. В других
случаях можно отнестись к неудаче как к необходимому уроку, а заодно
продемонстрировать достойную всяческого восхищения мудрую готовность учиться.
Такую разновидность утилизации можно назвать дидактической. И как это всегда бывает
при выделении чистых типов, не следует забывать о смешанных формах. Намного лучше
постараться добыть пользу из одного случая множеством способов.
Терапевты некоторых направлений вовсе не склонны видеть непосредственным
результатом своего действия ощутимый и наглядный клинический эффект. Их цель скорее
в мировоззренческой перекройке пациента, чем в немедленном и безусловном избавлении
от страданий как таковых. Тем не менее такой подход строится на соображении, что новое
отношение к миру делает страдание не столь тяжким, как это было раньше.
Психотерапевт выступает здесь, как это принято говорить, в роли практического
философа. Мировоззрение, формируемое в ходе такой терапии, предполагает, что картина
мира значительно расширяется, наполняется новыми смыслами и ценностями.
Подразумевается, что с таким расширением уменьшается удельный размер переживаний,
связанных с проблемой, по поводу которой человек обратился к терапевту. То ли это
групповая терапия в духе “групп встреч”, направленная на преодоление некоей изоляции,
на основательное расширение коммуникационного пространства, а отнюдь не только на
избавление от имеющейся симптоматики. То ли это анализ в экзистенциалистском духе,
предполагающий ориентацию на духовные ценности, раскрытие новых горизонтов
жизненного мира. То ли это даже вариант психоаналитической терапии, когда терапевт
считает, что его цель — не столько облегчить страдание, сколько рассказать человеку
“правду” о нем. Одним словом, такая позиция является бесспорно удобной, ибо никто не
сможет потом схватить за руку в случае неудачи. Все это, однако, далеко не бесспорно в
том смысле, что для подтверждения “специфически особых” свойств требуется так или
иначе наглядно зримый продолжительный и массовый результат, а то за свои
харизматические притязания очень трудно будет отчитаться. Этот же подход
предполагает, что прорыв
75
пациента в новое идеологическое пространство, равно как сам контакт с терапевтом —
вещи для него настолько значимые, что он готов простить неудачу со своими симптомами
и согласен их терпеть в своей новой жизни.
***
При обсуждении аспектов и свойств харизмы немаловажен выбор подходящей
методологической стратегии. Весьма сподручной представляется нам здесь методология
описания пропорций, которой пользовался, например, Э. Кречмер в своей книге
“Строение тела и характер”. Разбирая особенности различных конституций, он
систематизировал их между разными противоположными свойствами, которые в
различных соотношениях одновременно присутствовали у описанных им личностных
типов (Э. Кречмер, 1995, с. 472). Нам представляется, что для уяснения многих важных
аспектов харизмы целесообразно разобраться в следующих пропорциях, предлагаемых
нами.
Первая харизматическая пропорция — эманативное/эремитическое (emanatio — лат.
истечение, eremita — лат. отшельник). Речь идет о том, что в харизматическом облике
сочетаются движение вовне — агрессивно-пропагандистское, направленное на завоевание
новых последователей и пространств, с движением внутрь, связанным с неким тайным
знанием, особого рода умудренностью, недоступной нехаризматическим. Приходится
сталкиваться с распространенным представлением, будто харизматическому непременно
свойственна агрессивность, исключительный экстравертный динамизм в сочетании с
артистически-ораторским даром. Этот набор, видимо, больше подходит лидеру
политического движения, хотя и ему, конечно же, следовало бы уделять в своем имидже
больше места знакам, которые указывали бы на причастность особым знаниям и
нетривиальному духовному опыту. Некоторая погруженность в себя, “тихая” составная
облика, да и многое другое из области, так сказать, интровертированного — все это
формирует эремитическую часть этой пропорции. Здесь вполне уместно, на наш взгляд,
вспомнить, к примеру, об опыте российских монастырских святых, чей облик вовсе не
предполагал агрессивной активности, направленной вовне на динамичное расширение
пространства своего духовного влияния и ограничивался в значительной степени
эремитической,
центростремительной,
направленной
внутрь,
“углубленнососредоточенной” составляющей их облика, явно харизматического. Аскетическое
отшельничество, связанное с приобщением к тайному знанию, с обретением особого
опыта, безусловно здесь не только уместно, но даже и крайне желательно. Ясно, что по
аналогии с традицией религиозной практики и
76
в противовес общественно-политической традиции, где от лидера практически всегда, к
сожалению, требуется именно динамизм и агрессивность, психотерапия предполагает
больший удельный вес именно центростремительной, эремитической части данной
харизматической пропорции. Количественные соотношения этих пропорций в каждом
отдельном случае устанавливаются особо (количественное здесь, конечно, определяется
крайне приблизительно, речь может идти только о “больше” и “меньше”).
Другой контекст для пропорции эманативное/эремитическое составляет ситуация
двойственности бойцовской позиции. С одной стороны, харизматический — всегда боец,
с другой, крайне желательно, чтобы при этом он был бы еще и жертвой. Всегда неплохо,
когда есть потребность сплотиться не только вокруг идей и проектов лидера, но и еще
ради защиты его от экзистенциального врага. Без эпизодов гонений и преследований в
биографических повествованиях, иначе говоря, без персекуторной (persecutio — лат.
преследование) части харизмы никак не обойдешься, если заботишься о завершенности и
полноте харизматической ситуации. В политической жизни это, конечно, вещи само собой
разумеющиеся: любая мало-мальски серьезная новаторская инициатива затрагивает чьито интересы и сталкивается с серьезным противодействием (а разумный политик всячески
провоцирует и разжигает это дело).
В психотерапии, к сожалению, дело обстоит так далеко не всегда. Никому так не
повезло, как создателю психоанализа, в том смысле, что его школа формировалась в
обстановке агрессивной критики, а то и просто грубой диффамации. Никакое другое
учение в психотерапии не было предметом такой ожесточенной критики, причем
одновременно как со стороны медиков, в первую очередь клинических психиатров, так и
со стороны внемедицинской так называемой общественности (Э. Джонс, 1996, с. 248—
258). Несомненно, что значительной частью своего безусловно харизматического влияния
Фрейд обязан именно этому обстоятельству. Нарративы, повествующие о ситуации
внутри венской психоаналитической школы, полны свидетельств такого рода: “Фрейд
возводится в полубога или даже в целого Бога. Его слова не подлежат критике. У Задгера
мы читаем, что “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” — библия психоаналитиков. Я
заметил, что ученики Фрейда по мере возможности взаимно аннулируют свои работы.
Они признают только Фрейда, мало читают и почти никогда не цитируют друг друга.
Более всех цитирует их сам Фрейд. Все хотят быть вблизи Фрейда” (Ф. Виттельс, 1991, с.
118).
Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, скажем, что пассажи вроде этого
можно найти в жизнеописаниях любого
77
заметного персонажа в истории психотерапии. Биографические “апокрифы” создателей
школ никогда не ограничиваются изложением научной деятельности, а непременно
повествуют в духе параллельных биографий Плутарха об истории свершений и
завоеваний, борьбы и бунтов, заговоров и предательств. Психотерапевтический эфир
переполнен потестарными флюидами, и это вызывает интеллектуальное головокружение
у всех, кто оказывается причастным к этому роду деятельности.
Повествования о Фрейде полны всем этим, как никакие другие. Понятно, что Фрейд был
обязан своим авторитетом не столько своим театрально-ораторским качествам, сколько
эпатирующему влиянию своего учения, о чем сказано уже очень много. С другой стороны,
тот же Э. Джонс, не имевший, судя по всему, ни малейшего понятия о концепции
харизмы, прицельно выискивал именно харизматические признаки в образе учителя,
отмечая, в частности, что “Фрейд, несомненно, обладал огромной притягательностью для
лиц обоих полов, и это явно не может быть приписано одним лишь его очаровательным
манерам или любезности. ...Мужчины... как правило, были поражены его внешним видом,
выражающим
полнейшую
авторитетность,
настоящим
образом
отца,
его
трансцендентальными знаниями и его любезной терпимостью...” (Э. Джонс, с. 311).
Любой нарратив, посвященный харизматическому влиянию, неизбежно включает в себя
описания телесности: “Он (Фрейд. — А. С.) обладал удивительно красивой головой,
густыми, черными, тщательно уложенными волосами, красивыми усами и остроконечной
бородкой.... Фрейд обладал живыми и, возможно, до некоторой степени беспокойными
манерами, которые вместе с быстрыми, как молния, глазами производили пронзительный
эффект” (там же, с. 217). Описания телесности вместе с эпизодами повествований о
житейски-бытовых склонностях встраиваются в систему образа и интерпретируются
соответствующим образом. Из всех подобного рода дискурсов становится ясно, что
телесное представляет собой один из важнейших каналов, по которому осуществляется
харизматическое воздействие.
Другие психотерапии, подвергшиеся критике только в своей профессиональной среде,
очень много в этом смысле недополучили. Харизма жертвы, или персекуторная часть
харизмы, о которой уже шла речь выше, влияет в основном на коллегиальную часть
паствы, хотя нетрудно представить себе ситуацию, когда пациент знает, что его терапевт,
объект интенсивного переноса, подвергается нападкам и гонениям малоуспешных коллег
и выздоравливает еще лучше и скорее, чтобы успешным исходом лечения поддержать
любимого доктора в его борьбе против недоброжелателей.
78
Вторая
пропорция,
которая
нам
представляется
интересной
—
чувственное/аскетическое. В первой главе мы обсуждали значение гедонистического
фактора в истории психотерапии. Понятно, что в политическом и психотерапевтическом
контекстах гедонистическое, чувственное имеет разное употребление. Речь здесь идет
одновременно о содержании учения и о формировании облика. Политический лидер имеет
возможность лишь в ограниченных количествах являть свое чувственное начало миру, в
программе же своей он этой возможности чаще всего лишен. “Слуга народа” не имеет,
естественно, возможности открыто и неограниченно предаваться чувственным радостям
подобно заурядному представителю своей паствы. Не случайно сексуальные приключения
в анамнезе политика — традиционно самый компрометирующий аспект в условиях
развитых демократий и выборных состязаний. Любой знак, указывающий на наличие
аскезы, способствует вере в “специфически особые” свойства, ибо, вероятно, именно она
справедливо
представляется
обыденному
сознанию
делом
совершенно
неправдоподобным. Хотя наличия только аскетических признаков для политической
карьеры явно недостаточно и самым благоприятным делом для усиления влияния, видимо,
следует считать сочетание чувственной привлекательности вкупе с аскетическим
поведением.
В психотерапии, конечно, все по-другому. Психотерапевтическое дело чаще всего не
ведет к какой-либо цели, требующей самоотречения, ибо в процессе работы никаких
новых ценностей не создается. В огромном большинстве случаев аскеза, самоотречение
само по себе признается однозначно вредоносным для здоровья фактором и стратегия
работы с пациентом практически во всех психотерапиях направлена на то, чтобы
ослабить, а то и вовсе сломать аскетические установки. В самом деле, здесь мы очень
нечасто имеем дело с подлинно аскетической идеологией, все скорее склонны идти путем
попустительства и нестеснения. Видимо, очень часто сочетание такой тактики с тем
обстоятельством, что чувственные влечения тут же, на месте, где проводится
терапевтическая
процедура,
реализовать
невозможно,
создает
напряжение,
подпитывающее харизму. Запрет на злоупотребление “контрпереносом” важен, таким
образом, не только с точки зрения традиционной морали или терапевтической
целесообразности, но и с точки зрения сохранения восприятия пациентом терапевта как
носителя особых свойств. Это восприятие сохраняется, разумеется, только в условной
ситуации терапевтического ритуала, предполагающего известную дистанцию между его
участниками.
Другая важная пропорция может быть обозначена как эзотерическое/экзотерическое.
Элементы тайного знания, быть
79
может даже магического толка, присущи многим методам и школам. Достаточно
вспомнить здесь об аналитической психологии К. Г. Юнга, трансперсональной терапии С.
Грофа, да и просто о множестве самостоятельных терапевтов, которые любят обставлять
свои суггестивные воздействия или групповые игрища всякого рода магическим
антуражем. В рамках терапевтического ритуала они представляются колдунами или
шаманами, а психотерапия соответственно — свершением магического таинства. Как бы
кто к этому ни относился, приходится мириться с тем, что все это в психотерапевтическом
обиходе было, есть и будет.
Широкое распространение мистически-эзотерических элементов в психотерапии
обусловлено несомненным наличием серьезного спроса на них, причем это спрос того же
порядка, что и спрос на “особые свойства” психотерапевта, иначе говоря, на его харизму.
Персонаж, отправляющий магический ритуал (понятно, если принимать эту условность)
наделен сверхъестественными качествами по определению, они-то, собственно, и должны
оказывать, по задуманному сюжету, эффективное благотворное воздействие. Трудность
здесь, однако, в том, что эти сверхъестественные качества надо постоянно очень серьезно
подтверждать, находясь под неусыпным наблюдением недоброжелательной чаще всего
критики, с подозрением и брезгливостью третирующей “шарлатанов”. Повсеместная
диффамация мистически ориентированных терапевтов, помимо всего прочего, формирует
сильную персекуторную составляющую их харизматического образа. Впечатление
обладания особыми свойствами также усиливается через charisma of hoax, а именно
благодаря богатой символической сценографии и атрибутике. Деятельность
эзотерического терапевта покоится на противопоставлении сакрального и профанного, и
таким образом формируется одновременно и незаурядная обстановка, обеспечивающая
“особость” терапевтического воздействия, и объект агрессии, против которого занимается
бойцовская позиция. Профанное, рациональное, разумеется, — постоянный объект
приложения харизматически-бойцовского жеста в этой, весьма распространенной,
полемически-идеологической ситуации.
Однако, окинув мысленным взором все многообразие психотерапевтической жизни, мы
обнаруживаем, что среди всех терапий откровенно эзотерические все же в явном
меньшинстве. Как бы ни был велик спрос на “магический” антураж, дело обстоит таким
образом, что играть незаурядную роль, поддерживать образ обладателя магических, а
значит, безусловно эффектно действующих сил очень трудно, а порой длительное время
— просто невозможно. Да, собственно, в большинстве случаев вопрос так и не стоит.
Психотерапевтическая практика складывалась
80
в большой степени как продолжение медицински-рационалистической традиции,
эзотерика составляла всегда не самую значительную ее часть. Иррациональное
усматривалось в основном в состоянии и действиях пациентов, но не связывалось чаще
всего с образом или действиями терапевта.
Экзотерическое, то есть лишенное магически-сакральных элементов, будучи с одной
стороны чем-то вполне рациональным, с другой — предполагает известный
терапевтический “демократизм”, то есть относительно равноправные отношения в
процессе терапии. В самом деле, магически-эзотерический терапевт возвышается над
пациентом, он обладатель знания и умения, недоступного другим и оттого — достойного
преклонения. Экзотерический терапевт в некоторых случаях выступает в роли
“специалиста”, профессионала, что делает формирование его харизмы делом
проблематичным. В других случаях, когда мы имеем дело с большинством современных
групповых или телесно ориентированных терапий, терапевт может выступать в
относительно равноправной по отношению к пациенту роли или хотя бы создавать
иллюзию такого равноправия. Однако само по себе “экзотерически-демократическое”
отношение к делу не отрезает пути к формированию харизмы. Тут можно заметить, что
групповая ситуация куда более сподручное дело в смысле развития харизмы, чем
индивидуальная
терапия.
Основным
каналом,
по
которому
протекают
харизмообразующие токи является измененное состояние сознания, нетривиальное
эмоциональное состояние, что, в сущности, одно и то же. Очень важна в таких случаях
либеральная, освобождающая идеология, под которую терапевт и подстраивает,
собственно, свою тактику равноправных отношений с пациентом. Темой для отдельного
исследования может стать взаимопроникновение эзотерических и экзотерических
идеологий, что приходится видеть достаточно часто.
Здесь самое время обсудить также и другую пропорцию, а именно
авторитарное/либеральное. В политическом контексте харизматическую личность чаще
всего соотносят с авторитарным, даже тоталитарным правлением. Авторитет крупной
политической харизмы предполагает безусловное подчинение, неоспариваемое право
казнить или миловать. Либеральная идеология ставит претендующего на господство в
заранее невыгодное положение, когда каждый может высказать сомнение в наличии у
него особых качеств, а то и запросто может проложить путь другому харизматическому.
Психотерапия, казалось, пошла вначале тоже по пути, аналогичному пути авторитарного
господства в политике. Как уже говорилось, первые получившие широкое
распространение школы, классический гипноз и рациональная
81
психотерапия, исходили из соображений безусловного подчинения пациента влиянию
терапевта. Вся дальнейшая история психотерапии развивалась под знаком преодоления
такого положения дел, все больше и больше как бы уравнивая в рамках терапевтической
процедуры ее участников. Пациент исподволь получал все больше возможностей не
соглашаться, возражать, проявлять неповиновение, критиковать терапевта, выказывать
агрессию в его адрес. Как понятно из вышеприведенных построений, такое уравнивание в
правах, такая либерализация шла параллельно процессу, так сказать, дезэзотеризации
психотерапии.
Либеральные практики, однако, требуют всегда некоторых элементов принуждения.
Внимательный наблюдатель, принимавший участие в работе самых что ни на есть
либеральных групп встреч (не говоря уж о гештальттерапии), конечно, обращал внимание
на то, что почти всегда там имеют место элементы несомненного давления со стороны
терапевта, доводящего до сознания участников, например, идеи безусловного принятия и
открытости в проявлениях чувств. Правила этики такой психотерапевтической
процедуры, заключающиеся, например, в запрете на интерпретирование поведения
участников группы, в запрете на разговоры, не имеющие отношения к “здесь и сейчас”,
конечно, требуют определенной жесткости. Харизматическому носителю идеологии такой
терапии, скорее всего, будет очень трудно избежать твердости и настойчивости в
формировании запретов, то есть придется проявить отчасти авторитарные черты в том,
чтобы донести свои принципы до аудитории. Донеся же, он неизбежно возьмет на себя
роль их хранителя, обрушивая на всех остальных “либеральный террор”, требуя
постоянно соблюдения равных позиций, жестко расправляясь с “антиавторитаризмом”.
Конечно, не обязательно дело будет обстоять именно таким образом, но и такое развитие
событий очень трудно исключить.
Видимо, не будет неправдоподобным предположение, что для лучших харизматических
показателей неплохо бы располагать одновременным сочетанием разнонаправленных
тенденций. Полная определенность в поведении и идеологии ведет к тому, что идеи,
отстаиваемые в борьбе, банализируются, пропаганда их становится однообразной,
пространство для идеологического маневра суживается, возможности утилизации резко
ограничиваются. Самые толковые из харизматических стремятся сочетать в своей
деятельности агрессивно-центробежное и умудренно-центростремительное, магическиэзотерическое и демократически-экзотерическое, авторитарно-волевое и либеральнопопустительское начала.
82
Более того, другая, очень правдоподобная, гипотеза могла бы быть сформулирована,
например, так: чем больше выражены присутствующие одновременно взаимно
противоположные свойства по каждой отдельной из шкал, тем более сильным будет
харизматическое воздействие человека, их в себе сочетающего. Обстоятельство, которое
приводит нас к этому выводу, общеизвестно. Харизматическое влияние предполагает у
тех, кто его воспринимает, наличие хотя бы каких-либо элементов так называемого
измененного состояния сознания. Наличие противоречивых, парадоксальных черт в
образе харизматического или в его пропагандистской деятельности безусловно намного
больше работает на такое изменение сознания, подобно тому как парадоксы, внутренние
противоречия оказываются действенными факторами наведения транса, например в
известной технике “запутывания” в эриксонианском гипнозе. Не надо бояться быть
противоречивым, надо только уметь убедительно объяснять такие противоречия. Такое
умение, без сомнения, легко могло бы стать предметом специального тренинга. Список же
пропорций, определяющих свойства харизмы, остается открытым, и нет никакого
сомнения в том, что он может быть дополнен новыми интересными соображениями.
***
Весьма важный аспект — временная и пространственная избирательность харизмы. Почти
всегда на лидерскую роль есть большое количество претендентов, из которых так или
иначе отбираются немногие. К сожалению, нельзя быть харизматическим всегда и для
всех. Существует нечто такое, что можно обозначить метафорой харизматическая волна,
на которую потенциальный последователь может настроиться, но может этого и не
сделать. Без определенного созвучия носителя харизматических черт и его возможного
последователя все разговоры о каком-либо влиянии становятся невозможными.
Очень непросто предсказать, какой именно человек окажется в поле действия той или
иной харизмы. Здесь возможны только очень грубые прикидки, устанавливающие
параллели между своеобразием образа лидера и приблизительным психологическим
портретом возможного адепта. С одной стороны, здесь можно исходить из соображений
идентификации с пастырем, то есть предполагать, что член будущей корпорации будет
продвигать кого-либо на иерархическую вершину, руководствуясь признаками, ему
самому свойственными. С другой же стороны, выбор в этом деле может осуществляться
по комплементарному сценарию, то есть лидер выбирается по свойствам, недостающим
отдельному индивиду, каковой считает их если не совсем идеальными,
83
то, во всяком случае, в высшей степени желательными и сожалеет об отсутствии их у себя
самого.
Другую метафору, которая могла бы кое-что прояснить, можно обозначить как
харизматическая ниша. Как идеология, так и образ нового лидера должен отвечать на
определенный вызов времени, предлагая решение актуальных задач. Потенциально
харизматические свойства и идеи, жадно воспринимаемые в какой-либо одной
исторической
или
корпоративной
ситуации,
могут
оказаться
совершенно
невостребованными в другой. Неограниченный авторский произвол здесь, разумеется,
невозможен. Выбор идей и стратегий точно так же ограничен конкретной ситуацией, как
выбор маски, имиджа — своеобразием конкретной личности. Границы ниши очерчены
порой достаточно жестко, и многое зависит от умения хорошо в них вписаться.
Итак, волна и ниша — это метафоры, определяющие довольно приблизительно
пространственные и временные рамки функционирования харизмы. Надо ясно понимать,
что, как бы мы ни желали противоположного, харизма — это не навсегда и не навечно. В
сущности, харизматический — это тот, который смог оказать ограниченное влияние на
некую ограниченную группу людей в определенный ограниченный отрезок времени, и не
более того.
Другое небезынтересное дело — исчисление харизмы. Для этого можно ввести понятие
харизматический охват. Он может быть, если угодно, микросоциальным и
макросоциальным. Иначе говоря, лидер может вести за собой большую группу
последователей, скажем, в государственном масштабе — целую нацию, но, без сомнения,
также можно считать харизматическим человека, признаваемого исключительно
одаренным небольшой по размерам группой, к примеру религиозной сектой или же
террористической группировкой. В психотерапии крупным лидером может считаться
основатель и создатель большой психотерапевтической империи, персонаж вроде Фрейда
или Роджерса, а мелким — практикующий в небольшой деревушке целитель, то ли врач,
то ли маг, собирающий, к примеру, в черной сельской бане всех окрестных истеричек,
которые моют ему ноги, пьют (буквально!) с этого воду и избавляются таким образом от
всех своих симптомов (пример взят из устного сообщения одного из коллег). В обоих
случаях имеет место вера в особые свойства, присущие каждому из терапевтов, оба могут
быть признаны в той или иной степени харизматиками в нашем, разумном и взвешенном
понимании. Разница в том, что за плечами “транснационального императора” — серьезно
обоснованная концепция, разработанная и систематизированная техника, в то время как у
бедняги “банщика” — ничего этого нет, а только
84
лишь умение производить впечатление обладателя особых свойств, и то на весьма
ограниченный круг. Этим же объясняются различия в объеме харизматического охвата.
Исчисление харизматического охвата не такая уж и праздная задача, как это может
показаться на первый взгляд. Ясно, что такая арифметика обозначает размеры влияния, и
несомненно может быть использована как выигрышный ход в полемических стратегиях.
Понятно, что сама школьная теория, ее эстетическая привлекательность, “соответствие
природе и правде”, внутреннее богатство исправно работают на создание и усиление
харизмы автора теории даже в случае его внешне нехаризматического сдержаннонеброского поведения. Теория (или техническая концепция) является сама по себе
мощным харизмообразующим фактором, о чем мы говорили уже применительно к
Фрейду. В сущности, всех харизматических психотерапевтов можно разделить на два
типа: идеологи и виртуозы, и, как всегда в таких случаях, предположить, что есть и
смешанный тип. Идеологи создают новые теории личностей, новые концепции
происхождения и преодоления проблем и болезней. Виртуозы работают только на своих
технических приемах, эксплуатируя всячески свою харизму, не углубляясь серьезно в
теоретическую проблематику. Они очень ловко могут продемонстрировать свои
экстраординарные лечебные таланты, причем очень удобным для этой демонстрации
материалом являются, к примеру, болевые синдромы (вспомним здесь любимое так
называемыми целителями и знахарями “заговаривание зубов”), дерматологические
синдромы (“сведение бородавок”), ну и, конечно, истерические параличи. Эти виртуозы,
являют собой в некотором роде маргинальный слой. Но самый распространенный тип
крупного харизматического персонажа в истории психотерапии — тот, что предлагает
одновременно новую теорию личности и патологии вкупе с техническими
нововведениями.
Не мешает, помимо всего прочего, задуматься и над тем, что происходит с харизмой
после смерти ее носителя или после того, как он отойдет от дел. Второе случается
достаточно редко, ибо ясно, что отойти от дел до того момента, когда уже совсем не в
состоянии этому делу служить, — значит безнадежно угробить свою репутацию
харизматического лидера. Достойная причина оправдания отказа от работы на благо идеи
в такой ситуации — очень тяжелая болезнь (опять Фрейд), а еще лучше, конечно, смерть.
Итак, харизматического не стало, дело свое, однако, он после себя оставил и завещал его
продолжать. При этом происходит передача не только идеи и налаженной системы,
обеспечивающей ее распространение и процветание, но и части особых свойств человека,
который это создавал. В религиозной
85
и сакральной традициях передача эта происходит известно как: “...харизма священника
через миропомазание, посвящение в сан, возложение рук; харизма короля, переносимая
или укрепляемая через миропомазание и коронование” (М. Вебер,1988, с. 144).
Кроме того важно различать первичную и вторичную харизму. Первичная — это та, что
имеется у основателя традиции, вторичная — та, которую получают его последователи
как бы по наследству. Естественно, сила воздействия основателя религии на кого бы то ни
было будет заведомо большей, чем у его наследников. Точно так же создатель метода,
отец-основатель направления в психотерапии, с любой точки зрения всегда более
харизматический, чем все его последователи, вместе взятые. Они же осуществляют
воздействие на других не только посредством унаследованных идей и техник, но и как бы
переняв часть специфически особых свойств. “Посвящение” происходит посредством
учебного анализа, участия в тренингах. Очень важным обстоятельством является здесь
наличие именно живого непосредственного контакта. Передача экстраординарного
свойства, конечно же, может происходить только “вживую”, в рамках освященных
традицией терапевтических ритуалов. Никакие литературные штудии или даже
теоретические семинары никак тут не могут помочь. Школа живет своей живой историей,
позволяющей проследить цепь таких непосредственных контактов, ведущих в конце
концов к легендарной харизматической фигуре отца-основателя. Школьная теория,
технический ритуал, миф передается по цепочке вместе со свидетельством о прохождении
учебного анализа или тренинга. Чем дальше, тем больше происходит превращение того,
чем школа была поначалу, в руках ее создателя, а именно — вместилищем
экзистенциальных смыслов автора, в, скажем так, просто метод.
Имеет смысл остановиться еще на одном немаловажном феномене. Мы его обозначили
как харизматическое самоуничижение. Вождь-политик, что мы видим на каждом углу,
заботливо скрывает собственные амбиции, выставляя себя “слугой народа”, против своей
воли и как бы нехотя берущего на себя делегированное ему бремя власти. Повествования,
свидетельствующие о так называемой “скромности”, “неприхотливости” “великих и
простых” вождей народов, являются зачастую неотъемлемой частью их биографических
нарративов. Разумный психотерапевт также зачастую склонен лицемерно преуменьшать
силу своего воздействия на клиента и относить результативность терапии на счет
собственных ресурсов последнего. Дискурсивная стратегия, выстраиваемая в таких
случаях, сводится к тому, что, дескать, он, терапевт, сам якобы почти и не лечит, а только
освобождает
86
и направляет собственные природные силы пациента. Организм (или же личность, в
зависимости от исходной концепции) делает свое дело сам, он же, терапевт, всего лишь
помогает “природе”. Несмотря на кажущееся самоумаление, коррумпирующая ценность
такой позиции очевидна: пациенту отчетливо явлена исключительная мудрость человека,
отнюдь не бросающего скудоумно-дерзкий вызов предустановленной гармонии, а,
наоборот, кротко, но твердо исполняющего волю высших сущностей, которым он
оказывается, таким образом, и сам причастен.
***
Предвидя наши сложности с уяснением того, что же представляет собой феномен
харизмы, классики психологической науки немало потрудились над созданием
концепций, проливающих свет на это дело. Обсуждение их вклада в интересующую нас
проблематику следует начать, естественно, с Фрейда. Мы имеем в виду его труд
“Психология масс и анализ человеческого Я”. Одна из основных идей этого сочинения
сводится к тому, что в лидере любой “искусственной” массы (будь то войско или церковь)
каждый из принадлежащих к этой массе видит как бы отца или во всяком случае его
отношение к этому лидеру сродни отношению ребенка к отцу (З. Фрейд, 1991). Чувство
преклонения перед лидером и зависимости от него идут рука об руку с желанием
идентифицироваться с ним. Конечно, добавим мы, нет никаких сомнений, что основы
взаимоотношений харизматического и его последователей начинают закладываться в
родительских семьях.
Обстоятельства таковы, что вынуждают харизматического играть роль, которая сродни
отцовской. Они не оставляют всем зависящим от него ничего другого, кроме как
инфантильной позиции, одна из главных черт которой — зависимость от авторитета,
готовность ему подчиняться. Это имеет место даже в том случае, когда лидер
(политический или же психотерапевт) ведет идущих вслед за ним по направлению к
состоянию, предполагающему личную автономность и ответственность, как это имеет
место, например, в гештальттерапии. Этот случай предписывает некоторую степень
харизматического самоуничижения, о чем шла речь выше, однако все равно это движение
к освобождению происходит с его, лидера, подачи и под его плотным контролем. Стать
действительно свободным возможно только после разрыва с опекавшим тебя
“отцеподобным” персонажем, подлинная ответственность предполагает неизбежно
собственную “отцеподобность”. Это одинаково приложимо и к общественнополитической ситуации и к психотерапевтической, причем как к отношениям терапевт —
пациент, так и к отношениям терапевт — ученик.
87
Кроме того, многое в динамике харизмы может быть понято при помощи
психоаналитических концепций, в которых рассматривается история развития отношения
индивидуума к окружающей его реальности. Так, Ш. Ференци пишет о стадиях
“бессознательного величия”, “магического величия жестов” и др. (Ferenczi S., 1916, цит.
по Блюм Г., 1996, с. 68), а Х. Кохут о “грандиозном Я” младенца (H. Kohut, 1977).
Психоаналитическая теория многое может прояснить здесь, отсылая нас к воспетому ею
феномену младенческого всемогущества, которое берет свое начало в тот период, когда
окружающий мир управляется криком, а любое желание, возвещенное этим криком,
быстро удовлетворяется.
Часто повторяющееся в истории психотерапии восстание ученика против учителя,
завершающееся уходом из родительской школы и созданием своей, очень хорошо может
быть описано в духе динамики Эдипова комплекса и некоторых его преломлений. Отход
от отца-учителя может рассматриваться как вполне адекватная метафора отцеубийства.
Тут, на ум опять (см. выше) приходит ситуация первобытной орды, описанная З. Фрейдом
в “Тотеме и табу”. Там, как известно, отца-вожака, занимающего самое теплое место у
костра, получающего лучший кусок мяса и имеющего самых молодых и красивых самок,
убивают восставшие дети, после чего берут господство в свои руки. В других, тоже
заслуживающих внимания случаях такие же подросшие честолюбцы создают свои школы
в психотерапии. Вообще, метафора отцеубийства является очень подходящей для
обозначения в структуре биографического повествования ситуации, обозначающей точку
начала путешествия харизматического в большой мир.
Не плохо вспомнить здесь и о таком психоаналитическом концепте, как нарциссизм. Без
лишних разговоров ясно, что никакой ненарцистической харизмы не бывает, ибо, пока
либидо не обратится на свой собственный источник (как это должно происходить в
нарцистических ситуациях), трудно ожидать, что к этому источник) устремятся либидо
других субъектов. Психотерапевтическая реальность, формирующая и усиливающая
именно профессиональный нарциссизм, как никакая другая терапевтическая практика,
складывается в значительной степени под знаком встречи нарцистического и
харизматического компонентов личности терапевта.
К. Г. Юнг, подобно З. Фрейду, также предусмотрительно позаботился о своем вкладе в
концепцию харизматического влияния. Среди описанных им архетипов наш интерес
может привлечь Мана — архетип духовного принципа, воплощенный в образе
“старейшего — мудрейшего” в волшебных сказках, хотя и с некоторыми
88
оговорками. Этот архетипический персонаж обычно дает герою решающий совет или
наделяет, к примеру, неуязвимостью против вражеских козней, а то и снабжает неким
волшебным оружием, исключительно действенным в любой ситуации (C. G. Jung, 1982, s.
412). В других случаях он наставляет героя на верный путь, обучает особым тайным
премудростям. В контексте нашего исследования получается так, что этот архетип можно
рассматривать как один из бессознательных источников харизматических свойств, причем
он имеет отношение к эремитической, центростремительной составляющей харизмы.
Понятие инфляции, в значении, которое в него вкладывает К. Г. Юнг, тоже может помочь
прояснить некоторые аспекты феномена харизмы: “Расширение личности за пределы
индивидуальных границ, происходящее путем идентификации с архетипом или в
патологических случаях, с какой-нибудь исторической или религиозной фигурой. В
нормальных случаях проявляется своеобразным высокомерием и компенсируется
соответственно чувством неполноценности” (C. G. Jung, 1982, s. 412).
А. Адлер, со своей стороны, более прозорливо, чем Фрейд и Юнг вместе взятые,
предвидел грядущий интерес к харизматической проблематике, в особенности же когда
писал о том, как в процессе терапии происходит “раскрытие недостижимо высокой цели
превосходства над всеми, стремления пациента к ее тенденциозному завуалированию, его
стремление к власти над всем миром, его несвободы и враждебности к людям,
порождаемых этой целью” (А. Адлер, 1995, с. 78—79). Эти соображения затрагивают
самую сердцевину, коренную сущность обсуждаемой нами темы, раскрывая реальные
мотивы харизматического поведения, хотя эти мотивы и не являются для него абсолютно
специфическими. Нетрудно также провести параллель между темой компенсируемой
неполноценности, одной из центральных в адлеровской терапии, и такими элементами
харизмы, как описанные И. Шиффером “неполноценность” и “бойцовская позиция”. В
основе теории индивидуальной психологии как раз и размещается взаимная зависимость
этих двух моментов. С этой точки зрения харизматические “особые свойства” вполне
могут вырабатываться в процессе преодоления детского чувства неполноценности. В
любом случае такой мотив будет весьма притягательным для сочинителей биографий,
описывающих жизненный путь харизматических персонажей. Также не исключено, что в
других случаях те же ощущения неполноценности вызывают ожидания и потребность
особых свойств и готовят человека для их восприятия.
Другие психотерапевтические школы, с продвинутыми и богатыми техниками,
интересны для нас скорее с точки зрения возможности практического овладения
навыками харизматического
89
поведения. Интерес в этом смысле представляют как психодрама, так и гештальттерапия,
равно как и НЛП вкупе с эриксонианской терапией. Однако обоснование и обсуждение
весьма интересного проекта харизматического тренинга не входит здесь в наши задачи.
Еще одна область, откуда мы можем с пользой для себя позаимствовать метафоры,
чтобы получше определиться с концепцией харизмы, — клиническая психиатрия.
Клинические авторы, как известно, описывают не только изолированные симптомы и
синдромы, но и целостные клинические характерологические образы. Эти описания
вполне приложимы не только к узко психиатрической сфере, но и к проблемам за ее
пределами. Иначе говоря, мы сделаем несколько шагов по патографическому пути, о
котором речь шла еще в первой главе. Мы рассматриваем здесь клинические феномены в
качестве метафор, собственно потому, что они не имеют прямого отношения к
психическому статусу интересующих нас харизматических персонажей (реальных и
возможных), но при этом помогают обрисовать стиль и направления их деятельности.
Так, К. Ясперс видел сущность истерической личности в том, что “...она имеет
потребность казаться себе и другим чем-то большим, чем является на самом деле, и делать
вид, что испытывает переживания в большей мере, чем она способна их испытывать” (K.
Jaspers, 1973, s. 370). Демонстративность является основным свойством истерической
личности и тут же мы вспоминаем, как велика роль внешней, актерской, “спектаклевой”
составной части харизматической деятельности, собственно того, что было обозначено
выше как charisma of hoax. Харизматический не только старается казаться “чем-то
большим, чем является на самом деле”, но и, почти буквально следуя классическому
определению К. Ясперса, всячески драматизирует свои идеи, поддерживая во всех, кто
попадает в поле его влияния, особое, напряженное, состояние сознания. Речь идет о том,
что К. Ясперс обозначил как энтузиастическая установка (K. Jaspers, 1922, s. 119—137).
То есть демонстрирует, что “испытывает переживания в большей мере, чем способен
испытывать”.
Мы говорим здесь об истерии не как о клиническом феномене, а как о вполне
пригодном материале для метафоры, которая, безусловно, обогатит наши представления
об исследуемом предмете. То есть, речь вовсе не идет о том, что харизматический —
непременно истерическая личность (чего, разумеется, в каком-то отдельном случае нельзя
исключить), просто для существенных свойств харизмы “истерия” может служить
иллюстративной моделью. Справедливости ради надо сказать, что выраженные
демонстративные черты чаще приходится наблюдать в
90
общественно-политической жизни, чем в биографических портретах крупных
психотерапевтов, которые разумно пытаются следовать принципу харизматического
самоуничижения.
Вторая, также очень подходящая здесь клиническая метафора — метафора паранойи.
“Самым характерным свойством параноиков является их склонность к образованию так
называемых сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются; эти идеи
заполняют психику параноика и оказывают доминирующее влияние на все его поведение.
Самой важной такой сверхценной идеей параноика обычно является мысль об особом
значении его собственной личности” (П. Б. Ганнушкин, 1933, с. 36—37). “Особое
значение собственной личности” — конечно, именно это создает харизматическую
готовность, представление об исключительности собственной миссии. Как мы помним,
это связано с ключевым моментом в биографии “героя”, а именно с обретением
призвания. Что касается “склонности к образованию сверхценных идей”, то здесь тоже все
совершенно ясно. В психотерапии чаще всего имеет место одновременное присутствие
двух известных клинических феноменов этого круга. “Паранойя изобретения”
сочетается с “паранойей борьбы”, иначе говоря, харизматический автор
психотерапевтической новации тратит множество усилий на преодоление препятствий на
пути распространения своих идей. Исключительная преданность идее, невозможность ей
изменить, то есть в какой-то мере сверхценное к ней отношение, неизбежно входит в
любой харизматический репертуар. Уточним, что и паранойя понимается здесь как
метафора и харизматический отнюдь не должен быть ею непременно “болен” (впрочем, с
другой стороны, это и не возбраняется). Такое уточнение необходимо тем более, что в
качестве самостоятельной нозологической единицы эта болезнь давно, как известно, не
трактуется, будучи “поглощена” другими, тоже вполне достойными.
Третья основная часть харизматической деятельности связана с разными ритуалами и,
как выше отмечалось, с внимательным отношением к точному их соблюдению. Если в
общественно-политической или религиозной жизни ритуал относится к сфере
приветствий, посвящений и т. д., то в психотерапии ритуальная часть связана с техникой
лечения и особое отношение к ней имеет для харизматика, да, впрочем, и для просто
терапевта исключительно важное значение. Напрашивающаяся здесь клиническая
аналогия — это, конечно же, навязчивость, точнее, навязчивое действие, то есть нечто
нам чуждое, что мы, однако, должны при определенных обстоятельствах обязательно и
строго соблюдать, при этом — неизвестно зачем (навязчивые действия чужды здравому
смыслу). Неисполнение точно и в срок грозит непонятными, но ужасными последствиями.
91
Когда в различных психотерапевтических текстах речь идет о технике, то зачастую мы
сталкиваемся здесь с твердостью в системе предписаний и запретов, причем твердость эта
носит характер почти навязчивый. Длительное наблюдение за применением одного и того
же метода не может не вызывать ощущение определенного утомления: психоаналитики
упорно ищут “первичную травму” и генитальную символику, роджерсианцы попугайно
повторяют фразы за клиентом, гештальттерапевты пристают со стереотипным вопросом
“А что это для вас?” и неизменно устраивают игры с пустыми стульями (понятно, мы в
данном случае карикатурно преувеличиваем действительное положение дел, вовсе не
столь уж безнадежное). Мы перечислили только малую часть технических стереотипов,
которыми изобилуют разные методы. Важны не столько рациональные основания
применения того или другого технического приема, сколько вера в необходимость делать
именно так, а не иначе. Таковы метафоры, заимствованные из клинической сферы,
помогающие нам лучше представить себе сущность харизматического поведения.
Перед нами интересующая нас харизматическая личность. Мы вглядываемся в ее черты
с отчетливым чувством неприязни. Нам претят бросающаяся в глаза демонстративность,
нас отталкивает узколобое идеологическое упрямство, нас раздражает однообразнонавязчивое поведение. Свое харизматическое обаяние он приумножает безотказным
воздействием “этически-возвышенных” дискурсов. Посвященные, например, “любви”,
“истине”, “смыслам”, они превращаются в орудия осуществления влияния, встраиваются
в полемическое состязание, превращаются в некую приманку, в орудие соблазнения.
Единственное оправдание всего этого заключается в том, что только при наборе именно
таких свойств, как показывает исторический опыт, рождаются серьезные и интересные
психотерапевтические идеи, которые впоследствии получают широкое распространение и,
наверное, все же иногда служат делу помощи тем, кто в этом нуждается. Как уже было
сказано, психотерапевтический метод есть предмет частного интереса
психотерапевта. И чем больше этот интерес будет реализован, тем сильнее вероятность,
что новая концепция будет плодотворной и действенной и примирит новую
многочисленную школьную паству с занятиями психотерапией.
***
Каким же образом идет здесь процесс развития и становления? Как же в итоге получается,
что мы имеем то, что наблюдаем? В
92
сущности, модели развития личности от рождения до формирования харизмы и дальше
могут быть самыми разными и не отличаться коренным образом от других известных
моделей развития личности. Здесь возможно описание различных периодов этого
развития, причем эта периодизация во многом будет складываться из этапов само собой
разумеющихся — от ученического раннего этапа до стадии, завершающей путь.
Сформировать привлекательный биографический нарратив для харизматического можно
только задним числом (понятно, что именно привлекательность такого нарратива будет
главной задачей сочинителя). Однако некоторые своеобразные закономерности этих
историй могут быть предсказаны отчасти и заранее, что, конечно, важно не только для
исследователя истории психотерапии, но и для практикующего терапевта.
Итак, своеобразие первой стадии, которую можно обозначить как ученическая или,
например, латентная, заключается в том, что происходит не просто накопление знаний и
опыта, но одновременно формируется критически-агрессивное отношение к той
парадигме, в которой будущий харизматический лидер воспитывается. Все это связано
отнюдь не только с поиском реальных недостатков существующей парадигмы (хотя это
тоже очень важно), но и с формированием своеобразных личностных черт. В первую
очередь речь идет об известном феномене, обозначаемом как ressentiment, то есть
коренящееся в обостренном ощущении ущемленности и невостребованности
честолюбиво-агрессивное, мстительно-реваншистское умонастроение. Этот феномен,
описанный и введенный в широкий обиход Ф.-Ницше, М. Шелером, что и говорить, дело
крайне неспецифическое для любого биографического повествования. Здесь важно, каким
именно образом тема ressentiment’a встраивается в эту повествовательную структуру.
Иначе говоря, в какой степени он проявляется и реализуется, или, наоборот, игнорируется
и подавляется. У харизматического это должно быть выражено явно и интенсивно, хотя
неясно, в какой степени следует его культивировать, поощрять, да и возможно ли это
вообще (поощрение тут будет носить характер провокационно-парадоксальный).
Ressentiment в структуре личной истории играет роль как бы мотора новаций,
совершаемых героем этой истории.
Таким образом, по нашему убеждению, осваивая психотерапевтическое дело, надо
одновременно учиться подвергать его обстоятельной и обоснованной критике. Совсем не
лишним было бы ввести в обучающие программы разделы по критике усваиваемого
материала. Вряд ли следует ожидать, что такая (принципиальная и честная) постановка
вопроса приведет в восторг кого бы то ни было. Говоря в данном контексте об
“агрессивном”,
93
мы, конечно, имеем в виду крайне мягкие интеллектуально-полемические формы
проявления агрессии. В идеале при завершении обучения новый терапевт должен не
только ясно понимать, почему надо делать именно так, а не как-нибудь иначе, но
одновременно при этом уметь толково объяснить, почему делать именно так — это
никуда не годится. Ежели, однако, не удастся сделать так, чтобы обучающийся
одновременно совершенствовался в критике того, чему учится, то уж хотя бы пусть время
ученичества обогатится основательным и добросовестным изучением исследования под
названием “Как создать свою школу в психотерапии...”. Это будет разумно и справедливо.
Период ученичества подводит нашего героя вплотную к следующему этапу —
кристаллизации. Процесс кристаллизации идей в этом случае идет параллельно с
личностной трансформацией, начинающейся с описанного И. Шиффером “призвания”calling, то есть осознания своей миссии с последующим “сужением сознания” в
паранойяльном духе. Иначе говоря, рождающийся харизматический герой делает свой
интеллектуальный и экзистенциальный выбор приблизительно одновременно, а сделавши
его, почти всегда обнаруживает тенденцию ограничивать свою деятельность и свой
кругозор рамками выбранного.
Сама же кристаллизация — нарождение новой идеологи, без труда может быть
разделена на различные этапы. Метафорой, подходящей для описания этих этапов, может
служить, например, классическое учение о стадиях развития бреда при эндогенных
психозах. Так, выделяют “первичное бредовое настроение”, характеризующееся наличием
непонятных для человека подозрений и ожиданий. На смену ему приходит так называемая
кристаллизация бреда, то есть осознание, формирование некоего сюжета, согласно
которому больному становятся понятны и обоснованы до того неясные переживания.
Бредовой сюжет постоянно уточняется и развивается. Все больше и больше событий,
явлений, людей вовлекаются в этот сюжет, то есть происходит генерализация бреда и так
далее (см., например, K. Jaspers, 1973, s. 82 ff.). В общих чертах приблизительно то же
самое должно происходить при формировании определенного круга идей. Начинается все
с неудовлетворенности, которая поначалу может быть неотчетливой, затем приобретает
более ясные очертания и в конце концов приводит к все возрастающей жажде перемен,
каковые в хорошем случае энергично реализуются. Упоминавшуюся выше своеобразную
(паранойяльную) ограниченность автора этих проектов следует воспринимать как
необходимое условие (неизбежное зло!), которое должно соблюдаться при этих
идеесозидательных процессах. Понятно, что человек, который не относится
исключительно ревностно к
94
миру своих идей, вряд ли сможет рассчитывать на серьезное продвижение в
интересующем его и нас направлении.
Здесь важной является одна закономерность, уже обсуждавшаяся выше, которую мы
могли бы обозначить как правило несменяемости идеологии ритуала. Правило это, нам
кажется, можно было бы сформулировать приблизительно так: если харизматический
разворачивает свою деятельность в каком-нибудь одном идеологическом и ритуальной
пространстве, то ему следует всю жизнь придерживаться раз провозглашенных им
принципов и обрядов. В самом деле, если твоя концепция служит не просто научной
теорией, а объектом борьбы, если ты на это дело подбил группу людей, связал их с собой
договорами, писаными и устными, вовлек в основанное тобой какое-нибудь там общество,
то “пересмотр взглядов” будет расценен не как проявление исследовательской честности,
а как предательство интересов дела. Когда мы говорили о том, что деятельность
харизматического несет на себе “паранойяльные” черты, то имелось в виду отчасти и это.
Он очень скован в своем маневре и в любом случае становится заложником тех мифов и
ритуалов, которые сам насочинял, а также тех, кто имел несчастье во все это впутаться.
Здесь и речи нет об идеологическом постоянстве, относящемся к ученическому
периоду, который завершается к моменту кристаллизации основного проекта. Собственно,
первый и главный шаг заключается в том, чтобы порвать с идеологией периода
ученичества. Та идеология, с которой происходит разрыв, она, в сущности, изначально
чуждая, навязанная извне во время биографического отрезка, характеризующегося
пониженной ответственностью, так что порвать с ней, предложив при этом что-то свое —
дело вполне закономерное, даже благое.
Широкое распространение метода приводит к относительному ослаблению интереса к
нему. Школа, прошедшая период экспансии, вступает, как мы хорошо знаем, в пору
инфляции. В динамике развития харизматической личности этот этап совпадает с
процессом обудничивания (Veralltaeglichung, М. Вебер, 1988). Проделавшая успешное
развитие психотерапевтическая школа бюрократически структурируется, обрастает
издательскими и обучающими институтами. В отдельных случаях она может срастаться с
официозными педагогическими и социальными структурами, что, к сожалению, помогает
ей преодолеть свою первоначальную маргинальность. Происходит очень много такого,
что делает харизму создателя либо вовсе ненужной, либо недостаточно востребованной.
Харизматическое перерастает в легитимное, создаются законы, по которым проводится
обучение и разрешается практиковать данный метод. Новаторское учение, как уже
95
говорилось, постепенно превращается в “просто метод”, вокруг которого сооружаются
рутинные иерархии. Одним словом, делается все для того, чтобы со временем появился
новый смельчак, испытывающий непреодолимое желание стукнуть молотком по всему
этому зданию и уйти потом прочь от груды развалин с котомкой за плечами и посохом в
руке искать своего счастья.
Если, однако, иметь в виду нынешний этап развития психотерапевтического дела,
нетрудно заметить, что харизматический фактор претерпел серьезные изменения по
сравнению с тем, что можно было наблюдать в начале века. В начале века психотерапий
было намного меньше числом, чем теперь, и, к примеру, Фрейд, с которого, собственно, и
пошел отсчет господства харизматических в психотерапии, находился в несравненно
более выгодном положении, чем современные авторы. К сегодняшнему дню дело
производства новых школ поставлено на исправно работающий конвейер. Период после
второй мировой войны радует нас прямо-таки лавинообразным ростом числа новых “сект
с учителем во главе”.
В сущности, жизнь множества терапевтов складывается так, что они только ищут
повода для того, чтобы отделиться от родительского учения и основать собственное дело.
Ведь, очень немного надо для того, чтобы испытать чувства, о которых писал Ф. Фарелли,
создатель провокативной терапии, переживая рождение своего детища: “Я был просто
заинтригован открывающимися возможностями моего нового подхода. Вечером дома я
мерил комнату шагами и все время повторял Джун: “Теперь я знаю, что чувствовал
Колумб, когда открыл Америку.” Я сравнивал разные подходы к лечению клиентов и
противопоставлял их, обдумывал, как начать новые беседы и сеансы. Я был уверен в
победе, она была сладка и превышала все заплаченные цены: слезы, потуги, рвоту,
бессонницу, усталость и перерабатывание” (Ф. Фарелли, Д. Брандсма, 1996, 42). Как мы
видим, “оргазм рождения метода” (назовем это так) переживается очень интенсивно, а,
главное, путь к нему несравненно более “внутренне простой и внешне легкий” (Ф. Е.
Василюк, 1984), чем, скажем, во времена Фрейда.
Как бы то ни было, в психотерапевтическом мире стало больше харизматических
авторов. При этом отдельные школы получили намного больше возможностей для
распространения своих идей, чем это было в начале века или даже позже, но до
наступления эры господства электронных средств массовой информации. Новые методы
создаются в большем количестве, но при этом легко предположить, что удельное влияние
каждого из них не такое мощное, как в старые времена, когда их было не так много.
Харизматический охват, быть может, стал шире благодаря
96
развитию СМИ, но харизматический цикл по той же причине совершается, видимо, более
стремительно. Путь от возникновения до рутинизации и обудничивания, до инфляции,
проходится намного легче. Широта охвата по сравнению с упомянутыми временами
возросла, видимо, только в абсолютном отношении, за счет большего распространения
психотерапии вообще. Однако с ростом числа “охваченных” той или иной школой, то есть
при хороших абсолютных “показателях”, относительное влияние каждой из них,
естественно, снижается пропорционально росту их общего количества. Здесь надо
уточнить, что все разговоры об охвате, о “величине”, количестве носят очень общий,
приблизительный и гипотетический, хотя и вполне правдоподобный, характер. Этот
разговор неизбежен, как любое привлечение количественных показателей при оценке
влияния и распространенности той или иной идеи.
В один и тот же исторический период разные школы находятся на разных этапах своего
развития.
“Старый”
психоанализ
соседствует
с
относительно
юным
нейролингвистическим программированием, зрелая клиентцентрированная терапия — с
безусловно дряхлым классическим гипнозом. Безусловное преимущество новых школ —
их новизна сама по себе, а также то, что их создатели живы и посредством своей —
первичной — харизмы способствуют развитию и распространению своих проектов.
Совершенно ясно, что с точки зрения практикующего психотерапевта малая первичная
харизма лучше, чем большая вторичная, унаследованная от отца-основателя и прошедшая,
как это всегда бывает, через множество рук. Поскольку видимость особых свойств
терапевта всегда будет пользоваться особым спросом возможных пациентов, мы считаем,
что паника, имеющая место по поводу “перепроизводства” школ в психотерапии (см.,
например: H. Omer & P. London, 1986), связана с неправильным пониманием сущности
взаимоотношений психотерапевта со своим методом.
Ответственное отношение к сегодняшней психотерапевтической ситуации заставляет
нас искать единственно разумный и верный ответ на важнейший вызов, существующий в
сегодняшнем психотерапевтическом сообществе. Надо ясно и твердо признать, что это
вовсе не вызов избытка, множественности школ, а, наоборот, как мы уже не раз говорили,
их недостатка. Выбирая такой именно вызов (то есть реальные обстоятельства, которые
мы расцениваем как вызывающие) и формулируя именно такой ответ на него, мы
понимаем, что это только часть дела. Практическое осуществление идей, обсуждавшихся
в этой главе, могло бы вылиться в специальные тренинговые программы, направленные на
формирование или “разогревание” харизмы.
97
Здесь необходимо уточнить, что мы вовсе не имели ввиду противопоставлять харизму
реальным профессиональным навыкам, равно как и теоретической деятельности. Ясно,
что все это дополняет друг друга, а в хороших случаях усиливает. Надо только отдавать
себе отчет в том, что речь идет о разных вещах, и уделять внимание всему в должной
мере.
Верное понимание роли харизмы в психотерапии создает одну из важных предпосылок
для деконструкции психотерапевтического знания. Это понимание необходимо для того,
чтобы разобраться со своеобразием психотерапии как специфической практики, со
своеобразием взаимоотношений терапевта со своим методом.
Хотя эта глава и не имеет отношения к основной задаче нашего исследования — а
именно структурному анализу школьных теорий и техник, нам представляется, что речь в
ней идет об исключительно важных проблемах, затрагивающих коренную сущность
психотерапевтической деятельности, и имеющих непосредственное отношение к жизни
желаний терапевта. Именно стремление к харизматическому влиянию лежит в основе
желаний психотерапевтов создавать новые методы. Без преувеличения можно сказать, что
харизма являет собой некий неосознаваемый идеал, к которому так или иначе стремятся
психотерапевты. Не в последнюю очередь благодаря ему мы располагаем теми
богатствами, инвентаризации которых будут посвящены следующие главы нашего
исследования.
98
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Синхронический раздел
Введением в тему этой главы может послужить отрывок из работы Р. Барта
“Структурализм как деятельность”. Вот что он пишет: “Целью любой структуралистской
деятельности — безразлично, рефлексивной или поэтической — является воссоздание
“объекта” таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила
функционирования (“функции”) этого объекта. Таким образом, структура — это, в
сущности, отображение предмета, но отображение направленное, заинтересованное,
поскольку модель предмета выявляет нечто такое, что оставалось невидимым, или, если
угодно, неинтеллигибельным, в самом моделируемом предмете. Структуральный человек
берет действительность, расчленяет ее, а затем воссоединяет расчлененное; на первый
взгляд это кажется пустяком (отчего кое-кто и считает структуралистскую деятельность
“незначительной, неинтересной, бесполезной” и т. п.). Однако с иной точки зрения
оказывается, что этот пустяк имеет решающее значение, ибо в промежутке между этими
двумя объектами, или двумя фазами структуралистской деятельности, рождается нечто
новое, и это новое есть не что иное, как интеллигибельность в целом” (Р. Барт, 1994, с.
255). “Структуральный человек” занят “строительством мира, который походит на
первичный, но не копирует его, а делает интеллигибельным” (ibid., с. 255).
По Р. Барту, “структуралистская деятельность включает в себя две специфические
операции — членение и монтаж. Расчленить первичный объект, подвергаемый
моделирующей деятельности, — значит обнаружить в нем подвижные фрагменты,
взаимное расположение которых порождает некоторый смысл...” (ibid., с. 256). Это первая
операция, а затем, “определив единицы, структуральный человек должен выявить или
закрепить за ними правила взаимного соединения: с этого момента деятельность по
запрашиванию сменяется деятельностью по монтированию” (ibid., с. 258).
Итак, членение и монтаж, с одной стороны, с другой же — инвентаризация
накопленного психотерапией богатства одновременно с разбором возможностей эти
богатства приумножить —
99
вот цель этой и следующей главы нашего исследования. Чтобы, однако, больше не
возвращаться к теме “монтажа”, напомним, что тема “соединения” и его правил относится
к обсуждавшемуся в первой главе эклектически-синтетическому проекту. Главное и,
пожалуй, единственно заслуживающее внимания правило “монтажа” сформулировано
нами, напомним, так: “все, что угодно, соединяется со всем, чем угодно, каким угодно
образом”. Правило это, без сомнения, очень строгое, не допускающее никаких
исключений.
Прежде чем перейти к анализу и описанию структуры школьных теорий, напомним, в
чем, собственно, состоит их действительное значение для психотерапевтов. Мы не можем,
по вполне понятным причинам, основательно и подробно изложенным выше, принять ту,
весьма распространенную, но крайне сомнительную точку зрения, что теория в
психотерапии предназначена в первую очередь для уяснения действительного положения
дел и преследует цель сделать тот или иной объект понятным и сподручным в смысле
оказания на него того или иного воздействия. Такое заблуждение связано с тем, что к
психотерапии в данном случае относятся так, как если бы она была заурядной
терапевтической
практикой,
как,
например,
какая-нибудь
хирургия
или
оториноларингология. Психотерапия, в отличие от них, гуманитарная терапевтическая
практика, а кроме того, как мы уже говорили, сфера реализации идеологическинарцистически-харизматических желаний терапевта. Правильное понимание значения
школьной теории связано с проблемами интересов терапевта, с задачами формирования
идеологического пространства для реализации его собственных интересов.
Безусловно, важнейшее назначение школьной теории заключается в том, чтобы
обслуживать харизму создателя школы и его последователей. Главное требование,
предъявляемое к школьной теории в этой связи, — быть привлекательной, интересной,
соблазнительной для возможных последователей. Гипноз концепции в целом, равно как и
отдельных ее частей, суггестивное воздействие школьной теории на возможных адептов,
это не менее важный фактор, чем адекватное толкование так называемой
психотерапевтической реальности. Если, однако, быть более точным, то и так называемая
адекватность тоже служит целям укрепления позиций влияния, “научность” в
обосновании методов тоже встраивается в конкурентно-властные состязания школ.
Вообще же тему “соблазнительности”, “интересности” теории и ее составных
необходимо отслеживать постоянно при исследовании любого психотерапевтического
текста. Иначе говоря, недостаточно просто говорить о соблазнении как таковом.
Необходимо разобраться в том, что и как соблазняет в теории.
100
Каждый составной элемент теории — это еще и “приманка”, о чем речь пойдет ниже.
Кроме того, школьная теория играет роль своеобразного тотема, вокруг которого
собираются товарищи по парадигме, объединяясь, чтобы дать отпор оппонентам. Любое
из теоретических положений создает повод для применения властных практик, каковые, в
частности, реализуются в принуждении следовать положениям школьных идеологий под
страхом изгнания из школьных институций.
Известный пример упражнения в такой практике приводит в своих воспоминаниях К. Г.
Юнг: “Я живо вспоминаю, как Фрейд сказал мне: “Дорогой мой Юнг, обещайте мне
никогда не отказываться от сексуальной теории. Это самое существенное. Видите ли, мы
должны из этого сделать догму, несокрушимый оплот”. Он сказал мне это с большим
воодушевлением, тоном отца, говорящего сыну: “Обещай мне, дорогой сын, каждое
воскресение посещать церковь!” Несколько удивленный, я спросил у него: “Оплот —
против чего?” На что он ответил: “Против черного потока грязи” — тут он немного
помялся и добавил: “Против оккультизма”. Меня испугал в первую очередь разговор об
“оплоте” и о “догме”; ибо догмы, т. е. не подлежащие обсуждению положения,
провозглашают там, где раз и навсегда хотят подавить сомнение. Однако к научному
заключению это не имеет никакого отношения, а связано только с личным стремлением к
власти (курсив наш — А. С.)”. (C. G. Jung, 1982, s. 155).
Другой аспект значения теории может быть связан с вполне конкретной, прагматически
утилитарной задачей, а именно с тем, чтобы играть роль терапевтической метафоры.
Пациенту нередко говорят: “Существует, знаете ли, такая теория...” — и, неважно
существует она или нет, порой придумывая на ходу, эту теорию ему и излагают,
метафорически обрисовывая механизмы формирования его проблем, равно как и способы
выхода из создавшегося положения. Разумеется, в разных парадигмах к таким действиям
могут относиться по-разному. Ясно, что есть терапии, ориентированные на получение
опыта “здесь и сейчас”, что, естественно исключает возможность любого
теоретизирования в процессе работы. Но ведь здесь мы только обсуждаем различные
возможности.
И наконец — уж так и быть — признаем за психотерапевтической теорией
эпистемологическую роль, которая ей, с некоторыми оговорками, все же присуща,
объяснять суть имеющихся проблем и намечать пути их преодоления. Но эти соображения
являются само собой разумеющимися и поэтому не представляют особого интереса, на
них не стоит подробно останавливаться.
101
Следует иметь в виду одно исключительно важное свойство “хорошей”,
привлекательной теории. Это относится как к анализу существующих на сегодняшний
день теорий, так и к возможному сочинению новых. Необходимо, чтобы в тематическисодержательном плане школьная теория трактовала “интересные” проблемы. В
соответствии с названием известного эссе А. Шопенгауэра (А. Шопенгауэр, 1997), теории
следует писать “об интересном”. Мы имеем в виду ни в коем случае не научный
интерес, но интерес, скажем так, экзистенциальный. Несмотря на крайнюю
неопределенность этого нашего положения, мы полагаем, что речь идет о вещах вполне
реальных, отчетливо убедительных. Без сомнения, содержательная часть концепций
должна касаться очень важных реалий жизненного мира человека, ибо вполне нетрудно
предположить, что именно серьезность этих проблем связывает их с реальной патологией
пациентов, встречающихся в клинической практике. В любом случае связь между
патологией и экзистенциально важной для человека проблемой всегда выглядит
убедительно. Интерес у потребителя теоретического продукта вызывает то, что так или
иначе затрагивает его реальные интересы. Корреляции между “интересным” и
“патологическим” выстраиваются легко и естественно и выглядят убедительно.
Собственно, глядя на историю психотерапии, мы видим, что чем “интереснее” тематика
содержательной части, тем школа более жизнеспособна и в большей степени
востребована.
Примеры, подтверждающие это наше положение, известны всем. Сколь бы ни была
обоснованной критика в адрес психоанализа (за “редукционизм”, “пансексуализм”,
“биологизаторство”), большим преимуществом была и остается его “интересность”.
Семейная история, инфантильная сексуальность, бессознательное и сновидения, да что ни
возьми — вне зависимости от того, насколько это все соответствует действительному
положению дел, — вещи крайне “интересные”, что и говорить. Индивидуальная
адлеровская психология, где речь идет о компенсации первичной неполноценности, о
стремлении к властному доминированию, — и это в высшей степени интересно.
Интересным может быть отнюдь не только “гедонистическое”, но также и так называемое
“возвышенное”, что ясно на примере других направлений — от юнгианства до
гуманистической психологии. Идеологическая область “возвышенного” в структуре
школьных дискурсов формируется противопоставлением поля “творческого”,
“прекрасного”, “вечного” — повседневной рутине, “падшести”, заурядности обыденной
жизни. Трансцендентальные смыслы, религиозные ценности, самоактуализация и пр. так
или иначе относятся к этой области, годятся для формирования такого рода
102
идеологической оппозиции. Имея дело с такого рода построениями, всегда охотно
веришь, что ущемление области “возвышенного” безусловно оказывает патогенное
действие, в то время как именно культивирование ее в любом виде действует неизменно
благотворно. На противопоставлении “возвышенного” “низкому” построена в
значительной степени клиентцентрированная терапия, логотерапия или, к примеру,
арттерапия, с другой же стороны — любой религиозно ориентированный подход, вне
зависимости от конфессии.
“Интересное”, то есть вызывающее интерес, всегда выглядит как важное, значительное,
существенное. Мы обследуем мысленным взором жизненный мир человека и усматриваем
в том, что с ним происходит, несомненную связь с возможной патологией. Нет сомнений,
что “интересная” интерпретационная стратегия будет всегда намного более убедительна,
чем “неинтересная”. К примеру, намного больше шансов на то, чтобы быть
востребованной у теории, которая оперирует “ущемленной сексуальностью”, чем подход,
опирающийся на сферу понятий, ограниченной “стрессами” или каким-нибудь
“переутомлением” в качестве существенного элемента патогенеза. Психотерапевт, будучи
не в состоянии убедить в объективной валидности своей школьной теории, должен уметь
вызывать к ней интерес.
Каждая психотерапия, одним словом, формирует свою область “интересного”, если же
этого нет, то, как уже говорилось, отвоевывать себе пространство придется какой-нибудь
неслыханно эффективной техникой. Однако спрашивается, зачем связывать себя таким
ненадежным делом, как безусловный терапевтический эффект, когда интерес к своему
методу можно сформировать давно проверенным способом. Конечно, мы знаем о
существовании подходов, где осуществляется именно такой путь, то есть путь
“надежного” исцеления без “интересных” личностных концепций. Понятно, речь идет о
терапиях поведенческо-когнитивного круга, ну а в особенности о НЛП.
Кроме того, крайне сложно представить себе жизнеспособную теорию, основанную на
понятиях, заимствованных из сферы общей, “неинтересной” психологии, когда речь идет,
ну скажем, о проблемах памяти, внимания, перцепции. Дело теории в психотерапии —
создавать приманки для возможных последователей, ну и конечно — пациентов.
Деятельность автора, порождающего новую теорию в психотерапии, без особой натяжки
можно уподобить работе сочинителя-беллетриста, и это уподобление будет более
адекватным, чем сравнение с трудом ученого, “наблюдающего факты” и “делающего
выводы”.
Автор сочиняет теорию — помимо всего прочего — исходя из современной ему
ситуации в психотерапевтическом сообществе.
103
Сочиняющий метод находится в состоянии постоянного диалога-дискуссии-состязания с
представителями других направлений. Своим сочинительством он дает ответ на
конкурентные вызовы, и это не может не отражаться на структуре и характере его теорий.
Положения любой концепции полемически интертекстуальны. Этой интертекстуальности
положения любой концепции намного больше обязаны своим своеобразием, чем
конкретной психотерапевтической практикой, которая якобы их породила.
Перечисление и описание элементов теории и техники для нас — это как бы
инвентаризация и подсчет богатств, которые, как мы полагаем, становятся благодаря
нашему подходу намного легче обозримыми, чем это было ранее. Это, считаем мы, уже
само по себе заслуживает внимания. Кроме того мы не излагаем читателю концепцию
готовой школы, где все уже давно прибрано к рукам, но доброжелательно и терпеливо
предлагаем материал для сооружения собственных конструкций, а в идеале —
возможного сочинения собственной теории вкупе с техникой.
Еще один подарок нашему читателю заключается в том, что мы перечисляем и излагаем
не только го, как “ведут себя” структурные элементы в существующих на сегодняшний
день методах, но и пытаемся представить себе, как они могли бы быть по-новому
задействованы в возможных подходах.
Прежде чем мы перейдем к описанию составных частей теории, следует оговориться,
что ни один из описываемых нами элементов не имеет строго обязательного характера.
Иначе говоря, совершенно необязательно его присутствие в той или другой реально
существующей или проектируемой неким автором теории метода. В каждом отдельно
взятом случае сочинения метода можно свободно обойтись без любого из этих элементов.
Однако как обойтись совсем без них — это мы можем представить себе с трудом. Хотя бы
несколько (в соответствии с правилом “чем больше, тем лучше”) придется так или иначе
употребить в дело.
С другой стороны, мы считаем, что вряд ли можно целиком и без пробелов охватить
всю структурную картину теоретического сочинительства. Те понятия, которые мы
собираемся обсуждать, составляют скорее открытый список, чем законченный.
Нам представляется целесообразным с самого начала выделить две исследуемые сферы
— синхроническую и диахроническую. Синхронический раздел будет посвящен анализу
статической, так сказать, части концепций, диахронический соответственно — анализу
того, как в школьных теориях отражаются пути становления личности, возникновения
патологии и начнется проект преодоления возникших проблем. Это различение
104
носит условный характер, отдельные структурные составные из диахронического раздела
могут быть перенесены в синхронический.
ЦЕЛОЕ
Итак, первый составной элемент, выделяемый нами, — это целое. Мы не сделаем
большого открытия, сказав, что разные концепции в психотерапии имеют дело с
совершенно разной картиной мира пациента. Разные исследователи производят различные
редукционные процедуры, вынося за скобки одни реалии и сохраняя в своей концепции
другие. Традиционная критика психоанализа, например, немыслима без обвинений в
биологическом редукционизме. Но дело обстоит так, что любая из школ так или иначе
редуцирует картину мира, в которой живет реальный и возможный пациент. В этом
смысле определенное преимущество имеют эклектически-синтетические подходы. Они
преодолевают такого рода редукционизм количественным путем, ибо ясно, что сумма
нескольких редуцированных картин мира неизбежно будет более полной, чем в условиях
единичной редукции. Синтетически ориентированный подход производит впечатление
большего “богатства”, что и делает его безусловно привлекательным. Латентный смысл
обвинения в редукционизме есть указание на некое обеднение картины мира, сужение
объема целого. В сущности, образ редуцирующей теоретической стратегии выглядит
“обедняющим” по сравнению с “богатством” некоей воображаемой полной картины мира
(исчерпывающая полнота представляется невозможной в рамках любого дискурса).
Обсуждая каждый из составных элементов структуры, должны всякий раз принимать во
внимание его, элемента, реальную или возможную “интересность”. Что касается “целого”,
то, разумеется, интерес к нему связан не в последнюю очередь с его, так сказать,
размерами. Понятно, ставить вопрос о реальном “исчислении” этих размеров мы не
можем, можно говорить только о сравнительном. Так вот, существуют, как известно,
теории, которые в том или ином аспекте сужают жизненное пространство обитания
человека. К ним относятся поведенческие терапии и — постоянная мишень для упреков в
редукционизме — психоанализ.
Пространство личности, редуцированное к условно-рефлекторному, поведенческому
аспекту или к инфантильно-сексуальному, безусловно будет восприниматься как
относительно малое по сравнению с тем, что берется во внимание в тех подходах, которые
рассматривают, так сказать, “человека в целом”. Помимо биологической сферы, они
подробно рассматривают также роль ценностей, смыслов как в процессе формирования
105
личности, так и в происхождении патологии. На противопоставлении редуцированносуженного психоаналитического и бихевиористского целого, с одной стороны, и
пространственной полноты и целостности — с другой, строится гуманистическая,
экзистенциалистская, а также религиозно ориентированная критика позитивистских
ограниченных подходов. Играя на представлениях о “полноте” и смысловом богатстве
существования, авторы экзистенциально-гуманистического направления могут весьма
легко убедить как пациентов, так и коллег, что проблемы, связанные с нередуцированным,
несуженным целым, будут несомненно более патогенными, чем те, что связаны с
непорядком в сфере относительно некрупного целого. Легко поверить в то, что именно
нереализованные смыслы, экзистенциальная пустота и т. п. приводят к возникновению
невроза еще вернее, чем неудовлетворенные влечения или неудачно сформированный
условный рефлекс. От себя добавим, что, кроме того, вполне очевидная близость
гуманистической точки зрения “природе и правде” подкармливает пафос этой полемики,
делая при этом концепции “объемного жизненного пространства” еще более
привлекательными.
С другой стороны, психотерапия развивается в постоянной конфронтации с медициной,
клинической психиатрией в частности. Нет сомнения, что история психотерапии может
быть описана как история постоянного “бегства” из медицины. Медицинская
парадигма, естественно, представляет собой крайний вариант редукционистского подхода.
Вначале психоанализу, а потом и многим другим терапиям, особенно же экзистенциальногуманистического толка, стало тесно в узком, предельно биологизированном мире,
границы которого очерчены рамками медицинского подхода. Конечно, ни так называемая
“природа человека” вообще, ни проблемы формирования патологических феноменов не
могут быть “интересно” описаны в рамках медицинского дискурса, хотя биологическая
парадигма, конечно, должна приниматься во внимание, но в более широком контексте.
Мы не знаем, насколько более эффективны терапии, построенные на теориях “большого
жизненного пространства”, при этом, однако, совершенно ясно, что они обладают
существенно большей привлекательностью, чем те, которые заключают человека в
пространство, искалеченное биологической или какой-нибудь еще редукцией. В любой
полемике сторонник теории, где пространство пациента обладает большим целым — мир,
экзистенция и т. д., — побьет, как захочет, узколобого “медика”. Здесь привлекает
неэффективность, но иллюзия “богатства”. Более того, без большого труда он
представит дело так, что важнейшая часть любой достойной терапевтической стратегии
построена
106
на представлениях о расширении экзистенциального пространства пациента. Такого рода
теоретический ход может служить терапевтической метафорой. Так например, мы можем
объяснять пациенту неадекватность его собственного, зачастую ограниченно-
медицинского понимания сущности страдания. Само по себе открытие
экзистенциального или психодинамического истолкования может
определенному терапевтическому сдвигу. Механизм такого результата
именно с расширением экзистенциального пространства пациента, с
картины мира и т. д.
возможности
привести к
будет увязан
обогащением
Говоря о “целом” пациента, мы не можем в качестве предмета анализа взять, например,
“личность”, ибо далеко не все школьные концепции рассматривают пациента именно так.
Ясно, что, например, поведенческая или когнитивная терапия вряд ли имеют в виду
клиента как личность в собственном смысле этого слова. Мы не можем, с другой стороны,
вести здесь речь о “системе”, ибо далеко не во всех психотерапиях подразумевается
полноценный системный подход. Нам представляется более целесообразным говорить о
“целом” в том же смысле, который придавал ему М. М. Бахтин, когда говорил о целом
литературного героя (М. М. Бахтин, 1979). Каждое направление располагает своей
концепцией целого. Так, это может быть в зависимости от школы психика, поведение,
личность, экзистенция, семья.
Целое, как известно, включает в себя помимо индивида еще и то, что его окружает, и
это тоже понимается по-разному в разных школьных парадигмах. Таким образом, можно
сразу обозначить различие между индивидуальным целым и надындивидуальным.
Надындивидуальное целое — по разным подходам — общество, семья, жизненный мир,
первичная группа. Вполне возможен подход, при котором нет деления на внутреннее и
внешнее. Такое конструирование целого традиционно связывают с гуссерлевской
феноменологической традицией, равно как и с “восточными”, в частности дзэнбуддийской, картинами мира. Так, к примеру, Dasein-анализ не предполагает наличия
границы между внутренним и внешним, различая три мира: Umwelt — мир окружающей
среды, Mitwelt — мир совместного-с-другими бытия и Eigenwelt — собственный мир. Эти
миры отделены границами друг от друга, но границы проходят как снаружи, так и внутри
индивидуального пространства (L. Binswanger, 1957, s. 94 ff.) Идеологическая
привлекательность такого подхода несомненна, ибо в нем отчасти снимается
противопоставление объекта субъекту и, соответственно, уменьшается связанное с этим
напряжение.
Другой аспект восприятия целого — определение его истоков и времени формирования.
Здесь индивидуальному противостоит
107
доиндивидуальное. Надындивидуальное, понятно, относится в свою очередь и к
доиндивидуальному, причем это отношение задается вполне естественным образом. Когда
мы разбираем историю индивида, то время начала формирования его мира и его личности
может совпадать с его появлением на свет, но может и предшествовать ему, и в этом
случае в доиндивидуальном периоде происходят события и формируются стереотипы,
оказывающие на жизнь пациента и на возникновение той или иной у него патологии более
существенное влияние, чем то, что происходит в процессе его индивидуального развития.
Самый известный пример здесь — аналитическая психология К. Г. Юнга, которая
рассматривает наиболее существенную часть психического — коллективное
бессознательное — как структуру, сформированную до рождения индивида, иначе говоря,
как некое доиндивидуальное образование. Юнгианская психология, трансперсональная
психология С. Грофа, анализ судьбы Л. Шонди — вполне могут рассматриваться как
группа психотерапий, объединенная именно этим признаком.
Конфигурация индивидуального целого задается также таким традиционным способом
психотерапевтического
теоретизирования,
как
типологическое
описание.
Психотерапевты пользуются типологиями З. Фрейда, Э. Кречмера, Р. Ассаджоли, К. Г.
Юнга и Э. Фромма, а также множеством других. В основе кречмеровской типологии
лежит клиническая метафора (шизоидный, циклоидный — “подобный” шизофренику,
циклотимику). В основе юнговской — личностная направленность во внешнее или
внутреннее жизненное пространство и т. д. Существует много поводов для
типологической деятельности.
Без сомнения, этот род теоретизирования является крайне притягательным. Это связано,
несомненно, с обретением иллюзии обладания исчерпывающим знанием целостности
пациента, его взаимоотношениями с пространством и временем, его привычек и
предпочтений, способов реагирования и слабых мест. Это знание как бы вооружает
теоретика возможностью (реальной или мнимой) предикции развития жизненного пути, а
также способов поведения в той или иной ситуации. Описание того или иного типа
покоится на убеждении в неизменности существенных черт, свойственных ему, в
обязательности наличия этих черт у каждого из тех, кто к нему относится. Безусловно,
такой подход формирует представление о неизбежности принадлежности любого
индивида к одному из описанных в рамках данной классификации типов. Типологии
должны, по замыслу их авторов, охватывать всю тотальность многообразия
индивидуальных различий, причем так, что не может быть индивидов, выходящих за
рамки данной типологии; в худшем случае
108
речь может идти о смешанных типах. Иллюзия типологической компетентности дает
возможность терапевту демонстрировать свое “ясновидение”, когда, к примеру, в
процессе интервью такой компетентный терапевт договаривает за клиента многое из того,
что тот не успел или забыл рассказать, описывая особенности его симптомов, реакций,
привычек и т. д.
Типологическим текстам свойствен своеобразный дискурс, который мы можем
обозначить как “этнографический”. Личностные типы описываются в обобщающеотстраненной форме вроде того, как этнографами изображаются примитивные народы на
основе экспедиционных наблюдений. Набор черт, свойственных данному типу,
описывается как система предписаний и запретов. Читателю не составит труда открыть
любого из перечисленных авторов и убедиться в том, что, увлеченные открывающимися
перспективами демонстрации ясновидческого дара, авторы-типологи с упоением рисуют
портреты представителей того или другого “народца” (будь то кречмеровские шизоиды
или юнговские интроверты), расписывая вплоть до мелочей их повадки, привычки,
склонности и способы реагирования на различные ситуации.
Беда, однако, заключается в том, что, как в теоретическом описании, так и при
соприкосновении с действительным положением дел все время приходится делать
указания на то, что существуют “смешанные” и промежуточные формы, отклонения и
исключения. Зачастую автору или пользователю типологий приходится давать
объяснения, к примеру, что речь идет о веберовских “чистых типах”, в то время как
реальность такими чистыми типами нас упрямо снабжать отказывается.
В конструировании типологий следует, на наш взгляд, различать два основных аспекта:
феноменологический
и
структурно-динамический.
Естественно,
что
любой
типологический дискурс может включать в себя, наряду с описанием наблюдаемых
феноменов, также и объяснение механизмов, обеспечивающих эти феномены. Так, Э.
Кречмер для уяснения сущности шизоидной и циклоидной конституций вводит понятия
психэстетической и диатетической пропорций, которые вполне можно считать
“механизмами” (Э. Кречмер, 1995). Фрейд, описывая феноменологию анального,
орального и генитального личностных типов, основательно разбирал их внутреннюю
динамику. При создании типологий приходится думать как об описании феномена, так и о
феноменообразующих механизмах.
Вполне естественная ограниченность типологического подхода вообще отчасти
сглаживается в мультифакторных исследованиях, с которыми мы имеем дело при работе с
мультидимензиональными тестами (самый известный пример — тест MMPI).
109
Одним из возможных проектов в этой области могло бы быть кросс-типологическое
исследование, где были бы соотнесены самые разные типологии с целью выявления
общих личностных характерологических типов в различных классификационных
системах, так сказать Summa typologiae. Понятно, что здесь мы неизбежно столкнулись бы
с многочисленными совпадениями умственных черт, присущих отдельным типам из
классификаций, составленных по самым разным признакам.
Размышляя же о возможностях построения новых классификаций, трудно пройти мимо
такого пути конструирования, как описание типов по соотношению частей личности или
по преобладанию одной части над другой (пример: преимущественно “бессознательный”
тип, то есть бессознательное преобладает над сознательной частью личности, и наоборот).
Исследование элементов общей теории, которые будут описаны ниже, не сомневаюсь,
даст новый богатый материал для построения новых классификаций, к чему мы еще
вернемся.
Автор, сочиняющий школьную концепцию, конечно, заинтересован в том, чтобы иметь
под рукой некий материал, пригодный для такого рода строительства. Этот материал,
разумеется, носит метафорический характер и, естественно, нет возможности предугадать,
где и когда понадобится та или иная метафора. Однако есть возможность хотя бы
приблизительно наметить сферу возможного поиска метафор, пригодных для описания и
концептуального оформления нарождающихся идей. Вполне достаточным, на наш взгляд,
будет здесь указание на одну из метафорических семантических сфер (П. Н. Скляревская,
1993). Целое всегда неоднородно, имеет множество внутренних частей и лучше всего
метафорически уподобляется неким большим объектам, состоящим из множества
составных. Это может быть, дом, корабль, муравейник и т. д. Главное здесь — иметь
перед мысленным взором не столько части целого, сколько их совокупность.
Есть особый тип метафор, очень подходящих для обозначения образа целого. Эти
метафоры мы заимствуем вовсе не из “вещного” мира. Они представляют собой некий
традиционный способ описания целого, принятый, к примеру, в искусстве или науке.
Завершенность творения, отраженная, скажем, в книге или в пьесе, может производить
впечатление целостности и законченности, как ничто другое. Самый востребованный
пример такой метафоры целого — сценарий, чем пользуются, как известно, в первую
очередь трансактные аналитики. Если мы положили в нашей теории, что динамикой
жизненного мира личности управляет некий сценарий, сформированный (написанный) в
своих основных чертах, скажем, в детстве, то мы получаем в свое
110
распоряжение богатое и очень сподручное для работы целое. Сценарий может охватывать
жизненный мир индивидуума целиком, причем в какой угодно конфигурации.
Преимущество метафоры сценария не только в том, что благодаря ему синхронное целое
школьной теории может быть описано основательно и подробно, но и в том, что таким
образом мы можем описать и динамику развития целого, что хорошо видно на примере
трансактного анализа. “Сценарий” объединяет в себе синхроническое и диахроническое
измерение.
Другой такой метафорой может быть, скажем, “программа”, иными словами
“компьютерная” метафора. Наличие “сценария” равно как и “программы”, в структуре
школьной теории позволяло бы играть терапевту очень выигрышные роли. Как
“сценарий”, так и “программа” обладают определенным предписывающим, так сказать,
нудительным свойством. Они заранее “назначают” определенные способы поведения,
детерминируют существенные свойства личности, могут приводить к определенным
событиям и предсказывают реакцию на них. Одним словом, прочитавший сценарий или
расшифровавший программу терапевт получает в свои руки исключительно мощное
оружие: он знает, какое именно предопределение довлеет над пациентом, и уже
становится очень просто предсказать дальнейшие повороты судьбы, кризисные этапы
жизненного пути, опасные места, неподходящие знакомства и т. д. Открываются
замечательные перспективы влияния на судьбу пациента, да и вообще есть возможность
для демонстрации ясновидческих качеств. Знания в области “сценария” или “программы”
имеют, в сущности, то же предикционное значение, что и типологические знания.
Пока речь шла о том, что касается индивидуального целого. Однако для любой
психотерапии всегда важны способы взаимоотношения индивидуального и
надындивидуального целого. Герой-протагонист психотерапевтической концепции может
иметь самые разные взаимоотношения со средой, в которой он обитает. Наиболее, однако,
распространена ситуация, когда надындивидуальное целое “враждебно” по отношению к
индивидуальному. Это вполне закономерно, ибо здесь речь идет не просто о неких
общепсихологических построениях. Теория в психотерапии (метапсихология) неизбежно
предполагает, что рано или поздно мы сталкиваемся с той или иной патологией и,
следовательно, те представления, которые составляют основу теории личности, в
перспективе направлены именно на это — описание закономерностей, ведущих к
возникновению этой патологии. Так что нам в школьной теории совершенно не нужен
“благополучный” мир. Он, этот мир, что вполне понятно, как раз
111
и выступает поставщиком причин возникновения патологических феноменов.
Окружающая индивидуума социальная среда всегда будет “дурной” в зеркале
психотерапевтической теории. Она никак не может быть “хорошей”, иначе как же у нас
получится концепция, пригодная для терапевтических нужд?
Именно так, сталкиваясь с враждебным надындивидуальным целым, безразлично, с
семьей ли, с обществом ли, будущий пациент не находит способа удовлетворить свои
влечения, реализовать свои возможности. Более того, внешнее само по себе может быть
враждебно по отношению к “герою” теории, оказывая на него давление, ставя на каждом
шагу ограничения и запреты. Так, в семье подавляются первичные влечения, общество
стремится нивелировать личностное своеобразие. Дело доходит до того, что окружающий
мир сам по себе проявляет агрессию в адрес индивида (доводя его до так называемого
посттравматического стресса). Вполне естественно, исторически сложилось так, что
терапевт выступает в роли как бы адвоката по отношению к пациенту и прокурора —
по отношению к окружающему его миру. Это он, терапевт, может предъявить счет
обществу, которое довело его клиента до беды. Но как это сделаешь без адекватно
фундированной концепции под рукой? С другой стороны, очень трудно представить себе
терапевтическую стратегию, имеющую своею целью изменения окружающей пациента
реальности в целом, в лучшем случае речь может идти о попытках воздействовать как-то
на семью.
Говоря о целом, мы не должны упускать той цели, ради которой автор школьной теории
вообще пускается в этот разговор. Целое, целостное есть то, что необходимо
терапевтически защищать. Если школьная теория обходится без целого, без психики,
личности и так далее, то неизвестно, зачем, в сущности, требуется терапия. В таких
условиях теряется из виду главное. Целое, равно как и части, о которых речь пойдет ниже,
дает возможность терапевту выступать в очень выигрышной роли защитника. Это он,
терапевт, предотвращает разрушение и распад, отпадение частей и сужение пространства
жизненного мира личности. Он отслеживает у пациента “механизмы защиты”, которыми
тот пользуется сам, и поддерживает их или же заменяет другими, изобретенными им
самим (эти, понятно, лучше). Так что при сочинении школьной теории обязательно надо
подумать о целом.
ДРУГОЙ
Конфигурация целого связана также с наличием другого или других и
взаимоотношениями между ними и “героем”-пациентом. Если рассматривать эти
отношения, то наиболее сподручной
112
проясняющей моделью здесь, видимо, может оказаться актантная модель. Ее мы
заимствуем из структуралистской эстетики (см. П. Пави, 1991. с. 6—7). Актантная модель
закрепляет за отдельными типичными персонажами, ну, скажем, волшебной сказки
функции переходящие из одного текста в другой. В. Проппом для русской волшебной
сказки предложены следующие актанты: вредитель (совершающий злодеяние), даритель
(дарующий волшебную силу), помощник (приходящий на помощь герою), царевна
(требующая совершения подвига и обещающая вступить в брак), отправитель
(отсылающий героя с поручением), герой (действующее лицо, с которым происходят
перипетии), ложный герой (узурпирующий на некоторое время роль настоящего героя) (В.
Пропп, 1928). За другими, присутствующими так или иначе в жизни пациента, тоже могут
быть закреплены вполне определенные функции. Самый известный пример актантной
модели в истории психотерапии — что и говорить, Эдипов комплекс. Ребенок здесь —
протагонист, вожделеющий мать, мать — вожделенный объект, отец — вредитель,
препятствующий вожделению, мстительно угрожающий кастрацией (мы, понятное дело,
здесь намеренно упрощаем и огрубляем сюжет “семейного романа”).
Очень часто невротические нарушения рассматриваются как следствие недостаточного
внимания и любви к протагонисту со стороны других участников семейной истории.
“Другие”, с точки зрения многих глубиннопсихологических школьных концепций, часто
“дурно себя ведут”, проявляя недостаток любви, агрессию, а главное, ставя преграды на
пути осуществления желаний протагониста. Такого протагонист никогда не сделает. Он —
жертва, и никто другой. Невозможно представить себе теорию или даже просто историю
болезни, где бы невротическое, к примеру, заболевание объяснялось недостатком любви
или внимания к так называемым ближним, причем это все исходило бы от самого
протагониста и было бы недополучено другими, а он бы от всего этого сам и страдал.
Куда как легче представить себе построение, в котором этиопатогенез связан так или
иначе с нравственными переживаниями протагониста, с так называемыми “угрызениями
совести”, что преподносило бы его в явно привлекательном свете. Чаще всего эти
патологические угрызения явно неадекватны совершенному деянию или имеют место
вовсе при полном отсутствии последнего, так что герой, даже что-то дурное и совершив,
остается как бы положительным. Тем более трудно представить себе теорию патогенеза
или историю болезни, где происхождение симптомов у пациента было связано с тем, что
он сам соорудил препятствие на пути удовлетворения чьих-либо желаний.
113
Собственно, а как иначе может быть? Другой в любой школьной теории обязательно
должен быть дурным, точно так же, как и окружающая среда. Это и понятно: мы ведь
имеем в виду концепцию, которая дает нам возможность развертывания нарратива
истории болезни. История болезни предполагает, что кто-то так или иначе сделал что-то
такое, что привело нашего пациента к болезни и потом его с этой болезнью — к нам,
терапевтам. От “хорошего” другого ожидать ничего такого не приходится и, он,
соответственно, для построения актантной модели школьной теории не годится. Нужен
“плохой”! Нужен такой, который помешает нашему пациенту-протагонисту соединиться с
вожделенным объектом, такой, который сам проявит агрессию в его, пациента, адрес.
Надо, чтобы терапевт мог выступить так или иначе в роли того, кто от воздействия
другого защитит, играя, таким образом, очень выигрышную роль. А если другой хорош,
то как же от него защищать? Так что аксиологический (раздающий оценки дурное –
хорошее) подход при рассмотрении актантной модели неизбежен.
Сам же протагонист, как сказано, дурным быть не может. Он или жертва, или продукт
скверных обстоятельств. Основное правило построения любой теории: пациент всегда
прав и в правоте своей страдает.
С другой стороны, спросим, а кто бы пошел за автором, которому пришло бы в голову
построить свои концепции на неких моральных принципах, как то пытались сделать
немецкие психиатры из школы так называемых “психиков” в прошлом веке (см.:
Каннабих Ю. В., б. г.)? Они, как известно, видели причину душевных расстройств в
нравственном несовершенстве человека, и терапия была основана на принципах
морального исправления. Кто стал бы брать на себя ответственность за столь невыгодные
для возможного пациента теории? Ведь даже если пациент, к примеру, страдает от
недостатка своей любви к близким, если это ничем не спровоцировано и составляет
сущность его невротического расстройства, то что же, разве терапевтическая стратегия
будет строиться на улучшении его, пациента, нравственности? Даже если предположить,
что где-нибудь и есть что-нибудь в этом роде, совершенно ясно, что распространения это
дело не получило, и совершенно попятно почему.
Итак, актантная модель. Психоанализ в этом смысле скорее исключение, актантные
модели других школ не предполагают жесткого закрепления конкретных функций за
неизменными персонажами, скажем, семейной истории. В сущности, идея актантной
модели
не
получила
достойного
распространения
среди
сочинителей
психотерапевтических теорий. Что же касается психоаналитической модели, то в ней
описаны лишь некоторые
114
функции с которыми мы сталкиваемся при разборе клинической реальности, а именно —
желающий протагонист, объект желания и персонаж препятствующий исполнению
желания. Эти функции как бы созданы “под” пациента-протагониста, проблема для
которого сводится к реализации эротического желания. Однако другие потребности
(скажем, потребность в признании, самоактуализация) могут порождать совсем иную
актантную модель, когда основным препятствием будет не наличие персонажа,
сковывающего действия протагониста, а отсутствие носителя функции, важной в данной
ситуации. Например, отец может быть рассматриваем отнюдь не только как соперник в
семейном романе, но и как персонаж иной, неэдиповой, возможной актантной модели, как
некто, пробуждающий потребность в самоактуализации. Отсутствие вдохновляющего
внимания с его стороны, с точки зрения стоящей перед клиентом задачи
самоактуализации (и возможной невротизации вследствие нерешения этой задачи), может
иметь патогенное значение не меньшее, чем реальная или мнимая угроза кастрации,
выпячиваемая психоаналитиками. Такая точка зрения может привести к конструированию
совсем иной актантной модели, смещающей аксиологические акценты.
Почти все психотерапии рассматривают пациента, обратившегося к ним за помощью
как что-то вроде героя-протагониста. В любой истории болезни он представляет собой
некий центр, вокруг которого разворачивается действие. Все остальные участники
семейной истории играют второстепенную роль и служат лишь вспомогательными
персонажами в развитии невротической коллизии. Это, безусловно, диктуется вполне
банальными обстоятельствами рутинной практики индивидуальной терапии, когда мы
работаем с отдельным пациентом. Такая работа происходит не только в индивидуальной
психотерапии, но и в групповой. Пациент, хоть он и в группе, но приходит на лечение в
одиночку и решает в групповом процессе так или иначе свои собственные проблемы, так
что остается по отношению к своей жизненной ситуации вполне “протагонистичным”. Его
обсуждаемая и проигрываемая на группе ситуация в любом случае представляет собой
сюжет, в центре которого остается он.
Единственное известное нам исключение из этого правила — семейная системная
психотерапия (см.: M. S. Palazzoli & al., 1985). Здесь в роли пациента выступает семья как
целое. Даже оговаривая наличие так называемого симптомоносителя, семейные терапевты
выстраивают систему работы со всей семьей одновременно, без того, чтобы выказывать
кому-либо из членов семьи какое-либо предпочтение. Наоборот, равное отношение ко
всем подчеркнуто утрируется.
115
Актантная модель может вполне ограничиваться парой персонажей, иначе говоря
протагонист плюс антагонист. Школьная теория, помимо пациента-протагониста, может
описывать всего лишь одного участника невротической драмы, играющего ключевую
роль в происхождении болезни. В сущности, для того, чтобы нанести достаточный
невротический ущерб, вполне достаточно одного дурного другого. Пример тому — так
называемая “шизогенная мать”, описанная в некоторых теориях этиопатогенеза
шизофрении (Lids R. & Lids T., 1976). Воспетая многими авторами как патогенная,
симбиотическая инфантильная ситуация тоже может рассматриваться с актантных
позиций, где за каждым из участников симбиоза могут быть закреплены свои функции.
Например — кто-то один — инициатор и хранитель симбиоза, а кто-то другой —
пассивный участник. Не будет большим преувеличением сказать, что в большинстве
случаев актантная модель соотносится с семейной ситуацией. Это известная традиция,
идущая от психоанализа и нашедшая свое воплощение во множестве школьных теорий, —
придавать особое значение семье.
Сочиняя школьную теорию актантных связей, мы должны помнить, что эти связи
могут обладать различными модусами, положительным и отрицательным. Кроме того, их
могут разделять различные актантные дистанции. Близость и даль в расстоянии между
актантами является часто решающим моментом в формировании патологических
феноменов, а также поводом для проведения весьма важных терапевтических действий.
Если, например, дистанция между семейными актантами является большей, чем это
принято в родной для пациента культуре, то на место отдалившегося актанта становится
другой актант или по меньшей мере протагонист пускается на его поиски. Если, скажем, в
семье имеет место отчуждение между отцом и сыном, то место отца занимает или дед, или
брат, а то и некий харизматический лидер или, в хорошем случае, психотерапевт. В
сущности, всякая терапия, имеющая дело с семьей, так или иначе занимается
деформациями актантных дистанций.
Актантные связи могут быть симметричными (когда в ответ на агрессию и любовь
актант получает от другого то же самое) и асимметричными (агрессия в ответ на любовь и
наоборот). Конечно, терапевтов серьезно может заинтересовать здесь только асимметрия.
Симметричные связи вряд ли можно преподнести как звено в цепи патогенеза. Они могут
быть иерархическими и равноправными, то есть другой может доминировать или
манипулировать протагонистом, и наоборот, или же ничего этого может и не быть. Что
очень важно, теоретическая модель, описывающая определенные взаимоотношения
между индивидами,
116
может одновременно указывать на их патологичность, намечая тем самым
терапевтическую стратегию. Так, если мы указываем на симбиотический или, к примеру,
манипулятивный характер взаимоотношений между актантами, то совершенно ясно, что
здесь же обозначается и путь, по которому предстоит идти терапевту. Одной из
возможных терапевтических целей может быть некая идеальная актантная модель,
например в духе “Я — Ты” М. Бубера (М. Бубер, 1993), когда актанты Я и Ты относятся
друг к другу в духе этически возвышенного равноправного безусловного взаимного
принятия.
Сам принцип, лежащий в основе построения актантной модели, крайне сподручен при
разборе конкретного случая, когда за персонажами, задействованными в некоей
патогенетической ситуации, закрепляются в процессе анализа определенные функции,
которые играются этими участниками в течение длительного времени, причем, как мы
помним, тут невозможно будет обойтись без “вредителя”. Участники такого устойчивого
конфликта принимают на себя определенные роли, которые так или иначе могут быть
поименованы. Типичный пример — “игры” в трансактном анализе Э. Берна.
Актантные модели могут использоваться и при описании психотерапевтической
ситуации, скажем при групповой терапии, закрепляя за участниками групп типичные
ролевые функции (скажем, лидера или “мальчика для битья”, как это описано у разных
авторов). Психодраматическая терапевтическая ситуация во многом исходит из актантной
модели и разыгрывается между протагонистом и партнерами (вспомогательными Я).
Терапевт при такой постановке вопроса может также становиться персонажем актантной
модели, причем его функции могут определяться как угодно в зависимости от обстановки.
Кроме того, актантная модель исключительно пригодна для анализа взаимоотношений
различных частей психики (о чем речь пойдет ниже). Части индивидуального целого
(субличности, как их порой обозначают) вполне могут представлять собой фиксированное
и в большей степени проработанное в смысле распределения за ними тех или иных
функций единство, чем персонажи “внешней” жизни протагониста-пациента. В этом духе
сочинена известная теория субличностей В. Сатир о частях — “блеймерах”, “плакаторах”
и т. д.
В сущности, актантная модель описывающая взаимоотношения частей целого, в
значительной степени находится под влиянием актантной модели, описывающей
взаимоотношения персонажей истории жизни индивида. Так, по известным всем
соображениям классической психоаналитической теории, так называемое Супер-Эго
формируется под влиянием образа отца. Эта
117
часть, в сущности, и создается-то только под его влиянием, суть которого — запрет
инцеста и угроза кастрации. Кроме того, другой из актантной модели может вызвать к
жизни определенные части личности, чье назначение — примирять протагониста с его
окружением, с так называемой действительностью. Эти части всегда очень “нехороши”:
они “неподлинны”, они, по замыслу авторов, не отражают действительную суть личности
и являются порождением вынужденного приспособительного лицемерия в условиях
окружения, агрессивно-враждебно-требовательно настроенного по отношению к
протагонисту. Периферийно-адаптивные инстанции (см. ниже) вроде “Маски”,
“Персоны”, “Ложного Я” есть результат такого “злокачественного” влияния окружения, и
никто другой, как терапевт, должен и может вернуть клиенту его подлинность.
Концептуальное оформление и описание таких инстанций, отчужденных, вызванных к
жизни влиянием других, дает терапевту возможность для совершения очень
привлекательного во всех отношениях жеста — жеста возвращения подлинности. Вообще
же совершенно ясно, что все школьные теории насквозь оценочны и эта, часто
подспудная, а порой и вполне явная, оценочность, в сущности, есть то, что дает терапевту
реальный импульс к действию, в том числе и теоретическому.
Тема другого может порождать и порождает многочисленные теоретические задачи,
вытекающие из переживания участниками актантной драмы индивидуальных различий.
Исключительная привлекательность темы “идентичности и различия” порождает
многочисленные концепции проекций и идентификаций, идентификационных проекций и
проекционных идентификаций у различных авторов. Вечное и вполне справедливое
недоумение, как это другой может чувствовать и думать совсем не так, как это делает
источник недоумения — протагонист, всегда будет подогревать интерес к этой теме.
Итак, надындивидуальное целое в психотерапевтической теории может исчерпываться
наличием определенных персонажей, но вполне может быть вовсе даже не
антропоморфным и включать в себя действие стихий и явлений природного мира. Так,
вовсе не исключена возможность сочинения теории, использующей четыре стихийных
начала — огонь, землю, воздух, воду, в духе, например, объективного психоанализа Г.
Башляра, взяв его за основу идеологии нового метода (кажется, что уже что-то в этом роде
существует). Стихии здесь могут рассматриваться как источники влияния на
формирование разных частей психики и состояний личности. Трансперсональное
пространственное расширение сознания предполагает, среди прочего, возможность
проникновения в “планетарное” и “экстрапланетарное”
118
сознание, так что границы пространства, которое может быть задействовано в
психотерапии, ограничиваются разве что пределами космоса. Напоминаем, что мы
избегаем давать оценку тем или другим терапевтическим подходам, наша цель — это
просто иметь их всех в виду.
Конфигурация надындивидуального целого может ограничиваться набором
персонажей, связанных так или иначе с пациентом-протагонистом, или выходить за эти
пределы, расширяя свое пространство вплоть до границ вселенной. Впрочем, такой размах
— дело достаточно редкое, чаще всего теория и основанная на ней практика
ограничиваются миром пациента, причем наиболее проработанным оказывается именно
индивидуальное целое, которое редко расценивается как однородное, большинство
школьных метапсихологий выделяют различные части, его составляющие.
ИНСТАНЦИИ
Тема частей личности — одна из самых распространенных среди сочинителей школьных
теорий. Со времен разграничения психики Фрейдом на сознание и бессознательное,
предсознательное (равно как и Я, Сверх-Я, и Оно) множество авторов шло тем же путем.
Коллективное бессознательное Юнга, наполненное архетипами, состояния Я у Э. Берна,
истинное и ложное Я, категории В. Сатир (blamer, plakator и пр.) — этот перечень
наверняка далеко не полон. Существуют школьные теории, не отражающие это повальное
увлечение, подчеркивающие нерасчленяемое внутреннее единство личности, такие, как,
например гештальттерапия и Dasein-анализ. Однако в большинстве случаев в школьных
теориях мы сталкиваемся с этим стремлением к обособлению частей целого друг от друга.
Этот феномен связан, видимо, не только со сложившейся традицией, но и с другими
соображениями. Самое трезвое из них, на наш взгляд, может сводиться к следующему:
членение на части является с точки зрения психотерапевтической практики крайне
сподручным делом. Всякому ясно, что разделение однородной на первый взгляд
психической реальности открывает исключительно богатые возможности как для
теоретического сочинительства, так и для технического вмешательства. “Части” и
“субличности” являются как-бы готовыми ячейками для создателей возможных теорий,
заполняемые всякий раз новым содержанием. Это, в сущности, надежный способ
“размещения” теоретических капиталов.
Чтобы как-то зафиксировать этот элемент теории, дадим ему наименование, допустим,
инстанция. Привлекательная “интересность” этой темы несомненна и исторически
связана, надо
119
полагать, помимо всего прочего, с обычным интересом к “безумию”, “раздвоению
личности”, “двойникам”, докторам Джекилам и мистерам Хайдам и т. п. В свою очередь
это восходит, вероятно, к средневековым демонологическим представлениям, например о
том, как в кого-то “вселяется бес”. Совершенно ясно, что экзистенциально-житейская
заинтересованность, формирующаяся у личности под влиянием культуры, в которой он
существует, предшествует развитию зрелых научных интересов. Это соображение кажется
несомненным, хотя и требует, мы понимаем, более серьезного обоснования.
Итак, некая, относительно автономная от сознания и воли человека, внутренняя его
часть, зачастую имеющая вполне определенные, “порочно-запретные”, склонности,
которой позволено желать то, что возбраняется желать целостному индивиду, — вот что,
видимо, помимо прочего, лежит в основе привлекательности этой темы. Нетрудно
предположить, что если бы психологи всегда описывали и разбирали только “разумные”,
“добропорядочные” части личности, то этот предмет такого интереса к себе не вызвал бы.
Фрейд, разместивший в Оно именно “запретные” желания, определил, на наш взгляд,
длительный устойчивый интерес к этому делу. Другой канал интереса к ней же может
быть сформирован и через мистически-мифологическую тематику, крайне
соблазнительную, что мы наблюдаем в случае К. Г. Юнга, и не только в нем.
Притягательность мистической эзотерики, сочетающей в себе нуминозное и
“возвышенное” одновременно, противопоставляющей тайное иррациональное знание
постылой прозаичной рациональной рутинной реальности современного так называемого
постиндустриального общества, широко эксплуатируется и в самых разных современных
психотерапевтических дискурсах.
Существуют разные способы построения частей в школьных теориях. Часть личности
ли, психики ли может описываться как существующая длительно и более или менее
постоянно на всем протяжении жизненного пути индивида. Иначе говоря, инстанция
может иметь свою историю, причем она может ограничиваться как индивидуальным
периодом развития (фрейдовские Я и Оно), так и доиндивидуальным (юнговские
архетипы). Инстанции в этом случае вмещают в себя всю историю развития индивида,
взаимоотношения между ними складываются долго, исподволь, конфликтуют ли они друг
с другом или взаимодействуют. Этот тип инстанций можно, собственно, и обозначить —
исторический. Ну и, помня о различных типах описания целого, мы можем говорить об
индивидуальной и доиндивидуальной исторической инстанции.
120
С другой стороны, инстанции могут этой истории вовсе не иметь и рассматриваться
только как носители неких функций, с которыми просто производится определенная
работа в ходе терапевтического процесса. Нейролингвистическое программирование
имеет дело как раз с этим типом, рассматривая “часть” как фиктивное образование,
ответственное за ту или иную проблему. История формирования этой части вовсе не
интересует терапевта. Она, часть, выступает лишь в роли подходящего материала для
построения терапевтического действия. Вполне естественно, что при таких
обстоятельствах сходу создать такую часть — дело простое и незатейливое. НЛП, как
никакая другая школа в психотерапии, демонстрирует причину исключительной
популярности темы частей, а именно уже упоминавшуюся сподручность, исключительное
удобство технического применения. Тип инстанций, сочиненных таким путем, можно
обозначить как функциональный. Функциональная инстанция как бы безлика, она не
более чем придаток к влечению или проблеме, за которую она “ответственна”. Важно
заметить, что инстанция исторического типа в любом случае выполняет одну или
несколько функций. Ясно также, что инстанция функционального типа более свойственна
так называемым short-term-терапиям, ибо для того, чтобы разобраться с историей
инстанции, требуется время. Например, для анализа того, как формировалась инстанция с
детства, чем заполнялась, как строила свои отношения с другими частями и т. д.
Характер инстанций может также определяться их, если можно так выразиться,
обликом. Так, с одной стороны, можно говорить об инстанциях-стихиях, отличающихся
многообразием, неоднородностью, обилием голосов, задействованных в них (пример —
юнговское коллективное бессознательное). Или же инстанция может быть представлена
каким-нибудь единичным персонажем, и тогда можно вести речь об инстанции-образе.
Не исключено, что в рамках одной теории мы можем иметь дело и с тем, и с другим, с
“образами” и “стихиями” (у того же Юнга — коллективное бессознательное плюс
архетипы). Понятно, что “размеры” “стихий” покрупнее, чем “образов” и поэтому скорее
“стихии” будут включать в себя “образы”, чем наоборот. Не составляет никакого труда
сделать так, что в процессе терапии мы будем вести диалог с интериоризованным вполне
конкретным субъектом реальной жизни данного пациента, скажем “внутренней матерью”,
или “внутренним учителем”.
Действующие лица для формирования инстанций-образов могут браться откуда угодно.
Больше других шансы имеют здесь участники детской (лучше всего — семейной)
истории, но вполне
121
может быть и наоборот — “заселение”, детьми родительской психики. Вовсе не
обязательно, что эти образы будут заимствованы из реальной истории индивида, а вполне
могут быть либо придуманы, либо рекрутированы из бесконечного запаса историкомифологических персонажей. Интериоризованные персонажи в свою очередь, могут
олицетворять мощь и слабость, вину и раскаяние, обращенность к миру и отрешенность от
него (домашнее задание — подобрать к каждому из перечисленных свойств по
персонажу).
Инстанции могут иметь различную временную структуру. Они могут быть
постоянными, оказывая на человека непрерывное воздействие, или действовать время от
времени, в зависимости от определенных обстоятельств, или же независимо от них,
будучи, таким образом, переменными. Берновские “состояния Я” (ребенок, взрослый,
родитель), видимо, являют собой пример таких переменных инстанций. Кстати, намечая
теоретически-сочинительские возможности, почему не подумать по аналогии с
“состояниями Я” о “состояниях Оно”, да, собственно, и любой другой инстанции.
Юнговские Анимусы, Тени и пр. тоже могут претерпевать какие угодно изменения. С
другой стороны, возможно — в контексте какой-нибудь мистической конструкции —
сочинить инстанцию, существующую, допустим, вечно и неизменно, некую, скажем,
эфирную сущность. Она сможет переселяться в более кратковременные сущности и
становиться их частью. Такое построение делает возможным самые разнообразные
практики.
Вполне понятной является тенденция, присущая многим школам, а именно — придавать
инстанциям антропоморфный вид (архетипы Юнга, берновские состояния Я — Ребенок,
Родитель, Взрослый). Человекоподобность частей личности, полагаем мы, имеет вполне
определенный прагматический смысл. Нетрудно предположить, что это обстоятельство
облегчает контакт с инстанциями, диалог с ними, делает их носителями свойств,
сподручных в работе. Как-никак человек самое коммуникативно совершенное существо. С
антропоморфными персонажами-частями можно общаться, как и с обычными людьми, с
них можно спрашивать, призывать их к ответу. Однако при этом ответственность
субличности — это вовсе не то же самое, что ответственность личности в целом (что в
данном случае важно — личности пациента). При наличии частей (особенно так
называемых бессознательных) уровень личностной ответственности, естественно,
снижается. Это важное соображение обязательно надо иметь в виду в процессе
проектирования теорий. Судя по всему, именно оно тоже в значительной степени
определяет привлекательность темы инстанций.
122
Другая возможная причина востребованности этой темы самыми разными авторами
заключается в том, что обращение к инстанции дает хорошую возможность построить
“обходной путь”. В любой терапевтической работе важнейшее дело — “обойти”
сопротивление, каковое чаще всего имеет место при работе с неким центром личности
клиента. Инстанция же зачастую связана как бы с личностной периферией (если это,
конечно, не юнговская Самость). Возможность построения такого обходного пути через
инстанции создает иллюзию ловкости, сподручности метода и соблазняет терапевта
возможностями манипулировать клиентом, как это имеет, например, место в
нейролингвистическом программировании.
Однако, с другой стороны, нет никаких оснований считать, что антропоморфность
инстанций является чем-то строго обязательным. Нет никаких резонов избегать
зооморфных или даже, к примеру, “растительных” метафор для обозначения составных
индивидуального целого. Допустим, тигр или лев могут превосходно воплощать какуюнибудь агрессивную субличность, а ива или ромашка являть собой, к примеру, пассивносозерцательную часть. Кроме того, в самом деле, почему бы не подумать об
использовании метафор минерального происхождения. Метафоры, заимствованные из
любой сферы, позволяют просто неким особым образом определять конфигурацию и
своеобразие структуры целого в соответствии со вкусами и наклонностями автора.
Составные части целого, понятно, никогда не берутся сами по себе. Их появление и
развитие есть чаще всего результат процесса интериоризации первоначально внешних по
отношению к индивиду явлений. Фрейдовское, к примеру, Сверх-Я является результатом
усвоения обвиняюще-дидактического внешнего общественного давления на человека,
юнговская, к примеру, Анима — унаследованной концентрацией опыта восприятия
женского образа мужчинами в течение жизни многих поколений. Таким образом,
нетрудно заметить, что два наиболее распространенных пути формирования инстанций —
интериоризация надындивидуального или доиндивидуального. Чаще всего из
надиндивидуального берется нечто антропоморфное — а именно другой, о котором уже
шла речь. Поскольку этот другой, как мы договорились выше, чаще всего дурной —
агрессивный, запрещающий, то, соответственно, инстанции из него получаются — не
подарок. Сверх-Я какое-нибудь. В сущности, если дело обстоит таким образом, то нет
ничего такого, что не могло быть усвоенным, и уже одно это соображение, не сомневаюсь,
пробудит ото сна фантазию читателя с богатым воображением.
Инстанции в рамках одной теории чаще всего имеют одинаковое происхождение. Это,
конечно, не закон (какие вообще
123
строгие законы могут тут быть!), но в каком-то смысле возможное правило. Не составило
бы труда его как-нибудь обозначить, например правило эквигенеза инстанций. Уж если мы
имеем дело с какой-нибудь школьной теорией, то инстанции в ней все как одна либо
унаследованы от предыдущих поколений, либо сформированы в процессе
индивидуального развития и увязаны с процессами запрета на сексуальность, либо просто
задаются как придатки к определенным функциям. Только в последнее время — в эпоху
эклектизма — отдельно взятая школьная теория вполне может позволить себе иметь в
своем распоряжении инстанции, имеющие разное происхождение. Создатель
трансперсональной психотерапии С. Гроф, к примеру, сочетает индивидуальное
бессознательное психоаналитического толка с юнговским коллективным бессознательным
плюс какие-то там еще переживания прошлых воплощений. (С. Гроф, 1994). В сущности,
тут возможны разные пути. Можно в рамках какого-нибудь синтетически-эклектического
проекта одновременно работать с разнородными инстанциями, а можно и оградить себя
границами школы, внутри которой, однако, инстанции разного происхождения. Это,
знаете ли, дело вкуса сочинителя.
Другой резерв возможностей теоретической работы с инстанциями скрывается в
описании возможных характеристик, свойств или признаков. Части, помимо того, что они
имеют свою историю, вполне могут иметь также голос, цвет, объем, вес и т. д. Разумеется,
в достойной, основательно проработанной концепции все это будут не просто так
признаки, но каждый будет нести свою смысловую нагрузку. Допустим, наличие или
отсутствие голоса у субличности само по себе говорит о многом, громкость же и тембр
этого голоса тоже могут вполне быть значащими. Басом может говорить властноагрессивная часть, а контратенором, соответственно — возвышенная субличность, с
трансцендентальной направленностью и эфирными свойствами. Вполне уместно было бы
обсудить и цветность в духе, например, М. Люшера и, основываясь на этом, строить
психотерапевтический процесс на метафоре “перекрашивания”. (Домашнее задание:
придумать теорию в этом духе.) Нет никаких причин пренебрегать также возможностями,
связанными с материально-вещественными метафорическими характеристиками. Так,
например, ясно, что часть может быть легкой и тяжелой, плотной и мягкой, острой и
тупой, влажной и сухой, колкой и пушистой и т. д.
Мы намечаем все эти возможности да и вообще ставим вопрос о “сочинительстве” в
психотерапии только затем, чтобы наш читатель почувствовал, что существующие на
сегодня методы и теории вовсе не исчерпывают всех возможных богатств нашего дела,
что еще очень многое лежит “неприбранным”. Первый шаг
124
к овладению этими богатствами — это преодоление концептуального и
терминологического “гипноза”, воздействие которого на возможных последователей и
есть, в сущности главная цель любой школьной концепции. Иначе говоря, речь здесь об
осознании весьма простого обстоятельства, а именно: если что-то в психотерапии
существует в якобы законченном виде, то совершенно необязательно, что это должно
быть именно в этом виде, а не как-нибудь иначе, то есть так, как это нас намного
больше устраивает по целому ряду соображений, связанных с нашими вкусами и
предпочтениями. Расчищение пространства для самоактуализации терапевта — вот наша
основная задача.
Отношение инстанции к той роли, которую она играет в пространстве целого, и тем
функциям, которые она выполняет, может быть опять-таки разнообразным.
Функциональный объем в разных (действительных и возможных) случаях может
варьироваться от искусственно состряпанной связи с каким-либо преходящим и
малозначимым желанием до постоянной ответственности за множество аспектов
взаимоотношения с миром в целом в течение всего жизненного пути. Возможный список
инстанционных функций можно здесь только наметить: быть источником влечения или
желания, но при этом вовсе и наоборот — быть воплощением препятствия влечению или
желанию другой инстанции (впрочем, равно как и своей); представлять в психике
индивида некое постороннее ему начало, но, с другой стороны, — сопротивляться ему;
отвечать за связь данной личности с какой-нибудь другой (пусть даже эта связь будет
какой-нибудь там “кармической”). Инстанция может образовываться, так сказать, “при
проблеме”, например отвечать за разрешение семейного конфликта, а другая часть
личности при этом будет вмещать в себя отношения, ну, допустим, телесности с
космосом. Список этот легко продолжить и дальше.
Для изобретательного автора не составит никакого труда, составляя очередную
школьную теорию, спроектировать, к примеру, модель пространственного расположения
инстанций. При этом крайне рискованным шагом было бы в качестве места этого
расположения избрать мозговое пространство, в духе известных рассуждений, что, мол,
сознание располагается в левом полушарии, бессознательное — в правом или сознание —
в коре, бессознательное же — в подкорке. Кроме бесконечной непродуктивной возни с
полагающимися при этом подходе нейропсихологическими доказательствами, такая
постановка вопроса ясно говорила бы, что автор этих построений очень далек от
понимания коренной сущности психотерапии как гуманитарной дисциплины, враждебной
естественнонаучным парадигмам.
125
Очень выигрышным делом является пространственное расположение инстанций с точки
зрения оппозиции центр – периферия. Центральные инстанции (какое-нибудь Ядро,
Самость, сердцевина Я) должны рассматриваться как некие стержневые, первичные,
фундаментальные, неизменные, сущностные, подлинные части личности. Периферийные
же, сформированные с целью приспособить личность к окружающему враждебному и т. д.
миру (Маска, Персона, Ложное Я) неизбежно будут выглядеть как неподлинные,
вторичные, изменяемые, навязанные извне, несущностные и т. д. На самом деле,
оппозиция центр – периферия может восприниматься через другую оппозицию, а именно
— подлинное-неподлинное. Такое противопоставление открывает перед терапевтом массу
возможностей как для аналитического различения подлинного и неподлинного, так и для
защиты подлинных, исконных, первичных и т. д. частей от всего того, что на эти их
свойства покушается.
Совершенно ясно, что размещать инстанции имеет смысл, скорее всего, в
воображаемом пространстве, в “психике” или “личности” вообще, причем их
расположение может быть увязано с известными пространственно-семантическими
характеристиками. Верх, как мы знаем, тяготеет к эфирно-возвышенному, духовному, низ
— к материально-телесному, низменному. Правое — мужское, активно-волевое,
рациональное. Левое, соответственно, — женское, природно-пассивное, иррациональное.
То, что помещается спереди, — устремлено в будущее, сзади — в прошлое. Личность или
психика, в общем, целое, могут быть здесь, к примеру, уподоблены сцене, зданию, то есть
некоему пространству, имеющему границы, где возможны всякие перемещения и
передвижения внутри. Пространственные представления, собственно, уже заложены в
различных подходах (Сверх-Я, Тень). Взаимное расположение частей в пространстве
может отражать иерархические отношения между частями — господства, подчинения и
т. д. — или же подчеркивать, ежели мы того пожелаем, известное равенство.
Терапевтические задачи, связанные с этими пространственными соотношениями, могут
быть разнообразными и изощренно-замысловатыми. Например, в пространство,
занимаемое одной инстанцией, можно допускать другую (знаменитое “Где было Оно, там
должно стать Я” Фрейда), то есть они могут даже как бы питаться друг другом. Верхнюю
инстанцию можно перемещать вниз и, наоборот, нижнюю, вверх, и то же самое нетрудно
проделывать с правым и левым, учитывая при этом всю вышеприведенную
пространственно-семантическую мифологию. Всякий раз подобная процедура без труда
может быть оформлена конкретными терапевтическими соображениями, которые
нетрудно построить (другое “домашнее задание” для читателя).
126
Взаимное расположение частей друг относительно друга может оказывать влияние и на
их взаимоотношения. То, что находится “сверху”, может, как это чаще всего случается,
контролировать, подавлять, подминая под себя то, что находится “снизу”. Разного рода
метафоры помогут формированию концепции этих взаимоотношений. Чаще всего вопрос
этих взаимоотношений решается в рамках оппозиции мир – война. Инстанции могут
бороться друг с другом (как известный фрейдовский “наездник”-Я с непокорным конем —
Оно), и тогда терапевтической целью будет их примирение, или же они могут находиться
в мире друг с другом. История психотерапии сложилась таким образом, что положения
о конфликте инстанций были положены в основу представлений о патологии. Борьба
сознания и бессознательного — наиболее ясный пример такого положения дел.
Внутренние части целого всегда воюют друг с другом, их конфликт ведет к
возникновению симптома, невроза, кризиса и т. д. Терапевтические задачи соответственно
имеют своей целью эти инстанции примирить. И в самом деле, очень разумно сочинять
теории, в которых существуют широкие возможности для описания конфликтов между
инстанциями.
Наоборот, заведомо бездарной будет выглядеть теория, если в ней взаимоотношения
частей будут носить мирный, дружеский характер. Еще опрометчивее было бы писать о
взаимной поддержке инстанций, о так называемом синергизме (кажется, у К. Г. Юнга есть
что-то в этом роде). Всем ясно, что публику, созерцающую спектакль школьной теории,
особенно ту его часть, что посвящена инстанциям, по-настоящему интересуют в первую
очередь ходы, основанные на противостоянии, конфликтах, войнах, и из этого надо
исходить при сочинении концепции. Картина “мирного сосуществования” частей будет
скучной и пресной, как любая утопия, чего допускать ни в коем случае нельзя. Школьные
теории не должны быть скучными.
А главное, куда деваться терапевту в такой ситуации, когда вдруг оказывается, что
инстанции вместо того, чтобы им, как полагается, конфликтовать друг с другом,
малодушно замиряются, а то еще и начинают друг друга поддерживать, в духе какойнибудь “синергической” идеологии, закрывая таким образом перед терапевтом рабочую
перспективу? Мирить инстанции может только терапевт, согласитесь. Что ему делать в
противном случае? Для этого, в свою очередь, необходима концепция, согласно которой
инстанции или находятся в перманентном состоянии bellum omnium contra omnes, “войны
всех против всех”, или, по крайней мере, всегда готовы серьезно поссориться по любому
поводу. Так что лучше всего обстоит дело, когда instantia
127
instantiae lupus est, часть по отношению к другой части есть волк, во всяком случае до
начала терапии.
В сущности, неплохо было бы сформулировать для авторов школьных теорий
достойное правило функционирования частей целого в таком примерно духе: “Каждая
инстанция максимально стремится к собственному самоутверждению, влиянию и росту
за счет всех других”. Да, каждая стремится к доминированию, к расширению своего
пространства и влияния. В полном согласии с этим правилом ведут себя части, воспетые в
психоаналитической теории, отношения между которыми описываются по сути дела
военно-бойцовскими метафорами: подавление, вытеснение. И вот здесь-то для терапевта
открыта большая рабочая перспектива. Он может окорачивать инстанционные амбиции и
мирить жадные хищные части друг с другом или, наоборот, подстегивать
межинстанционное соперничество ad maximum, стравливая как-нибудь конкурирующие
части и подзуживая их к еще более ожесточенной драке друг с другом. Никаких сомнений
в том, что к такому захватывающему теоретическому построению не составит ни
малейшего труда привязать достойную технику.
Нетрудно догадаться, что без труда можно было бы построить теорию, основанную и на
прямо противоположной идеологии, когда состояние мира между инстанциями
объявляется чем-то “патогенным”, фактором, приводящим к кризису и застою, в то время
как постоянный конфликт частей личности объявлялся бы непременным условием
личностного и творческого роста и т. д. Представление о психическом здоровье как о
состоянии мира и согласия между частями личности, распространенное повсеместно вовсе
не является единственно возможным. Его нельзя считать даже безусловно желательным,
что ясно из вышеприведенных соображений.
Метафоры, пригодные для описания частей целого, лучше всего заимствовать из
семантической сферы “человек” (Скляревская Г. Н., 1993), в том случае, если, конечно,
воображаемый автор, следуя самым расхожим образцам психотерапевтических дискурсов,
попытается сделать части целого своей новой теории антропоморфными. Может быть, это
прозвучит наивно, но, на наш вкус, очень хорошо было бы давать новым инстанциям
имена богов и героев классической древности, равно как и других времен и культур.
Части могут быть представлены различными занятиями и профессиями, иметь самый
разный пол и возраст, принадлежать к разным классам и слоям общества и т. д. Если же
мы идем другим путем, то в любом случае в нашем распоряжении метафоры из
ботанической и зоологической областей, а также из области явлений природы, различных
видов энергии и т. д.
128
Кроме того, очень важен выбор объединяющей метафоры. Ведь с ее помощью должен
быть сформирован контекст, в котором наши части как-то друг с другом
взаимодействуют. Такой метафорой, скорее всего, послужит некая картина, в которой
некие монады, какие-нибудь индивиды или же неодушевленные предметы, одним словом
нечленимые далее сущности, объединены неким сюжетом или же каким-то другим
образом собраны вместе. Если мы следуем неоднократно упоминавшейся
антропоморфной традиции, то это могут быть картины, в которых какие-нибудь
персонажи собираются вместе (например в духе parts party — “вечеринки частей” В.
Сатир). Это могут быть “пиры”, “консилиумы”, “спектакли” или еще что-нибудь вроде
того. Неантропоморфные метафоры будут зависеть от того, чему именно мы пожелаем
уподобить части целого в творимой нами теории. Скажем, инстанции-звери легко
разместятся в зоопарке или цирке, части-цветы легко объединятся метафорой клумбы,
букета или сада, части-камни — метафорой здания или, например, надгробия.
Совершенно ясно, что разнообразие возможных действий с инстанциями в рамках
возможных теоретических дискурсов или нарративов историй болезни ограничено только
нашим воображением, то есть не ограничено ничем. Мы можем их создавать и
уничтожать, разукрашивать и обесцвечивать, перемещать в пространстве и во времени.
Крутить, гладить, резать на куски, пытать каленым железом, возделывать, спаивать,
одевать, посыпать приправами, носить на руках, вынашивать в чреве, обонять, пришивать
к лацкану пиджака, стричь, надувать, как воздушный шар (читатель, конечно, легко
продолжит этот вполне тривиальный перечень). Они тоже, если что, вполне могут нам
отвечать на наши действия. Отвечать сопротивлением и неповиновением, согласием и
увяданием, молчанием и воем. И это все мы можем тоже не оставить без внимания и в
ответ на реакцию инстанции сделать с ней что-нибудь еще.
ТЕЛО
Особое место в конфигурации целого занимает тело. Мы уже говорили выше, что интерес
к телесному вписывается в общее гедонистическое направление эволюции психотерапии.
Речь идет о реакции на традиционное подавление телесности в европейской культуре,
причем контекст этого подавления, разумеется, по характеру своему связан не в
последнюю очередь с эротической сферой. Никак не назовешь случайным то
обстоятельство, что телесно-ориентированная психотерапия связана с концепцией В.
Райха, автора, который, как никто другой, был ориентирован именно на сексуальный круг
проблем (В. Райх 1997).
129
С другой стороны, нетрудно предположить, что телесная тематика вполне может
вытеснять из теоретического обихода чрезмерно проработанную схему структуры
инстанций психики (в этой связи интересно заметить, что в структуре теории такой явно
телесноориентированной школы, как гештальттерапия инстанции отсутствуют). Это
понятно: чем больше “тела” в структуре школьной теории, тем меньше остается места для
других составных целого.
В возможной школьной теории тело вполне может преподноситься так, как если бы оно
было одной из инстанций, или же как некое параллельное психике образование, на
котором зеркально, или еще через какое-нибудь опосредование, отражаются структуры
внутренних конфликтов. “Мышечный панцирь”, описанный В. Райхом (В. Райх, 1997)
отвечает напряжением на разного рода конфликты между личностью и окружением,
мышечные зажимы отражают внутренние конфликты.
Глубиннопсихологическая парадигма предполагает, что внутренние конфликты выходят
за пределы собственно психического пространства, переносятся через конверсиюсоматизацию на тело, и тело превращается в некое подобие театральной сцены, на
котором
разыгрывается
интрапсихический
конфликт.
В
экзистенциальногуманистической парадигме тело само по себе вовлечено в жизненное пространство
пациента и не является пассивным объектом, воспринимающим конфликты, исходящие из
психического пространства (см. подробно об этом: G. Condrau, 1995). Так что, как мы
видим, есть разные способы включения тела в целое. Всякому ясно, что наличие такого
элемента в теоретической части школьной концепции открывает множество возможностей
в разделе технических практик. Не вызывает сомнений, что эти практики могут сыграть
важную роль в деле привлечения внимания к этой школе, ибо скорее всего они будут
гедонистически ориентированными, как это и бывает часто в телесноориентированных
терапиях.
Работая с телом, мы, конечно, имеем дело вовсе не с ним одним. Ослабляя “мышечный
панцирь”, мы разрушаем напряженную границу, которая может проходить между
личностью и, например, другим. Снятие же так называемых мышечных зажимов в свою
очередь может быть ослаблением конфликта между различными инстанциями.
Исключительно физкультурные, на первый взгляд, экзерсисы призваны на самом деле
производить изменения на психическом и личностном уровне.
Возможности превращать телодвижения в терапевтические метафоры безграничны.
Прыжки через препятствия и поднятие тяжестей могут преподноситься пациенту как
преодоление запретов или внутренних конфликтов. Бокс и борьба могут реализовывать
130
подавленные способы построения отношений с некими другими. Движения кистями рук,
скорее всего, следует увязывать с оживлением неких творческих интенций, в то время как
работа с ощущениями в ногах может быть представлена как укрепление некоей
экзистенциальной опоры. Ну и так далее. Находим орган, определяем метафорическое
значение, прилаживаем к нему гимнастический номер, тоже с некоей метафорической
референцией ортопедического характера и, пожалуйста, — обогатились новой
оригинальной практикой. Не следует только делать что-то чрезмерно атлетическое,
утомительное для клиента. Ведь не зря в различных терапиях так востребованы
дыхательные техники. Усилий требуют не так уж и много, а метафорическое богатство
весьма ощутимое, при этом изменение состояния сознания. Впрочем, мы углубились в
рассуждения, более подходящие для технической части нашего исследования.
ГРАНИЦЫ
Уж коль скоро индивидуальное целое поделено на части, а, кроме того, отделено от
надындивидуального, то разговора о границах, которые, собственно, и обозначают это
отделение, не избежать. Этот разговор был начат в свое время все тем же Фрейдом,
который ввел в обиход понятие цензуры, пропускающей в сновидения подавленные
желания не иначе как в символически искаженном виде. Таким образом получалось, что
некое содержание должно было пересечь определенную границу, которая в данном случае
отделяла одну инстанцию от другой, а именно — сознание от бессознательного. Позднее в
“Я и Оно” (З. Фрейд, 1991) Фрейд начертал известную топографическую схему психики,
отметив на рисунке соответствующие участки, не обозначив между ними, однако, четких
границ. И в самом деле, граница здесь является метафорой, существующей лишь в
воображаемом пространстве, размеры, конфигурация и характер которого нам ведомы
очень приблизительно. Понятно, что ни о какой четкости и определенном расположении в
пространстве речи здесь идти не может. Граница между инстанциями в контексте
глубинно-психологической парадигмы сформирована системой запретов, в процессе же
психотерапии проявляется сопротивлением, и терапевт судит о ней, соответственно,
по той работе, направленной на преодоление сопротивления, которую ему приходится
проделывать.
Разные контексты позволяют по-разному подходить к проблеме границы. Речь, в
частности, может идти о том, что границы, отделяющие одну инстанцию от другой,
каким-то образом ослаблены. Чаще всего об этом заходит речь в концепциях патогенеза
психотических нарушений, причем подразумевается, что
131
некая нетривиальная часть бессознательного (допустим, архетипические образы
коллективного бессознательного) прорывается в пространство сознания, смешивается с
ним, что и определяет специфику психотических расстройств.
Разные концепции, таким образом, могут формировать неоднозначное отношение к
проблеме “прочности”, надежности границ. В одних случаях, когда излишняя прочность
границы влияет на сопротивление в процессе психотерапии (а до того способствовала
развитию патологических симптомов), мы стремимся эту прочность как бы ослабить. В
других случаях терапевтическая стратегия будет как раз направлена на укрепление
некоего пошатнувшегося рубежа (например, в результате эндогенного процесса),
совершенно необходимого для нормального функционирования личности.
Если есть границы внутри индивидуального целого, то почему бы им не быть на
границе между индивидуальным и надындивидуальным? Причем последнее может быть
самым разным по содержанию и, так сказать, наполнению. Пациент, как геройпротагонист, в любой теории отделен от своего окружения некими границами. Разные
теории по-разному оценивают значение силы и слабости этих границ. Так, если брать
опять контекст психотических феноменов, то речь может идти о слабости границ Я или о
чрезмерном их усилении — скажем, аутизме, сопровождаемом негативизмом.
Одновременное сочетание слабости и силы границ может рассматриваться с точки зрения
феномена расщепления или анализироваться психодинамически. Здесь можно вспомнить,
что в разных концепциях патогенеза психозов речь идет о слабости границ, отделяющих
друг от друга различные пространства.
Важнейшая функция границ как в деле государственно-политическом, так и в
психологически-терапевтическом — отделение “своего” от “чужого”. Патологическое —
это нечто такое, что почти всегда трактуется как чуждое, привнесенное извне. Любые
внутренние инстанции, чье влияние воспринимается как некое давление, в любой
психодинамической концепции будут расцениваться как исходно чужеродные личности,
как бы навязанные со стороны (пример: Сверх-Я в психоанализе как результат
интериоризации общественно-семейных требований к соблюдению нравственных
предписаний и запретов). Отделить “свое” от “чужого” — что может быть важнее и
интереснее как для теории, так и для стратегии терапевтического вмешательства. В
сущности, любая крупная психотерапевтическая теория в том или ином виде предлагает
концепцию отчуждения (об этом подробнее ниже, в разделе “Дефект”). Естественно,
чтобы различать свое и чужое, нам необходима некая черта, отделяющая одно от другого.
132
Так же как в системе государственного устройства, границы в психотерапии находятся
под наблюдением как с точки зрения их надежности и прочности, так с точки зрения их
проницаемости для нежелательных элементов, что, впрочем, может быть одно и то же.
Граница немыслима без таможни (в классическом психоанализе — цензура), которая чтото пропускает через себя, а что-то задерживает. Говоря о работе с границами, следует
вновь иметь в виду бесконечное разнообразие открывающихся перед нами возможностей.
Можно прилагать усилия к тому, чтобы усилить границу, ослабить ее. Пропустить через
нее как можно больше всего, не пропускать ничего вовсе. Естественно, что каждое
приграничное терапевтическое действие должно быть концептуально обосновано.
Укреплять можно ослабленные границы (вспоминаем здесь хрестоматийные жалобы
пациентов, которые «не могут сказать “Нет!”»), ослаблять, соответственно, границы
непробиваемые. Порой вся терапевтическая стратегия сводится к тому, чтобы пробить
границу, которая целиком отгораживает личность от внешнего мира (имеются в виду
аутистические состояния). Не будет большим преувеличением сказать, что почти все
самое интересное в психотерапии происходит при приближении к границам, в
пограничной ситуации, если пользоваться известным термином К. Ясперса,
употребленным им, правда, в несколько ином значении (K. Jaspers, 1922, s. 229—280).
Другой контекст, в котором могут обсуждаться представления о границах, —
упоминавшееся выше разграничение миров, предложенное Л. Бинсвангером, — а именно
мир совместного-с-другими-бытия, Mitwelt, мир окружающей среды, Umwelt, мир
собственного бытия, Eigenwelt. Здесь не проводится рубежей между внешним и
внутренним миром, но граница, что отделяет Umwelt от Mitwelt’a, может проявляться
сильным сопротивлением, направленным как против окружающего мира, так и против
терапевтического вмешательства (L. Binswanger, 1957, s. 95).
Следует особо остановиться на том, как толкуется тема границы в гештальттерапии.
Речь здесь идет о границе контакта организм/среда, которая вовсе не совпадает с границей
тело/среда. На границе контакта, по Перлзу, мы сталкиваемся с “приграничными”
явлениями, происходящими по причине постоянного давления на границу, как со стороны
организма, так и со стороны среды. Одно из этих приграничных явлений, проекция,
прорывает границу изнутри, перенося помещающиеся внутри представления на внешние
объекты, а при интроекции происходит все наоборот. Конфлюенция предполагает
открытость границ, а дефлексия — отгороженность от мира, когда границы закрыты (см.:
Ф. Перлз, 1997). Ясно, что тем самым возможность проектирования на границах не
исчерпывается.
133
В рамках дискурса, ориентированного на эту тему, мы можем размещать границы в
каких угодно местах и отделять что угодно от чего угодно. Допустим, мы расчерчиваем
карту в воображаемом пространстве личности или проводим опять-таки воображаемые
границы на его теле. Границы, прочерченные на теле, определенные, скажем, по
мышечным зажимам или каким-нибудь еще образом, перекликаются с личностными
проблемами, концентрирующимися, как им и полагается, в приграничных областях.
Допустим, мы обозначаем телесную границу, проходящую где-нибудь в области шеи,
определяя ее как-нибудь по так называемым мышечным зажимам или еще по каким-либо
жалобам. Граница эта по особенностям своего расположения призвана отделять
“головное” пространство от остального телесного. Понятно, что здесь мы можем иметь
дело с телесно-пространственной метафорой отчуждения телесно-витальной части
личности. Параллели могут проводиться не только между телесным и личностным, но и,
видимо, по-другому, кому как вздумается. Мы прекрасно понимаем, что говоря о
границах, отделяющих сознание от бессознательного и внешнее от внутреннего, равно как
и о иных прочих, мы имеем в виду разные вещи. Но в то же время условность
психологической метафорики такова, что в ней легко может совмещаться несовместимое.
Привлекательность же самого этого элемента для авторов психотерапий заключается, на
наш взгляд, в том, что, намечая границу, мы расчерчиваем карту для терапевтического
вмешательства, намечаем участки, на которые нацелено наше психотерапевтическое
действие. Граница есть в первую очередь препятствие, которое нам следует преодолеть
тем или иным терапевтическим способом. Заведомо не напрасным будет наше лечебное
усилие, если мы имеем перед собой такое препятствие. Образ границы всегда
задействован в системе представлений о пациенте, чьи страдания или проблемы именно
ограничивают его жизненное пространство, сужают круг его возможностей. Граница
очень к месту в любой теории, как наглядное свидетельство ограничения свободного
пространства, как место, где естественное душевное, телесное, да какое угодно движение
наталкивается на болезненное препятствие — вот что здесь важно. Так что “граница”, где
бы она ни пролегала в той или иной теории, — бесспорное и надежное место для
размещения теоретического капитала.
Метафоры, которыми здесь можно эффективно пользоваться, связаны изначально с
географической семантической сферой, откуда, собственно, мы и позаимствовали
метафору границы. Границами могут служить горы и реки, берега и овраги. Конечно,
здесь хороши метафоры не только из физической географии,
134
но и из политической. Очень подходящими могут быть, к примеру, метафоры
пенитенциарного происхождения (тюрьмы, решетки). Это, разумеется, в том случае, когда
мы концептуально готовимся к задаче разрушения границ, воспринимаемых как
очевидное зло. В случае противоположном — если мы некие личностные границы
собрались соорудить, метафоры, нам потребные, скорее могут относиться, например, к
строительной сфере — стены, заборы, двери. Нам кажется, что и военно-инженерная
метафорика была бы очень уместна: бастионы, рвы, щиты, линии и эшелоны обороны.
Это понятно, ибо одна из важнейших функций границ вообще — защищать. А границы
могут быть в свою очередь поддержаны терапевтом. Он, как мы много раз уже говорили,
должен быть в первую очередь озабочен тем, чтобы выглядеть достойным и надежным
защитником пациента. Линия защиты как целого, так и части проходит по границе. Так
что очень неразумно при сочинении новой школьной теории пренебрегать элементом
границы.
КАНАЛЫ
И еще об одной сквозной теме общей структуры психотерапевтической теории, имеющей
достаточно широкое хождение и открывающей новые интересные возможности. Мы
имеем в виду то, что можно обозначить как каналы. Дело обстоит так, что различные
части целого, равно как и целые сами, не только отделены друг от друга границами, но
также обречены на контакт друг с другом, для чего на границах необходимы участки,
характеризующиеся некоторой проницаемостью, некие просветы, места, через которые
может осуществляться взаимное проникновение.
Поиск этих участков был обусловлен реальностью психотерапевтической ситуации,
которая сильнее всего осложняется наличием сопротивления, испытываемого пациентом.
То сопротивление, которое терапевт испытывает на себе в процессе терапии, на самом
деле формируется задолго до ее начала. Оно порождено тем сопротивлением, которое
любая личность оказывает по отношению к окружающей ее среде, которая многообразно
давит на нее с различной степенью интенсивности. Сформулированная поначалу
применительно к психоаналитической терапии, проблема сопротивления и его
преодоления оказалась насущной для всех школ. Историю психотерапии, без
преувеличения, можно представить себе как историю борьбы с сопротивлением
(подробнее об этом в разделе “Сопротивление”). Так вот, терапевтическое значение
каналов заключается в первую очередь в том, чтобы это сопротивление преодолеть, но
лучше сказать — обойти. Намечая каналы, а потом и обходные
135
маневры, которые они позволяют осуществлять, психотерапевт готовит себя к роли
виртуоза, свободно обходящего любые препятствия, встречающиеся на его пути. Такой
терапевт, без сомнения, и знать не будет, как это ему могут сопротивляться пациенты.
Наш сочинитель теории создает себе иллюзию исключительной терапевтической
эффективности: зная слабое место, по нему нетрудно нанести прицельный удар. В
сущности, значение канала в том, что он позволяет сконструировать нечто вроде “военной
хитрости” в процессе терапии.
Весьма интенсивно тема каналов проработана в нейролингвистическом
программировании, где речь идет о так называемых репрезентативных системах —
аудиальной, визуальной, кинестетической, каждая из которых имеет отношение к одному
из типов перцепции и связанному с ним перцептивному опыту. В теории
нейролингвистического программирования принято считать, что каждый человек отдает
предпочтение одному из типов перцептивного опыта, и это можно определить, в
частности, по движению глаз и использованию в разговоре слов, связанных с тем или
иным типом перцепции (слышать, видеть, ощущать). Этот предпочитаемый тип и является
ведущей репрезентативной системой, то есть тем каналом, через который можно
осуществлять доступ к опыту личности, не наталкиваясь при этом на сопротивление.
В процессуальноориентированной психотерапии А. Минделла речь идет о каналах как
таковых, причем кроме тех, что, подобно НЛП, закреплены за конкретными органами
чувств, А. Минделл выделяет, к примеру, телепатический канал, канал сновидящего тела
(dreambody) (A. Mindell, 1985). Здесь важно заметить, что терапевтическая ситуация, по
замыслу упомянутых авторов, выявляет каналы, существующие и вне ее, с тем, чтобы
использовать их для оптимально эффективного вмешательства.
Возможности школьного теоретического оформления этой темы, безусловно, не
исчерпаны. Любой способ формирования эффективного контакта с пациентом и доступа к
его личностным проблемам удобно рассматривать в контексте метафоры канала. Каков бы
ни был путь, помогающий нам обнаружить и использовать брешь в сопротивлении, он
неизбежен при любой психотерапевтической работе. Без сомнения, можно говорить,
например, об “эмоциональном” канале, когда тематизация в процессе работы
определенных эмоций позволяет пробиться через сопротивленческий барьер. Каналом
может служить близкая пациенту тема беседы, и тогда можно будет говорить, скажем, о
тематическом канале.
Невербально-телесный контакт может обозначать канал, проложенный через барьеры
рационально-вербального сопротивления,
136
и наоборот. Сопротивление может быть многомерным, зависящим от конкретного
контекста, точно так же в разных контекстах маршруты каналов могут быть самыми
разными.
Думая о метафорах, которые позволили бы нам наглядно оформить тему канала в
возможной теории, следует, очевидно, иметь в виду нечто такое, что ограничивало бы
пустое или, по меньшей мере, разреженное пространство в окружающей его более
плотной среде. Канал как таковой, собственно, и является одной из таких метафор. На ум
приходят здесь такие, например, образы, как брод, туннель, коридор, окно, брешь, и этот
ряд, без сомнения, можно продолжить.
Возможности операций с каналами весьма разнообразны. Каналы можно создавать и
закрывать, по ним можно осуществлять движение в разных направлениях и в разном
темпе. Переключать каналы с одного на другой, как предлагает, в частности, А. Минделл
(A. Mindell, 1985), можно без ограничений и сколько угодно.
Будем считать, что нам удалось описать бо́льшую часть приспособлений, при помощи
которой теоретик рисует картину, с которой ему придется иметь дело как терапевту. Ему в
терапевтической ситуации уже после всех этих рассуждений намного легче, уже
понятней, на что обращать внимание в первую очередь. Перед ним не просто
однообразное полотно. На нем прорисовано уже многое.
Повторяем, перечень этих элементов носит открытый характер и ни в коем случае не
является полностью завершенным. Нет сомнений в том, что изобретательный и
проницательный читатель уже заметил, чего не хватает, и не прочь дополнить наш
перечень своими обобщениями.
Однако в любом случае понятно, зачем терапевту все то, о чем тут шла речь. Школьная
теория
должна
предоставлять
терапевту
возможности
для
формирования
привлекательного концептуального аппарата, а кроме того — интересного собственного
образа, и в этом залог ее востребованности. Терапевт наметил себе, что ему защищать и
сохранять в пациенте — это целое. Он твердо знает, что чем больше целое, тем оно лучше.
Он всегда готов защитить индивидуальное от “дурного” надындивидуального, точно так
же он может вступиться за протагониста перед “дурными” другими. Он видит все выгоды
эффектной роли мирителя частей. Он в состоянии наметить, энергично укрепить, если
потребуется, встать на защиту границ. Если же вызов иного клинического контекста
потребует от него границы пересечь, ослабить, уничтожить — что ж, он готов и к этому.
Он готов проявить ловкость, изобретательно пользуясь каналами. Словом каждый элемент
теории может быть употреблен в дело достойно и с пользой для автора.
137
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Диахронический раздел
Если синхроническая часть теории сформирована из понятий, позволяющих описать
структуру личности вне каких-либо изменений, то концепты диахронического раздела
соответственно должны обозначать основные моменты развития этого образа. Элементы
общей структуры, о которых пойдет речь в этой части, представлены так или иначе во
многих теориях. Однако, как уже говорилось, одновременное присутствие всех из них или
многих не является обязательным. В то же время нам было бы очень трудно представить
себе теорию, которая обошлась бы совсем без того, что мы здесь будем обсуждать.
Сверхзадачи, стоящие перед нами, и в этом разделе остаются без изменений. Нам
предстоит не только разобраться в структуре теорий, но и разглядеть пристально интерес
терапевта, стоящего за каждым из элементов структуры. Мы знаем, что речь идет о
персонаже, кроящем теории так, как если бы это были одежды, под свой размер, с целью
придать особо привлекательный характер своей деятельности. Кроме того, мы не
забываем рассматривать описываемые нами элементы теоретических конструкций с точки
зрения их полемической ценности. Уже в момент своего появления в структуре текста они
являют собой порождения дискуссионной интертекстуальности и должны быть готовы
для употребления в этом смысле.
Анализ, проводимый нами, позволяет увидеть наглядно, что возможности
конституирования методов в психотерапии еще не совсем исчерпаны, и поэтому один из
возможных читателей, к которому мы здесь обращаемся, — это будущий сочинитель
теоретических концепций.
АРХИНИЦИЯ
Первый интересующий нас элемент, который присутствует во многих концепциях, мы
обозначили термином архиниция (arhe — др.-греч. — происхождение, initio — лат. —
начало). Речь здесь идет о том, что во множестве теорий существует или подразумевается
концепт или понятие, обозначающее некий момент начала развития личности, некую
исходную точку, от
138
которой идет отсчет истории развития индивида. Имеется в виду, таким образам,
некий первоисток, первотолчок, нечто исходно-первичное, что-то такое, что в конце
концов оказывает решающее влияние на весь ход развития личности, определяет в
большой степени ее своеобразие, очень многое на ее жизненном пути вообще, а в
особенности же — в критические моменты.
Вот как по этому поводу высказывается М. Хайдеггер: “Исток здесь обозначает, откуда
нечто пошло и посредством чего нечто стало тем, что оно есть, и стало таким, каково оно.
...Исток чего-либо есть происхождение его сущности” (М. Хайдеггер, 1993, с. 51). Итак,
первичное, исходное определяет существенные черты личности человека, который в
психотерапевтическом контексте выступает как пациент, реальный или возможный.
Изысканиями в области этого первоначала занимается не одна психотерапевтическая
школа, этому посвящены многие исследования. В основе этих взглядов лежит следующее
представление: чем больше мы спускаемся к первоистокам, тем в большей степени мы
сталкиваемся там с явлениями, которые помогают нам прояснить суть и закономерности
процессов, с которыми мы имеем дело в настоящем. Этим тенденциям развития
психотерапевтических теорий в наибольшей степени соответствует известная
археологическая метафора, уподобляющая психоаналитическую, например, терапию
раскопкам древних цивилизаций.
Как и многое другое в истории психотерапии, элемент архиниции первый раз
появляется в классическом психоанализе. Смысл длительной и трудоемкой
терапевтической процедуры, помимо всего прочего, — углубление в мир раннего детства,
поиск первотолчков, первопричин, коренящихся, по замыслу аналитика, именно там.
Впечатления, имевшие место там, у истоков, влечения, тогда испытанные, травмы, тогда
же полученные, накладывают свой отпечаток на всю последующую жизнь. Все, что имеет
отношение к началу, истоку, преследует человека всю оставшуюся жизнь. Особенно же
это все проявляется тогда, когда он заболевает и попадает к терапевту, который
непременно выяснит, как именно задействованы те или иные архиниционные феномены в
структуре, например, невроза.
Нетрудно заметить, что развитие глубиннопсихологической теоретической идеологии
шло по вполне определенному пути. Наиболее истинными, подлинными, значащими
переживаниями считались те, которые испытывались личностью на возможно более
ранних этапах его индивидуального, а потом и доиндивидуального развития. Чем глубже
в прошлое были отодвинуты воспоминания о значащих переживаниях, тем более
значащими для развития личности и формирования патологий они
139
считались. Если по З. Фрейду заслуживающими внимания были уже ранние
постнатальные впечатления, то О. Ранк в “Травме рождения” (O. Rank, 1924) свел
существенную часть этиопатогенетической проблематики к последствиям родового шока.
В дальнейшем оказалось, что нет ничего невозможного в том, что отдельные
исследователи занялись обсуждением влияния, которое различные стадии развития плода
от гонады и до родов оказывали на развитие личности и этиологию и патогенез различных
невротических состояний. Такие авторы, как Ф. Гринейкр и Н. Фодор, пытались связать
различные невротические феномены с пренатальным опытом (Ph. Greenacre, 1941, N.
Fodor, 1949, цит. по: Г. Блюм, 1996). Развитие этой тенденции в классическом
психоанализе спародировал В. Набоков в “Лолите”, где герой вышучивает “могучего
нового профессора... который славился тем, что умел заставить больного поверить, что
тот был свидетелем собственного зачатия”(В. Набоков, 1990, с. 49).
По правде говоря, появление на свет — это самое подходящее событие для того, чтобы
стать начальной точкой отсчета. Если ограничиться историей отдельной личности, то,
конечно, все, что происходит позднее, так или иначе уже будет в той или иной степени
вторичным, а кроме того, не идущим ни в какое сравнение по богатству и интенсивности
переживаний в момент рождения. Другая подходящая точка отсчета — раннее детство.
Понятно, что архиницией может быть как относительно краткосрочный эпизод, так и
растянутый по времени, то есть можно вести речь, например, об архиниционном периоде,
фазе, отрезке.
Однако не составляет труда предположить, что некая сила повлечет исследователей на
поиски психической реальности, коренящейся во временах до момента рождения, и,
собственно, уже давно повлекла. Вполне понятно, какие преимущества обретал автор
концепций, охватывающих период до появления индивида на свет, перед теми, кто
ограничивался индивидуальной историей. Конечно, он получал в свои руки учение,
производящее впечатление несравненно большей “глубины”, чем та, которую предлагали
другие. Видимо, можно говорить о некоем неписаном, но тем не менее отчетливо
вычитываемом во множестве текстов, “архиниционном” правиле, которое, если бы оно
существовало, звучало бы приблизительно так: “чем раньше мы сталкиваемся с какимнибудь опытом или впечатлениями, тем более значительное, существенное воздействие
они на нас оказывают”. Ну и в соответствии с этим, весьма влиятельным, правилом
психоаналитики настроены на то, чтобы этому раннему, зачастую полузабытому опыту
уделить как можно больше внимания в терапии, пускай приходится годами охотиться за
воспоминаниями об этом опыте.
140
И нетрудно предположить, что следование этому правилу, даже в тех случаях, когда оно
отчетливо не формулируется, естественным образом привело к построению концепций,
переоценивающих события, находящиеся далеко за пределами индивидуального развития
личности. Так, Л. Шонди, двигаясь этим путем, занялся исследованием “семейного
бессознательного”, сформированного под влиянием ближайших поколений предков
индивида. Он утверждал, что “каждый человек несет в своем семейном бессознательном
инстинктивную предрасположенность и предрасположенность его Я ко всем четырем
основным кругам заболеваний...” (L. Szondi, 1995, s. 31).
Но, конечно, в состязании на дальность движения назад всех опередил К. Г. Юнг. Его
нетрудно понять. Необходимость преодоления фрейдовского редукционизма неизбежно
подталкивала его в сооружении метапсихологических конструкций на самые радикальные
шаги. Понятно, что углубление архиниции по сравнению с фрейдовской было наиболее
эффектным ходом, предпринятым с целью увеличить идеологическое пространство своего
метода. Пространство классического психоанализа, ограниченное индивидуальной
историей жизни, после теоретических движений Юнга выглядело поистине куцым по
сравнению с раскрывшимися, поистине необозримыми, перспективами. Проблемы, с
которыми сталкивается пациент, могут корениться в самых отдаленных периодах
существования его предков. Получается, что Юнг как бы до конца выбрал ресурс
возможностей теоретического и интерпретационного возврата в прошлое. Таким образом,
он при любом раскладе бьет, как хочет, соперников по архиниционной ракоходной
“гонке”, ибо материал, который он привлекает для толкования патологических феноменов
(амплификации) в любом случае будет более первичным, древним, чем какой бы то ни
было другой.
Ясно, что такой элемент структуры общей теории, как архиниция, обладает очень
большой теоретической привлекательностью. В самом деле, как мы уже говорили,
концепция целого, включающая в себя “большое жизненное пространство”, является
наиболее привлекательной. Такая школьная теория дает полное основание ее
последователям высокомерно относиться к редукционистам, сводящим существование
личности, например, к условным рефлексам или сексуальности. Безусловно, те же самые
ходы “работают” в полемике “доиндивидуалистов” с “индивидуалистами”, то есть теми,
чей ограниченный взгляд не простирается дальше периода индивидуального пути и не
способен заглянуть за его пределы, что без труда удается тем, чей взгляд несравненно
зорче, а мысль соответственно — “глубже” и не довольствуется бедной картиной земного
существования отдельной личности.
141
Границы пространства могут расширяться и при помощи различного рода мистическиоккультных приемов, и именно в этом привлекательность оккультных практик для
психотерапии вообще. Соблазнительность оккультного коренится в жесте раздвигания
границ, как временных, так и пространственных. Здесь могут идти в ход эзотерические
учения о переселении душ, метемпсихозе, прошлых воплощениях. Мы уже не говорим
здесь о тех, весьма заметных, выгодах, которые могут пригодиться в смысле
формирования или разогрева харизмы, которая расцветает на оккультно-эзотерической
подпитке.
Психотерапия в целом очень подвержена этой тенденции (множество личных
наблюдений, и, надо полагать, не только у автора этих правдивых строк). Безусловно,
здесь могут быть различные резоны в каждом из отдельных случаев. Наиболее
правдоподобным доводом здесь представляется именно стремление максимально
расширить пространство, в котором возможно осуществлять интерпретационное
движение по каким угодно направлениям. Мистико-эзотерическое, помимо всего прочего,
привлекательно еще и в том смысле, что максимально расковывает интерпретатора,
работающего в этой парадигме. Свобода построения причинно-следственных связей в
такой интерпретационной стратегии возрастает весьма заметно. Герменевтические ходы
здесь легко уводят как в сторону “иных миров”, так и “предыдущих жизней”. Такая
свобода передвижения по интерпретационным маршрутам вкупе с властью над “большим
пространством” целого не может не создавать ощущения большого “богатства”. В рамках
этой парадигмы очень нетрудно раздобыться какими угодно доводами в дискуссии с
позитивистски настроенными коллегами.
Так что вполне закономерным обстоятельством, с нашей точки зрения, явилось
стремление сочинителей психотерапий углубиться поглубже в “первоосновы” и
“первоистоки”. В наши дни это же движение успешно продолжает С. Гроф, причем в
своем конструировании он “добрался” не только до незапамятных прошлых времен, но и
до других планет и даже галактик, наглядно показав, как нетрудно все это делается и как
без особого труда можно использовать все преимущества, которые дает такой подход (С.
Гроф, 1994).
Весьма интересно трактуется проблема архиниционного первотолчка в трансактном
анализе Э. Берна. “Сценарий, — так определяет он одно из ключевых понятий своей
теории, — это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется...
еще в раннем детстве под влиянием родителей. Этот психологический импульс с большой
силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его
сопротивления
142
или свободного выбора” (Э. Берн, 1992, с. 175). Таким образом, по Э. Берну, самые
существенные моменты жизненного пути личности, сформированные в первую очередь
под родительским влиянием, предзаданы заранее. Как мы видим, элемент архиниции
представлен в общей структуре теории трансактного анализа в виде некоего системного
предопределения.
Каждый элемент общей теории может играть в контексте этой теории различные роли.
Архиниция может рассматриваться как некая основа, к которой пристраиваются другие
элементы, о которых речь пойдет ниже. Ее фундаментально-исходный характер не
вызывает никаких сомнений.
Кроме того, архиниция может выступать в самых разных функциональных
модификациях. Она может рассматриваться как первотолчок, запускающий механизмы
развития личности в каком-нибудь определенном направлении. Она может играть роль
некоей исходной матрицы, прообраза позднейших поведенческих стереотипов и
патологических механизмов, что мы видим как у К. Г. Юнга, так и у Л. Шонди, равно как
и у Э. Берна. Она может рассматриваться как некий полюс притяжения, как что-то такое,
что было прекрасным в нашем прошлом, а теперь утеряно.
Кроме того, исходное состояние может рассматриваться как в своем роде идеальное, и
позыв воспроизводить его в том или ином виде может преследовать личность в течение
всей жизни. Теоретический миф чаще всего наделяет это состояние чертами удовольствия,
покоя, защищенности, одновременно блаженства и благостности, ну и всего такого. Весь
этот набор в наибольшей степени соответствует внутриутробному или инфантильному
состоянию, воспетому различными авторами глубиннопсихологического направления.
Разумеется, крайне сложно представить себе теоретическое построение, когда
первично-исходное рассматривается как нечто тягостно-мучительное, а тем более
“испорченное”, а дальнейшее развитие эту первичную испорченность как-то исправляет и
улучшает. Такое теоретическое построение, на наш взгляд, выглядело бы просто нелепым.
Ведь если жизнь сама справляется с изначальной “порчей”, что делать психотерапевту?
Различные проблемы — все это, понятное дело, то, что начинается позже. Здесь важно
оговорить также то, что архиницию можно понимать двояко: и как первичное исходное
покойное состояние (допустим, внутриутробное), и как момент выхода из него
(соответственно, допустим, рождение). Естественно, что одно здесь неотделимо от
другого. Разумеется, разговоры о “блаженстве” и защищенности относятся к первому.
Вообще же разговор о состоянии первичного покоя и “чистоты” не имеет никакого
концептуального
143
смысла, если не предположить, что позже придется иметь дело с неприятностями и
неудовольствиями.
Архиницию можно понимать иначе, а именно как период из прошлого, связанный с
некими первичными переживаниями, которые определяют формирование ключевых
ценностей. Понятно, что стремление к воспроизведению этих переживаний, воспоминание
о них является важным для любой личностной истории. Таким образом, архиниция — это
место, где помещается все то, по отношению к чему формируется чувство, которое
принято обозначать как ностальгия, тоска по истоку (см., например: А. Фенько, 1993).
Первичные переживания естественным образом будут восприниматься как исконноподлинные, а следовательно, вся остальная история может рассматриваться как
отчуждение от первично-подлинного, отчуждение, которое только усиливает стремление
воспроизвести прошлое.
Все эти обстоятельства, а именно представления об архиниции как о чем-то, что связано
с некоей “неиспорченностью”, неотчужденностью и т. п., безусловно, очень важны в
контексте нашего исследования, а именно с точки зрения уже много раз обсуждавшейся
привлекательности. Представление об исходно-райском, во-первых является само по себе
привлекательным, чем-то таким, что дает возможность в процессе терапии иметь дело с
“интересным”.
Без сомнения, проблема отчуждения является ключевой для многих
психотерапевтических идеологий. При этом почти невозможно представить себе такое
теоретическое построение, когда отчуждение является, скажем так, изначальнопервичным феноменом. Во множестве школьных теорий имеет место представление о
первично-подлинной, неотчужденной природе личности, которая на более поздних этапах
развития подвергается отчуждающему воздействию со стороны общества, семьи и т. д.
Проще говоря, любая глубиннопсихологическая и экзистенциально-гуманистическая
теория почти непременно включает в себя “руссоистское” учение об извращении
первичной природной естественности. Но для таких построений безусловно необходим
структурный элемент, хоть как-то помечающий эту первичную “неиспорченность”. С
другой стороны, очень важно понять, что такое представление неизбежно предполагает
последующую “порчу”, о чем ниже и пойдет речь, особенно в разделе “Обстанция”.
Здесь следует заметить, что практикующих психотерапевтов со временем изрядно
утомила тягомотная возня с копанием в прошлом пациента. Это отразилось на духе и
структуре позднейших теорий. Наличие архиниции в теории какой-либо школы
неизбежно предполагает трудоемкую, кропотливую и долговременную
144
работу по углубленному исследованию первооснов и первопричин. Элементу архиниции в
теории метода, чаще всего в разделе техники, соответствует долгосрочная
аналитическая процедура. Радикально настроенные аналитические терапевты бьют
рекорды длительности терапевтических процессов, проводя с пациентом вместе годы в
поисках первичной травмы. Длительность анализа при этих обстоятельствах является как
бы предметом их гордости, как это ни парадоксально звучит. Повествуя в историях
болезни
о
многолетних
сроках,
затраченных
на
отдельных
пациентов,
глубиннопсихологические авторы исходили, видимо, из уверенности, что эти сроки
пропорциональны, так сказать, количеству интеллектуальных усилий, употребленных в
терапевтическое дело. Невероятно затянутые “конечные и бесконечные” анализы служили
гарантией того, что терапевт уж точно исчерпал все возможности погружения в прошлое и
достижения недосягаемых глубин, где находятся “последние вещи”, где сохраняются
самые важные первичные впечатления, и это погружение является самой терапевтически
благоприятной акцией. Те, кто практикует краткосрочные терапии, при таком раскладе
могут вызвать только ироническое сочувствие, ибо их деятельность не идет ни в какое
сравнение с добросовестной основательностью длительной аналитической работы. За
короткое время можно разобраться ну разве что в самых поверхностных слоях
переживаний.
Однако влияние “принципа наименьшей траты сил” сказалось в том, что такая
длительная аналитическая работа для многих оказалась чрезмерно трудоемкой, да и к
тому же неоправданно углубленной. Приходилось выбирать: или у тебя эстетически
привлекательная богатая концепция, требующая, однако, много времени для утомительнокропотливой аналитической возни, или ты экономишь силы и время, но тогда твоя
концепция, возможно, теряет часть своей привлекательности. Вряд ли следует считать
случайным, что в более поздних терапиях, например в клиент-центрированной, в
гештальттерапии, да и в поведенческой, не говоря уже о НЛП, акцент с углубленноприцельной археологической работы был перенесен на “здесь и сейчас”, архиниция
представлена в структуре теорий этих школ не так основательно или попросту ее вовсе
нет. Старые соображения о том, что терапевтический эффект усиливается по мере
“ракоходного” дискурсивного продвижения “в глубь” прошлого, заметно пошатнулись.
Единственная из новейших терапевтических школ, а именно трансперсональная терапия
С. Грофа, уделяет внимание архиниционному элементу. Но при этом у С. Грофа хорошо
пошло дело с изобретением мощно-стремительного способа вызывать состояния,
145
в которых до первотолчков и первопричин, столь необходимых для терапевтических
нужд, просто рукой подать. Поначалу архиниционные “глубины” достигались, как
известно, при помощи наркотика ЛСД, а затем посредством процедуры пневмокатарсиса,
особой техники форсированного дыхания под психоделическую музыку. При этом без
труда можно было пренебречь аналитической канителью с анализом, переносом,
свободными ассоциациями, возрастной регрессией и т. д. Так что, С. Гроф, можно
считать, ловко устроился: и до вожделенных глубин добрался, и время сберёг.
Другой пример относительно новой трактовки архиниции — трансактный анализ,
особенно в той его части, которая занимается так называемыми жизненными сценариями.
Здесь, однако, не следует забывать, что трансактный анализ проходит по разряду
глубиннопсихологических методов. Остальные же, по вполне понятным причинам, то
есть, помимо всего прочего, из соображений экономии терапевтического времени и
усилий, занимаются намного более актуальными проблемами и конфликтами, не залезая
очень глубоко в прошлое.
Совершенно ясно, что наука архинициология испытывает в наши дни очевидный кризис.
Будущее ее представляется туманным и сомнительным. Можно предположить, что это
связано с тем, что, хищно набросившись на тему истоко-причин, исследователи
глубиннопсихологического направления ее исчерпали. С другой стороны, “принцип
наименьшей траты сил”, развитие идеологии и практики short term-терапий неизбежно
приводит к сокращению сроков терапевтической работы, что делает отчасти ненужной
идеологию, которая толкает терапевтов к длительным срокам работы. При этом пока
непросто понять, является ли этот кризис временным, или история психотерапии
движется к отказу от архиниционных стратегий.
ЭВОЛЬВЕНЦИЯ
Если что-то когда-то началось, то, без сомнения, не худо проследить, как оно, начавшееся,
будет вести себя дальше. Если нет продолжения, то и начало, понятное дело, теряет свой
смысл. История развития личности требует понятийного аппарата для своего описания, и
многие школы такой аппарат конструируют. Так вот, для этой части теорий, которая
описывает развитие личности, какие стадии при этом проходит и какие задачи на этих
стадиях решает, мы предлагаем название эвольвенция (evolvo — лат. — разворачивать).
Всем, кто ориентируется в психотерапевтических концепциях, понятно, что этот элемент
весьма привлекателен для многих авторов и встречается довольно часто в разных теориях.
146
К примеру, вес тот же классический психоанализ. З. Фрейд, как известно, выделял
несколько фаз в развитии индивида, исходя из того, какая именно телесная эрогенная
сфера, по его мнению, в наибольшей степени влияет на поведение ребенка в тот или иной
временной отрезок. В этой схеме развития выделяются, как мы знаем, четыре фазы:
оральная, анально-садистическая, прегенитальная и, наконец, генитальная (З. Фрейд, 1990,
с. 208). Наличие интенсивных переживаний, связанных с актуализированной в тот или
иной период эротической сферой, приводит к тому, что формируется так называемая
фиксация. “...Такую остановку на более ранней ступени следует называть фиксацией”
(ibid., 217). Понятно, что фиксацию мы диагностируем только в том случае, когда речь
идет действительно о более ранней стадии. Соответствие эротической направленности
“паспортно-возрастной” фазе, конечно, не будет поводом для терапевтического
беспокойства.
Здесь мы видим то главное, что составляет смысл эвольвенции. Почти всегда она
опирается на некую нормативную хронологию. Эта хронология разделяет жизненный
путь личности на определенные отрезки и закрепляет за каждым определенные качества,
события, признаки, которыми она характеризуется, или же задачи, которые необходимо
решить на каждом из этапов, или же и то, и другое, и третье одновременно. Когда некие
признаки или успешное решение личностных задач соответствуют определенному
возрастному отрезку, это и считается нормой. Нарезая на жизненном пути различные
участки, мы делаем его сподручным для терапевтической работы. Ретроспективная
процедура, как бы она ни осуществлялась технически, становится наглядной,
поддающейся учету. Кроме того, появляются точки приложения особого внимания
терапевта, то есть некие кризисные периоды в развитии, которые представляют
наибольший интерес с точки зрения риска возникновения патологии. У терапевта в работе
с пациентом появляется возможность “предсказывать назад”, правдоподобно отыскивая
истоки различных проблем в далеком прошлом. В этом смысле очень неплохо было бы,
чтобы описанные этапы делились на относительно благоприятные и, скажем так,
проблемно-кризисные. При этом общепринятый взгляд на кризисные этапы, вроде
пубертата, кризиса среднего возраста, климакса, и т. д., вполне может быть пересмотрен в
какой-нибудь эвольвентной теории, которая объявила бы, например, личностное
благополучие стагнацией, деградацией или еще каким-нибудь злом, а кризисы
соответственно — благом.
Большой интерес в этом смысле представляет, к примеру, схема стадий жизненного
цикла, предложенная Э. Эриксоном
147
(Э. Эриксон, 1996). Эпигенез идентичности прослеживается с младенчества, главная
задача которого — формирование “чувства базисного доверия” (ibid., с. 106). В раннем
детстве ребенок начинает обретать автономность (ibid., с. 117), а позже начинает
проявлять собственную инициативу, что сопровождается способностью испытывать
чувство вины (ibid., с. 125—129). Школьному возрасту Э. Эриксон отводит роль периода,
когда рождается способность созидать и параллельно с ним — испытывать чувство
неполноценности (ibid., с. 133—138). В отрочестве мы наблюдаем созревание
идентичности, причем желательно при этом избежать того, что Э. Эриксон называет
спутанной идентичностью (ibid., с. 139—146). Ну и так далее. В некотором роде
нормативную хронологию Э. Эриксона следует считать образцовой, почти идеальной. Нет
сомнения, что в состязании “на лучшую эвольвенцию”, которое могло бы быть устроено,
она побила бы всех известных нам соперниц. Она богата, убедительна (о критерии
соответствия “природе и правде” не следует забывать никогда), основательно проработана
и сконструирована предельно жестко: этап — задача, этап — задача и т. д.
Подавляющее большинство исследователей со своими эвольвентными интересами
устремлено в детский период развития личности. Одна из многих больших заслуг
психоанализа, как известно, заключается в том, что особое внимание психотерапевтов
оказалось приковано к периоду детства. Общим местом считается положение, что все
самое важное в структуре личности формируется именно тогда и позднейшие впечатления
и переживания только накладываются на уже сложившиеся в детском возрасте
склонности, предпочтения и внутренние конфликты. Понятно также, что все описываемые
этапы интересуют исследователей с точки зрения соответствия развития личности
данному этапу. Важнейшая нормохронологическая диагностическая проблема,
возникающая перед любым терапевтом, заключается в констатации отставания (порой
прямо именуемого инфантилизмом (собственно — детскостью). Это может быть связано
как с болезненной фиксацией на том или ином этапе развития, с так называемым
застреванием, возникающим под действием каких-либо других причин. Забегание же
вперед, раннее созревание (любого рода акселерация) само по себе никогда как
патологическое не расценивается. Да, очень силен стереотип, согласно которому всякая
быстрота, ускорение и т. п. считаются однозначным благом, а замедление, неспешность,
отставание и пр. — злом.
Однако, конструируя школьную теорию, совершенно необязательно стараться,
изобретая собственную нормативную хронологию. В нашем распоряжении в любом
случае имеются нормохронологии,
148
заимствованные из общемедицинской или общепсихологической сферы. Развитие
личности представлено в них этапами совершенствования отдельных психических
функций, периодами активности тех или иных гормональных систем, а также внешнебиографическими событиями, знаменующими ту или иную стадию социализации. Особо
выделяются в таких эвольвенциях кризисные периоды, связанные с гормональной
перестройкой организма (созревание, климакс) или же имеющие отношение к перемене
социального, изменению социальной роли (поступление в школу, получение аттестата
зрелости, женитьба, уход в отставку). Совершенно ясно, что проблемы, травмы и т. п.,
имевшие место в эти кризисные периоды, оказывают совсем иное действие, чем то же
самое, но случившееся в относительно благоприятные времена. Одна из главных задач
построения
нормативной
хронологии
—
инвентаризация
возможных
нормохроноспецифических вредоносных факторов (что именно в какие периоды действует
особенно злокачественно).
Нелишним будет вспомнить, что очень часто мы имеем дело с обыденно-житейскими
нормохронологическими представлениями. В обыденном сознании существует некий
“биографический календарь”, предписывающий к определенному сроку иметь
достижения карьерного или же так называемого личного характера. Запаздывающий по
этим срокам считает себя “неудачником” или “старой девой”, и большое количество
терапевтических усилий порой тратится на преодоление зависимости от этого календаря.
В “Евгении Онегине” (гл. 8, X) житейские представления о нормативной хронологии,
свойственные обыденному сознанию, сформулированы Пушкиным выпукло и ясно:
“Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел, / Кто постепенно жизни
холод / С летами вытерпеть умел; / Кто странным снам не предавался, / Кто черни
светской не чуждался, / Кто в двадцать лет был франт иль хват, / А в тридцать выгодно
женат; / Кто в пятьдесят освободился / От частных и других долгов, / Кто славы, денег и
чинов / Спокойно в очередь добился, / О ком твердили целый век: / N. N. прекрасный
человек”.
Приведенные здесь эвольвенции рассматривали в основном жизненные пути отдельных
личностей. Однако теоретическая система в рамках какого-либо подхода может
рассматривать как целое, например, семью. Эвольвенция будет, таким образом,
приложена к жизненному циклу целой семьи, как это делается в теории семейной
системной терапии. Одинокая жизнь, встреча с партнером, женитьба, появление и
взросление детей, уход детей из дома, смерть одного из семейных партнеров и
одиночество другого — все эти события знаменуют различные этапы семейного цикла.
149
Другой известный концептуальный подход к эвольвенции заключается в том, чтобы
приложить
нормохронологическую
линейку
к
какому-нибудь
весьма
непродолжительному, но в то же время и немаловажному эпизоду. Например к процессу
родов, как это сделано С. Грофом (С. Гроф, 1994). Если в психоанализе, в частности у О.
Ранка, рождение рассматривалось как некий нерасчленимый феномен, то у С. Грофа
течение родов разбито на разные этапы, формирующие у родившегося так называемые
базовые перинатальные матрицы. Формирование их связано, по С. Грофу, с различными
этапами родов и приводит впоследствии к переживанию определенных впечатлений. Если
же на каком-то из перинатальных этапов возникают проблемы, то это создает риск
развития той или иной патологии. Заметим, что в других случаях появление на свет
считается некой первичной точкой отсчета, то есть в этих теориях рождение
рассматривается как архиниционный структурный элемент (у упоминавшегося О. Ранка).
С. Гроф, распределив все по стадиям, сумел представить родовой процесс как некое
развитие. Вот как получается: что одному — архиниция, то другому — эвольвенция. Это,
знаете ли, дело вкуса.
Хотя, с другой стороны, оба этих элемента теории чаще всего, видимо, сопутствуют
друг другу. Как мы уже говорили, один без другого теряет смысл. Уж коль ты обзавелся
архиницией — изволь к ней присовокупить и эвольвенцию, иначе твоя теория неизбежно
будет вызывать ощущение неполноты. Сочиняешь эвольвенцию — в любом случае надо
отметить ее начало. В некоторых случаях особенно-то и стараться не надо. В структуре
сочиняемой теории можно иметь в виду только один эвольвентный рубеж и выстраивать
вокруг него основную проблему индивидуального развития. Допустим, мы рассматриваем
развитие личности с точки зрения влияния симбиотических отношений на его жизненный
путь. Не составит никакого труда установить временную границу, за которой
симбиотические связи (ну хотя бы с матерью) должны считаться нежелательными или
даже вредными, причем так, чтобы это выглядело по возможности правдоподобно. Тем
более, как нам кажется, что-то в этом роде уже где-то есть. Также не стоило бы серьезных
усилий соорудить эвольвенцию, исходя, скажем, из взаимного соотношения инстанций.
Идет время — какие-то части целого увеличиваются, какие-то ужимаются, границы
между ними меняют свое положение в пространстве. Какое-нибудь Сверх-Я растет за счет
Оно, а Анимус поглощается, к примеру, Персоной. При этом естественно будет
предположить, что части, которые мы будем считать рациональными, с увеличением
паспортного возраста будут вытеснять так или иначе иррациональные части личности.
150
Впрочем, не возбраняется и обратный ход рассуждений. Можно, видимо, сделать и так:
построить типологию, основывающуюся на том, что один психологический тип с
течением времени проделывает один путь в изменениях соотношений инстанций, другой
же тип — соответственно другой путь.
Наличие в структуре теории архиниции вкупе с эвольвенцией создает возможность для
еще одной практики, а именно — путешествия во времени, которое совершается не в
воспоминаниях, а в “здесь и сейчас” психотерапевтической ситуации. Речь в первую
очередь идет о так называемой возрастной регрессии. Тут, конечно, нам возразят, что так
путешествовать можно и безо всякой теории, а запросто загипнотизировал пациента и
свозил во времени куда надо. Но в таком случае это будет поездка наобум, а если есть
хорошая эвольвенция, то получается, что нас как бы сопровождает гид.
Важно оговорить, что далеко не все эвольвенции непременно должны быть
нормохронологическими. Вовсе не обязательно все задачи должны быть жестко
закреплены за определенными сроками. Более того, с идеологией нормативной
хронологии, в том, скажем, виде, в котором она закреплена в упоминавшихся обыденножитейских представлениях (в цитированном отрывке из “Евгения Онегина” о том же),
приходится терапевтически бороться, ориентируя пациента на собственную хронологию,
а не нормативно-общепринятую. Теория развития может формироваться вне всяких
сроков и строиться только на принципе разрешения определенных проблем, например, как
это у К. Г. Юнга в концепции индивидуации, последовательной конфронтации с разными
архетипами.
Метафоры, которые могут считаться подходящими при сочинении концепции
эвольвенции — это всякого рода дороги, тропы, словом, что-нибудь такое продольное и
движущееся, хоть бы даже и река. Хорошими метафорами для всякой индивидуальной
концепции развития всегда были и будут надиндивидуальные истории развития в духе
известного “онтогенез повторяет филогенез”. Развитие животного мира от простейших к
млекопитающим, вообще всякая теория эволюции вполне может служить прообразом
развития отдельной личности. Не исключено, что сочинительская фантазия вполне может
подвигнуть какого-нибудь автора на сопоставление, скажем, индивидуальной истории
личности и исторической смены литературных стилей в известной последовательности:
классицизм — сентиментализм — романтизм — реализм. Однако надо оговориться, что
классицизм по вполне понятным причинам придется поставить в конец после реализма,
ибо он может послужить метафорой для достаточно зрелого уровня личностного развития,
в то время как
151
сентиментализм,
безусловно,
“инфантилен”.
К
слову
сказать,
личностная
нормохронология в свою очередь может сгодиться в качестве метафоры для обоснования
закономерностей смены литературных стилей. Можно также подумать, например, о
метафорических параллелях между этапами истории человеческой культуры и этапами
развития личности, от античности до современности, с одной стороны, и от детства до
старости, с другой. Ясно, что при этом, к примеру, средневековье будет увязываться с
некими латентными периодами развития личности, а возрождение с каким-нибудь
периодом бурного роста.
Будущее эвольвентологии представляется нам более отрадным, чем перспектива
архинициологических исследований. Прошлое, описываемое в эвольвентологических
частях теорий, в большей степени приближено к актуальной терапевтической ситуации,
чем туманные очертания той реальности, которой мы занимаемся в качестве
архинициологов. Поиски истоков-первопричин — это путь только назад, расстановка же
вех на пути — это уже приближение к настоящему и насущному. Наш исследовательский
взгляд при исследовании архиниционных далей движется по направлению от настоящего
в прошлое, в то время как эвольвенцию мы разглядываем наоборот, от прошлого в
будущее. Реалии, описываемые на разных этапах развития, чаще всего более наглядны и
ощутимы и поэтому в меньшей степени нуждаются в спекулятивной поддержке, чем те, с
которыми мы имеем дело, рассуждая о первоистоках.
Итак, мы уяснили себе, что эвольвенция может иметь отношение к разным
содержательным сферам и при этом довольно произвольно (хотя порой и достаточно
правдоподобно) размечаться на нормохронологические этапы. Конечно же, можно не
возиться со всем этим делом, пожалуйста. Но тогда теряется один из хороших способов
обогатить свою концепцию и обосновать возможности оказывать влияние на всю длину
жизненного пути личности. Конечно, это соображение само по себе является
убедительным доводом в пользу того, чтобы не пренебрегать всем этим делом в процессе
сочинения психотерапий.
КУПИДО
Но теперь мы переходим к еще более интересной теме, всегда занимавшей воображение
терапевтов — сочинителей концепции. Что и говорить, влечения, их судьбы и
превращения, проблемы, с ними так или иначе связанные, были и остаются одной из
главных и излюбленных тем создателей психотерапевтических теорий. Со времен
психоанализа в центре внимания различных авторов — homo desiderans, человек
желающий, а главное, страдающий от того, что его желания не находят
удовлетворения.
152
Происхождение патологии, которой занимаются разные терапии, для них как раз и есть
почти во всех случаях результат неудач, постигающих влечения, находящиеся в фокусе
внимания той или иной школы.
Нет ничего случайного в том, что тема влечений стала столь значимой для многих
учений в психотерапии на протяжении довольно длительного периода. Психоанализ —
инициатор помимо всего прочего, и этого дела — формировался на рубеже веков, в пору
духовного господства “философии жизни”. Давно стало общим местом положение, что
фрейдовская теория влечений формировалась под влиянием Шопенгауэра, Ницше и
Бергсона, а концепция либидо является прямым продолжением представлений о “мировой
воле”, “воле к власти”, “жизненном порыве”. “Человек желающий” легко переселился из
философского обихода в мир психотерапевтических теорий. И обосновался там так
основательно, что первое время полемика, приводившая к размежеваниям между разными
авторами, сводилась, собственно, к спорам по вопросам, связанным с природой влечений.
Речь, как известно, шла о том, какое из влечений (желаний, инстинктов) считать главным,
какое второстепенным. Понятно, что ущемление этого главного и приводит к появлению
той или иной патологии намного скорее, чем неприятности, случающиеся со
второстепенным. Небезынтересно, что первые диссиденты в психоаналитическом
движении К. Г. Юнг и А. Адлер — это как раз критики З. Фрейда в вопросах природы
влечений, которые преобладают в жизни индивида и в происхождении неврозов и
которыми, соответственно, должен заниматься терапевт.
Думается, уже вполне понятно, что такое важное дело не может не быть отражено в
структуре общей теории. Начнем с термина. Купидо (лат. — cupido) имеет
приблизительно то же семантическое поле, что и либидо, то есть желание, стремление,
влечение, страсть, и в контексте нашего исследования является элементом
психотерапевтической школьной теории, обозначающим некое влечение, которому автор
этой теории находит нужным уделить особое внимание. Когда мы говорим о либидо,
имеется в виду, что конкретная личность испытывает то или иное влечение; когда мы
говорим о купидо, имеется в виду, что в структуре той или иной теории мы сталкиваемся с
понятием, обозначающим некое влечение.
Как уже сказано, все началось с психоанализа, как и во многих других случаях.
Фрейдовское либидо, как известно, имеет сексуальную природу, материальный субстрат и
направлено на некий объект, причем как субстрат-источник, так и объект, на который
либидо направлено, всячески варьируются во времени
153
и в пространстве. Либидо имеет свои корни как в телесной, так и в психической сферах,
все же остальные влечения есть не что иное, как превращенная форма либидо.
Очень важно, что купидо как в действительности, так и в подражающей ей теории
неизбежно наталкивается на препятствия, не дающие овладеть безболезненно и
безнаказанно желаемым объектом, отчего индивид — носитель этого купидо в восторг не
приходит. Очень сложно представить себе теоретические построения, в которых субъект
безболезненно смиряется с неудовлетворенным желанием, иначе говоря, переносит
купидинозные лишения без возникновения патологических последствий, например
неврозов. Для конструирования психоортопедического процесса нам требуется не
“просто” купидо, мы ведем дело, скажем так, к созданию теории “купидинозной болезни”.
Можно без особого преувеличения сказать, что Фрейд, серьезно расширив сферу
сексуального, выиграл таким образом значительный объем идеологического пространства,
которое мог эффективно контролировать. Мы уже не говорим о том, что сексуальное —
это очень “интересное”, то есть нечто такое, чем определяется привлекательность теории.
Еще более интересной оказалась способность либидо превращаться, по Фрейду, в нечто,
на первый взгляд несексуальное, которое, однако, в итоге оказывается все же сексуальным
при более пристальном рассмотрении. Это мы, понятно, о так называемой сублимации.
С такой теоретической удачей, с таким успехом, ясное дело, не захотели мириться как
идеологи, стоявшие вне психоаналитического движения, так и те, что вначале действовали
в русле фрейдовской идеологии, а потом решили строить свое учение вокруг другого,
более им близкого и сподручного купидо (не оприходованного к тому же ни Фрейдом, ни
кем-либо другим). Если А. Адлер выбрал для этих целей стремление к компенсации
неполноценности и к доминированию, то К. Г. Юнг, трактуя либидо как универсальную
энергию, занял, казалось бы, более удобную позицию, чем Фрейд и Адлер вместе взятые.
Согласно К. Г. Юнгу, купидо становится как бы тотальным влечением, и создатель такой
теории находится на первый взгляд в положении более выгодном, чем другие авторы. Он,
получается, накладывает руку на всю сферу влечений разом. Выходит так, что все, что с
этой точки зрения можно проследить и описать по этому ведомству на сегодняшний день,
а также все, что может быть описано позднее, является не чем иным, как всего лишь
частной формой того, что он, Юнг, положил в основу своей школьной теории. Да, это был
человек с размахом! Ведь мы помним, что и архиниция у его прямо-таки необъятная,
бесконечная (точнее сказать, безначальная), и купидо, как мы видим, всеохватное.
154
Попытки сочинить теорию с тотальным купидо можно проследить и у позднейших
авторов (об этом ниже). Дело, однако в том, что, на наш взгляд, тотальное влечение не так
интересно как более локальное, но обладающее способностью к превращениям. “Влечение
вообще” не привязано к “удовольствиям”, то есть не заряжено гедонистически, что, как
мы помним, немаловажно. “Тотальное” купидо чрезмерно общо, неконкретно,
расплывчато и само по себе вряд ли привлечет большой интерес к теории, вокруг него
построенной. Обо всем — это всегда “ни о чем”. Словом, в том что касается интересного
привлекательного купидо З. Фрейд бьет всех остальных. Нет купидо лучше либидо!
Не следует забывать о гедонистических аспектах школьной теории, которые делают ее
привлекательной для всех — будь то пациенты или коллеги. Помнить об этом, размышляя
о влечениях, нужно в большей степени, чем в любом другом месте. И то: как может
существовать гедонистическое вне контекста влечений? Внешние же силы,
препятствующие купидо, разумный автор почти всегда представит как
антигедонистические и, как таковые, подлежащие корректировке. А вот сочинителям,
которые пожелали бы соорудить свои теории вокруг “негедонистических” купидо, “силе
воли” какой-нибудь, или “стремлению к здоровью”, например, следует основательно
подумать, прежде чем пускаться в столь рискованную авантюру. Купидо — всегда
“слабость”, в толковых метапсихологиях — почти “наваждение”. Исключением здесь
могут быть только “экзистенциальные” купидо вроде стремления к смыслу. Перефразируя
известный искусствоведческий афоризм, скажем: все купидо хороши, кроме скучных! Ведь
задача сочиняющего теорию — увлечь читателя богатым, интересным, внутренне
драматичным метафизическим зрелищем. Купидо — это то, что делает интересным
протагониста, героя истории болезни. В борьбе купидо с препятствующими его
удовлетворению факторами вырастают инстанции, после чего отделяются друг от друга
границами.
Собственно, как и при обсуждении всех других структурных элементов теории, мы
должны оговориться, что ведь нет и не может быть никаких данных в пользу того, что
наличие того или иного элемента в школьной теории благотворно сказывается на
терапевтическом процессе. Функция всех этих построений заключается в том, чтобы быть
убедительно-привлекательными для тех, кто окажется в поле влияния создателя метода,
стремящегося оправдать свои действия и спроецировать на пациента свою картину мира.
Итак, психоанализ, аналитическая и индивидуальная психология заложили традицию,
согласно которой теории в психотерапии сооружаются вокруг некоего влечения. Это
влечение трактуется
155
как ведущее, важнейшее, подчиняющее себе все остальные или объединяющее все
воедино. Теперь, задним числом можно сказать, что нет ничего странного в том, что
именно эта, интереснейшая, часть психотерапевтической доктрины была долгое время
почти обязательной для любого создающего свое теоретическое пространство автора.
Соблазнительно-волнующий язык желаний, несомненно, всегда будет жадно востребован
и благодарно воспринят любым пациентом, а также и терапевтом. Любая терапия будет
захватывающей, если в ходе нее устанавливается связь между проблемой или
симптоматикой пациента и его желаниями, в первую очередь скрытыми и
неудовлетворенными. Поистине замечательна сама мысль о совпадении процесса терапии
и процедуры удовлетворения желаний, гратификации. Да, в общем-то, было бы нехудо,
если бы такая перспектива хотя бы не возбранялась. Если нам не изменяет память,
существуют психотерапии, строящиеся на том, что определенные желания
удовлетворяются без проволочек прямо на месте. Осведомленный читатель не
затруднится привести здесь достаточно примеров.
Кроме того, школьная метапсихология, включающая в себя такой предмет, позволяет ее
автору легко выходить далеко за пределы собственно терапевтической тематики. В
результате всего этого становится возможной обсуждавшаяся выше патографическая
экспансия, то есть расширение области компетенции терапевта. Благодаря этому он
получает возможность осуществлять экспертные функции отнюдь не только в
узкотерапевтическом обиходе. Это мы, собственно, и наблюдаем на протяжении всего
пути развития психотерапии. Несомненно, что благодаря в первую очередь “интересным”
теориям купидо психоаналитики стали играть в общественном сознании ту же роль, что в
XIX веке играли философы.
Глубинная психология сформировала, таким образом, сильный вызов, ответить на
который
пожелали
многие
создатели
позднейших
теорий.
Так,
купидо
психодраматической доктрины было обозначено Дж. Морено как акциональный голод (Г.Лейтц, 1994. с. 152). Акциональный голод, проще говоря, стремление действовать зависит
от наследственных факторов, здоровья, межчеловеческих отношений, внешних условий и
внутренней безопасности. Конечно, здесь дан пример того, как не следует конструировать
купидо. “Акциональный голод” носит явно негедонистический характер и не идет в этом
смысле ни в какое сравнение с либидо или чем-нибудь еще в этом роде. Он не требует
какого-либо сокрытия, не может быть подвергнут репрессиям извне, не может обусловить
внутреннего конфликта. Неудивительно, что такое неудачное теоретизирование не
получило
156
широкого распространения, и вряд ли такой скучной концепции светит хоть какой-нибудь
шанс.
К сожалению, всего лишь походя, вскользь касается этого вопроса Э. Берн в разделе
“Структурирование времени”. Он описывает три вида влечений: “первый — это
стимулирование или жажда ощущений”; “второй — это жажда признания”; “третий — это
жажда структурированности” (Э. Берн, 1992, с. 171—172). Мы полагаем, что напрасно
создатель трансактного анализа уделил явно недостаточно внимания этому, без сомнения,
выгодному предмету. Таких сожалений немало и по поводу других методов, особенно же
если задуматься, чем бы они могли стать при разумном и правильном обхождении с ними.
Порой невозможно преодолеть чувство огорчения, когда видишь, что какая-то школьная
теория могла быть богаче, чем она есть в действительности. Безусловно, интересными
могут считаться также открытия в этой области, совершенные теоретиками
гуманистического направления. В роли купидо у этих авторов выступила
самоактуализация, что привело к благотворному расширению пространства
терапевтической работы. По А. Маслоу и другим, самоактуализация является
непременным условием личностного роста и творческой самореализации (А. Маслоу,
1997). Благодаря всему этому психотерапия получает совершенно новый рабочий
контекст, который очень выгодно отличается от глубиннопсихологического. Во-первых,
здесь охватываются новые области интересного, которые до того были отодвинуты в
сторону. Кроме того, привлекательность этих концепций заключается в том, что возможно
вести речь не только о гедонистически “интересном”, но и об интересно “возвышенном”,
что тоже является крайне привлекательным делом. И, наконец, здесь анализируется и
подвергается изменениям целостный, полный, нередуцированный мир личности, что тоже
создает для приверженцев этой теории выигрышную полемическую позицию, которая
всегда дает возможность выглядеть в более выгодном свете, чем редукционистыпсихоаналитики.
Исключительно достойное купидо мы находим в трудах В. Франкла. Стремление к
смыслу (см. В. Франкл, 1990), является, несомненно, выигрышной находкой, ибо придает
нечто особое любому из возможных занятий, любому из возможных явлений. Смысл —
это нечто такое, что, подобно волшебному заклинанию, превращает обыденное в
исключительно важное, придает чему угодно новое измерение, раздвигающее границы
пространства личности. Придание смысла как бы укрупняет любое событие, выступает в
роли некоей эмфазы, т. е. выразительного усиления значения. За каждым из жизненных
эпизодов или предметов, окружающих личность, обнаруживается новая глубокая
перспектива.
157
“Смысл” интересен и привлекателен присущим ему “обогащающим”, “усиливающим”
внутренним жестом. Очень убедительным выглядит любое теоретическое построение,
согласно которому недостаток смысла приводит к невротическим последствиям,
отождествление терапевтического процесса с поиском смысла кажется делом весьма
естественным. Трудно даже представить себе, что учение, посвященное поиску смысла,
может не вызвать интереса, даже в том случае, если к этому учению не прилагается ловко
сработанной техники. А В. Франкл и об этом хорошо позаботился, присовокупив к своей
и без того обреченной на успех теории вполне достойные техники десенсибилизации и
парадоксальной интенции. Эти техники, будучи исключительно “поведенческими”, т. е.
принадлежащими иной парадигме, тем не менее вполне достойно монтируются с
“экзистенциализмом”.
В некоторых школьных теориях авторы избегают закреплять купидо за какой-нибудь
отдельной содержательной сферой (если же это делают, однако, то для того, чтобы потом
распространить на все остальные). Здесь речь идет просто о влечениях в том виде, в каком
их может обнаруживать у себя испытывающий желания индивид. Такой подход
исключает иерархию и возможность осуществлять превращения влечений в процессе
психотерапии. Мы имеем в виду здесь в первую очередь организмические потребности в
теории гештальттерапии Ф. Перлза. Речь может идти и о просто потребностях — needs,
которые, по Г. С.-Салливену, могут быть общими и зональными (Sullivan, 1953, v. 1, p.
36). В обоих случаях мы имеем дело с тотальным купидо, о котором мы уже говорили
выше. Нельзя не признать, что есть определенное удобство в том, чтобы иметь дело
только с одним каким-нибудь типом влечений и не соотносить его особенно отчетливо с
одной из содержательных сфер, ибо здесь можно сосредоточиться уже на чем-нибудь
другом — на завершении гештальта по Перлзу и ослаблении напряжения по Салливену.
Весьма интересной задачей была бы инвентаризация всех купидо в рамках одного
теоретического проекта, озаглавленного, к примеру, Summa cupidinae. Однако важно было
бы не просто провести инвентаризацию, перечислив и обозначив все возможные купидо,
обстоятельно разобрав каждое, но и составить иерархию их, выделить из них наиболее
существенные, которые, естественно, будут и самыми важными для создания концепции
патогенеза, ну и второстепенные. Тут нельзя не вспомнить об интересной идее А. Маслоу,
предложившего знаменитую иерархическую пирамиду потребностей. Иерархия основана
здесь на правиле, согласно которому более “высокие” потребности дают о себе знать и
требуют удовлетворения только в том случае, если удовлетворены более “низкие”. По
возрастающей здесь выделяются:
158
1) физиологические потребности; 2) потребности в безопасности; 3) потребности в любви
и привязанности; 4) в признании и оценке; 5) в самоактуализации (A. Maslow, 1954).
Видимо, увлечение автора этим проектом было таким, что он даже не принял во внимание
само собой разумеющиеся соображения о том, что для самоактуализации вовсе
необязательно удовлетворять более низшие потребности. Разумеется, более
правдоподобным является предположение, что неудовлетворенные “низшие”
потребности, как раз наоборот, оживляют мотивацию к самоактуализации. Но мы
прекрасно понимаем, что автору этих построений было вовсе не до “верности природе и
правде”, ибо он был явно захвачен ощущением своего теоретического всемогущества, так
что все это в данной ситуации, видимо, представлялось ему чем-то вполне
соответствующим действительному положению дел. На самом деле, очень заманчиво
оказаться в роли того, кто распоряжается “пользованием удовольствиями”, быть тем, кто
издает указы, прописывает правила, по которым все это происходит. Более того,
“назначает” главные влечения и второстепенные. Одними пользоваться так, другими этак.
Какой тут, в самом деле, спрос с автора, когда перед ним искушение такой силы? Кроме
того, с исторической точки зрения А. Маслоу, получается, подвел некую черту в разговоре
на тему о влечениях, собрав их всех вместе и выставив соподчиненными одно другому,
более того, описав правила, регламентирующие их взаимоотношения.
Так каким же, собственно, должно быть влечение, чтобы сделать привлекательной
построенную на нем теорию? Оно, полагаем мы, в первую очередь должно быть в том или
ином смысле неявным, скрытым, латентным. Ясно также, что должны существовать
веские причины для такого сокрытия. Другими словами, оно должно находиться в таких
условиях, которые неизбежно вынуждали бы носителя этого влечения так или иначе
скрывать его от посторонних глаз. Очень хорошо обстоит дело, когда купидо — это еще
и “порок”, т. е. влечение, неприемлемое с точки зрения общественной морали. К
сожалению, число мыслимых “пороков” ограничено по независящим от нас
обстоятельствам, да и не все они годятся в дело. Куда мы денемся с каким-нибудь
чревоугодием или, к примеру, со скупостью? Вот с леностью, наоборот, можно было бы
соорудить что-нибудь достойное.
Неписаному (да, понятно, и не проговоренному) правилу латентности так или иначе
следовали самые крупные авторы. Так, сексуальное влечение, согласно
психоаналитической доктрине, скрывалось или подавлялось в условиях викторианского
общества, не допускавшего его открытых проявлений, что обусловило
159
именно отчасти латентное существование фрейдовского либидо. Юнговская
символическая потребность всячески отчуждалась в дегуманизированном и
технократически ориентированном обществе. В любом случае для выявления этих
потребностей и влечений необходима некая герменевтическая терапевтическая
процедура, цель которой — сделать это все чем-то наглядным, то есть чем-то таким, с чем
можно работать. Мы помним, что психотерапевтические авторы не просто конструируют
некую антропологию, но создают именно сподручную конструкцию, которая явным
образом подходит для практического использования. Так что мы не можем строить нашу
теорию вокруг какого угодно, первого попавшегося нам под руку купидо. Оно должно
соответствовать действительному положению дел, иначе говоря, корениться в реальных
потребностях человека, что мы, например, учли в главе “Виртуальные психотерапии” (см.
ниже).
Важно также иметь в виду, что мы можем брать для наших нужд только такое купидо,
удовлетворение которого требует преодоления определенных препятствий. Очень трудно
представить себе теорию личности, в которой за основу берется, например, заурядный
голод или жажда. С другой стороны, понятно, что “голод” или “жажда”, как метафоры
могут очень пригодиться. В целом, мы думаем, что при сочинении теорий речь идет не о
чрезвычайных ситуациях, а о патологии, связанной с заурядным образом жизни, где и
формируется все то, с чем мы обычно имеем дело.
Другое, что важно учитывать, — это структурированность купидо. Было бы очень
недальновидно просто обозначить купидо в своей теории, не представив некую сборку
этого дела. Только подробно и убедительно расписав составные части и их
взаимоотношения, мы можем рассчитывать на то, что наша концепция сможет достойно
выглядеть. Конструкция либидо, как она начерчена в психоаналитической доктрине,
может служить моделью для всех остальных, в том числе — возможных.
Как известно, первое — это источник влечения. Здесь можно иметь в виду как часть
индивидуального целого, так и целое в нерасчлененном виде. Купидо может корениться в
бессознательном, в сознательной части личности, равно как и тут, и там одновременно.
Без труда можно представить себе, что, подобно тому как ручьи, вытекая из разных
источников, могут течь сами по себе, а могут сливаться в одну большую реку, купидо
может формироваться и так, и этак. Без сомнения, поиск источника влечения не должен
ограничиваться только психическим пространством, но вполне может быть привязан к
телесной части целого.
Интересная тема — это исследование происхождения и развития источника,
соотнесение купидо с архиниционной и эвольвентной
160
проблематикой. Можно, к примеру, создать условия для постановки терапевтически
значимых вопросов. Как же исторически так получилось, что именно эта часть целого
ответственна именно за это влечение, а не за какое-нибудь другое? Сохранилась ли эта
часть целого в качестве источника данного купидо или же источник по каким-либо
причинам поменялся? Может ли, например, источник исчезать с течением времени, а
купидо, из него исходившее, закрепляться за другим источником? Все эти вопросы могут
в контексте возможных теорий служить поводом для весьма достойных
метапсихологических построений.
Здесь уместно вспомнить, что выше мы противопоставили друг другу два типа
инстанций — исторические и функциональные. Собственно, то же самое
противопоставление могло бы иметь место и в разговоре о купидо. Не составит труда
предположить, что в разных концепциях, в том числе и возможных, мы встретим тоже два
сходных типа купидо. Одно будет формироваться в течение долгого времени (возможно,
даже в доиндивидуальном периоде), а другое возникать только в контексте
терапевтической процедуры. Это опять-таки дело вкуса, кому что нравится.
Далее следует иметь в виду вектор купидо, то есть нечто такое, что характеризует силу
и направленность влечения. Собственно, к “слабосильному” купидо, ненапряженному
влечению никак не может быть прикован чей бы то ни было интерес. Ведь рано или
поздно неприятности, которые должны будут произойти с нашим купидо, должны
привести протагониста истории болезни к возникновению невроза, например. Так что наш
интерес к купидо прямо пропорционален его силе, только сила делает купидо интересным
для практика и исследователя. О точном количественном измерении влечения, об
исчислении купидо, говорить, конечно, всерьез не приходится. Однако сплошь и рядом
приходится проводить сравнительную количественную оценку купидного вектора,
который в процессе терапии, возможно, придется усиливать или ослаблять. Сравнение
силы различных влечений в рамках одной ситуации или биографии создает почву для
осуществления экзистенциального выбора. С другой стороны, если некое влечение не
может в силу ряда обстоятельств преодолеть некие преграды на пути к своему объекту (о
самих преградах ниже), то нет другого способа помочь, кроме как разобравшись с его
мощью, напряженностью, интенсивностью и т. п. Интересная задача заключается также в
том, чтобы продумать соотношения между силой купидо и доступностью объекта,
отсутствием или наличием преград на пути к нему, количеством работы, необходимой для
того, чтобы им овладеть, преодолеть преграды и т. д.
161
В сущности, нет ничего невозможного в том, чтобы, к примеру, суггестивным путем
попытаться ослабить напряжение, вызванное этим влечением. Легче, однако, представить
себе, что сила влечения ослабляется сама по себе, если мы меняем объект влечения.
Словом, ослабление или, наоборот, усиление купидо (другая ситуация, иной контекст),
осуществляемое тем или иным способом, может быть одной из ключевых
терапевтических задач. Эта задача может по-разному решаться в реальной
психотерапевтической ситуации, в зависимости от школьных технических принципов.
Практики, осуществляющие изменения интенсивности пользования удовольствиями,
также могут обогащать арсенал терапевта и — не в последнюю очередь — его образ. Так
что имеет смысл под эти практики сочинять теории.
Соображения, касающиеся возможностей изменения направления вектора, тоже
открывают большое пространство для терапевтической работы, причем здесь
притягательной темой является тема поворота вектора на сам субъект, из которого купидо
исходит (речь, в частности, о нарциссизме). Здесь можно проигрывать такие интересные
варианты, как поворот вектора купидо на целое или на часть этого целого. Без сомнения,
тем, кто этим кругом проблем займется, важно будет решить вопрос, не происходит ли
отчуждения от субъекта той части его целого, на которое оказывается направленным его
купидо? Возможно ли такое положение дел, когда купидо будет направлено на свой
источник, или все же часть целого, ставшая мишенью купидо, неизбежно сдвигается к
некой периферии? То есть возможно ли полное совпадение источника и объекта купидо?
Для любой терапевтической работы очень важным будет понятие объекта купидо. Если
для того, чтобы определить источник и вектор, требуются определенные аналитические
процедуры, то объект купидо почти всегда фигурирует в любом клиническом случае сам
по себе. Сила купидо определяется, собственно, по тому, какое место в мире личности
занимает тот или иной объект. Очень трудно представить себе беспредметное купидо, ни
на что не направленное. Собственно, влечение — это почти всегда влечение к чему-то.
Сочиняешь ли собственную теорию, изучаешь ли чужие, рано или поздно придешь к
необходимости различать реальные и идеальные объекты. Влечение может быть
направлено на реальное тело, на конкретную личность, но может и иметь в виду какуюнибудь отвлеченную цель, а то и некое состояние, в котором возможно что-то совершить
и т. д.
Однако купидо и его объект могут находиться в самых разных взаимоотношениях. К
объекту можно стремиться по-разному. Обозначим эту направленность, ну, скажем,
купидинозная
162
интенция. Эта интенция может предполагать стремление как воссоединиться с объектом,
так и, к примеру, объект уничтожить. Можно стремиться приобрести определенную
власть над объектом, не используя никак тех возможностей, которые это обладание
предоставляет (как герой “Скупого рыцаря” у Пушкина: “Я выше всех желаний; я
спокоен, / Я знаю мощь мою: с меня довольно / Сего сознанья..”). Можно стремиться к
тому, чтобы обладать объектом, можно — к тому, чтобы объект обладал тобой. Кому как
нравится.
Очень интересным может быть купидо, рассчитанное на то, чтобы вызвать у
купидинозного объекта обратное влечение к самому субъекту, испытывающему влечение,
или, в наших терминах, хранителю источника купидо, назовем это, к примеру,
ретроактивное купидо. При этом ясно, что эти обратные купидинозные интенции, равно
как и характеристики вектора (проще говоря, сила влечения), могут быть совсем иными,
несимметричными, так сказать, хотя понятно, что сам субъект всячески стремится к тому,
чтобы влечение к нему объекта было равносильным, а то и превосходило бы его
собственное. Однако не стоит забывать, что такой важнейший показатель, как сила
вектора купидо, может серьезно зависеть от того, насколько выражено встречное
влечение. Здесь также спрятан ключ к проблеме временно́го характера купидо. Иначе
говоря, сокращается ли время функционирования купидо вообще и по отношению к
отдельному объекту, в том случае, если есть что-то встречное.
Временная характеристика купидинозных интенций тоже может быть предметом
внимания заинтересованного автора. Имеем ли мы дело с купидо, которое является
непреходящим, существующим при любых обстоятельствах или же оно может появляться,
уходить и опять возвращаться по новой? С одним только каким-либо типом объектов
стремится соединиться возможное купидо или же объект можно менять? Растет купидо с
увеличением возраста своего существования или уменьшается? Если да, увеличивается
или нет, уменьшается, то происходит это постепенно-непрерывно или прерывисто,
скачками? Этот ряд вопросов может быть продолжен и обогащен еще более длинным
рядом ответов.
Все это имеет непосредственное отношение и к терапевтическому процессу, в рамках
которого вполне реальная стратегия может строиться на укорачивании периода времени
влечения к некоему объекту (или, наоборот, на удлинении). Небезынтересно было бы
также проработать проблему зависимости между силой купидо и его длительностью.
Будет ли оно, скажем так, чем сильнее, тем и долговечнее или наоборот. Принимать здесь
решение относительно конструкции школьного купидо и брать
163
на себя ответственность за него здесь, как и в других случаях, приходится только автору,
и никому другому.
Большая методологическая трудность заключается в том, чтобы провести параллели
между объектами различных купидо. Например, если в случае сексуального голода
(рассуждаем в психоаналитической парадигме) с идентификацией объекта больших
трудностей не предвидится, то, к примеру, сублимированные стремления — они на что
направлены? Можем ли мы считать объектом сами продукты творческой деятельности
или только то состояние, в котором они создаются (так называемое вдохновение)?
Конечно, самый разумный ответ на этот вопрос — и то, и другое, однако возможны
варианты.
Как мы уже говорили, возможны теории с единым купидо, когда отдельные влечения
есть не что иное, как частные его разновидности, и теории, в которых мы имеем дело с
разными. В этом случае автору возможной теории следует иметь в виду, что интересное
купидо — это в первую очередь купидо, обладающее способностью к превращениям.
Метаморфозы купидо (по аналогии с названием известного труда К. Г. Юнга), которые
интересны сами по себе, могут оказаться в самой сердцевине практической
терапевтической работы, и поэтому будет весьма уместно, если в теории найдется место
для темы превращений.
Самый известный в этом смысле пример — так называемая сублимация в
психоаналитической доктрине. “Сублимацией называется такое влечение, которое в той
или иной степени переключено на несексуальную цель и направлено на социально
значимые объекты” (Ж. Лапланш, Ж. Б. Понталис, 1996, с. 510). На наш взгляд, крайне
нелепо было бы рассуждать на тему, действительно ли эстетическая, к примеру,
активность является видоизмененным сексуальным влечением. Намного более важным
открытием, которое сделал здесь создатель психоанализа, заключается в том, что влечение
вообще может претерпевать какие угодно метаморфозы. И основное правило,
которому, без сомнения, подчинены все процессы превращений купидо, можно
сформулировать так: любое купидо может превращаться в какое угодно другое купидо,
причем каким угодно образом. Это превращение может происходить как само по себе,
спонтанно, вне психотерапии, так и под воздействием терапевтических процедур.
Исключение из этого правила возможно только в том случае, если вдруг обнаружится, что
какое-то купидо упрямо не хочет превращаться в другое. Освобождая влечения из-под
действия всевозможных правил, мы развязываем руки всем возможным сочинителям
купидосодержащих концепций. Вообще же нельзя не сказать, что хорошим
психотерапевтическим текстом может считаться именно такой, который предоставляет в
распоряжение
164
читателя как можно больше возможностей, не требуя ничего взамен (например,
“безусловного принятия” идей автора и следования описываемым им методикам).
При таком раскладе сублимация, ясное дело, — это не более чем частный вид феномена,
который можно обозначить как конвертация купидо, то есть превращение влечения.
Понятно, что превращение купидо, происходящее как естественным путем, так и в
результате некоего вмешательства, вовсе необязательно должно идти “вверх” — от
связанного с “материально-телесным низом” к более “высокому”, социально
приемлемому, помещенному, к примеру, в эстетическую или религиозную сферу.
Происходит ли это превращение только в том случае, если на пути какого-либо купидо по
направлению к вожделенному объекту появляется некое препятствие, мешающее
реализации купидинозных интенций? Или же купидо может конвертироваться под
влиянием других факторов, равно как и само по себе? Скажем, истощив себя в одной
сфере или при одном и том же объекте, оно переместится к чему-нибудь другому.
Однако следует иметь в виду не только возможности естественных метаморфоз и
искусственных превращений. Взаимоотношения между различными купидо могут быть и
без превращений совершенно разными. Влечения, инстинкты, потребности, стремления и
т. д. могут противостоять друг другу, соперничать, но также и поддерживать, усиливать
друг друга. Разные купидо могут бороться за один и тот же объект. Они могут сливаться в
единое целое, или же целое купидо может разбиваться на несколько разных. Эти
несколько, в свою очередь, могут быть направлены на один и тот же объект, но иметь
различные интенции. Они могут иметь разную направленность и конкурировать друг с
другом. Временная структура этих взаимоотношений тоже может строиться как угодно.
Очень подходящий путь для работы по формированию концепции купидо — конечно
же, посредством метафор. Метафоры, которые позволили бы нам лучше представить себе
сущность купидо, следует искать, скорее всего, в сфере явлений природы, причем таких
явлений, которые имеют энергетически-силовой характер. Это могут быть, например,
ветер и солнце, река и водопад. Вообще здесь очень подходят образы с сильным
энергетическим началом, пускай хоть рукотворного характера. Моторы и крылья,
турбины и вентиляторы, насосы и генераторы здесь были бы очень уместны. Можно
также остановиться на образах животного мира (вспомним здесь известную фрейдовскую
метафору коня и всадника). Конечно, нелишне вспомнить здесь и всякую оружейномилитаристскую метафорику, ну там, пушки, ракеты, бомбы и винтовки. Естественные
науки, в том числе,
165
скажем, физика с ее полями, силами, векторами, магмами, плазмами, эфирами, может
предоставить нам множество образов.
Если разумно и толково использовать все вышеизложенное по разделу купидо, то
открываются, как уже было неоднократно сказано, большие возможности для
проектирования терапевтического процесса. Правильный ответ на вопрос: “А что можно
делать с купидо?”, — может быть только один: да, собственно, все, что угодно. Мы можем
его (или, если надо, их) усиливать и ослаблять, привязывать к определенному объекту и
отрывать от него. Можно сталкивать различные купидо между собой и мирить их.
Купидо, может быть направлено на объект и на свой собственный источник, может
передвигаться в каком угодно направлении, может превращаться в свою
противоположность. В сущности, всем составным частям школьных теорий свойственна
исключительная гибкость и податливость авторской фантазии.
Однако самое выигрышное отношение к купидо строится, разумеется, на возможности
хоть как-то, пускай даже иллюзорно его, купидо, удовлетворить. Пусть ситуация
удовлетворения, гратификации, в конкретной психотерапевтической ситуации будет
какой угодно — гипнотической, театрально-психодраматической, игровой, — неважно.
Ведь психотерапевтическая ситуация, как известно, формирует реальность, параллельную
экзистенциальной реальности. Однако даже такое иллюзорное удовлетворение,
совершающееся в реальности терапевтической процедуры, будь то гипноз, психодрама,
гештальттерапия и т. д., будет охотно востребовано как нечто терапевтически действенное
по вполне понятным причинам. Кроме того, как уже было сказано, терапевтическое
действие может строиться на идее превращения, конвертации купидо.
Важно все же оговориться, что при всем этом легко можно представить себе теорию,
где тема влечений отсутствует вообще. Это, к примеру, могут быть концепции
семиотического характера, подобно тому, как это имеет место у некоторых позднейших
теоретиков психоанализа (см.: В. Н. Цапкин, 1985). Однако необходимой частью
деятельности таких авторов неизбежно станет агрессивная и основательная критика
купидосодержащих подходов как таковых.
Нет сомнения, что купидо представляет собой крайне богатый и выигрышный
составной элемент любой теории. Оно, с одной стороны, привлекает внимание к проблеме
удовольствий, с другой же — является крайне сподручным для конкретной
терапевтической работы. Несмотря на все сказанное, не будем переоценивать хорошие
виды на будущее науки купидологии. Печальная правда такова, что большинство
достойных купидо уже разобрано, разошлось по школьным концепциям, которые у всех
166
на слуху, так что здесь, в сущности, мало что осталось. Конечно можно постараться
придумать что-нибудь, как мы это делаем в разделе “Виртуальные психотерапии”, но все
равно приходится как бы заранее мириться с тем, что Золотой век школьных теорий,
строившихся вокруг влечений, уже позади. Хотя кто знает? Поживем — увидим.
ОБСТАНЦИЯ
Как уже было сказано, одного лишь купидо, самого по себе, для достойных теоретических
построений нам, вознамерившимся, к примеру, сочинить новую терапию, явно
недостаточно. Психотерапевт, как ни крути, все же не просто философ, а как-никак в
первую очередь лекарь. Хотя, к слову сказать, без сомнения, многие философские
дискурсы строятся на неявных, но несомненных терапевтических, медицинских
представлениях и предлагают свои стратегии “излечения” общества, человека и т. д. Здесь
уместно напомнить цитированное выше высказывание Л. Витгенштейна: “Философ лечит
вопрос, как болезнь” (Л. Витгенштейн, 1994, с. 174).
Сочиняющий теорию для психотерапевтических нужд обязательно должен
предусмотреть описание некоего препятствия, которое становится на пути
удовлетворения либидо. Ведь в итоге речь неизбежно должна пойти о том, что именно по
вине этого препятствия чаще всего и возникает патология, с которой потом приходится
иметь дело. Так что при создании любой теории необходимо учитывать следующую
составную часть, которую мы предлагаем всем сочинителям иметь в виду наряду с
другими. Мы обозначили ее термином обстанция (obstantia — лат. — препятствие).
Под обстанцией надо понимать некий фактор или же сумму факторов,
представляющих собой определенное препятствие на пути желаний индивида и
рассматриваемых в контексте школьной теории как нечто безусловно вредоносное. В
первую очередь речь идет о чем-то таком, что мешает пациенту-протагонисту
реализовать свое купидо. Обстанция — это то, что стоит на пути стремлений-инстинктоввлечений-потребностей и приводит к последствиям, которые терапевту надо так или иначе
преодолевать. Представления о том, что в основе симптома, синдрома, невроза лежит
сломавшееся о некую преграду влечение, так или иначе свойственны почти любому
подходу в психотерапии, безразлично, глубиннопсихологическому экзистенциальногуманистическому или еще какому-либо.
Почти любая теория в психотерапии в той или иной степени противопоставляет
индивида окружающей его социальной среде. Препятствие, мешающее реализации
купидинозных интенций,
167
согласно этим теориям, находится почти всегда вне индивида. Именно в общественном
устройстве, согласно этим представлениям, коренится нечто патогенное. Так,
классический психоанализ (положивший начало и этой традиции в психотерапии)
представляет дело так, что общественное устройство препятствует удовлетворению
сексуального влечения, которое приходится подавлять, откладывать, сублимировать,
особенно в том случае, если оно еще, ко всему прочему, является инцестуозным. Похоже
обстоит дело и с властными желаниями в адлеровской индивидуальной психологии.
Собственно, какое купидо из нам известных ни возьми, любое из них не находит
поддержки в мире современной цивилизации, реализация любого из влечений всячески
затруднена или отставлена во времени, требует всегда серьезных жертв, больших усилий,
а это, как мы читаем в текстах разных авторов, ведет к появлению и развитию неврозов.
Сама по себе констатация этих обстоятельств открывает перед сочинителем теории (он
же, как мы усвоили, претендент на харизматическое влияние) достойнейшие
возможности. Он, терапевт, становится защитником пациента перед лицом враждебного
общества, ходатаем по его делам в мире, полном нелепых запретов и несправедливых
наказаний. Этот дурно устроенный мир вместо того, чтобы без проволочек идти навстречу
естественным потребностям пациента, грубо и равнодушно доводит его до невроза
своими нелепыми и вредными обычаями и условностями, запретами и предписаниями. В
сущности, с этой, в частности психоаналитической, точки зрения, окружающая пациента
среда — это в какой-то степени законченная пенитенциарная система, которая порой
доводит человека до того, что “наказание” (в виде невроза) осуществляется только за
намерение совершить что-нибудь запретное.
Наличие элемента обстанции в структуре психотерапевтической теории дает автору
возможность занимать исключительно выгодную позицию критика цивилизации, и
именно это обстоятельство открывает ему пространство для доктринального расширения
его концепции, ибо позволяет распространить свою деятельность на пространство,
значительно более крупное, чем узкоклиническое. Совершенно ясно, что невозможно
даже предъявить себе психотерапевтический подход, основанный на принятии мира, на
воспевании мировой гармонии и т. п.
Часто критика “цивилизации” в психотерапевтических дискурсах принимает форму
критики “современности”. Именно временное состояние социума, согласно этому
распространенному ходу рассуждений, является намного более патогенным, чем все
предыдущие эпохи вместе взятые, ибо они были не столь
168
индустриализованные, более естественные, близкие природе и т. д. “Современность”
является объектом критики у Фрейда (репрессирующее сексуальность викторианское
общество), у Юнга (рациональная эпоха, где нет места символам, ритуалам и т. д.), у
неофрейдистов
(нивелирующее
индивидуальность
индустриальное
общество).
Осведомленный читатель без затруднений припомнит множество текстов, содержащих
диффамацию в адрес “современного общества”, меркантильного, лишенного “идеалов”,
противопоставленного “добрым старым временам”.
Надо жестко усвоить, что твердая демонстрация мудрой приверженности “старому
доброму” времени является обязательным делом. Апология общественного и
технического прогресса, воспевание “века информатики и космических скоростей” —
дело для идеолога психотерапевтической школы невиданное и немыслимое. Это и
понятно. Ведь если современность так уж и хороша, то от чего защищать пациента,
который в ней, современности, собственно и страдает. Заболел-то он и лечим мы его
сегодня и сейчас, так что нынешней эпохе, которая довела его до всего этого, — никакой
пощады.
“Виноватым” перед сочинителями теорий часто оказывается не только время, но и
пространство. Как уже говорилось, психотерапевтическая мысль являет собой по
преимуществу культурный феномен западной цивилизации, каковая, естественно и
оказывается здесь мишенью критического жеста. Пациент заболевает на Западе. Согласно
ходячим идеологическим стереотипам, западная культура, в отличие от восточной, как
уже говорилось, полна всяческого отчуждения и, так сказать, “бездушна”,
непосредственные проявления чувственности в ней подавлены и табуированы, “машина
вытеснила человека”. Индустриализованная организация труда и досуга не оставляет
пространства ни для метафизической созерцательности, ни для творческой
самореализации, ни для так называемого духовного самоусовершенствования.
Прагматично-активный Запад — это место конфликта с природой, окружающей средой и,
как следствие всего этого, производитель неврозов. Медитативно-созерцательный Восток
— соответственно, лекарство от всех таких бед. “Ориентальная апологетика” — крайне
распространенное побочное занятие для многих идеологов терапевтических направлений.
Психотерапевтическая “ориенталистика”, которой отдали должное такие разные авторы,
как К. Г. Юнг и С. Гроф, Й. Шульц и М. Босс, фундирована как культурологическими
стереотипами, так и терапевтическими нуждами.
Да и к тому же только в культурах, сохранившихся за пределами постиндустриального
общества, можно найти такие примечательные фигуры, как, например, знахарь и шаман.
Ясное дело,
169
эти господа дадут много очков вперед обычному европейскому терапевту, особенно в том,
что касается влияния на пациента и силы воздействия на него. Они-то уж точно еще в
утробе матери стали харизматическими. При таком раскладе у европейского терапевта
неизбежно может появиться желание действовать, подражая шаману, что, как известно,
очень часто и происходит.
Кроме того, в очень важном, хотя и непростом, но в любом случае всеми
востребованном деле изменения состояния сознания в процессе психотерапевтической
процедуры техники, ведущие свое происхождение от восточных религиозных
медитативных практик, являются вещами крайне соблазнительными. Представлениям о
целебных достоинствах “Востока” (он же, в сущности, “Юг”, да порой даже и “Север”,
лишь бы сыскалось подходящее племя с шаманом или колдуном), всем известным
многочисленным заимствованиям из восточных культур и религиозных практик в
психотерапии можно посвятить тома. Действительные мотивы, которые заставляют столь
многих жадно брать “восточные кредиты” для поддержки собственного терапевтического
бизнеса, понять не так уж и трудно. Повсюду, от аутогенной тренировки Й. Шульца до
различных вариантов трансперсональной психотерапии, мы то и дело наталкиваемся на
силу притяжения “восточного” полюса. Полагаем, что только очень начитанный читатель
смог бы привести примеры противоположного рода, а именно — благого влияния
“рациональной западной” культуры на “иррациональную восточную”. Мы не имеем в
виду, конечно, прямые заимствования техник, а говорим о корректирующем
идеологическом влиянии.
“Неудовлетворенность культурой” сама по себе подталкивает терапевта к тому, чтобы
занять “бойцовскую позицию”, столь необходимую для формирования харизмы. Тут уже
автор не просто соревнуется с конкурентами из психотерапевтического сообщества, ведя
борьбу за пациента. Он существенно увеличивает размеры своего идеологического
пространства, обращаясь к основам общественного устройства, которые, выходит, довели
обратившихся к нему пациентов до невроза, и порой вполне может иметь в своем
портфеле некий проект глобального переустройства общества. Так, К. Хорни прямо
обвиняет культуру в том, что она невротизирует личность: “Существуют определенные
характерные трудности, неотъемлемо присущие нашей культуре, которые отражаются в
виде конфликтов в жизни каждого человека и которые могут приводить к образованию
неврозов” (К. Хорни, 1993, с. 216). Причину этому она видит в том, что “современная
культура экономически основывается на принципе индивидуального соперничества”(ibid.,
с. 216). С этим трудно не согласиться, хотя, конечно, с другой стороны, не составит
170
труда сочинить теорию, которая была бы построена на том, что именно фактор
индивидуального соперничества как, скажем некое активирующее начало выступал бы в
роли лекарства от неврозов, в то время как его отсутствие или ослабление признавалось
бы патогенным. В свою очередь, Э. Фромм описывает картину “дегуманизированного
общества 2000 года” (Э. Фромм 1993, с. 239) и предлагает “шаги по гуманизации
технологического общества” (ibid., с. 289). Если же школьная теория и не описывает
подробно таких проектов, то все равно и так понятно, что и как надо делать, чтобы
ослабить общественную неврогенную ситуацию. Эта тенденция отчетливо проявилась,
как мы видим, в неофрейдизме, а потом была доведена до крайности в
антипсихиатрическом движении (которое, несомненно, является частью скорее истории
психотерапии, нежели клинической психиатрии).
Поняв, зачем так нужен автору новой концепции этот элемент теории, мы можем теперь
вплотную заняться им самим. К сожалению, в психотерапии недостаточно располагать
конструкцией, ориентированной только на объяснение общественных феноменов. Работа
терапевта касается конкретной жизненной ситуации личности, и его мир, как он предстает
в психотерапевтической реальности, обычно ограничен в пространстве и наборе
персонажей. Речь здесь чаще всего идет о самом узком круге близких людей и редко
выходит на глобальный уровень. Школьная теория, разумеется, должна обслуживать
потребности практики именно такого уровня, уровня конкретного случая, а
вышеописанные построения, доктринально расширенные и направленные на заботы об
общественном благе, — не столь необходимы, как рассмотрение вредностей, преград,
одним словом — обстанций, в достаточно конкретных ситуациях.
Дело в том, что обстанция может иметь несколько уровней, она, таким образом, как бы
эшелонирована. Ее различные уровни составляют определенную иерархическую
структуру, которая разворачивается от глобально-социального измерения и завершается
во внутриличностном пространстве. Понятно, что, например, некая социальная формация,
основанная на системе запретов, ограничивающих поведение отдельной личности, не
может эффективно осуществлять эту политику запретов, если нет проводников этой
политики. Назовем их, к примеру, обстанционными агентами. Ясно, что в
психоаналитической парадигме таким агентом будет, например, отец, не допускающий
ребенка, протагониста известной семейной драмы, до инцестуозно-эдиповых радостей. В
качестве обстанционного агента отец как бы проводит в жизнь политику запрета на
кровосмешение, принятую в данной культуре. Общество, допускающее кровосмешение,
171
уничтожает таким образом, саму возможность существовали Эдипова комплекса. В
актантной модели В. Проппа (В. Пропп, 1928) аналогия такому агенту — это “вредитель”,
совершающий злодеяние. Пациент в этой ситуации является как бы медиумом, который
транслирует некий социально обусловленный конфликт, и его основная роль в том, чтобы
довести до сведения психотерапевта существование такого конфликта. Тот, приняв это
дело к сведению, получает в свои руки повод для выхода за пределы собственно
клинической ситуации, осуществить доктринальное расширение своей концепции, что,
как мы знаем, исключительно важно для формирования его харизмы.
Итак, обстанционный агент — это “дурной другой”, о котором уже шла речь выше. Ни
при каких обстоятельствах он не может быть хорошим. В противном случае зачем он
нужен психотерапевту, теоретику, практику и автору истории болезни? От кого в этом
случае защищать пациента? От хорошего “другого”? “Хорошим” в истории болезни —
кроме пациента — может быть только терапевт. Ну разве что еще объект влечения, и то
только в том случае, если он безусловно готов идти навстречу любым желаниям
протагониста, в то время как только лишь одни внешние, драматические, не зависящие от
них обстоятельства мешают им воссоединиться. Все остальные делятся на “дурных”, то
есть тех, кто строит препятствия, и жертв. Первой и главной из них всегда является
пациент, хотя могут быть и другие. Терапевт же всегда избавитель, первый победитель
обстанционных “врагов”, а по возможности, и воссоединитель с предметом желаний,
пусть даже всего лишь в условном контексте терапевтической трансформации. Если же
нет — то тогда он утешитель, примиритель с неизбежным и проводник по новым путям.
Начинаясь где-то далеко, за пределами семейного круга, обстанция переходит на
внутрисемейный уровень, а потом и вовсе внедряется внутрь индивидуального целого, где
формируется внутренняя инстанция, какой-нибудь супер-эго-родитель-блеймер, и эта
инстанция, естественно, носит морализирующе-вытесняюще-запрещающий характер.
Просим прощения за грубый каламбур, обстанция превращается в инстанцию, и уж от
этой инстанции ничего хорошего ожидать, естественно, не приходится. “Эшелоны”
обстанции, таким образом, разнообразны, разнокачественны и, так сказать,
разноразмерны. Они связаны друг с другом тем, что выполняют одну и ту же функцию,
хотя и в качественно разных пространствах.
Всякому понятно, что возможны теоретические ситуации, когда объект и обстанция
есть одно и то же. Это очень просто себе представить. Ибо, собственно, в
действительности хоть какие-нибудь обстанционные черты имеют место у любого
объекта.
172
Всякое существо, которое может быть желанным, так или иначе сооружает вокруг себя
барьеры, препятствия. Эти препятствия могут играть роль усилителей купидо, однако во
многих случаях комплексное образование “объект-обстанция” — это сильный патогенный
фактор, с которым очень часто приходится иметь дело в терапевтической практике.
Кроме того, приходится помнить, что обстанционные агенты совершенно необязательно
представляют собой пассивное препятствие, возникающее на пути купидо к желанной и
полагающейся ему гратификации. Они вполне могут быть активны сами по себе. В
контекстах возможных теорий они могут рассматриваться как патогенные факторы сами
по себе, причем сами по себе потребности могут отходить на второй план.
Речь здесь может идти в первую очередь об агрессии, которой подвергается индивид,
или же просто о так называемых психических травмах, которые он получает в контексте
тех или иных жизненных обстоятельств. Дело здесь уже не в том, что некое коренящееся в
нем, исходящее из него и направленное на некий объект интенсивное влечение
сталкивается с препятствием, затрудняющим его реализацию. В случаях так называемых
посттравматических синдромов может подразумеваться разве что фрустрированная
потребность в безопасности. Активность самой обстанции оттесняет проблему купидо на
второй план.
Таким образом, появляется возможность классифицировать обстанцию по признаку ее
активности. Она может быть самостоятельно агрессивной по отношению к индивиду и как
таковая быть названа обстанцией-агрессией. Она может быть препятствием, то есть
собственно обстанцией. Если в первом случае мы сталкиваемся также с выраженным,
напряженным купидо, то во втором случае купидо не так ясно выражено.
Наконец, при такой постановке вопроса можно выделить еще одну возможность, а
именно то, что можно обозначить как обстанцию-вакуум. О ней можно говорить тогда,
когда мы видим, что некое теоретически сконструированное нами купидо остается без
объекта, на который оно могло бы быть направлено. Препятствия здесь нет, но здесь нет и
объекта. К примеру, некто одержим потребностью в смысле, ищет этого смысла, но не
находит.
Недостижимость вожделенного объекта, безусловно, должна проходить по разделу
обстанций. Если мы имеем в виду под объектом купидо некий реальный персонаж, то он
может считаться обстанционным агентом в этом случае не в силу того, что формирует
препятствие, но в силу, быть может, своей пассивности, индифферентности по
отношению к источнику купидо — протагонисту. Отсутствие объекта теоретически может
быть
173
приравнено к его пассивности . То есть это будет не столько другой, препятствующий
воссоединению с купидинозным объектом, сколько другой, не испытывающий ответных
чувств по отношению к протагонисту, в то время как по неким неписаным правилам ему
их испытывать следовало бы. Разумеется, при этом мы не забываем о другой, весьма
распространенной (“антидекартовской”, “пробуберовской”) идеологии, исключающей
субъект-объектные отношения.
Обстанция-вакуум приготовляет терапевту весьма выигрышную роль в теории и
практике терапевтического процесса. Он должен дать то, что недодано пациенту за
пределами кабинета, в первую очередь, в семье и, скажем так, ее окрестностях. Так
называемая терапевтическая любовь, призванная компенсировать недостаток любви,
полагающейся пациенту, дело куда как более привлекательное, чем просто перенос на
строго следующего правилу невмешательства терапевта-психоаналитика. Образ
“любящего” терапевта куда более выигрышный, чем “невмешивающегося”, хотя и у
последнего много шансов достойно себя преподнести, причем не исключено, что именно
сдержанность благотворно отразится на усилении его харизмы.
Здесь уместно терминологическое уточнение. Мы ввели термин обстанция (изначально
— препятствие) на основании того, что исторически в психотерапевтических теориях
(начиная с психоанализа) вредность подразумевалась именно как препятствие, встающее
на пути удовлетворения влечений. Как мы убедились, “препятствующая” вредность
далеко не единственное, с чем может иметь дело психотерапевт. С другой стороны, не
случайно, что большинство теорий, особенно психодинамического направления, строятся
именно вокруг обстанции-препятствия. Так что термин этот лучше сохранить, уточнив,
однако, что не только о препятствиях как таковых идет речь, что мы и делаем.
Можно также различать внешний, экзогенный тип обстанций и внутренний,
соответственно, эндогенный. Как понятно, со вторым типом мы сталкиваемся при работе с
психотическими состояниями эндогенного происхождения. Здесь важно подчеркнуть,
однако, что для психотерапевтической работы важным является не столько сам
клинический феномен, сколько те ограничения, которые он накладывает на
экзистенциальные возможности пациента, на реализацию желаний.
Важно отметить вообще, что именно понятие обстанции создает возможность для
классификации психотерапий не по школьному принципу, а по тому, с чем именно
психотерапевт работает, по принципу преодолеваемой вредности, по сфере приложения
терапевтического усилия. Среди, так сказать, травматически-ориентированных
174
выделяют, как известно, психотерапии с жертвами сексуального насилия, работу с
жертвами и ветеранами различных войн, с теми, кто пострадал от разного рода стихийных
бедствий.
Среди
ориентированных
на
эндогенно-клиническую
обстанцию
терапевтических направлений чаще всего речь идет, как известно, о терапии шизофрении
и раннего детского аутизма.
Обстанция имеет, разумеется, и нормохронологическую специфичность. Естественно,
что одна и та же вредность в разные периоды развития может оказывать различное
действие и приводить к качественно разным последствиям. На соединении
нормохронологического и обстанционного факторов также можно построить
классификацию психотерапий. С другой стороны, не составит труда построить
эвольвенцию с соответствующей нормативной хронологией, которая была бы основана
на выделении периодов максимальной подверженности тем или иным обстанционным
факторам.
Понятно, что обстанционная классификация психотерапий, альтернативная обычной,
которая строится по школьному признаку, будет основана на том соображении, что
своеобразие некоего расстройства определяется характером вредности. Порой выделяют
группы пациентов по очень узкому обстанционному признаку. Можно слышать,
например, разговоры о “работе” с ветеранами какой-либо конкретной войны, скажем
вьетнамской. При такой постановке вопроса существует риск, что индивидуальные
различия клиентов отойдут на второй план, равно как и различие в приемах работы.
Предполагается, что некая конкретная обстанция оказывает столь своеобразное
уникальное воздействие на проблемы пациентов, что должна учитываться при работе в
первую очередь. Однако реальность такова, что в конкретной ситуации терапевт
неизбежно начинает действовать в духе какой-нибудь из школьных парадигм или же
синтезируя разные. Так что разделение психотерапии по методически-школьному
признаку все равно будет более адекватным, чем обстанционное.
Диагностика обстанционных факторов, создание обстанционной концепции открывают
перед сочинителем терапий еще одну достойную перспективу. Он ведь обладает
достоверными знаниями о том, что есть вредное, и, значит, может подсказать кому надо,
как правильно против вредного действовать. Правильное понимание сути обстанции есть
ключ к профилактике.
Вообще мы уверены, что у проницательного читателя не осталось никакого сомнения в
том, как важен элемент обстанции для построения теории. Наличие обстанции в той или
иной теории может превратить терапевта в героя, в подвижника в деле
175
преодоления любых вредностей, которые так или иначе затронули его клиентов. Прописав
обстанцию, он получает очередную возможность выйти за пределы узко клинического
обихода и за этими пределами включить в сферу своих интересов всех, кто не будет
против этого.
ДЕФЕКТ
Итак, наш герой, протагонист-пациент, он же — носитель желаний, повстречался на своем
пути с неким препятствием, или же препятствие нашло его само. Конечно, от этой встречи
не следует ожидать ничего хорошего. Тот элемент теорий, который описывает собственно
патологическую структуру, с которой терапевту приходится иметь дело, мы обозначили
просто — дефект.
Автор, сочиняющий некую концепцию, как уже говорилось, вовсе не должен
обязательно использовать все элементы структуры, которые мы здесь разбираем. В самом
деле, часто без того, о чем шла речь выше, можно так или иначе обойтись. Так,
необязательными являются архиниция, ибо во многих терапиях не предусмотрено поисков
первотолчка, с которого начинается индивидуальная история личности. Можно обойтись
также без расписанной по этапам истории развития, то есть без эвольвенции вкупе с
нормативной хронологией. Даже от концептуализации купидо можно отказаться, уж не
говоря о разного рода вредностях, которые зачастую и прописаны-то весьма слабо или
вовсе никак, так что в большинстве случаев этот элемент теории нам приходится как бы
реконструировать. Однако очень сложно, а главное, нелепо забыть описать и разобрать то,
с чем непосредственно сталкивается практикующий терапевт. Никому такая теория,
лишенная самого главного, не будет нужна. Крайне необходимо тщательно прописать
“мишень”, в которую будет метиться терапевт в процессе работы. Как ни старайся, без
концепции дефекта не обойтись.
Здесь можно идти разными путями. Многие, в первую очередь клинически
ориентированные авторы исходят из феноменологического описания дефекта. Точка
зрения, ориентированная на психиатрическую классификацию, весьма распространена:
перед нами синдром или нозологическая единица, с которой приходится работать. Такой
подход, ясное дело, совершенно неадекватен. Феноменологический взгляд не описывает
конструкции, с которыми приходится иметь дело терапевту. Симптомы и синдромы
соотносимы с классификационными единицами, но не могут наглядно представить поле
препятствий, которое предстоит преодолеть. В большинстве терапий предпочитают, что и
понятно, иметь дело именно с узлом, который придется распутывать, с препятствиями,
которые приходится преодолевать. Описание
176
синдрома или даже типа течения болезни не может дать материала именно для
психотерапевтического вмешательства. В то же время описание и разбор клинической
картины как комплекса, результата столкновения различных сил, исходящих, например,
из разных частей личности, создают удобную мишень, на которую терапевт и направит
свои усилия. Хочешь применить отвертку — найди сначала шуруп, который будешь
отвинчивать или завинчивать. Любая клиническая реальность должна быть переписана с
языка, в котором доминируют жалобы, симптомы и синдромы, на язык желаний,
конфликтов, препятствий, где будет место инстанциям и границам, купидо и
обстанциям и т. д. Только такой язык создаст условия для совершения терапевтических
действий. Простым клиническим описанием здесь никак не обойдешься.
Понятно, в каждой школе имеет место свое понимание патологии. Так, в
глубиннопсихологических концепциях речь идет о “комплексах” — сложных
образованиях, где в застывшем виде присутствуют многие из описанных выше
структурных элементов. Достославный “Эдипов комплекс”, к примеру, содержит в себе
представления о матери — объекте купидо, отце — агенте обстанции, а кроме того, об
определенных фазах развития психики, когда все это формируется. В “создании”
комплекса принимают участие различные инстанции, и в результате его возникновения
образуются границы, на которых свирепствует цензура. Понятно, в других парадигмах
дефект сконструирован из других составных частей. Когнитивная модель представляет
дефект как “заблуждение”, случившееся в результате неверного умозаключения.
Бихевиористская видит основу дефекта в условно-рефлекторно закрепленных ошибочных
действиях. Логотерапевтическое понимание дефекта связано с фрустрированным
стремлением к смыслу. Осведомленному читателю не составит труда продолжить этот ряд
дальше.
В сущности, смысл психотерапевтической теории заключается в том, чтобы создать
систему коррелятов, которые могут быть использованы при разборе конкретного случая.
Мы не просто созерцаем патологический феномен, как он есть, мы имеем наготове и про
запас набор концептов и понятий, которые могут быть немедленно увязаны с тем, с чем
мы имеем дело как терапевты. Мы можем построить связь между наблюдаемыми
феноменами и всеми элементами теории, что обсуждались в предыдущих разделах, а
также их сочетаниями. Таким образом формируется винкционная структура (vincio —
лат. — связывать, скреплять), позволяющая ориентироваться в том, что нам надо делать.
Патологическое явление уже не окружено пустотой, не заброшено в пространстве и
времени, а терапевт при этом обретает
177
достаточную компетентность, которая позволит ему проявить необходимую сноровку.
Здесь можно воспользоваться одной химической метафорой. Здесь выходит так, что
дефект обладает множеством валентностей (напомним: валентность — свойство атома
соединяться с определенным числом других атомов). Иначе говоря, он предоставляет
возможности для построения множества связей между собой и различными системами
коррелятов, сформированными разными направлениями в психотерапии. Так, один и тот
же феномен, допустим навязчивость, в зависимости от школьной ориентации может быть
связан с такими вещами, как подавленное сексуальное влечение, неудовлетворенная
потребность в защите, фрустрированное стремление к смыслу, как логическое
заблуждение или условнорефлекторно закрепленное ошибочное действие.
Дефект может быть связан с неким первотолчком — архиницией и тогда можно будет
говорить, к примеру, о “травме рождения” в духе О. Ранка (O. Rank, 1924). Он может
появляться на разных стадиях развития и иметь отношение к различным эвольвентным,
нормохронологическим стадиям, и тогда мы получаем возможность строить концепции
запаздывания — так называемого инфантилизма, например. Купидо, что и понятно, вещь
крайне полезная, почти необходимая для концептуализации дефекта, особенно на пару с
обстанцией.
Существуют вполне определенные тенденции в сочинении концепций дефекта в разных
психотерапевтических парадигмах. Миф о дефекте имеет определенные структурные
закономерности. Попытаемся в них разобраться.
Начнем с самого, на наш взгляд, распространенного аспекта, назовем его статикодинамический. Во множестве концепций патологическое воспринимается как нечто
неподвижное, как результат прекращения или, по меньшей мере, замедления процесса
движения, будь то движение неких психических процессов, свободное развитие и
становление личности, нестесненное перемещение в жизненном пространстве. Если
возвратиться к концептам купидо и обстанции, то станет еще понятнее, почему здесь все
так: купидо наткнулось на препятствие и застыло. На месте встречи купидо и обстанции
движение прекращается, а напряжение, соответственно, растет. Уточняем, что речь здесь
идет, конечно, об обстанции-препятствии, об обстанции как таковой. Так уж повелось, что
патологическим в психотерапевтических теориях принято считать все, что связано с
прекращением, затруднением или даже просто замедлением движения. Вот как выразился
по этому поводу З. Фрейд: “Запрет действует патогенно, потому что он ставит плотину
для либидо” (З. Фрейд,
178
1994, с. 131). И далее речь идет о запруде либидо, но смысл обоих образов в этом
контексте одинаков: на пути свободного движения либидо встретилось препятствие,
которое без посторонней помощи не преодолеть.
Образы “скованного движения” легли в основу сочинений многих других, тоже
достойных авторов. Так, Х. Шульц-Хенке в своем известном исследовании “Скованный
человек” сводит множество расстройств невротического и психосоматического характера
к проблеме “скованности” (Hemmung) (H. Schultz-Henke, 1940). Р. Лэинг говорит об
“окаменении”, как об одной из форм тревоги (R. Laing, 1976, р. 39). В. фон Гебзаттель
пишет о мизофобических расстройствах как о результате “остановки течения внутреннего
становления”, когда “загрязнение” понимается через метафору “заболачивания” (как в
пруду, лишенном, проточной воды, например (V. Gebsattel, 1938, цит. по D. Wyss, 1970, s.
279).
Представления о скованном движении лежат также в основе телесно-ориентированных
теорий; вспомним пришедшую оттуда метафору “мышечного панциря”, а также
конструкцию “телесного зажима” и т. п., с которыми деятельно борются при помощи
дыхательных и прочих движений (А. Лоуэн, 1997).
Осведомленному читателю не составит ни малейшего труда привести еще большое
количество примеров в этом роде, но все здесь ясно и так: почти всегда школьный
теоретический миф покоится на представлении о том, что движение — добро,
неподвижное — зло.
Здесь уместно вспомнить об известном обстоятельстве клинической практики. Всем
известно, что при биполярном течении маниакально-депрессивного заболевания
обращение пациентов за помощью происходит почти всегда в депрессивных фазах, и
никогда в маниакальных, которые воспринимаются как нечто положительно-здоровое.
Депрессия — это, конечно, самое отчетливое воплощение скованного времени,
замедленного движения, в то время как мания — состояние само по себе безусловно
патологическое — самим пациентом как таковое не ощущается. Нет сомнения, что
клинические феномены выступают в этом контексте как некая подсказка для автора,
сочиняющего теорию.
Все терапевтические стратегии направлены на то, чтобы поддержать в той или иной
степени “подвижное начало”, снять преграды на пути психического, душевного,
экзистенциального движения. При создании теории очень важно учитывать, что
происхождение патологического феномена имеет в своей основе результат столкновения
разных сил, когда действие сталкивается с каким-то противодействием, а движение
наталкивается на
179
какое-то препятствие, о чем уже шла речь в разделах “Купидо” и “Обстанция”.
Механический аспект дефекта дает возможность терапевту проявить себя самым завидным
образом. Это он снимет напряжение, это его усилиями будет запущен опять естественный
и нормальный ход событий жизни пациента. Терапевт в рамках такой стратегии выступает
как уничтожитель препон, освободитель от оков. Это он сокрушает барьеры, ломает
темницы, перепиливает решетки, о, да! — выпуская на волю желания, стремления,
влечения.
Очень непросто представить себе такую идеологию, где движение, подвижное
воспринималось бы как нечто патологическое. Однако совсем невозможно лишь то, что
невозможно вообще никогда. Скорее всего, в такой теории речь могла бы идти об утере
идентичности, происходящей, например, вследствие быстрого перехода от одной внешней
роли к другой. Поверхностная стремительная смена масок приводила бы, согласно такой
теории, к утере пациентом корней, твердой устойчивости. Так что подвижность здесь
воспринималась бы как нечто патологическое, а неподвижное (корневое, незыблемое) —
как здоровое. Словом, это была бы вполне недурная концепция в экзистенциалистском
духе. Наверняка, однако, что-нибудь из такого рода построений где-нибудь уже есть.
Другой аспект, связанный с представлениями о дефекте, — это аспект целостности.
Принято считать, что целостное, нерасчлененное, внутренне непротиворечивое есть
здоровое, всякое же нарушение целостности, всякая разорванность, будь то психическая
или экзистенциальная, личностная или телесная, есть патологическое. Например, между
инстанциями личности возникают противоречия, или же разные купидо не могут
уживаться спокойно друг с другом, а границы превращаются в линии противоборства.
Одним словом, целое функционирует не согласованно, а каким-то образом получается,
что оно поделено на воюющие друг с другом части. В любом случае речь идет о
патологическом, какое конкретно целое бы тут ни рассматривалось. Все известные
клинические концепты, такие, как амбивалентность, расщепление, все известные
патопсихологам “внутренние конфликты” подразумевают наличие некоей разорванности,
которая лежит в основе представлений о дефекте.
При этом внутрипсихической или внутриличностной целостностью дело не
ограничивается. Очень выигрышно выглядят холистические теории в экзистенциальногуманистическом или даже трансперсональном духе, проповедующие единство личности
с миром, нерасчленимую целостность. Подразумевающая здесь стратегия —
восстановление целостности, и психотерапевт выступает здесь в роли такого
восстановителя. Сшивает
180
части и куски, мирит друг с другом скандальные и вздорные влечения, восстанавливает
гармонию, так, чтобы в конце концов произошло ис-целение. Интересно, возможна ли
иная стратегия построения концепции, исходящая из того, что разорванность есть благо,
целостность — зло. Это вряд ли. Можно, конечно, представить себе что-нибудь в этом
роде, например обосновав эти построения соображениями какого-нибудь радикального
толка, что, дескать, разорванность, внутреннее противоречие есть непременное условие
личностного роста, цельность же неизбежно ведет к стагнации. Но есть все основания
считать, что такие спекуляции будут выглядеть чрезмерно натянутыми.
К проблеме целостности примыкает и другая. Множество концепций дефекта в
психотерапии помещаются в пространстве между полюсами полное – пустое. Полнота
ощущений, переживаний, смысла относится, естественно, к здоровому полюсу, ощущения
пустоты, незаполненности, провала, зияния, естественно, к патологическому. Именно
недостаток чувств, переживаний, любви, смыслов — вот, что составляет основу
стратегий сегодняшней психотерапии, в отличие от банальных подходов прошлого,
построенных, на соображениях “успокоения”, изоляции от “неприятных переживаний”,
управления эмоциями при помощи “разума”.
Так, например, Г. Аммон пишет о нарцистическом дефиците и о “провалах в Я”,
лежащих в основе пограничного синдрома (G. Ammon, 1974, s. 204—215). Л. Бинсвангер в
известной истории болезни Эллен Вест, страдавшей непреодолимой булимией, говорит о
том, что ее мир был редуцирован до образа дыры, что “самость, которая создает проект
такого мира, — это пустая самость”, булимические же симптомы есть метафора
заполнения пустоты духовного пространства (L. Binswanger, 1957, s. 140). Хорошо
известно, что экзистенциалистски ориентированные авторы склонны рассуждать о
проблемах пустоты, дефицита смысла, как коренной причины всех возможных невзгод (В.
Франкл, 1990, с. 24—44) и их уже не удержать. Это не в последнюю очередь потому, что
они очень хорошо понимают, как выигрывает образ терапевта, который дарит пациенту
некую полноту, одаряет его неким “богатством”, а не просто “анализирует”. В его
жестовом репертуаре появляется определенный “дарящий” жест, некое движение,
заполняющее пустоту. Полемические выгоды такой позиции тоже более чем очевидны.
Почти невозможно представить себе идеологию, которая бы воспринимала пустоту как
нечто нормально-здоровое. Даже внешне как будто направленные на “очищение”,
избавление от “суетного”, медитативные стратегии в психотерапиях, идущих от
восточных религиозных аскетических практик, на самом деле
181
заняты не чем иным, как расчисткой духовного пространства для более значительных
смыслов, то есть для еще большей полноты.
Кроме того, пространство дефекта всегда “суженное”. Все переживания клиента
рассматриваются в различных школьных теориях как результат “зажатости” в
ограниченном, тесном пространстве. “Подавление”, “ущемление” — слова, используемые
в широком профессиональном обиходе, отражают, конечно, некую механику сужения,
сжатия пространства. У терапевта, оказывается, таким образом, возможность обратиться к
выигрышной стратегии, основанной на жесте расширения, освобождения. Такая
конструкция дает ему возможность “подарить” клиента свободой, движением, простором
и т. д.
Другой важный аспект, присущий многим теоретическим мифам, — аспект
отчуждения, упоминавшийся выше. Без сомнения, многое в структуре дефекта
разделяется на “свое” и “чужое”. Чужое — это нечто такое, что изначально не имеет
отношения к пациенту-протагонисту, что навязано ему извне, воспринимается не только
как чуждое, но и мучительно-нежелательное и, уж конечно, безо всякого сомнения,
рассматривается как патологическое. Тут даже можно не напрягать память в поисках
примеров, намного труднее было бы найти такую школьную концепцию, где не шла бы
речь об отчуждении в том или ином варианте.
Ясно, что такой теоретический ход обязан своей востребованностью вполне заурядным
обстоятельствам — многие клинические феномены самим пациентом воспринимаются, не
просто как чуждые, но как навязанные извне. Чувством “навязанности” отличаются как
обсессивные (собственно навязчивости), так и истерические феномены, равно как и
многие психотические. Понятно, что с такой подсказки разные авторы не могли не
заняться поиском источников, из которых берутся отчужденные части личности, равно
как и механизмы, при помощи которых “чужое” проникает “внутрь”, и тут, конечно, не
потребовалось много времени, чтобы разобраться с этим делом. Такие известные
концепты, как давление отцовского авторитета, переплавляющееся в “Сверх-Я” у З.
Фрейда, или импульсы от архетипов коллективного бессознательного у К. Г. Юнга, или
“соответствие ожиданиям” у К. Роджерса, давно стали общими местами. Отчуждение
возникает по преимуществу там, где мы сталкиваемся с обстанцией, и она в конце концов
интроецируется-интернализуется-интериоризируется, после чего начинает портить жизнь
нашему будущему клиенту уже “изнутри”. Так называемая здоровая личность с этой
точки зрения соответствует “неиспорченному” дикарю Руссо, в то время как невротик
безнадежно “испорчен” цивилизацией. Присутствие руссоистского мифа делает многие
концепции соблазнительными и возвышенными одновременно,
182
а терапевт занимает в актантной модели терапевтической ситуации место героя, который
побеждает враждебное и изгоняет чуждое, помогая пациенту, как это ни банально звучит,
“стать самим собой”.
Патологическое принято также считать “нечистым”, и на этой метафоре основаны
многочисленные представления о терапевтическом процессе как об “очищении” —
катарсисе. От Й. Брейера, “чистильщика печных труб”, до Дж. Морено и далее —
терапевты следуют “очищающим” стратегиями — осуществляя катарсисы. Невозможно
представить себе идеологию, созданную наоборот, то есть преподносящую симптомы и
проблемы как нечто “чистое”. К этому всему примыкает метафора “осветления”, то есть
другие терапевтические представления могут разворачиваться в пространстве между
полюсами “темным” и “светлым” (ср. Existenzerhellung — освещение бытия К. Ясперса,
1973, s. 637 f. f.). А также, ясное дело, и “облегчение”. Болезненное, проблемное — это
“тяжелое”, что понятно без дальнейших разъяснений.
Большое место в представлениях о дефекте занимает гносеологическая метафора. В
поле этой метафоры дефект осмысляется как ребус, подлежащий разгадке или же как
заблуждение, требующее коррекции. Понятно, первый вариант относится к
психодинамической парадигме, второй — к когнитивной. Уподобления терапии процессу
познания, исследования многочисленны и закономерны. Оба типа концепций
предполагают проведение анализа по направлению от наблюдаемых феноменов к тому,
что стоит за ними. Дефект (невроз, “комплекс”) воспринимается как результат
непонимания или заблуждения, терапия при таком раскладе сводится к разъяснению. При
этом речь идет не только о формально-логическом непонимании. Пациент психоаналитика
“не понимает”, как связан симптом с ущемленным либидо, пациент дазайнаналитика
также “не понимает”, какое отношение имеют его, скажем, психосоматические симптомы
к его же “неудавшемуся бытию”. Анализ патогенеза и терапевтическая процедура
помещаются в пространстве между понятным и непонятым, явным и скрытым,
истинным и ложным. Симптом, согласно многим представлениям — это то место, где
скрывается правда о человеке. Задача терапии — обнаружение этой так называемой
правды.
“Безумие”, как принято считать, — это всегда еще и “неразумие”, — то есть или
незнание, или, что еще хуже, заблуждение, ошибка. Невротик — это тот, кто
заблуждается. Гносеологическая метафора ставит пациента и терапевта в заведомо
неравное положение. Исконное высокомерие терапевтов зачастую снисходительно
противопоставляло собственную “просвещенность”
183
пациентской “темноте”, собственную прозорливость — пациентской слепоте, ну и
соответственно сообразительность — “тугодумию”.
Нетрудно припомнить, что процессы познания-просвещения занимали значительный
объем в самых разных психотерапевтических теориях и практиках. Рациональная
психотерапия Ж.-Дежерина — целиком — и ранний психоанализ — частично —
ориентированы на гносеологическую парадигму. Изживание ее господства, имевшего
место в раннюю эпоху развития психотерапии, в значительной степени составило
содержание зрелой и позднейшей эпох, связанных с фокусированием внимания на
телесности, чувствах, стратегии “здесь и сейчас”.
Собственно, осознание терапевтами недостаточности просто осознания неких
проблем пациентом, понимание негодности голой рационально-просветительской
установки происходило по мере развития и углубления самой психоаналитической
концепции. Хорошо известные истории с открытием переноса, сопротивления, роли
эмоций и т. д. ясно показали несомненную слабость чистой рационально-познавательной
практики. Совершенно ясно, что присутствие в ритуально-игровом мире
психотерапевтической ситуации основных черт мира обыденного, где преобладает
рационально-директивно-дидактически-калькулирующий жизненный стиль, безнадежно
портит психотерапевтическое дело. Ничего хорошего не следует ожидать честолюбивому
сочинителю теорий, да, в общем, как и любому терапевту, от просветительскиэрудированного разъяснительства.
История психотерапии отчасти может быть представлена как история преодоления
рационально-разъяснительных тенденций эмоционально-иррациональными. Позднейшие
тенденции
культивирования
форсированного
эмоционального
отреагирования,
повышенного внимания к “телесности”, к “здесь и сейчас”, и связанное с этим
агрессивное отношение к “bullshit’у aboutism’а” привели к тому, что обвинение в
“рационализме” превратилось в диффамационный стереотип и стало рутинным в
полемической практике. Морфология психотерапевтической ситуации развивалась в
направлении подавления, преодоления гносеологической метафоры. Она не уходит совсем
в никуда, но оттесняется на периферию. “Познание”, проработка понятных связей, или
“причин и следствий” остается важной частью процедуры. Вытеснение всего этого
оказалось столь нетерпимо-вызывающим, что привело к ответному появлению и
интенсивному развитию когнитивного направления.
Необходимо понимать, что рационально-гносеологический элемент необходим в любой
терапии. Как можно поставить дело так, чтобы в процессе терапии вовсе не пришло
некоего нового
184
понимания чего-то ранее непонимаемого? Невозможно представить себе стратегию,
полностью лишенную когнитивно-познавательного компонента. Плохо, собственно,
тогда, когда только этим все и ограничивается и когда когнитивный элемент ничем не
скрыт.
Возможностей для улучшения образа терапевта здесь открывается немало. Наличие
загадки или заблуждения (чаще всего эти вещи имеют место одновременно) дает повод
продемонстрировать интеллектуальную сноровку, мощь сообразительности. Сноровистый
терапевт, отгадывающий сложные психологические ребусы, раскрывающий пациентупростецу глаза на его заблуждения и наивность, — исключительно привлекательная
фигура.
Итак, концепция дефекта помещается в пространстве между целым и разорванным,
полным и неполным, ясным и скрытым, своим и чужим. Она связана винкционными
нитями со всем, с чем только пожелает связать ее автор теории. Но вот теперь мы
располагаем теорией того, с чем мы имеем дело, остается только разобраться, что же нам с
этим делать.
РЕФЕКЦИЯ
Если до сих пор мы занимались преимущественно тем, что мы видим перед собой,
исследуя наших пациентов, то теперь мы от созерцания переходим почти к действию.
Почти — ибо обсуждаемый здесь концепт рефекции (refectio (лат.) — обновление,
ремонт) намечает только умозрительный проект терапевтической акции, в то время как
конкретные технические предписания не уточняются.
Важно отметить, что все концепты этой главы, обсуждавшиеся выше, относятся к сфере
метапсихологии. В них речь собственно о терапевтическом процессе не идет. Мы
описывали некое поле препятствий, разбирались с тем, как оно возникло. По ходу
обсуждения нам стало ясно, что создавалось оно и развивалось не в последнюю очередь
под влиянием интересов терапевта.
Но вводя понятие рефекции, мы делаем важный шаг и переходим от метапсихологии к
метапсихотерапии. Если описание картины, которую нам являет собой пациент, при
помощи обсуждаемых здесь составных частей понятийного аппарата еще оставляло нам
возможность остаться просто наблюдателями, то теперь мы уже заявляем, что будем чтото делать, и приблизительно намечаем, что же это будет за деяние. Если до этого мы, как
те философы, герои 11-го тезиса К. Маркса о Л. Фейербахе, пытались только “объяснить”,
то теперь наша задача в том, чтобы “переделать”. Собственно, уже многое ясно, ибо
подробно расписанная структура дефекта в некотором роде предписывает
терапевтическую стратегию.
185
Если мы, формулируя концепцию дефекта, полагаем, что речь идет о фрустрированной
потребности в любви и заботе, то смысл рефекции будет заключаться в том, чтобы все это
пациенту попросту дать. Если мы считаем, что дефект связан с неверным
умозаключением, то наша задача — построение так называемых “правильных”
логических связей. В том же случае, когда дефект — условнорефлекторно обусловленная
фиксация, то мы стремимся разрушить патологическую связь. Так что, имея в своем
распоряжении некую конструкцию дефекта, мы знаем, что рефекция будет ею так или
иначе детерминирована. Рефекция изоморфна дефекту.
Рефекция не имеет непосредственно прямого отношения к технике: наш умозрительный
психотерапевтический проект в техническом плане может быть претворен в жизнь
самыми различными способами. Так если, например, дефект трактуется как “Эдипов
комплекс”, то рефекционный проект может сводиться к снижению напряжения между
неосознанным влечением к матери и столь же неосознанным страхом перед отцом“кастратором”. Однако процедурно этот проект может быть реализован и посредством
классического психоаналитического сеттинга, и при помощи групповой терапии, и в
психодраматической технике. Да, собственно, и другие пути не исключаются, взять хотя
бы заурядную классическую гипнотическую процедуру, когда эдиповскому пациенту
внушали бы, что он, дескать, мать не вожделеет, отца убить не мечтает. Или то же самое
— в аутогенной тренировке, с аналогичным самовнушением.
Таким образом, не может быть никаких жестких привязок теории личности и
этиопатогенеза к конкретной процедуре. Хотя мы постоянно сталкиваемся с тем, что в
различных школах настаивают на строгом соблюдении системы предписаний и запретов,
ясно, что это все делается в интересах школы, а не пациента ради. Если ставить вопрос
шире, то отношения между школьной теорией и техникой, точно так же как отношения
между рефекцией и реализующим ее приемом, в психотерапии являются совершенно
свободными. Без лишних объяснений понятно также, что здесь возможны какие угодно
сочетания и они, несомненно, заранее могут считаться удачными, разумными и
действенными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Однако всякому ясно, что
обосновать и доказать обратное в таком вопросе очень трудно.
Само по себе это соображение следует считать весьма отрадным, ибо только оно одно
позволяет расширить почти до бесконечности степень свободы тех, кто ищет новых путей.
Среди психотерапевтов широко распространенным является своеобразный нарратив,
который можно поименовать как “повесть о
186
неожиданном открытии”. Сюжет его сводится к тому, что в один прекрасный день был
неожиданно опробован некий прием, который явно противоречит установлениям
традиционной процедуры, но тем не менее оказал разительно эффективное действие. Так
вот, даже и не надо понапрасну время терять, а лучше сразу взять и наметить все
возможности, прикинув в уме как можно больше таких комбинаций. То есть каждый из
известных методов, приемов и т. д. соединить с любым другим известным, но описанным
и практикуемым в других школах, методах и т. д. Конечно, одному человеку,
занимающемуся к тому же практической работой, всех этих возможных синтезов не
освоить и за целую жизнь, так что, честное слово, читатель, как хорошо было бы щедро
поделиться всем этим богатством с друзьями и коллегами, ну хотя бы так, как, например,
это делаем мы.
Рефекция так или иначе связана с теми элементами структуры теории, которые мы
обсуждали выше. Одна из возможных рефекционных стратегий — высвобождение и
коррекция купидо, соотнесение купидинозных интенций с проблемой их реализации.
Дальше тоже несложно: если есть хорошая возможность, то мы добиваемся так
называемой гратификации, если же нет такой возможности, то пытаемся примирить
пациента с ее отсутствием.
Другая достойная рефекционная перспектива — разобраться с обстанцией. И так
разобраться, чтобы она больше не досаждала купидо — то есть или уничтожить, или
“приручить”. Причем если мы имеем дело с обстанцией-препятствием, каковая, как мы
уже усвоили, стопорит движение в любой из экзистенциальных сфер и приводит к
патологии “застоя” (с точки зрения концепции дефекта), то наша стратегия будет
направлена на снятие напряжения между движущим началом и препятствием. Если же
речь идет об обстанции-вакууме, приводящей к возникновению пустоты, то рефекционная
стратегия будет связана с тем, чтобы, соответственно, обнаруженную пустоту заполнить
чем надо.
Дефект, как мы уже установили, имеет, помимо всего прочего, винкционную структуру.
Как уже говорилось, патологическое в разных парадигмах оказывается привязанным к
различным системам коррелятов. Так, в психоаналитической парадигме речь идет о связи
симптома с ущемленными, например, влечениями, а в поведенческой или когнитивной
теории речь идет о связи известно с чем, не будем повторяться. Так вот, основные
рефекционные действия будут направлены на разрыв связей, которые будут сочтены
неверными, и на построение новых.
Когнитивный терапевт стремится разрушить логику неверных умозаключений и
построить новую, которая, с их точки зрения, окажется терапевтически действенной. Цель
терапевта-бихевиориста
187
заключается в том, чтобы разрушить пространственно-ситуационную связь, которая
лежит в основе, ну, скажем, обсессивно-фобического симптома (при клаустрофобии,
например). Психоаналитик в том же самом клаустрофобическом случае старается
одновременно разрушить связь между симптомом и пространственной ситуацией и
выстроить связь между тем же симптомом и нереализованным желанием или какойнибудь там первичной сценой. Не составит труда проследить по другим методам, что
основные операции терапевтического проекта (технически он может осуществляться
различными способами) в основном сводятся к двум, а именно разрушению неких связей,
которые в данном подходе считаются патологическими и построению новых. За столь
важными понятиями, которые, в сущности, составляют основу терапевтического
действия, следует закрепить адекватные термины, что мы и делаем. Так что теперь
операция по разрушению связей будет обозначаться термином дизвинкция, по
построению связей — конвинкция (лат. vinco — связывать). Ниже, в разделе
“Психотерапевтическая акция”, речь пойдет о технически-процедурных аспектах как
конвинкции, так и дизвинкции.
Важнейшее требование при формировании таких связей — это их убедительность,
правдоподобие словом, все, что позволяло бы преподнести их пациенту, не спровоцировав
того на сопротивление. Совершенно ясно, что успешной продаже конвинкционного
товара как ничто другое способствует его “интересность”, о которой неоднократно шла
речь выше.
Как мы уже говорили, любой патологический феномен имеет множество свободных
“валентностей”, то есть обладает большим количеством возможностей для построения
связей. Количество валентностей может, в частности, определяться множественностью
методов, предлагающих свой способ построения связей, например интерпретационных.
Состязание между разными подходами в психотерапии — это, в сущности, борьба за
возможность связать данный симптом со своей системой коррелятов, конкуренция за
несвязанные валентности. Здесь сами собой напрашиваются доводы в пользу
синтетически-эклектического проекта, который объединил бы все существующие в
природе подходы для построения конвинкций и дизвинкций, исчерпавших бы валентную
незавершенность в каждом отдельном случае. При такой постановке вопроса каждый
симптом “оброс” бы связями из всех возможных школьных парадигм. Все возможности
интерпретации и психотерапевтической акции шли бы в дело, но изложение такой
“тотальной” теории, а главное — попытка осуществить эту тотальность на практике
оказались бы, скорее всего, делом совершенно невыносимым по длительности
188
и трудоемкости. Так что “школьная” структура психотерапевтического сообщества имеет
еще и определенный “экономический” смысл.
Важно понимать, что каждая школа придает основной винкционной операции статус
результативного терапевтического действия. По замыслу авторов-сочинителей метода
именно разрыв связей (или построение новых) является терапевтически действенным.
Итак, при наличии в структуре метода элемента рефекции мы можем смело говорить,
что имеем дело с первосортной психотерапевтической концепцией, которая не только
располагает понятийным аппаратом для описания патологии, но и предлагает стратегию
ее преодоления. Собственно, связка дефект – рефекция есть признак того, что некая
теория имеет право на существование. Имеется ясное представление о том, с чем работать
и что при этом делать. Однако существует еще один элемент, о котором следует помнить
при сочинении теории. Уж если мы предлагаем стратегию преодоления “дурного”, то
вполне естественно предположить, что мы располагаем представлениями о “хорошем”, то
есть о том, к чему следует терапевтически стремиться.
ИДЕАЛ
Что и говорить, “хорошее” не так привлекательно, как “дурное”, однако именно благая
цель, которую ставит перед собой терапевтическая практика, оправдывает все издержки
терапевтических изысканий, как бы они ни были детерминированы эгоцентрическими
интересами психотерапевтов. Представления об идеале терапии вполне могут показаться
заслуживающими внимания. В диахроническом разделе мы столкнулись с большим
количеством понятий, фиксирующих ход мысли сочинителей теорий, реальных и
возможных. Будет попросту жаль, если все это богатство не обретет достойного венца. Без
привлекательной концепции достойного финала терапии, к которому должно стремиться
все драматически насыщенное диахроническое теоретическое движение, концепция
останется бессмысленной и голой.
А собственно, к чему следует стремиться? Пациент приходит с симптомом и жалобой, и
наше дело — с этим разобраться. Так вот нет же, желания многих авторов не
ограничиваются простым стремлением убрать то, что мешает. Подход к проблеме идеал
различен. В связи с этим нам следует ввести два понятия, а именно — негативного и
позитивного идеалов, чтобы была возможность дифференцировать разные подходы по
этому признаку. Терапии с негативным идеалом ставят своей целью исключительно
189
освобождение пациента от симптома-комплекса-жалобы-проблемы, то есть здесь идеал —
простое отсутствие “зла”, исчезновение патологии или существенное ее облегчение. Иных
задач такая стратегия перед собой не ставит. Позитивный идеал, напротив, предполагает,
что терапевтическая цель состоит в создании неких новых свойств у пациента и эти новые
свойства есть намного более важное дело, чем простое избавление от симптомов.
Осведомленный читатель, естественно, в курсе, что поведенчески или когнитивно
ориентированные авторы видят свою цель в первую очередь в простом избавлении от
симптомов, то есть преследуют негативный идеал. В свою очередь большинство
гуманистически ориентированных подходов связаны с преследованием позитивных
идеалов. Если в какой-либо концепции речь идет о личностном росте, формировании
новых ценностей, изменении мировоззрения, то, значит, эта теория, так сказать,
позитивно-идеальна. Так, А. Маслоу рисует портрет т. н. самоактуализирующейся
личности, каковая личность характеризуется, например, непринужденностью в поведении,
деловой направленностью, избирательностью и демократичностью в отношениях и т. п.
(А. Маслоу, 1997, 171—185). Ф. Перлз намечает в своем терапевтическом проекте иной
идеал, обозначаемый им как “зрелость” (F. Perls, 1969, р. 27—43).
Гештальттерапевтический идеал зрелости, как известно, предполагает поиск источников
поддержки внутри собственной личности, а не в окружающем мире. Нетрудно понять, что
идеал в психоанализе, хотя об этом, видимо, подробно не говорят, следует также считать
позитивным. Без сомнения, можно считать “позитивно-идеальным” известное положение
о “Я, которое должно стать там, где раньше было Оно”. Ведь речь здесь идет не о простом
устранении симптома.
Конечно, позитивный идеал может возникнуть только в доктринально расширенных
концепциях. Узкотерапевтическая “лекарская” установка, безусловно, может быть только
негативно-идеальной. Позитивные идеалы появляются, только когда идеологическое
честолюбие превращает просто “доктора” или просто “консультанта” в “практического
философа”.
Любой психотерапевт живет на фоне борьбы между своими внутренними инстанциями,
обозначим их “философ” и “лекарь”. Эта борьба неизбежно отражается и на концепции
идеала. Для “философа”, что и понятно, не столь важен наглядный терапевтический
эффект в виде, к примеру, исчезновения симптома, сколько идеологическое соблазнение
— обращение клиента к новым ценностям, конструирование мировоззренческого сдвига.
Полная победа над симптомом — дело зачастую трудное, а то и вовсе невыполнимое, в то
время как идеологическое обращение,
190
которое тоже может быть весьма трудоемким, не требует, однако, особой наглядности.
Ясно, что при таком раскладе очень удобно ориентироваться на позитивный идеал,
главное в котором — новое мировоззрение. Такая постановка вопроса делает возможным
разговор об “идеале с изъяном”, то есть новое отношение к ценностям не исключает
сохранения неких патологических проявлений, особенно же в отдельных случаях, когда с
болезненными явлениями нелегко справиться.
Идеал, помимо всего прочего заставляет нас вспомнить о проблемах так называемой
психической нормы, “душевного здоровья” и т. п. Как известно, существует традиция
противопоставлять так называемую медицинскую норму личностной. Медицинская норма
как цель терапии в значительной степени совпадает с негативным идеалом. Концепция же
личностной нормы предполагает допустимость сохранения клинической симптоматики.
Симптомы, если примириться с тем, что придется их терпеть, при таком раскладе,
разумеется, будут занимать намного меньшее экзистенциальное пространство. В
контексте новых ценностей, усвоенных в ходе терапии, конечно, допустим именно “идеал
с изъяном”. Само упоминание об изъяне в этой связи делает концепцию идеала намного
более интересной, чем в случае разговора о “безупречном” идеале. Картина идеала, в
сущности, также скучна и непривлекательна, как любое описание утопии. Главный
недостаток любой утопии, как известно, отсутствие внутренней “драматургии” — вполне
может сказаться и в концепции идеала, если сочиняющий теорию терапевт пожелает
описать некий идеальный образ, к которому он стремится в своей терапевтической
деятельности.
“Идеал с изъяном” желателен еще по одной причине. Если мы описываем некие
личностные черты, к обретению которых мы ведем клиента, то, ясное дело, это ко
многому обязывает и терапевта, работающего в этих парадигмальных рамках. То есть
приходится хоть в какой-то степени описанным “идеальным” чертам соответствовать. Что
и говорить, терапевт, существо грешное, слабое, подверженное невротическим бедам
зачастую даже в большей степени, чем клиент, нуждается в надежных отходных путях в
случае несоответствия собственных достоинств декларированным идеалам.
Без особых разъяснений ясно, что концепция нормы — это исключительно сильное
орудие в борьбе за идеологическое влияние. Кто знает, куда он ведет пациента, тот,
естественно, и устанавливает рамки, границы, способы ведения терапевтического
процесса. Он может ставить диагноз “излечения”, что, в свою очередь, решающе важно
для определения сроков терапии наиважнейшего дела для “экономики” психотерапии.
191
Мы полагаем, что наш читатель уже не сомневается в том, что концепцией идеала тоже
не следует пренебрегать при сочинении терапевтических концепций.
***
Итак мы — достаточно поверхностно и приблизительно, почти эскизно — описали те
составные части, которые, по нашему мнению чаще всего встречаются в теориях
психотерапевтических школ. Ни в каком случае мы не считаем этот список закрытым.
Словарь языка желаний терапевта никак не может быть ограниченным. С другой стороны,
следует думать также о том, чтобы он был не бесконечен. Мы не устанем повторять, что
отнюдь не только для собственно терапевтических нужд необходимы эти концепты. В
первую очередь нужны они терапевту, который стремится к самостоятельному
конструированию методов и на их основе к осуществлению реального влияния.
Анализ соотношения школьных теорий и терапевтической реальности не оставляет
никаких сомнений в том, что практика может обойтись без большинства элементов, из
которых построены различные методы. Нет и не может быть никаких доводов в пользу
того, что включение в школьную теорию эвольвенции или купидо, а тем более
содержательных метаморфоз этих элементов, хоть как-то сказывается на
результативности терапии. В то же время понятно, что любой из элементов теории
предназначен для создания или улучшения образа метода. Под образом метода следует
понимать некое общее впечатление, им производимое. Совершенно ясно, что именно оно
играет важную роль в том, будет ли этот метод востребован или нет. Образ метода и его
конфигурация — безусловно, разные вещи. Если образ связан с впечатлением, которое
метод производит, то конфигурация — со структурой метода, с тем, как в нем
представлены описанные выше элементы. Конфигурация школьной теории, ее
конструктивное “богатство” — все это служит основным средством привлечения
пациентов и возможных последователей. Образ метода в свою очередь являет собой
единство образов школьной теории и акции, которые сами по себе могут рассматриваться
по отдельности. Он, этот образ, может быть магически-мощным, как это предполагалось в
случае классического гипноза, глубинно-кропотливым, как в случае аналитических
терапий, прозаически-рациональным, как в когнитивно-поведенческой терапии,
виртуозно-фокусническим, как в нейролингвистическом программировании. Конечно,
короткой характеристикой образ отдельной терапии адекватно не опишешь. Понятно, что
этот образ предписывает терапевту любого направления характерные теоретические
жесты и позу и вообще
192
создаст определенную форму для того, чтобы охранять и преподносить другим свой
нарциссизм. Именно в таком виде деятельности он расцветает и находит свое наглядное
воплощение. Описывая и конструируя определенную реальность, которую он пытается
сделать сподручной для работы, автор психотерапии смотрится в зеркало этой реальности.
И вот он в этом зеркале. Неутомимый следопыт, погружающийся до самых глубин
архиниции. Добросовестный летописец эвольвенции и строгий блюститель правил
нормативной хронологии. Щедрый распорядитель купидинозных удовольствий и суровый
враг препятствующих им обстанций, уничтожитель запретов. Сноровистый исправитель
дефектов и хранитель идеалов.
Дело, однако, обстоит так, что нельзя прожить в психотерапии только сочинением
теорий. Приходится еще что-то делать с живым пациентом. В отличие от бумаги, так
называемый человеческий материал не так пассивен и зачастую своим неразумным
упрямством портит все, что так хорошо смотрится в текстах, иначе говоря, грубо
компрометирует школьные теории, так что приходится все время сочинять новые. Не
легче ли было бы разобраться с проблемами психотерапевтической техники, главное
назначение которой состоит в том, чтобы не позволить пациенту не уложиться в рамки
теорий, столь необходимых терапевтам для осуществления их интересов. Об этом речь и
пойдет ниже.
193
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ,
ИЛИ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
На самом деле очень жаль, что не одна только теоретическая “мыследеятельность”
является уделом психотерапевта. Это, безусловно, отличает его от конкурентов из мира
философских наук. Несмотря на то что, казалось бы, речь идет о совершенно различных
сферах деятельности, всем известно, что антропологии, сконструированные
психотерапевтами, давно вышли далеко за пределы собственно терапевтического обихода
и, расширенные доктринально и патографически, заняли солидную часть идеологической
ниши, наполнявшейся издавна философскими дискурсами. Постоянно совершать выход за
пределы пространства пациента вынуждают далеко не только интересы клиента, а вовсе
даже наоборот — его собственное “грандиозное Я”, расширяющееся от нарцистического
голода, каковой голод постоянно растет в силу коренной сущности взаимоотношений
психотерапевта с инструментом своей деятельности.
Положение философа в идеологическом пространстве таково, что ему вполне
достаточно ограничиваться спекулятивным конструированием. “Свой досуг, свою
социальную привилегию на умственный труд мыслитель-классик переживал как
привилегию метафизическую, как безусловное право мыслить за всех других,
представительствовать в сфере разума от лица тех, кто лишен возможности обрести и
культивировать собственный разум.” (М. К. Мамардашвили и др., 1972, с. 57). Но в
отличие от психотерапевта он не может подкармливать свои построения демонстрацией
их трансформирующей потентности. Именно сочетание мировоззренческого
сочинительства вкупе с возможностью превратить сочиненное в орудие
непосредственного трансформирующего воздействия и составляет преимущество
психотерапии перед всеми другими видами деятельности. В психотерапии, в сущности,
нет дистанции между глобально-доктринальным проектированием и использованием его
для непосредственного осуществления влияния. Теория личности и патогенеза в рамках
одной неизбежно должна дополняться теорией действенного терапевтического
вмешательства.
194
Невозможно даже представить себе, чтобы психотерапевт преподносил свои
спекуляции как порождение отстраненно-метафизической наблюдательской позиции.
Единственный способ хоть какой-то легитимации теории или метода в психотерапии —
подчеркнутый демонстративный эмпиризм. Даже в том случае, если концепция
подверглась максимальному доктринальному расширению, необходимо, чтобы все
воочию наблюдали постоянное возвращение автора к терапевтической реальности,
доступной для контролирующего наблюдения со стороны.
Несмотря на огромные типографские объемы текстов, которые психотерапевты
заполняют “метапсихологией”, им, как ни старайся, никуда не уйти от того
обстоятельства, что все же они — лекари. “Праздник абстрактного мышления”, воспетый
Ф. Ницше и М. Хайдеггером (M. Heidegger, 1961, s. 14), в психотерапии не может длиться
вечно. Завоевание хоть какого-то идеологического пространства немыслимо без ссылок на
“проверенную практикой” эффективность школьной техники, которые тем самым
подтверждают и легитимируют как концепцию личности и патогенеза, так и теорию
акции. “Философия” в психотерапии рождается вне философского досуга. Видимо, можно
говорить об одной из фундаментальных контроверз в истории психотерапии, а именно —
о параллельном искушении психотерапевта “философией” и об отрезвляющем
противодействии этому самой терапевтической ситуации. Требования к терапии быть
действенной, интенсивной, сподручной, доступной сужают здесь пространство
“мыследеятельности”. Возможности доктринального расширения, как это ни жаль,
небезграничны.
Однако если поглядеть на все разнообразие психотерапевтической литературы, то будет
ясно, что огромное большинство текстов посвящены как раз проблемам теории личности
и патогенеза различных расстройств. Обоснованию и описанию техник уделяется
несравненно меньшее внимание. Куда ни загляни в обзоры классических трудов, да в
остальных тоже, сразу видно, что об инстинктах и конфликтах, экзистенциальных
смыслах и самоактуализациях, стадиях зеркала и объектных отношениях, а то и об иных
мирах и кармических сущностях — словом, о “нетехнике” — написано намного больше,
чем о технических проблемах, о приемах и переносах, пассах и трансах, индукциях и
присоединениях. Множество текстов посвящены полемике и рефлексии по поводу
тонкостей
психотерапевтических
мифологий.
Можно
добавить
к
обилию
метапсихологических текстов еще и изрядную долю психотерапевтической публицистики,
которая тоже вряд ли когда уделяла достаточное внимание, к примеру, сравнительному
анализу исходов и катамнезов.
195
Если брать например, историю психоанализа, то ясно, что много легче столкнуться с
общетеоретическими полемиками, чем с дискуссионным обсуждением технических
проблем (по этому вопросу серьезным диссидентом при жизни З. Фрейда оказался только
Ш. Ференци (Ferensczi, 1921). Не правда ли, странно? Основная дискуссия ведется в
пространстве проблем, не имеющих прямого отношения к эффективности
терапевтического воздействия. Никогда и нигде обсуждения вопросов сублимации
либидо, ложного и истинного Я, стадий развития идентичности, словом, коренных
теоретических проблем не сопровождаются (да и не могут сопровождаться по вполне
понятным причинам) выкладками по эффективности терапии, построенной именно на
таких положениях, а тем более, к примеру, катамнестической статистикой. В лучшем
случае будут разобраны несколько историй болезни, никак не претендующих на то, чтобы
быть статистически репрезентативными.
Размеры пространства теории личности в этих текстах оказываются несравненно
крупнее, чем размеры пространства терапевтической акции. Если добавить сюда
работы, где авторы излагают школьную патографию, этнографию, социологию и пр., или
же критику иношкольных подходов, то удельный вес собственно терапевтической
литературы тает прямо на глазах. Обстоятельство само по себе достаточно на первый
взгляд вызывающее: “метапсихология”, несомненно, преобладает над “технологией”.
Ясное дело, сочинители концепций всех времен руководствовались соображениями,
изложенными нами в предыдущих главах. Напомним, они сводятся к тому, что основное
значение школьной теории — в формировании пространства для осуществления
идеологического влияния. Но все хорошо в меру! Ничего слишком! И потом, разве не
ясно, что именно техника играет существенную роль в системе властных практик
различных школ и течений? Точно так же ясно, что техника является чем-то решающим в
деле создания терапевтом системы приманок для машины желания, чем собственно и
является на самом деле любая школа в психотерапии.
Положение дел стало немного выправляться только последнее время. Столь
неприкрытый вызов не мог не остаться без ответа. Новейший период в истории
психотерапии ознаменовался созданием методов (пневмокатарсис, поведенческая терапия,
особенно НЛП), которые технологически существенно богаче, чем старые. Сейчас в ходу
намного больше “технологически” ориентированных текстов. Подробные описания
приемов, иллюстрируемые случаями из практики, расшифровки магнитофонных записей
сессий, тренингов и семинаров понемногу вытесняют пространные рассуждения о
границах между
196
Я и Оно, самоактуализации, конфронтации архетипов с Самостью и т. д.
Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что вербовка в текстах такого
рода носит более явный характер. Описания сложных приемов намного легче создают
ощущение терапевтической потентности, чем этиопатогенетические спекуляции. Уже
сейчас, на пике новой, технологически ориентированной “интеллектуальной моды”
становится все труднее привлекать читателя даже очень интересными построениями,
вроде подавленной сексуальности, стремления к смыслу или даже “влияния иных миров”.
Становится все более ясно, что новые методы, если они, конечно, появятся, будут в
большей степени технологически ориентированными.
Итак, в чем же роль психотерапевтической техники внутри школы и в условиях
множественности школ? Если теории личности обнаруживают отчетливую тенденцию к
тому, чтобы быть “интересными”, то задача техники — соблазнять другими факторами.
Техника, как дело более рутинно-обыденное, обращено к самому пациенту в значительно
большей степени, чем теория. Техника — это, та часть психотерапии, которая
непосредственно предъявляется пациенту с тем, чтобы вовлечь в данную терапию.
Точно так же как и пациент, соблазнению через обучающий анализ или тренинг
подвергается и терапевт. Этой важнейшей задаче соблазнения посвящена не в
последнюю очередь гедонистическая составляющая терапевтической акции, та часть,
которая посвящена проблемам изменения состояния сознания.
Вкратце напомним о “гедонистическом” в психотерапии (см. I гл.). Как известно,
история психотерапии началась с гипноза, который построен, помимо всего прочего, на
стратегии получения пациентом максимального удовольствия от процедуры. Техники
самовнушения, саморегуляции, аутогенная тренировка начинаются тоже с приобщения к
трансовым радостям. В сущности, о какой бы терапии речь ни шла, она так или иначе
строится на том, что обыденно-рутинный мир повседневности противопоставляется
карнавально-игровой психотерапевтической ситуации. В этой ситуации не действуют те
правила и запреты, которые конституируют повседневность (и формируют тем самым
“психопатологию обыденной жизни”). Внутри границ психотерапевтического
пространства происходит то, в чем нам отказано за его пределами. Можно говорить о том,
о чем в другой ситуации говорить нельзя, и также, да, собственно, зачастую и делать чтонибудь такое, а это тоже имеет непосредственное отношение к “удовольствию от
терапии”. Так что, хотя аналитическая терапия и не так явно ориентирована на
“релаксацию”,
197
тем не менее тоже может быть увязана с самыми разными видами удовольствия,
имеющими отношение ну хотя бы к положению на кушетке, интимному характеру
процесса, “эротике” переноса, снятию запретов, действующих за пределами кабинета
аналитика.
Телесно-ориентированные,
клиентцентрированные,
групповые
терапевтические практики, безусловно, несут в себе опасность перерождения в
гедонистические игры. Празднично-карнавальный элемент так или иначе присутствует в
любом из видов групповой терапии, да и в индивидуальной терапии тоже, исключая разве
что совсем уж поведенчески-когнитивные, что, конечно, им очень вредит. Что ни говори,
удовольствие от терапии есть дело первой необходимости для тех, кто пытается сочинить
метод, который мог бы рассчитывать на влияние и распространение, да и просто на
чувство удовлетворения терапевта от его применения.
К сожалению, необходимо уточнить, что помимо “гедонистического” и “интересного”
приходится иметь дело еще и с клинической реальностью как таковой, и волей-неволей
уделять внимание действительным проблемам пациента. Приходится тратить множество
усилий на винкционную возню (см. предыдущую главу, а также ниже). Однако
“гедонистическое” и “интересное” являются необходимыми условиями успешного
функционирования реально ориентированных терапевтических действий. К тому же
выяснить, каким образом соблазняют пациентов и последователей действия, которые
ориентированы на реальность терапевтической ситуации очень трудно. Здесь мы, как уже
было сказано, будем вынуждены связываться с таким ненадежным делом, как оценка
эффективности. В любом случае лучше вкладывать свой теоретический капитал в то, что
при любом раскладе даст очевидные дивиденды. Это возможно, понятное дело, если
отдавать приоритет “интересному” и “гедонистическому”.
Следует, однако, оговориться, что на волне технологических новаций последнего
времени среди психотерапевтов получила хождение определенная тенденция, которую мы
могли бы обозначить как идеологию отрицания идеологии. Всякий опыт наблюдения за
психотерапевтическим сообществом говорит нам, что очень многие практические
терапевты склонны видеть самое важное в технических приемах, в том, как именно
воздействовать на пациента. Идеологию отрицания техники мы не встретим никогда.
Очень трудно представить себе психотерапевта, готового работать в качестве только лишь
“практического философа”, да и те, что попадаются (могу сослаться лишь на собственные
наблюдения), на поверку оказываются недобросовестными “техническими нигилистами”.
В любом случае такая позиция крайне бесперспективна. Это и понятно. Ведь, что ни
198
говори, трудно найти более наглядные и убедительные доводы в междушкольной
полемике, чем эстетически привлекательные, занимательно сочиненные и убедительно
скомпонованные приемы работы с пациентами. Успешная работа с переносом дает
серьезные подтверждения справедливости, ну, скажем, концепции вытеснения, а
сподручность гештальттерапевтической техники “пустого стула” надежно убедит любого
в реальности конфлюенций и ретрофлексий. Не будет большим преувеличением сказать,
что взаимоотношения школьной теории с техникой строятся на взаимной поддержке в
деле осуществления влияния на тех, кто готов с ним смириться, — пациентом и коллегой.
В рамках отдельно взятой психотерапевтической школы техника, помимо всего прочего,
призвана, в какой-то степени, смягчать неизбежные недостатки теории, примирять с
ней, хотя точно сказать в каждом конкретном случае, что именно является недостатком,
непросто. Можно согласиться на том, что “недостаток” определим исключительно в
интертекстуально-дискуссионном контексте и достоинства (или недостатки) технического
приема служат доводом в полемике за (или против) теории. Ведь о действительных
пороках той или иной теории мы сказать ничего не можем. Тем более важно, чтобы
техническая часть метода оказывала надежную поддержку теоретической. Школьная
теория, таким образом, формирует и ограничивает пространство, в котором школа
осуществляет свое влияние, а школьная техника это пространство защищает.
Совершенно верно высказался в поддержку этого, безусловно правильного положения
В. Шекспир (в заключение своего пролога к “Ромео и Джульетте”, перевод Б. Пастернака),
обращаясь к возможному критику: “Не будь критичен к слабости пера, / грехи поэта
выправит игра!” (в подлиннике: The which of you with patient ears attend, / What here shall
miss, our toil shall strive to mend). Функции техники в этом отрывке перевода можно
сравнить с задачами “игры”, в то время как с “пером”, понятно, — школьную теорию.
Существование психотерапии в условиях множественности школ неизбежно
предполагает ведение постоянной полемики по поводу валидности школьных
метапсихологий и результативности техник. Постоянная готовность к ответу в этом
смысле является немаловажной частью любой школьной практики, в том числе и
практики сочинения методов. Все, что принадлежит к школьной теории и практике, так
или иначе должно быть подготовлено к полемическому употреблению. Так что если
некий исследователь сочтет эпистемологически некорректной концепцию, к примеру,
трансперсональной терапии С. Грофа с его, ну, скажем, идеями “экстрапланетарного
сознания”, или там активизацией
199
чакр и “Сознанием Универсального Ума” и т. д. (С. Гроф, 1994), то ему убедительно
возразят, ссылаясь на безусловную действенность и незаурядную привлекательность
интенсивных техник пневмокатарсиса. Важным доводом в такой полемике может быть,
например, ссылка на то обстоятельство, что вся эта так называемая реальность —
“экстрапланетарные сознания” и “универсальные умы” — обнаруживается только в
результате соответствующей процедуры, а именно пневмокатартической. Безусловно, сам
С. Гроф, равно как и никто другой, не подразумевал такого соотношения своей теории и
техники, но совершенно ясно, что, если бы не было интенсивных дыхательных
удовольствий, практикуемых под психоделическую музыку (а еще раньше — под
хорошую дозу ЛСД), мало кого убедили бы повествования о “встречах со
сверхчеловеческими и духовными сущностями”, или спекуляции о “единстве с жизнью и
со всем творением”, а то даже о “супракосмической и метакосмической пустоте” (С. Гроф,
там же). Хотя, честно говоря, мы не можем дать исчерпывающе ясный ответ на вопрос,
кто кому больше полезен: школьная теория школьной же технике или наоборот.
Правильно будет согласиться на том, что обе не без пользы друг для друга, а также для
тех, кто сумеет эту пользу из них извлечь, предварительно поняв, как это надо делать, для
чего, конечно, следует внимательно и добросовестно ознакомиться с нашим
исследованием. Так что, еще одно назначение акции — обнаружение реалий, описанных
школьной теорией с тем, чтобы эти реалии были затем легитимированы
результативностью применения школьных техник.
Итак, назначение техники — поддерживать школьную теорию. В этом смысле система
технических предписаний и запретов предназначена еще и для того, чтобы обслуживать
харизму создателя школы и его последователей. Серьезное отношение к соблюдению
технических правил тоже вряд ли можно обосновать статистическими выкладками,
которые подтверждали бы безусловную целебность процедурной строгости.
Однако всем этим эгоцентризм терапевтов не ограничивается. Конструкция акции
помимо всего прочего должна создавать терапевту комфортные условия для проведения
терапии. Он должен чувствовать себя по возможности удобно, помня о том, что этот
комфорт будет впоследствии востребован теми, кто будет выбирать для себя метод, в
рамках которого он хотел бы пройти обучающий тренинг или анализ. Задача технических
предписаний (равно как и теоретических положений) в том, чтобы примирить терапевта с
необходимостью утомительной работы, которая зачастую связана с большим количеством
тягостных переживаний. Кстати сказать, принцип невмешательства, предоставляющий
200
пациенту большую свободу активности в рамках психотерапевтического процесса тоже
имеет отношения к соображениям комфорта. Терапевт здесь занят тем, что отслеживает
совершающееся движение и только время от времени к нему присоединяется.
По этому поводу З. Фрейд без обиняков пишет: “Я настаиваю на совете укладывать
больного на диван, между тем как врач должен занять место позади него так, чтобы
больной его не видел. Это устройство имеет исторический смысл, являясь остатком
гипнотического лечения, из которого развился психоанализ. Но оно заслуживает, чтобы
его сохранили, по многим причинам. Во-первых, по личному мотиву, который и другие
смогут, пожалуй, разделить со мной. Я не переношу, чтобы меня разглядывали в течение 8
часов (или несколько больше). Так как во время слушания я сам отдаюсь течению моих
бессознательных мыслей, то не хочу, чтобы выражение моего лица давало пациенту
материал для толкования или оказывало влияние на то, что он говорит” (З. Фрейд,1991, с.
87). “Остатком гипнотического лечения”, добавим мы, является, на самом деле, желание
терапевта осуществлять наибольшее влияние на пациента при невозможности последнего
отобрать для себя хотя бы небольшую часть влияния на процесс.
Вполне понятны соображения психотерапевта, желающего скрыть от пациентов
симптомы собственной “психопатологии обыденной жизни”. Но ясно также, что к
соображениям, касающимся проблем эффективности терапии, это все никакого
отношения не имеет. Так что если бы мы перечислили основные моменты формирования
технических принципов различных школ в психотерапии, то, безусловно, соображения
комфорта терапевта всегда играли бы очень важную роль. “Удовольствие от терапии”
испытывать должен вовсе не только лишь один пациент, иначе, конечно, у такой
практики будут большие трудности в смысле распространения и рекрутирующей
перспективы.
Конечно, одно из явных достоинств терапевтического процесса — ощущение
терапевтом своего властного превосходства над пациентом. Что и говорить, в прошлые
эпохи это достоинство было более полным, особенно если речь шла о классической
гипнотической процедуре. Особая “мистическая” привлекательность гипноза заставляла
охотно верить во “всемогущество” врача, особенно в тех случаях, когда
демонстрировалась реализация так называемых постгипнотических внушений. Позднее
стало ясно, что придется этим влиянием делиться, ибо зачастую намного большей
спектакулярной эффективности стали добиваться терапевты, предоставлявшие пациенту
все большую активность
201
в пространстве терапевтической ситуации. Оказалось, что “чудесные исцеления”
осуществимы также и другим способом.
Для более полного прояснения этой тенденции имеет смысл ввести оппозицию между
психотерапевтической акцией и ситуацией. Акция — это то, что мы, как терапевты,
“делаем сами”. Ситуация — это то, куда мы, терапевты, попадаем вместе с
пациентами. Акцию предпринимают, в ситуацию попадают. Сопротивление, этот бич
психотерапии, всегда приводит к тому, что часто в процессе терапии мы сталкиваемся не
с тем, на что рассчитываем.
Изначально акция — это то, что терапевт задумывает и делает, в основном вне
зависимости от того, какова будет реакция пациента на его действия. К примеру, во все
той же классической гипнотической процедуре он его просто укладывает на кушетку,
просит закрыть глаза и заводит гипнотическую песню. Как известно, в классическом
гипнозе эта песня выдержана в директивно-дидактическом стиле. Состояние пациента
либо не отслеживается, либо отслеживается очень грубо, то есть только на предмет того,
способен ли он воспринимать внушение. Традиционный гипнотизер не стремится ни
подстроиться под состояние пациента, отслеживаемое через вербальную обратную связь,
ни принять во внимание обстановку в помещении или, например, шумы за окном. Здесь
стратегия направлена на то, чтобы пациента так или иначе от всего этого отвлечь
(“Посторонние шумы вам не мешают, вы слышите только мой голос”.), с тем, чтобы ничто
не препятствовало суггестивному подчинению терапевтом пациента. Проводящий в жизнь
акцию классический гипнотерапевт, как известно, всячески стремится игнорировать
спонтанно формирующуюся ситуацию.
В отличие от этого, в эриксонианском гипнозе именно спонтанно меняющаяся ситуация
все время внимательно отслеживается, т. е. терапевт подстраивается (техника
присоединения) под состояние пациента, под его движения или, например, под ритм его
дыхания. Он также подстраивается под окружающую обстановку, под шумы в помещении
и за окном. Все изменения, происходящие в помещении, за его пределами, могут быть так
или иначе включены в текст гипнотической песни (техника утилизации), а не исключены,
как это было принято раньше. Иначе говоря, он пытается как-то управлять ситуацией,
формирующейся спонтанно.
Собственно, переход от понимания психотерапевтической стратегии как просто акции к
пониманию ее как управляемой ситуации идет от психоанализа. Такой подход задается
уже первой инструкцией: “Говорите все, что вам приходит в голову”. То
202
есть идет уже сама по себе ситуация, создаваемая отчасти и самим пациентом. Это все
связано с тенденцией, которую мы выше поименовали как попустительскую, laisser-faire.
Нет нужды обсуждать позднейшие психотерапевтические подходы, в особенности,
понятно, круга клиентцентрированных, телесноориентированных, где акция окончательно
превратилась в управляемую ситуацию. Все попустительские стратегии предполагают
разделение ответственности за происходящее в процессе с терапевтом как бы на равных.
В разных терапиях мы видим разные типы отношения терапевтической ситуации к миру
пациента. Для лучшего понимания сущности терапии очень важно определить, как
конкретно та или иная терапия соотносится с его личностью и жизненным миром, и здесь
речь может идти о различных типах этого соотношения.
Первый тип можно определить как подражательный. Психотерапевтическая ситуация
формируется так, что она подражает тому, что происходит в так называемой реальности.
Самый простой пример — психодрама, когда пациента просят по возможности реально
воспроизвести то, что с ним происходило в жизни.
Другой тип можно обозначить как антагонистический. Здесь ситуация в той или иной
степени противоположна тому, что происходит в психике, в мире пациента. Простой
пример этому — техники аутогенной тренировки, трансцендентальной медитации или же
гипноз. Содержание акции строится в расчете на предположение, что жизненный мир
пациента неизбежно связан с такими обстоятельствами, как чрезмерная активность и
перенапряжение, так что, соответственно, терапевтическая ситуация создает противовес
всему этому делу. Она, ситуация, характеризуется здесь отрешенностью,
невозмутимостью, спокойствием. Можно сказать, что речь идет о своеобразном “райском”
состоянии, которое создает противовес “аду” повседневности.
Очень частый сюжет заурядных традиционных гипнотических песен связан с летним
отдыхом, лежанием на пляже под солнцем. Этот лапидарный “пляжно-отпускной” мотив,
в силу своей очевидной притягательности, очень распространен. Очень часто
гипнотические песни включают в себя фразы вроде: “Вы согреваетесь под ласковыми
лучами солнца”, “Вам приятно лежать на бархатном песке”, “Ветерок с моря нежно
обвевает вас” и т. п. Однако также ясно, что гедонистические факторы
психотерапевтической ситуации очень могут играть антагонистическую роль по
отношению к тому, что происходит за ее пределами, что, несомненно, сказывается на
привлекательности метода.
Один из важнейших аспектов техники видится нам в том, что она должна формировать
определенный пространственно-временной
203
контекст, в котором осуществляется психотерапевтическое действие. Акция должна
создавать рамки, границы, конфигурации пространства терапии. На время
терапевтической процедуры она так или иначе изолирует пациента от внешнего мира.
Пациент помещается в параллельное пространство и вместе с терапевтом
концентрируется на содержании и технологии работы. Любой иной технической
фигурации предшествует функция фокусирующая.
Кроме того, в любой парадигме техника должна быть интенсивной, сподручной и по
возможности экономной. Как бы долго ни длились отдельные аналитические терапии, над
акцией как таковой тяготеет принцип наименьшей траты сил, еще давно воспетый
различными авторами (например, Р. Авенариус, 1913). В тех школах, где приняты самые
долговременные практики, неизбежно появляются “short term” варианты, как это было,
например, с психоанализом. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в
последнее время именно краткосрочные терапии стали развиваться особенно интенсивно.
Ясно, что временная алчность терапевтов глубиннопсихологического направления,
требующих для проведения анализов порой неправдоподобно длительных сроков, со
временем будет так или иначе умерена в силу самых разных, в том числе и
экономических, соображений.
ИГРА
О том, чтобы нам как можно лучше разобраться в сущности психотерапевтической
техники, хорошо позаботился Иохан Хейзинга, изложивший в своем классическом труде
концепцию игры, как феномена культуры. Вот что он пишет в книге “Человек играющий”:
“Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных
границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам,
с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а
также сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная” жизнь.” (Й. Хейзинга, 1992, с. 41).
Определение Р. Кайуа в существенных чертах воспроизводит дефиницию Й. Хейзинги.
Он считает, что игра есть форма активности, свободной, изолированной, нечеткой (то есть
те правила, по которым она проводится, предоставляют определенную свободу действия),
непродуктивной (то есть в процессе игры не создается никаких новых материальных
благ), регламентированной, то есть протекающей по определенным правилам и
фиктивной, то есть сопровождающейся особым сознанием иной реальности (R. Caillois,
1958, р. 24).
Несмотря на то что в процессе игры не создается новых ценностей, основной чертой,
конституирующей игровой процесс,
204
является серьезность, с которой участники игры относятся к тому, что составляет ее
содержание и цель. Крайняя степень серьезности равно свойственна как игрокуфутболисту, так и артисту, “играющему” роль. Именно эта строгость придает особое
значение занятию, в котором, как уже сказано, новые ценности не создаются.
Самые распространенные в культуре игры относятся к сфере искусства, спорта и т. д. Й.
Хейзинга в своей книге предпринимает попытку свести к процессу игры все известные
формы человеческой активности: научную, военную, артистическую, политическую.
Культура как таковая в значительной степени редуцируется к игровому процессу.
Игровая деятельность носит регламентированный характер, то есть осуществляется по
определенной системе предписаний и запретов. Понятно, какое значение это имеет,
например, в спорте: футболист не может брать мяч рукой, боксер — бить противника
ногой и т. д. Правила игры требуют самого серьезного к себе отношения. В каждом виде
игровой деятельности существует институт надзора за соблюдением этих правил, а также
система штрафов за их нарушения. В психотерапии система технических запретов,
помимо всего прочего, формирует так сказать процессуальную этику пациента. Надзор за
соблюдением таких правил может иметь немалый удельный вес в рабочем процессе. Так в
гештальттерапии требуют воздерживаться от теоретизирования, которое идет в ущерб
ощущениям “здесь и сейчас”, а в психоанализе нельзя, например, давать ход “любви в
переносе” к терапевту. В практиках, основанных на определенном усилии со стороны
пациента — аутогенная тренировка, медитация, саморегуляция, — такая этика особенно
важна. В контексте любой терапии у пациента может быть сформировано некое
процессуальное “Супер-Эго”. Терапевт может апеллировать к нему в процессе работы, и
это обстоятельство само по себе создаст повод осуществлять контроль за ситуацией, что
укрепляет власть над ситуацией вообще.
Очень важно добавление Р. Кайуа: игровая деятельность носит фиктивный характер то
есть в процессе игры создается параллельная реальность, которая существует именно вне
контекста обыденной жизни. Именно эта параллельность психотерапевтической ситуации
связана с особыми чувствами и сознанием иного бытия, о которых говорит Й. Хейзинга,
правда, по другому поводу. Все, о чем Й. Хейзинга и Р. Кайуа писали применительно к
спортивным, военным или художественным играм, имеет, без сомнения, отношение к
психотерапии и описывает сущность и своеобразие психотерапевтического процесса как
нельзя более ясно и выпукло.
205
При сравнении со всеми другими видами терапевтической деятельности становится
ясно, что именно условно-игровой элемент является здесь тем, что отличает психотерапию
от всего остального, придает ей своеобразие. В самом деле, иные виды терапии жестко
детерминированы вовсе не договором о правилах протекания процесса, их определяет сам
терапевт, пациенту предъявляется только результат. Пациент в ситуации заурядной
медицинской практики почти не вовлечен в обсуждение правил лечебной процедуры. Он
этой процедуре пассивно подвергается. В обсуждение условий терапевтического действия
он может быть вовлечен только при грубых нарушениях врачом своих профессиональных
или этических обязательств. Невозможно представить себе наличие элемента игровой
условности в процедуре, осуществляемой на хирургическом столе или в
гинекологическом кресле. Находящийся под наркозом пациент не принимает участия в
наблюдении за соблюдением каких бы то ни было правил.
Результат таких процедур вполне сравним с созданием новых материальных ценностей,
которые могут быть верифицированы объективно научными методами и, таким образом,
безусловно легитимированы. Так, вырезанный аппендикс может быть направлен на
гистологическую экспертизу, а анализ крови установит эффективность применения
антианемических препаратов. Результат психотерапевтической работы чаще всего
(исключая психосоматическую сферу) почти не доступен фиксации посредством
объективных показателей.
В отличие от обычных медицинских практик, психотерапия основана на взаимной
договоренности о соблюдении условностей, и ясно, что чем дальше она развивалась, тем
все больший игровой элемент в ней присутствует. Если медицинские терапии сравнимы с
производительными, индустриальными видами деятельности, неигровыми по своей сути,
то место психотерапии — среди принятых в культуре игр, таких, как театр, спорт,
карнавал, хоровод и т. д.
Трудно представить себе, чтобы в какой-нибудь еще терапевтической медицинской
практике пациенту позволялось бы “оказывать сопротивление”, обсуждать правила
проведения терапии, критиковать терапевта, причем все это помещается внутри
процедуры, является неотъемлемой частью самой ситуации, а не располагается “около”
нее. Если же мы проследим то, как развивалась психотерапевтическая ситуация в
процессе своей эволюции, то станет ясно, что она двигалась, несомненно, в сторону
большей представленности собственно игрового элемента в ее структуре. Торжественный
пафос классической гипнотической процедуры, наукообразная серьезность психоанализа
все в большей
206
степени сменялись собственно игровыми действиями, как-то в психодраме, групповых
терапиях, арттерапии и т. д. Дело обстоит так, что психотерапия в значительной степени
метафорически воспроизводит самые разные культурные игровые практики, будь то
ритуально-сакральные, педагогические, художественные, но почти никогда —
производственно-трудовые.
Получается, что психотерапия занимает очень странное положение среди терапий. С
одной стороны, она находится вне сферы полезного производства и объективной
научности, с другой, ей по общественно-экономической необходимости предъявляются
требования экономической отчетности, как если бы она была вполне “научнопроизводственной”. Этим противоречием — между внутренней “художественноартистической” свободой и внешним существованием в режиме “научности”,
“экономики”, “отчетности”, “полезности” — отмечена вся история психотерапии.
Надо сказать, художник и философ находятся в более недвусмысленном и выгодном
положении, чем психотерапевт. Несмотря на большое сходство в том, что касается
сущности их деятельности, им не надо претендовать на “научность” и объективно
верифицируемую эффективность.
Кроме того, игра определяется как “действие внутри установленных границ места и
времени”. Что касается места, то ясно, что терапевтическое пространство создает
необходимые условия для формирования параллельной реальности. Эта параллельность,
подобно игровой ситуации, создается также посредством процедурной регламентации.
Условность терапевтической ситуации сродни театральной. Она вводит пациента в
особый мир и крайне необходима для появления “чувства напряжения и радости, а также
сознания “иного бытия”, нежели “обыденная” жизнь”, как пишет Й. Хейзинга. Любые
нарушения игровой условности ведут к ослаблению этих чувств, совершенно
необходимых для успешной психотерапии, особенно в тех случаях, когда смешивается
обыденно-бытовое
поведение
и
условно-игровое-терапевтическое.
Бытовая
внетерапевтическая коммуникация, а также сексуальный контакт в этом смысле
представляют собой равноценное нарушение не только профессиональной этики, но, что
еще хуже, условности терапевтического игрового ритуала.
Кроме того, мы не забываем о роли харизмы в психотерапевтическом процессе. Для
формирования харизматического образа, особенно в его символически-театральной части
(charisma of hoax по И. Шифферу), игровая условность имеет особо важное значение. Так
что пренебрегая условно-игровым аспектом, мы проигрываем одновременно и в плане
терапевтического успеха, и в смысле подкормки своей харизмы.
207
Кроме того, что идеалы, как мы установили, бывают различными, достигаются они по
правилам, которые настолько отличаются друг от друга, что порой кажется, будто разные
психотерапевтические практики не имеют между собой ничего общего.
Пациент всегда добровольно соглашается на эти правила: он добровольно ложится на
кушетку гипнотизера и психоаналитика, он добровольно входит в групповой круг. Он
совершает первый шаг, просто принимая правила предлагаемой ему игры. Он занимает
свое место внутри предлагаемого пространства, принимает участие в исполнении ритуала.
Как уже говорилось, в процессе игры, и это особо подчеркивают Й. Хейзинга и Р.
Кайуа, не создается новых материальных ценностей. В процессе психотерапии тоже
ничего не “производится”, даже если речь идет о так называемой арттерапии, ибо не
произведение искусства как таковое является целью терапевтического процесса. В
процессе художественного творчества, осуществляемого в рамках терапевтического
процесса, всегда недвусмысленно подразумевается и внятно оговаривается, что факторы,
определяющие ценность художественного продукта, его качество, его художественные
достоинства, не имеют здесь никакого значения. Важен сам процесс самовыражения
личности в произведении искусства, либо тот материал, который он предоставляет для
интерпретации, либо тот терапевтический эффект, к которому приводит арттерапия,
способствуя процессам интеграции личности и т. п.
Р. Кайуа, основательно позаботился о концептуальном оформлении наших идей,
выделив четыре типа игр, которые очень могут нам помочь прояснить сущность и смысл
психотерапевтической акции (R. Caillois, 1958, p. 34 f. f.):
1) Агон (др.-греч. — борьба). Здесь речь идет о типе игр, построенных на принципе
соревнования, борьбы с противником. К культурным формам агона, по Р. Кайуа,
относятся спортивные игры. К институциональным формам агона относится
коммерческая конкуренция, система конкурсов и экзаменов, распространенная в самых
разных институциональных практиках. Параллель из психотерапевтического мира — те
терапии или их составные части, где происходит конфронтация личностей (в
психоанализе это — сопротивление плюс перенос).
2) Алеа (др.-греч. — жребий). Здесь имеются в виду игры, построенные на случайности,
удаче, жребии и т. д., а именно, рулетка и кости, карты и скачки. К
институционализированной форме этого типа игры Р. Кайуа относит биржевые
спекуляции. Хотя с первого взгляда кажется, что к психотерапии это не имеет прямого
отношения, нетрудно усмотреть элемент случайности, удачи, в аналитических терапиях.
Исходная стратегия психоаналитической
208
практики, основанная на неуправляемом высказывании клиента (“Говорите все, что вам
приходит в голову”), носит вполне “алеаторный” характер. “Случайность”,
непреднамеренность в развертывании высказывания клиента может рассматриваться как
оппозиция “неалеаторным” директивным способам организации высказывания, принятым
в повседневном коммуникативном процессе. Вторая “параллельная” реальность
терапевтической ситуации, которая может рассматриваться как фактор, способствующий
изменению состояния сознания пациента, вполне совместима со случайностью,
непредвиденным и т. д.
3) Мимикрия (др.-греч. — подражание). Здесь мы имеем дело с типом игр, основанных
на воспроизведении разных типов человеческой деятельности. Понятно, что все
театральные, сюжетно-игровые практики имеют отношение к этому делу. Театр и балет,
игры в куклы и шарады — список без труда можно продолжить — имеют отношение к
этому типу игровой деятельности. На общественно-институциональном уровне этому
соответствуют этикет, церемониал, униформа. В психотерапии, как это нетрудно понять,
все психодраматические, групповые техники связаны с игрой в подражание. Ключевая
задача любого психотерапевтического процесса — как ее определил З. Фрейд,
“воспоминание, повторение, проработка” — в “мимикрических” терапиях решается очень
наглядно, отчетливо и интенсивно. Так что вовсе не случайным было появление
психодрамы, метода, который почти целиком копирует игровую нетерапевтическую, а
именно театральную, практику. Психодраму можно представить как “подражание игре в
подражание”, мимикрию мимикрии. Ясно, что психотерапия в целом подражает не
самой жизни, но игре, которая сама подражает жизни.
4) Иллинкс (др.-греч. — головокружение). Этот тип игр связан с интенсивным,
форсированным изменением состояния сознания. Среди развлечений сюда относятся
качели, карусели, гигантские шаги. В психотерапии, однако, изменение состояния
сознания относится к самым ключевым проблемам, и поэтому, без сомнения,
“головокружительные” практики не могли не быть заимствованы терапевтами,
заботящимися как о вербовке последователей, так и о расширении клиентуры. Более того,
последнее время можно говорить о большом успехе в распространении иллинкс-практик.
Достаточно вспомнить об интенсивных дыхательных трансперсональных терапиях,
пневмокатарсисе-ребефинге-вайвейшене. Вовсе не случайно им предшествовала терапия,
проводившаяся при помощи ЛСД, ибо любой наркотик, конечно, является
“головокружительным” средством в чистом виде. Конечно, к этому разделу относится и
гипноз. Понятно, практика целенаправленного формирования измененного состояния
209
сознания в гипнозе не может не иметь отношения к “головокружению”. Сюда можно
также отнести какие-нибудь экзотические экстатические терапевтические практики, вроде
тех, к примеру, что проводятся терапевтами, рядящимися под шаманов, с плясками, с
завываниями, знаете ли, с бубнами, под психоделическую музыку. В общем, те, кто видел,
представляют себе, о чем речь.
Вовсе не обязательно школьные терапии подражают только одному какому-то типу
игровой практики. Сочетания агона и мимикрии так или иначе присутствуют в любой
терапии, уж не говоря о сочетании с иллинксом всего, чего угодно. Это и понятно.
Не вызывает сомнения возможность построения какой-нибудь многоуровневой
структурной теории терапевтической игры, выделив, к примеру, такие уровни, как,
скажем: 1) нормативно-технический, состоящий из правил, то есть системы предписаний
и запретов; 2) нормативно-сценарный, приблизительно описывающий развитие событий в
некоем идеальном варианте; 3) спонтанно-ситуационный, связанный с непредсказуемой
частью процесса; 4) ролевой, касающийся позиций каждого из участников игры; 5) и, к
примеру,
хроно-топологический,
определяющий
пространственно-временные
закономерности игрового процесса.
Не только ограничение пространства является задачей психотерапевтической акции.
Приходится организовывать этот процесс и во времени. Разумеется, очень тягостно
сознавать, но никакая терапия не может длиться бессрочно, она всегда имеет начало и
конец.
Кроме того, в структуре акции следует выделить два плана терапевтического проекта.
Первое — это непосредственно процедурный план, связанный с тем, что мы должны
сделать в рамках одной или нескольких психотерапевтических процедур. Второе — это
перспективный план, а именно некая цель, которую мы преследуем в объеме целого
терапевтического процесса, нечто такое, что ориентировано на весь жизненный путь
пациента.
Например, в юнговской аналитической психологии к действию процедурного плана
относится амплификация (“расширение и углубление картины сновидения посредством
направленных ассоциаций с параллелями из символической и духовной истории
человечества — мифология, мистика, фольклор, религия, этнология, искусство и т. д.),
благодаря чему смысл сновидения становится открытым для интерпретации (C. G. Jung,
1982, s. 408). Перспективный же план здесь соответствует процессу индивидуации, то есть
обретению пациентом своей собственной самости посредством конфронтации с
архетипами (ibid., s. 412).
210
В трансактном анализе Эрика Берна: процедурный план — это анализ трансакций, то
есть того, как в той или иной стереотипной жизненной ситуации, которую он обозначает
термином “игра”, задействованы состояния “Я” участников этой “игры”. В свою очередь
анализ жизненного сценария — это план перспективный (Э. Берн, 1992).
В гештальттерапии речь может идти о завершении гештальта как о процедурном
действии и о личностном росте и обретении зрелости как о перспективном. Ясно, что
перспективный план предполагает наличие некоего идеала, к которому надлежит
терапевтически стремиться.
Перспективный план представляет исключительно большой интерес для терапевта в
смысле совершенствования собственного образа в глазах пациента. Он уже не просто
исполнитель предписанных процедур. Он — тот, кто ведет пациента по прямой и верной
дороге к новой заманчивой жизненной перспективе. Он знает, куда вести, он знает, каков
этот путь, и это знание без сомнений придает его образу новую глубину, обогащает и
совершенствует.
Ключевые же вопросы тактики связаны с началом процесса и его завершением.
Конечно, начало и конец, вещи сложные и неоднозначные. Очень непросто достойно
поздороваться, еще труднее с пользой распрощаться. Итак, среди других тактических
проблем следует выделить введение и расставание.
Всякому ясно, что главный смысл введения заключается в том, чтобы соблазнить
пациента на психотерапевтическое общение, тем или другим способом сделать так, чтобы
он принял правила игры, в которой ему предстоит принять участие. Этого можно добиться
различными способами.
Первое, нам необходимо сделать выбор в пользу того, что именно мы, соблазнители,
хотим продемонстрировать пациенту в первую очередь, свою компетентность или свою
харизму. Конечно, в хороших случаях речь должна идти как о том, так и о другом.
Убедить клиента в своей компетентности — в сущности, предъявить ему свои
ясновидческие способности. Всякому ясно, как терапевт выигрывает, когда на первой
встрече, в процессе интервью, он что-то сам договаривает за пациента относительно его
состояния, чего тот сам пока не рассказал. К сожалению, такие навыки требуют владения
информацией, которой мы касаемся в нашем исследовании. Чтобы явить клиенту свои
ясновидческие способности, крайне желательно разобраться в проблемах личностной
типологии и закономерностях клинических картин.
Помимо демонстрации ясновидения очень важна демонстрация всесилия. Здесь особое
внимание следует обратить на директивно-суггестивные
211
практики. Например, в классических гипнотических процедурах принято убеждать
пациента, что терапевт на самом деле в состоянии эффективно воздействовать на них. Он
проводит всем известные гипнотические пробы, крайне выигрышные в смысле
театральной наглядности. Те, кто видел, помнят, как с решительной мрачностью терапевт
бесцеремонно требует сжать руки в замок или напрячь их, растопырив пальцы, при этом
угрожающе провоцируя запуганного пациента фразами вроде:“Пробуйте расслабить и не
можете!! ”. Конечно, гипнотизер нагоняет этот страх в первую очередь с целью успокоить
себя в том смысле, что в решающий момент пациент, оглушенный террором, испугается
не поддаться терапевтическому внушению. В любом случае мы имеем здесь дело с
распределением властных функций между терапевтом и пациентом на время всего
терапевтического процесса и это одна из ключевых задач введения в терапию. Совсем подругому распределяется “дозволенное” в недирективных терапевтических практиках, где
условленные правила дают пациенту намного больше возможностей для влияния на
процесс.
Одна из важных задач введения — сделать терапевтический процесс, как таковой,
привлекательным делом. Всегда очень хорошо описать радости предстоящих процедур,
представить их пациенту как некое времяпрепровождение, сулящее удовольствия само по
себе. Здесь в более выгодном положении, ясное дело, находятся те, кто предлагает в
структуре акции способы изменения состояния сознания. Можно, однако, описывать, не
только удовольствия, но и артефакты, скажем, предсказывать появление сопротивления,
если речь идет об аналитическом процессе.
Достойное введение может включать в себя описание механизма излечения. Назовем
это описание рефекционной легендой. Есть обстоятельства, которые вынуждают нас
изложить пациенту то, что мы собираемся с ним делать, а именно в первую очередь
желание пациента. Возможно даже изложение акционной легенды, то есть разъяснение
порядка проведения процедуры. Можно, однако, всего этого и не делать, а приступить к
делу как бы незаметно для клиента, как это мы читаем, например, в многочисленных
рассказах из жизни М. Эриксона.
Умел сойтись — умей и расстаться. Разговор о завершении терапии, не так приятен, как
о начале. Конечно, речь идет о самом неприятном для психотерапевтического
нарциссизма. Разумеется, всякому хотелось бы совершать свой профессиональной путь в
сопровождении пациентов, которые, не в силах с тобой распрощаться, продолжают
добиваться терапевтического общения даже после избавления от симптомов и разрешения
212
проблем. Охваченные трансферными переживаниями, они готовы любой конечный анализ
сделать бесконечным. Традиции долгосрочного терапевтического общения, идущие от
школ, ориентированных на архиниционно-эвольвентные концепции создали, с одной
стороны, привлекательный для терапевтов прецедент, с другой — вызов для всех других
терапевтических практик. О том, что большая длительность безусловно необходима для
усиления терапевтического эффекта, на самом деле не может быть и речи — известна и
краткосрочная аналитическая терапия. Ну и потом, как мы уже много раз говорили, в
условиях сложности оценки эффективности терапии вообще очень трудно представить
себе доводы в пользу того, что какая-нибудь терапия более эффективна, чем другая,
независимо от ее длительности.
Совсем другая традиция в психотерапии идет от терапевтов-“виртуозов”, причем
исторически первыми здесь были гипнотизеры. Эти стремятся во что бы то ни стало
добиться того, чтобы их терапия производила впечатление некоего “чудесного
исцеления”. Время осуществления “чудес”, понятно, никак не может быть растянуто.
Рассчитанные на работу только с симптомами, такие терапии даже не обременяют себя
соображениями насчет трудностей расставания: избавился от симптомов — распрощался.
В этих случаях иногда способы сохранения контакта переходят из терапевтической
реальности в реальность, скажем так, виртуальную. Одна из главных забот здесь —
“увековечить” контакт после прекращения лечения. С этой целью используется, в
частности, известная гипнотическая формула: “Мой голос останется с вами и после
окончания сеанса” — и совершенно ясно, что никакой гипнотизер не в силах побороть
искушения включить ее в свою гипнотическую песню, оправдывая, конечно, ее
употребление некими понятными клиническими соображениями. Быстрое построение
“нерукотворного памятника” в сознании пациента (или бессознательном) — это всячески
должно утешить “виртуоза”, лишенного в силу особенностей избранной им процедуры
возможности долго наслаждаться пациентской привязанностью, как это водится у его
коллег аналитического направления. А все потому, что основатель психоанализа в свое
время разумно позаботился о создании соответствующей концепции, где не просто описал
феномен привязанности пациента к терапевту, а провозгласил перенос и работу с ним
неизбежной частью любого аналитического процесса.
Неудовольствия расставания связаны еще и с вполне понятным нежеланием пациента
покидать условно-игровое карнавально-попустительское пространство терапии и возврат
в постылый обыденный мир, который опять может, очень просто,
213
довести любого до невроза самим фактом своего существования. Почти всегда при
завершении работы приходится давать напутствия в жизнь с тем, чтобы расставание
действительно состоялось и не пришлось бы начинать все с начала. Готовность к
безболезненному прощанию может быть, с другой стороны, включена в структуру
терапевтического идеала. Вполне естественно стремиться к такому состоянию, когда
пациент безболезненно выходит из-под влияния терапевта и становится самостоятельным.
Такая, сформировавшаяся в результате терапевтических действий независимость,
автономность вполне годится на роль индикатора успешности терапии. В любом случае,
как всем известно, расставание — это всегда одна из болезненных проблем, и решается
она порой неким форсированным способом, причем решительность приходится
выказывать именно терапевту. А всему виной, как мы увидим ниже, некая особая связь,
которая формируется в терапевтическом пространстве, что нашло свое отражение во
многих школьных концепциях терапевтического вмешательства.
КОНСОЦИЯ
Той особой связи, которая возникает в процессе работы у клиента с терапевтом,
посвятили специально сочиненные концепты многие крупные терапевтические школы. На
самом деле, в гипнозе речь идет о раппорте, в психоанализе — о переносе, в психодраме
— о “теле́”. Эмпатия и безусловное положительное отношение, терапевтическая любовь,
рабочий контакт — все это употребляется для обозначения этой связи, возникающей
между терапевтом и пациентом.
Всякому ясно, что в контексте кросс-структурного исследования вроде нашего, было бы
очень к месту концептуализировать это дело, описать его структуру и возможности,
поименовать это все специально по такому важному случаю изобретенным термином, что
мы незамедлительно и делаем.
Консоция (лат. consocio — объединять, сдружить) есть элемент школьной теории,
обозначающий некую, помещающуюся в психотерапевтическом пространстве, особую
связь, возникающую между пациентом и терапевтам спонтанно или формируемую
терапевтом сознательно и последовательно.
Собственно уже из этого определения можно провести различие между спонтанной и
“рукотворной” связью. Разумеется, в рамках школьных концепций авторы предпочтут
вести речь о спонтанной, то есть возникающей как бы без сознательного участия
терапевта, а только в результате логики развития, терапевтической ситуации.
Психоаналитический перенос, по замыслу авторов, рождается именно так. Существуют,
однако, как в гипнозе
214
или в клиент-центрированной терапии, целенаправленные стратегии формирования этого
дела, и ни у кого не найдется слов осуждения для терапевтов, пытающихся такие
стратегии сформировать. Очень часто можно встретить рассуждения о приемах,
помогающих так или иначе расположить клиента к терапевту “вызвать доверие” и т. д.
Собственно, консоция и есть основной момент в деле соблазнения пациента на
терапевтическую работу. Если сформировался такой контакт — все остальное больших
затруднений не вызовет. Здесь — место исполнения желаний любого терапевта.
Соблазняющий характер терапевтических отношений был очевиден З. Фрейду, о чем он
пишет, не обинуясь: “...когда мы должны начать давать анализируемому необходимые
сведения. Когда наступает время раскрыть ему тайное значение появляющихся у него
мыслей, познакомить его с основными положениями и техническими процедурами
анализа?
Ответ на это может быть только следующий: не раньше, чем у пациента развивается
перенесение, дающее возможность работать, устанавливается настоящий раппорт. Первой
целью лечения остается привязать больного к лечению и к личности врача (курсив наш,
— А. С.)” (З. Фрейд, 1991, с. 92). Комментарии излишни.
Интересно проследить динамику в сочинении этих концепций. Если в гипнозе речь идет
о раппорте как о некоей связи, имеющей исключительно пространственно-структурный
характер, то в психоанализе перенос уже имеет вполне определенное эротическое
содержание. Он непосредственно связан с гедонистической сферой, и этим определяется
его привлекательность. Соединение купидо с консоцией — одна из заслуг психоанализа. Без
сомнения — “купидинизация” консоции является залогом ее надежности и прочности.
Конечно, речь идет о том, что любовь к терапевту появляется неизбежно или по меньшей
мере с высокой степенью вероятности. Разумеется, мы здесь не можем не видеть один из
мотивов, толкавших терапевтов на то, чтобы поменять “медь” гипноза на “золото”
психоанализа. Где, собственно, сыщешь еще такую терапевтическую практику, когда тебе
заранее обещана любовь пациента, причем эта любовь рассматривается как неизбежная
часть рабочего процесса и более того — залог его эффективности?
Не только эротический, но и этический нарциссизм психотерапевта получает здесь
насыщенное подкрепление, ибо он не только всегда получает “любовь в переносе”, но и
предстает как свершитель нравственного подвига, стойко противостоя мощному
искушению, исходящему с очень близко расположенной кушетки. Таким образом
создается весьма достойный образ терапевта.
215
Наблюдая за проявлениями чувств в свой адрес, но принципиально их отвергая, используя
их для аналитических целей он при этом вовсе не просто тривиальный ханжа. Он твердо
не поддается действительным соблазнам терапевтической ситуации и на самом деле дает
соблазнить себя только психотерапевтическому методу и его создателям.
Но, конечно, в том, что касается привлекательности консоции клиент-центрированные
бьют всех остальных, как хотят. Безусловное принятие плюс эмпатия при любом раскладе
оказывается более выигрышным отношением к клиенту (соответственно и к
обучающемуся в процессе тренинга терапевту), чем какая угодно другая консоция. Это и
понятно. Возможному клиенту трудно представить себе более заманчивое отношение к
собственной личности. Терапевту, работающему в такой парадигме, заранее отданы все
возможные лавры трансцендентального гуру, ведущего клиента к состоянию, которое не
найдешь в повседневно-обыденном мире. Предписание ничем не опосредованной и не
ограниченной симпатии к клиенту создает немыслимо “райскую” ситуацию. С другой
стороны, идеально-райская благостность отдает некоторой утопией, и уже поэтому такой
подход может быстро морально износиться.
Конечно, противопоставление “низкого” влечения — переноса и “возвышенной”
эмпатии вкупе с неотразимым “безусловным принятием” дает солидную полемическую
фору клиент-центрированным перед психоаналитиками. Вообще все эти аксиологически
насыщенные дискурсы, принятые в текстах авторов гуманистически-экзистенциалистской
парадигмы, о том, что коммуникация терапевт — клиент есть, дескать, судьбоносная
встреча уникальных неповторимых сущностей или еще что-нибудь в этом роде, выглядят
очень привлекательно. Безусловное принятие не может не быть безусловно принято
обучающимся терапевтом.
Однако если вдуматься, то, с другой стороны, психоаналитическая консоция более
внутренне драматична. Сочетание трансфера с сопротивлением с контртрансфером плюс
анализ всего этого дела — создает внутреннюю интригу, а это, без сомнения, притягивает
возможного потребителя теоретического продукта. Что и говорить, публика, созерцающая
зрелище школьной теории, жаждет конфликта, столкновений, движения не в меньшей
степени, чем читатель детективов, что, конечно, прекрасно понимал З. Фрейд, да,
собственно, и другие, тоже толковые, авторы. Видимо, допущение в формировании
терапевтического контакта наряду с “любовью” моментов конфронтации с пациентом,
терапевтической агрессии и т. п. тоже может добавить динамики в сочиняемую теорию, и
это соображение неплохо иметь в виду.
216
Что же касается поведенчески-когнитивных авторов с их рационально-дидактическим, в
сущности школярским, “рабочим альянсом”, то им в любой дискуссии, конечно, придется
туго. Хотя, понятно, и для них не все потеряно, особенно если они будут напирать на
свою сугубую приверженность реалистическому взгляду на положение вещей. Дескать,
как и поэзия, по словам поэта, психотерапия “не прихоть полубога, а хищный глазомер
простого столяра”. Собственно, на таких соображениях, а именно — превосходства
трезвого эмпиризма, здравого смысла и технологической сноровки надо всем прочим, и
строится полемическая стратегия идеологов когнитивно-поведенческих методов против
всех остальных.
При сочинении консоционной части школьной теории акции следует иметь в виду
следующие аспекты. Консоция в контексте такой теории может быть целостной,
может быть инстанционной. Иначе говоря, терапевт и пациент могут
взаимодействовать, по замыслу изобретательного сочинителя, как своими целостностями,
так и частями. Например, Анима юнгианского терапевта в таком контексте вступает в
контакт с Тенью клиента, или Я терапевта с Оно клиента и так далее. Хороший повод для
аналитической работы.
Групповая ситуация предполагает формирование более богатой консоционной
ситуации, ибо консоционными факторами становятся групповая сплоченность, динамика
отношений в группе, открытость и т. п. В условиях такой теории акции и
соответствующей ей практики бинарные отношения терапевт — клиент уходят на второй
план, и можно говорить о множественной консоции, хотя нельзя исключить возможность
теории, где множество участников терапевтической ситуации будут взаимодействовать
своими частями. Конечно, это будет очень громоздкое дело. Представьте себе: у
множества участников группы по многу частей и все части так или иначе образуют связи
друг с другом. С одной стороны — можно запутаться, хотя с другой, если основательно
покопаться — очень богатые возможности для анализа. К слову сказать, групповая
ситуация вообще создает основу для очень выгодного, так сказать, “обогащающего”
идеологического жеста: группа расширяет психотерапевтическое пространство, оно
становится богаче и объемнее по сравнению с ситуацией индивидуальной терапии.
Различной может быть также временная структура консоции. Раппорт-трансфертелеэмпатия могут быть на протяжении сессии делом постоянным или прерывистым,
ровным или пульсирующим. Степень, глубина, сила и т. д. консоции, будь то раппорт,
трансфер или еще что-нибудь другое, может уменьшаться, возрастать, усиливаться или
меняться качественно. Если же консоция
217
мыслится как нечто амбивалентное, то составляющие этой амбивалентности могут
меняться, собственно, тоже как угодно. Такими теоретическими ходами терапевту
задается интересная возможность постоянно отслеживать разные параметры
терапевтической связи, а, скажем, супервизору — постоянно отмечать наличие или
отсутствие, усиление и ослабление консоции в тот или иной момент терапии и,
соответственно, — указывать на это подвергающемуся супервизии терапевту.
При такой постановке вопроса возможно также некое приблизительное исчисление
консоции. Разумеется, прикидки здесь, как и в других случаях желания “вычислить”
психотерапевтические параметры, могут быть только очень грубыми, сравнительными, в
духе “больше — меньше”, “сильнее — слабее”. Такие “подсчеты” имеют смысл только в
конкретной терапевтической ситуации. Соответственно такие “количественные
показатели” могут оказаться сподручными в смысле исследования процессов усиления —
ослабления или нарастания — уменьшения. Можно ставить перед собой соответствующие
задачи в зависимости от стадий процесса, например усиливать в начале или уменьшать в
конце или наоборот. В любом случае, создается повод для осмысления тонкостей
терапевтической ситуации. В сущности, сочинение теории есть конструирование и
насыщение дискурсивного поля, пригодного для последующей аналитической рефлексии
и супервизорской дидактики.
Немаловажен также иерархический аспект консоции. Как мы уже говорили выше,
первоначально стратегия взаимоотношений терапевт — пациент основывалась на
безусловном подчинении терапевтическому авторитету. Исполненный волевой мощи
классический гипнотизер или мудрый логик, рациональный терапевт, безусловно,
занимали позицию “сверху” по отношению к пациенту. У упорно молчащего
психоаналитика такого прямого влияния на процесс терапии было уже меньше, хотя сама
по себе ситуация наличия трансфера делала проблематичной равноправие в
терапевтической ситуации. Гуманистические и экзистенциально ориентированные
подчеркивают всячески свое равенство с клиентом, говоря о том, что он — “партнер по
бытию”. Историческое поступательное движение от иерархически консоции к
квазиэгалитаристской, таким образом, несомненно и очень понятно в рамках общей
попустительской тенденции истории психотерапии.
Всегда важно иметь в виду соотношения консоции и купидо. Понятно, что консоция
есть то место психотерапевтической ситуации, в котором реализуется купидо. Как уже
сказано, перенос, например, — это не что иное, как купидинозная консоция. Вне всякого
сомнения, включенность купидо в структуру консоции
218
делает ее интересной. С другой стороны, важно понимать, что купидинозная консоция
может трактоваться в духе не только “любви”, но и агрессии, причем как со стороны
пациента в адрес терапевта, так и наоборот. С консоцией может соединяться не только
Эрос, но и Танатос, равно как и другое любое купидо.
Если брать в целом соотношения симпатии и агрессии как с той, так и с другой стороны,
рассматривая это все в динамике, отслеживая при этом нарастание и уменьшение
различных консоционных переменных, то можно будет в конце концов составить себе
полную картину консоции и получить в свое распоряжение богатую теорию этого дела.
Крайне интересно было бы также попытаться вывести, скажем так, правила
функционирования консоции. С этой целью можно ввести, к примеру, понятие
консоционный пай. При помощи его можно будет оценить вклад каждого из участников
консоции в общую консоционную ситуацию. Скажем, гипнотическая консоция — раппорт
состоит почти целиком из вклада гипнотизера, пай пациента здесь невелик.
В процессе анализа важно также иметь в виду, от кого исходят консоционные
инициативы. Интересно проследить кто первым выказывает те или иные эмоции, делает
те или иные ходы в смысле формирования контакта, его углубления или уничтожения.
Здесь важно также иметь в виду желательность формирования консоции, исходя из реалий
пациента. Так, например, это делается в эриксонианском гипнозе, когда терапевт
подстраивается под клиента, учитывая буквально все, что ему удается подметить в
процессе наведения транса.
Консоция может формироваться сама по себе, а может и подвергаться обсуждению в
процессе терапии. Таким образом, можно противопоставить спонтанную и договорную
консоцию в духе какого-нибудь терапевтического контракта. Договор тут может
формулировать правила и запреты терапевтической коммуникации, причем обсуждение
соблюдения договорных обязательств может составлять весьма интересную часть
процесса терапии в целом. Вокруг этого элемента акции не составит труда построить
много различных ритуалов, процедур и действий.
В некоторых случаях консоция может носить весьма неопределенный характер. Так,
зачастую ограничиваются разговором о некоей коммуникации. Такой подход можно
сделать интересным в том случае, если в этой коммуникации выделять различные уровни,
например вербальный и невербальный, особенно же делая упор на противоречия между
ними. Так, очень хорошо строить свою терапевтическую стратегию на констатации
противоречия между сообщениями, идущими от пациента к терапевту
219
через вербальный канал, и информацией, идущей через канал невербальный. Таким
образом диагностируется некий коммуникативный конфликт, и на его анализе можно
строить терапевтическое вмешательство, разбирая с пациентом, например, что же он
хотел сообщить “на самом деле”. Кроме того, анализ таких противоречий в поведении
терапевта — достойная тема для супервизорских интервенций.
В большинстве случаев мы рассматриваем консоцию как некий вспомогательный
элемент психотерапевтического действия. Близкий контакт терапевта с пациентом
необходим для интенсивной работы над проблемами. Однако бывают случаи, когда
консоция имеет самостоятельное значение и психотерапевтический процесс сводится в
основном к установлению контакта с пациентом. Это происходит в тех случаях, когда
главная проблема терапии — отсутствие у пациента способностей к контакту (ранний
детский или шизофренический аутизм).
Метафоры для формирования концепта консоции обычно заимствуются из сферы
внетерапевтических отношений. Консоция в концентрированном виде обозначает вещи,
происходящие за пределами терапевтической ситуации. В сущности, она субституирует
актантные связи, формирующиеся до начала терапии. Так, перенос, по замыслу автора,
актуализирует в терапевтическом пространстве взаимоотношения протагонист — отец,
воспроизводя таким образом актантную модель Эдипова комплекса.
Разговор о консоции, помимо всего прочего, может быть связан с обсуждавшейся уже
темой каналов. Поиск контакта может быть осуществлен в русле какого-нибудь канала, то
есть по месту наименьшего сопротивления. Речь может идти о ведущей репрезентативной
системе, как это принято в НЛП, или же о “каналах”, которые описаны А. Минделлом.
Итак, первый важный структурный элемент психотерапевтической акции — консоция, с
ее формирования начинается терапевтический процесс. Это не значит, что мы уделяем
этому делу внимание только в начале работы. Об этом мы основательно заботимся в
течение всего курса лечения. Сочиняя в рамках возможного метода инструкции по работе
со взаимоотношениями пациент — терапевт, мы можем, в частности, подумать над
вопросом, формировать ли нам консоцию целенаправленно (быть может, даже при
помощи конкретных техник). Или, как писал Фрейд, можно ограничиться тем, что “...дать
больному достаточно времени. Если проявляют к нему серьезный интерес, заботливо
устраняют возникающие вначале сопротивления и избегают известных ошибок, то у
пациента возникает сама по себе такая привязанность и он присоединяет врача к ряду
образов тех
220
лиц, от которых он привык получать любезности” (З. Фрейд 1991, с. 92).
Есть очень существенный резон осуществлять консоционный контроль на практике и
позаботиться о разработке консоции в школьной теории. Обстоятельный разговор на тему
“интересной” связи между клиентом и терапевтом внутри такой теории неизбежно
привлечет к ней интерес извне. Ведь мы помним, что главное назначение школьной
теории — быть привлекательной. Трудно представить себе что-нибудь более выигрышное
в этом смысле, чем надежда встретить в терапии радости эмоциональной близости. Так
легко принять на веру, что это само по себе принесет исцеление или хотя бы облегчение.
Однако прежде, чем заняться этим, неплохо было бы разобраться, от чего хотят исцелить.
ЭКСКВИЗИЦИЯ
Процедуры, определяющие то, что, собственно, надо лечить, весьма заметно отличаются
друг от друга в различных школах по способу осуществления, временным затратам,
степени подробности и многому другому. Сбор анамнеза, интервью, исследование с
помощью проективных тестов — все это, по нашему замыслу, может быть объединено
неким единым концептом и, как это у нас принято, адекватно поименовано.
Эксквизиция (лат. exquisitio — исследование) есть процесс определения объекта
приложения терапевтических усилий. Эксквизиция исследует то, что должно быть
подвергнуто собственно терапевтической процедуре.
Итак, прежде чем перейти собственно к акции, мы в той или иной степени пациента
обследуем. Увы, на это все уходит очень много времени, причем это время может быть
использовано с большей пользой, а именно на собственно терапевтические манипуляции,
которые в несравненно большей степени демонстрируют харизму и профессиональную
сноровку терапевта, чем расспрос. Так что нетрудно понять многих авторов, которых
раздражает длительная исследовательская работа с вопросами и ответами. Очень часто
первые встречи сводятся к так называемому психотерапевтическому интервью, но только
такой эксквизицией чаще всего школьная психотерапия не ограничивается. Эксквизиция
— это то, что может продолжаться в течение всего процесса терапии.
Ясно, что сам процесс эксквизиции — сбора анамнеза пришел в психотерапию из
клинической психиатрической практики. Дескриптивная клиническая традиция
предполагала длительную процедуру опроса. Выявление тонкостей симптоматики с целью
дифференциальной диагностики, охват клинической картины
221
во всей ее полноте требовали, как уже сказано, времени и сил. Подробный сбор анамнеза
связан здесь с представлениями том, что форма течения патологического процесса
определяет прогноз. Однако в большинстве случаев подробности анамнестической
картины не оказывают существенного влияния на выбор психиатром, скажем,
психотропного препарата, для назначения его требуется сбор информации, намного более
ограниченный.
Если говорить, например, об аналитических терапиях, то совершенно ясно, что одним
интервью процесс сбора анамнеза не ограничивается. Дело обстоит так, что большая часть
анализа, в процессе которого происходит нестесненное разворачивание высказывания
пациента, интенсивная работа воспоминания, безусловно, может считаться эксквизицией.
Несмотря на полагающееся по процедурной инструкции воздержание терапевта от
настойчивого вопрошания, речь идет именно об автобиографическом нарративе, то есть
происходит, в сущности, то же самое, что — при помощи целенаправленных вопросов —
в процессе интервью. Так что, как уже сказано, в аналитически ориентированной терапии
существенная часть работы сводится к процессу эксквизиции. До того момента, как
терапевт дает интерпретацию, как пришло осознание, как состоялся инсайт, пациент
рассказывает “первое, что приходит в голову”. Получается так, что собственно
терапевтический ход, а именно интерпретация, прокладывающая путь к инсайтам и
катарсисам, осуществляется непосредственно перед моментом гипотетического
исцеления.
Никакая другая практика в мире не идет ни в малейшее сравнение с
психотерапевтической эксквизицией (в первую очередь это относится к аналитическим
техникам) в смысле доступности совершенно недоступного во всех других случаях
содержания интимных переживаний личности. В этом смысле даже распространенные
религиозные практики не идут ни в какое сравнение. В аналитических методах, как
известно, месяцы и годы уходят на рассказ о таких переживаниях. Объем, подробность и
“глубина” несопоставимы, например, с краткими отчетами о совершенных грехах в
исповедальных религиозных процедурах. Попустительское отношение к содержанию и
изложению повествований, отсутствие внешнего морального давления, словом, ситуация
ожидания вовсе не морального осуждения, с последующим искуплением, но, наоборот,
безусловной эффективной помощи — все это делает эксквизиционную ситуацию в
психотерапии исключительно благоприятной. Благоприятной в том смысле, что терапевт
до конца удовлетворяет свою житейскую любознательность, причем в такой степени,
какая недоступна,
222
например, даже священникам, безразлично к какой конфессии они принадлежат.
Сомнений никаких, “любопытство” к “толкам” (после М. Хайдеггера — вполне
метафизические термины, см. M. Heidegger, 1986, s. 167—175) отчасти конституирует
интерес к любому тексту, будь то журнальный репортаж, эпический роман или
пациентская исповедь. Аналитическая или какая угодно другая психотерапевтическая
обработка жалоб и воспоминаний как бы легитимирует терапевтическую
любознательность. Ведь совершенно ясно, что житейские интересы у терапевта всегда
формируются раньше профессиональных, и в силу этого, разумеется и речи не может
быть о том, что невероятная порой длительность эксквизиционных процессов обусловлена
исключительно одними лишь клиническими потребностями. Собственно, формирование
научного интереса начинается с подавления интереса житейского.
Напомним, что традиция отводить большие сроки под эксквизиционную процедуру
сложилась в рамках метода, строившего свою теорию личности вокруг “сексуальности”.
Здесь, как известно, исходят из предположения, что длительность аналитической
процедуры связана с необходимостью преодоления сопротивления, причиненного отчасти
сознательным неприятием пациентом содержания своих желаний. Отсутствие данных о
том, что длительность терапии увеличивает ее эффективность, ясно говорит в пользу
нашего, несколько радикального на первый взгляд, но при этом вполне естественного
предположения. И тут уж можно даже не напоминать о том, насколько должно
увеличиваться удовольствие терапевта от терапии при умножении удовлетворенной
любознательности на удовольствие быть объектом пациентского переноса. Принцип
невмешательства, дающий возможность занимать выигрышную выжидательную позицию,
сохранять мудрое молчание в ответ на пациентский повествовательный и переносный
напор, многократно умножает привлекательность процесса для аналитика. Дело, на наш
взгляд, состоит в том, чтобы не только терапевт прошел анализ, так, как если бы он сам
был пациентом. Дело в том, чтобы анализу была подвергнута сама психотерапия, и не
только с точки зрения ее возможной действенности, но, помимо всего прочего, с точки
зрения возможностей удовлетворения желаний и подкрепления нарциссизма, которые
она предоставляет терапевту, ею занимающемуся.
Другие авторы на нашем месте завели бы здесь разговор также и о гонорарной
заинтересованности терапевта в увеличении сроков терапии, дополнив тем самым
ницшеански-адлеровски-бодрийаровский анализ терапевтической ситуации анализом
223
марксистским. Интересы психотерапевтов как класса, безусловно, оказывают
существенное влияние на все терапевтические практики, и это вполне могло бы стать
предметом специального исследования. Однако мы все же не забываем, что посвятили
наше исследование преимущественно вопросам фундаментальной структуры, а
социологические подробности увели бы нас очень далеко.
Эксквизиция может принимать различные формы, может осуществляться на разных
уровнях. Мы говорим об эксквизиции в случае простого интервью, в случае исследования
посредством проективных методик и опросников. Длительный аналитический процесс
преимущественно является в первую очередь эксквизиционной процедурой, во всяком
случае до того момента, когда осуществляется интерпретация или пациент так или иначе
подводится к ней. В случае аналитического процесса переход эксквизиции в собственно
акцию отмечен именно интерпретационным действием.
Небезынтересно также подумать о возможных направлениях эксквизиции.
Эксквизиционный путь вглубь определяется наличием в теории школы таких структурных
элементов, как архиниция и эвольвенция, речь о которых шла в диахроническом разделе.
Этот — условно вертикально расположенный в воображаемом пространстве — путь к
истокам формирования личности лежит через длительную процедуру припоминания.
Причем длина этого пути определяется тем, где находится архиниционная точка отсчета.
Ведь мы помним, что есть школьные теории, согласно которым она может иметь
отношение к периоду задолго до момента рождения индивида. Кроме того, как мы знаем,
длительность эксквизиционной процедуры может определяться подробностью описания
эвольвентной нормативной хронологии, ибо ясно, что путешествие по этапам жизненного
пути требует серьезных временных затрат.
Объемно-горизонтальный аспект эксквизиции связан, с расширением круга
рассматриваемых проблем от, скажем, узкоклинического до экзистенциального, когда в
расчет берется, например, существование в целом. Это движение идет в направлении от
непосредственных жалоб до охвата целостной картины жизненного мира. Иначе говоря,
эксквизиционная цель — представить себе, каким образом нарушено бытие-в-мире.
Ясно, что многие элементы структуры школьных теорий могут быть в свою очередь
разложены на более мелкие составные. Эксквизиция здесь не исключение. Речь может
идти здесь о следующем.
Выбор. Печальная правда заключается в том, что никогда и ни при каких
обстоятельствах мы не способны посмотреть на
224
пациента совершенно непредвзятым взглядом, лишенным какой бы то ни было
индивидуальной заинтересованности, в особенности же заинтересованности школьной. На
процесс эксквизиции оказывает влияние наш опыт, школа, к которой мы принадлежим, не
говоря уже о неизбежности проекции определенных параметров личности терапевта.
Ясно, что при таких обстоятельствах сама постановка вопросов не может быть случайной.
Прицельность задаваемых вопросов является признаком профессиональной зрелости.
Известное анекдотическое рассуждение о том, что пациенту аналитика-фрейдиста снятся
“фрейдистские” сны, с символически зашифрованными гениталиями, пациенту юнгианца
— соответственно сновидения с архетипическими сюжетами и т. д., имеет под собой
основательную почву.
Эксквизиционный выбор носит презумпционный характер (презумпция, напоминаем, —
предпочтение; известное словосочетание из юридической практики: презумпция
невиновности). Любое интервью в той или иной степени неизбежно является
презумпционным, что определяется как школьной ориентацией терапевта, так и его
индивидуальным стилем. Для школьных историй болезни отбираются наглядно
иллюстративные случаи, школьный тренинг формирует соответствующие навыки
проведения интервью. Таким образом, можно говорить о школьной, а также
индивидуальной презумпции. Именно это не в последнюю очередь отличает их друг от
друга. Всякой психотерапевтической школе присуще то, что по отношению к клинической
практике обозначают термином “гипердиагностика”. Феномен гипердиагностики, как
известно, заключается в усмотрении известной диагносту симптоматики там, где ее
наличие может вызвать серьезные сомнения. Любая школьная диагностика строится на
усмотрении в состоянии пациента чего-то такого, что уже так или иначе исследовано в
практиках этой школы. За примерами осведомленному читателю, конечно, далеко ходить
не надо.
Ясно, что мы ограничены в наших возможностях сделать эксквизиционный процесс
бесконечным, и узконаправленная презумпция становится, таким образом, делом
неизбежным. Так что в любом случае основное внутреннее противоречие в
эксквизиционном процессе — это противоречие между полнотой и цельностью
жизненного мира пациента и ограниченностью, парциальностью исследовательского
взгляда терапевта. В таких условиях самое существенное требование, которое может
быть предъявлено к результату эксквизиции, заключается в создании иллюзии полноты и
законченности. Как говорил по этому поводу Поль Валери, “ощущение Красоты… есть
сознание невозможности что-либо привнести, изменить... ” (П. Валери, 1976, с. 177).
225
Несомненный субъективизм школьной эксквизиции преодолим в первую очередь в
рамках феноменологического подхода. С процедурной точки зрения такое преодоление
осуществимо при возможно более выраженной стратегии невмешательства. Однако
последовательное невмешательство грозит удлинением времени исполнения процедуры,
что мы и видим в аналитически ориентированных терапиях. Естественно предположить,
что наибольшая степень автономности пациента, независимость его от терапевтической
презумпционности, неспровоцированность его высказывания максимально гарантируют
объективность получаемой информации.
Изоляция. Очень редко психотерапевт работает одновременно со многими проблемами,
тем паче со всей картиной страдания сразу. Совершив выбор, зачастую необходимо
изолировать некую проблему от остальных. Нетрудно представить себе различные
стратегии этой изоляции. Зачастую речь идет о том, чтобы отделить “важное” от
“второстепенного”, и работать, таким образом, с разными проблемами порознь, начиная,
разумеется, с “важного”. Изоляция может носить тактически-временной характер: вначале
одно, затем другое. Изолирующие стратегии могут быть осуществлены спонтанно, а
могут, конечно, обсуждаться с пациентом, которому при этом могут преподноситься
изоляционные легенды. Право отделять одну проблему от другой и определять порядок
работы с ними вполне может быть предоставлено пациенту. Тот выбирает тот или иной
симптом, с которым предстоит работать, причем это уже не будет процедурой
эксквизиционного выбора, каковой осуществляется всегда терапевтом в процессе
диагностики. Однако сам выбор пациента, рассматриваемый как симптом, может дать
пищу эксквизиционным построениям.
Выбор и изоляция могут осуществляться по нескольким основным направлениям. Мы
оставляем в фокусе как сам симптом, проблему и т. п., так и нечто более общее:
характерный профиль, особенности восприятия и мышления, то есть то, что формирует
условия работы с симптомом (проблемой). Эти соображения позволяют говорить,
например, о ядре и фоне эксквизиционного продукта. Весьма сподручным для изоляции
проблемы может оказаться ее “закрепление” за отдельной инстанцией (как это происходит
в практике НЛП, например).
Укрупнение (обогащение)
То, что мы выбрали, мы подвергаем углубленному подробному исследованию, мы это
как бы “увеличиваем”. Жалоба пациента в процессе расспроса может превратиться в
сложное многослойное образование. Терапевт как бы подносит большое увеличительное
стекло к симптому и рассматривает его в подробностях.
226
Он, симптом, разумеется, может остаться на уровне жалобы. С другой стороны, мы
можем, перед тем как начать с ним работать, разобраться вначале в его клинических
подробностях или поставить некий психодинамический диагноз (Эдипов комплекс,
например). В аналитических школах, когда эксквизиционный процесс (понятно,
“обогащенный” трансфером) занимает большую часть терапевтического времени, мы не
укажем точно, когда кончается эксквизиция, т. е. исследование пациента, и начинается
собственно терапия. Разумеется, здесь, как, впрочем, и во многих других случаях, может
иметь место постоянный переход от эксквизиционной процедуры к собственно
терапевтической и обратно.
Для получения лучших результатов в процессе эксквизиции возможно, например,
усилить симптом, как это делает, например, А. Минделл в своей известной технике
амплификации. Смысл ее, как известно, заключается в том, чтобы предложить пациенту
усилить симптоматические ощущения, с которыми предполагается работать (A. Mindell,
1985, p. 8 f. f.). Таким образом, эксквизиционный продукт (поначалу это была
симптоматическая жалоба) обогащается, как бы увеличивается в размерах и становится
более сподручным для последующей работы.
Если проследить историю развития этого составного элемента терапевтической акции,
то можно будет обнаружить определенную закономерность, которая в целом
укладывается в тенденцию роста попустительства (laisser-faire).
В клинической классической традиции расспрос ведется прицельно и директивно. Мы
прицельно выспрашиваем у пациента признаки его жалоб, тенденцию их развития,
сопутствующие феномены. Стратегия вопрошания предполагает большую активность со
стороны терапевта. Процедуры интервью и собственно терапевтического вмешательства
четко отделены одна от другой. Допсихоаналитический терапевт, по возможности,
подробно выяснял клиническую картину, после чего, при отсутствии противопоказаний,
прописывал, исходя из своих наклонностей, гипноз, или самовнушение или же проводил
разъяснительную беседу.
Нетрудно заметить, что в дальнейшем эволюция акции шла в духе смешения процесса
эксквизиции и собственно терапии. В психоанализе невмешательство провоцирует
пациента к нестесненному изложению своих переживаний, а это помимо повествования
включает в себя процесс формирования консоции — переноса и, в определенной степени,
вводит клиента в измененное состояние сознания (понятно, не такое основательное, как в
гипнотических или пневмокатартических практиках, но совсем без этого дело, конечно
же, не обходится).
227
Чрезмерная длительность эксквизиционных практик неизбежно вела не только к
развитию моды на short term терапии, но и к появлению и распространению того, что
можно обозначить как эксквизиционная провокация. Сюда относится вся система
тестирования, как проективного, так и всего прочего. Принцип наименьшей траты сил,
довлеющий над психотерапией, как, впрочем и над любой другой практикой, неизбежно
привел к появлению и распространению невообразимого количества бесконечно
разнообразных тестов. Предъявляемый тестовый материал представляет собой
провокацию, цель которой — форсировать эксквизицию. Любой тест, однако, является
делом неизбежно ограниченным и, как бы мы сказали, презумпционным. Иначе говоря,
возможный результат предзадан стимульным материалом.
Другая важнейшая задача в этом смысле — преодоление эксквизиционного
сопротивления пациента, мотивы которого могут быть самыми разными. Любая
персональная автономность ущемляется в ситуации вынужденного изложения интимных
проблем. Требование к сохранению тайны в рамках профессиональной этики
легитимирует тотальность самораскрытия пациента. Это достойное само по себе
обстоятельство, однако, может отнюдь не снижать сопротивленческого напряжения.
Провокация, принцип невмешательства — все это порождения феномена сопротивления.
Следует однако заметить, что нет и не может быть доказательств того, что подробная
эксквизиционная процедура является залогом эффективности терапии.
Эволюция психотерапии показывает, что эксквизиция как часть терапевтического
процесса подвержена процессу деградации. Подробность и основательность
эксквизиционного процесса особенно трудно переносится терапевтами, стремящимися
продемонстрировать свою терапевтическую потентность. Процедура собирания данных
предоставляет им всего лишь ограниченную возможность проявить ясновидческий дар,
опережая своими точными описаниями рассказ пациента, как бы угадывая то, о чем он
пока не успел рассказать. Кропотливая возня с выяснением тонких особенностей
симптоматики и обстоятельств ее развития, увы, не дает возможности гипнотизеру излить
свои
суггестивно-харизматические
флюиды,
аналитику
—
обнаружить
интерпретационную прозорливость, психодраматисту — проявить свою режиссерскую
сноровку вкупе опять-таки с интерпретационными дарованиями. Особенно ясно дают себе
в этом отчет специалисты по нейролингвистическому программированию, предлагающие,
например, в технике шестишагового рефрейминга просто идентифицировать проблему, с
которой предстоит работать, никак не вдаваясь при этом в ее природу и
228
эволюцию. Их нетрудно понять, как и всех, кто пытается строить свою терапевтическую
харизму на основе “виртуозности”. Разумеется, здесь никто не будет бездарно тратить
время на выяснение мелких подробностей, которые только усложняют дело и мешают
рвущемуся в бой харизматическому виртуозу совершить очередное чудесное исцеление.
Так что в некоторых случаях можно говорить о моментальной эксквизиции, и тех, кто ее
практикует, понять нетрудно.
Ко всему прочему, чем дальше, тем все более отчетливо выясняется, что любая
школьная терапевтическая стратегия не меняется существенным образом от
результатов эксквизиции. Тонкие подробности клинической картины или результаты
психологического теста не заставляют терапевта менять радикальным образом способ
употребления технического приема. Они могут послужить причиной для отказа в
проведении психотерапии вообще, в том случае, если, например, выясняется, что мы
имеем дело с психотическим заболеванием. Как уже говорилось, противопоказания
против любой школьной терапии чаще всего совпадают с противопоказаниями против
психотерапии вообще.
В большинстве случаев в рамках одного метода со всеми проблемами работают
приблизительно одинаково. Применение технических приемов обусловлено скорее
потребностью более или менее строгого соблюдения ритуалов школьных процедур, чем
характером проблемы пациента. Как мы уже говорили, представители всех школ
производят отбор пациентов по строгому “панацейному” принципу. Проще говоря, все
берутся за все, за что только можно взяться, ну разве что за исключением упомянутых
психотических случаев, которые, что и говорить, малонадежны для демонстрации
собственного могущества терапевта и исключительных преимуществ практики того
направления, к которому он принадлежит. Психотерапия психозов выделяется обычно в
самостоятельное образование, требования к ее результативности весьма снисходительны.
Существует еще одна заслуживающая упоминания эксквизиционная практика — сбор
данных о пациенте в измененном состоянии сознания. При этом предполагается, что
сопротивление так велико, что необходимо блокировать сознательный контроль с тем,
чтобы пациент поведал о себе что-нибудь исключительное, что удовлетворит наконец
жадное любопытство азартного терапевта. Эксквизиционная провокация носит здесь
форсированный характер. В частности, методами форсированной эксквизиции в
психотерапии можно считать гипноанализ и наркоанализ, когда с целью получения
информации терапевты — при помощи препаратов или суггестивных практик, пытаются
229
усыпить внимание пациента или ослабить его контроль над собой.
Однако всем известна эксквизиционная ситуация, осуществляемая в измененном
состоянии сознания, обретенном естественным путем. Речь, естественно, идет о
толковании сновидений. Психоанализ, мы знаем, трактует сюжет сновидения как
исполнение подавленных желаний. Так вот, как обстоит дело с осуществлением
желаний пациента — вопрос темный, во всяком случае, не идущий в сравнение с полной
ясностью относительно того, что касается желаний терапевта. Реализация желаний
последнего здесь несомненна, что видно уже из той невероятной симпатии, которой
пользуется именно эта терапевтическая процедура у всех без исключения. Всем известно,
нет направления в психотерапии, которое не уделяло бы внимания этому делу. Ясно, что
здесь, без особых затрат на изменение состояния сознания, мы легко получаем доступ к
переживаниям, которые в ином случае нам пришлось бы добывать при помощи серьезных
целенаправленных усилий. Пациент, выходит дело, сам берет на себя работу по
погружению себя же в “гипнотическое” состояние, в котором выходит наружу то, что
иначе малодоступно или вовсе недоступно. Он сам без дополнительных усилий
преодолевает
собственное
эксквизиционное
сопротивление,
запуская
в
психотерапевтическое пространство превосходный рабочий материал.
Этот рабочий материал, добытый из сновидений, особенно хорош тем, что он как бы
“выдает” пациента с головой. В других эксквизиционных практиках довольно часто речь
может идти о том, что пациент тем или иным образом невольно обнаруживает некие
невысказанные переживания, поставляя терапевту информацию, о которой он до того мог
и не догадываться, но именно она является ключевой для терапии. Ясно, что в
психотерапии издавна существует традиция “подозревающей”, “шпионской”
исследовательской стратегии, предполагающая пристальное всматривание, поиск
признаков, выдающих “истинные” мотивы клиента, им в силу разных обстоятельств
скрываемые. Эта традиция заложена идеологией таких исследований З. Фрейда, как
“Толкование сновидений” и “Психопатология обыденной жизни”. Описки, обмолвки,
ошибки, так называемые провалы в памяти дают терапевту то же преимущество, что
данные разведки военачальнику — перед началом боевых действий. Вообще же это не
случайно, что “бойцовские” метафоры, “разведческая” в том числе, весьма адекватно
описывают психотерапевтическую реальность.
В этой связи часто любят заводить разговор о “языке тела” клиента. Читая на этом
языке терапевт узнает нечто отличное от
230
того, чем пациент делится вербально, а, главное, то, что он хотел бы утаить.
Непроизвольными, неконтролируемыми телодвижениями он себя простодушно “выдает”.
В практике НЛП роль такого эксквизиционного индикатора выполняют движения глазных
яблок, по которым диагностируется ведущая репрезентативная система. Тут, конечно,
терапевт получает возможность испытать чувство удовлетворения от собственной
проницательности и возможности незаметно манипулировать наивным клиентом, который
себя так беспечно выдал.
С другой стороны, “подозрительная” эксквизиционная традиция создает терапевтам
других направлений достойную возможность для демонстрации “оберегающедоверительного” жеста в сторону личности пациента. На вызов традиции “подозрения”
эмпатическим доверием, безусловным принятием ответил создатель гуманистической
психологии К. Роджерс и благодаря этому, как мы знаем, немало преуспел. Полемические
преимущества такого отношения к делу очевидны.
Итак, мы преодолели эксквизиционное сопротивление, насытились запредельной
откровенностью пациента, купленной в обмен на ожидание помощи. Привязав его при
этом к себе посредством консоции, удовлетворили свои “шпионские” желания и теперь
можем приступать к делу. Мы выработали определенный, годящийся в дело
эксквизиционный продукт, который можем теперь подвергнуть дальнейшей обработке.
Он, этот продукт, может иметь различную конфигурацию, разной глубины измерения, а
кроме того, разный объем. Это может быть просто жалоба или симптом, с которым мы
тотчас же, не вдаваясь в подробности, не тратя попусту времени на составление истории
болезни, начинаем работать. Это может быть и подробный развернутый клинический или
патопсихологический диагноз, который потребовал от нас кропотливой анамнестической
работы вкупе с проективно-тестовой.
Это дело вкуса — отделять ли резко процесс эксквизиции от дальнейших работ с
полученным продуктом или же переходить к нему исподволь, незаметно. Решение о
переходе к собственно терапии принимается как под давлением нетерпеливого желания
продемонстрировать сомневающимся свою терапевтическую потентность, так и под
влиянием трезвых сомнений, достаточно ли мы данных вызнали, чтобы демонстрируемая
потентность не дала осечек. Ясно, что в процессе последующей работы мы постоянно
возвращаемся к эксквизиционным ходам. По ходу дела сам терапевтический процесс
превращается в часть анамнеза, что, в частности, помогает уточнить диагноз ex
juvantibus.
Казалось бы, имея в своем распоряжении потребные нам сведения, мы можем, опираясь
на них, начинать работу. Но не тут-то
231
было. Нам предстоит сперва совершить еще одно действие, исключительно важное и во
многом решающее для исхода терапевтического вмешательства.
ТРАНСТЕРМИНАЦИЯ
Даже имея в своем распоряжении отборный, исчерпывающий и в то же время
компактный, полностью нас удовлетворяющий эксквизиционный продукт, мы не сразу
переходим к непосредственной работе именно с ним. Вначале, на радость всем
участникам терапевтической ситуации, следует подумать о неоднократно уже
упоминавшихся удовольствиях от терапии. Эти удовольствия немыслимы без
измененного состояния сознания (далее — ИСС). Собственно, чаще всего это одно и то
же. Поэтому ясно, что забота теоретика и усилия практика нацелены именно на это.
Изменение состояния сознания — несомненно, повсеместно распространенный,
излюбленный элемент любой психотерапии. Не соблазнив пациента радостями такого
состояния, терапевту не следует и думать об успешном решении других задач, связанных
как с проблемами пациента, так и с его собственными, школьными в том числе.
Итак, транстерминация (лат. trans — через, terminus — граница) есть часть акции,
направленная на изменение состояния сознания пациента. Она имеет место в ходе любой
психотерапевтической процедуры и так или иначе отражена в большинстве школьных
теорий и практик.
Видимо, не случайно история психотерапии началась с гипноза. Главным содержанием
гипноза является основательная транстерминационная процедура, которая формирует
здесь психотерапевтическую ситуацию от начала и до конца. Она является почти
самодовлеющей, и лечебный эффект во многом ставился в зависимость от ее успешности,
измерявшейся глубиной погружения. Во всяком случае, так полагали авторы, работавшие
в так называемую эпоху Золотого века гипноза, и, описывая разные стадии глубины
гипнотического погружения (сомноленция, каталепсия, сомнамбулизм — по О. Форелю),
ставили себе в заслугу достижение пациентом последней, соответственно самой глубокой,
сомнамбулической, стадии.
Совершенно ясно, однако, что состояние сознания изменено не только при
форсированных транстерминационных техниках (гипноз, аутотренинг, медитация,
пневмокатарсис), но и в тех случаях, когда мы не имеем дело с процедурой, прицельно
направленной на такое изменение. Всякому понятно, что любой сдвиг в ощущениях и
восприятии ситуации может трактоваться как обретение пациентам ИСС и быть
соответственно предметом процедуры транстерминации, даже в том случае,
232
если она осуществляется не целенаправленно, а как бы незаметно.
Связь между глубиной изменения состояния сознания и терапевтическим эффектом
является частью мифа школ с выраженной, ясно прописанной транстерминационной
процедурой. Эту связь следует считать безусловно сомнительной. Ведь дело обстоит
таким образом, что именно самая транстерминационная терапия — классический гипноз
— подверглась самому энергичному вытеснению из поля психотерапевтического
сообщества. Решающую роль, как известно, здесь сыграл психоанализ, где
транстерминация оказалась так замаскирована, что ее мало кто мог обнаружить.
Гипнотизеры смогли вернуть себе утраченные позиции, только смягчив свой директивноманипуляционный
транстерминационный
радикализм
попустительскими
эриксонианскими аранжировками. Произошел также отказ от деления на стадии глубины
погружения. Разумеется, эти стадиальные выкладки мыслились как необходимые
показатели контроля за транстерминационной глубиной, якобы решающим фактором
терапевтической результативности.
Как уже сказано, есть множество техник, которые открыто осуществляют стратегию
целенаправленного формирования ИСС у пациента. Транстерминационная процедура в
них осуществляется основательно последовательно, подробно. Однако, если такая
процедура не прописана ясно в технических инструкциях того или иного метода, это вовсе
не значит, что в них изменения состояния сознания не происходит вообще. Наша задача,
помимо всего прочего, заключается в том, чтобы проследить, как осуществляется эта
часть акции в тех школах, где такая практика не осуществляется явно в рамках специально
предназначенного для этих целей действия.
Не составляет труда выделить две основные транстерминационные стратегии:
манифестную и латентную. Манифестная осуществляется в рамках явной,
форсированной процедуры, как в гипнозе, например, или же в пневмокатартической
технике, принятой в трансперсональной терапии С. Грофа. Латентная же стратегия
принята в школах, внешне как бы отказавшихся от явного использования в работе
целенаправленных усилий, которые совершаются с целью навести ИСС, скажем, того же
психоанализа. Мы, однако, стоим на том, что полностью этот элемент
психотерапевтического действия никогда ни из какой практики не исчезает бесследно, а
только переходит в иное, как уже сказано, латентное состояние, в различные
превращенные формы, что мы уже продемонстрировали.
Трактовка ИСС строится во многом на противопоставлении культурологического
порядка. Мир психотерапевтического действия —
233
мир иной культуры по отношению к повседневной, мир, противоположный рутинной
разрегламентированной обыденности. Обыденное сознание — то, с которым пациент
является к терапевту, озабоченное, рациональное, рефлективное. Иррациональность,
карнавальность, преодоление запретов — все это составляет неотъемлемую коренную
сущность психотерапевтической ситуации. Без всего этого терапия выглядит совершенно
непривлекательной.
Мы отдаем себе отчет в том, что, говоря, об измененном состоянии сознания, мы можем
судить об этой измененности только очень приблизительно. Не имея критериев так
называемого нормального состояния, не имея тем более способов “измерить” степень,
глубину, порой верифицировать сам факт изменения, мы можем говорить об ИСС только
условно. Таким образом, речь может идти только о направлениях транстерминации, об
определенных признаках, но никогда — серьезной дефиниции этого дела. Сознание
изменено только по сравнению с тем состоянием, что имело место к началу
терапевтического процесса. Исчисление глубины ИСС, количественных параметров
транстерминации — задача неблагодарная и бесполезная. Любая арифметика здесь
неуместна, возможны только очень приблизительные и грубые сравнительные прикидки.
Невозможно, помимо всего прочего, установить ясную зависимость, между
интенсивностью транстерминационного усилия терапевта и действительной глубиной
ИСС клиента.
Предлагая именно такой термин — “транстерминация”, “переход через границу”, мы
подчеркиваем, что корень этого действия в преодолении некоего барьера, отделяющего
так называемое нормальное состояние сознания от измененного. Параметры этого
измененного состояния могут быть самыми разными. Важен здесь сам момент перехода в
область, лежащую “по ту сторону”, хотя, разумеется, эта граница может быть нечеткой,
размытой, неопределенной и т. д. Тем не менее именно она может служить как объектом
терапевтического усилия, так и индикатором удачности транстерминации. Вообще же
ИСС следует рассматривать в известной степени как своего рода психотерапевтический
миф, созданный как внутри психотерапии, так и за ее пределами, но безусловно
необходимый для формирования любого школьного проекта.
ИСС, помимо прочего, является фактором, формирующим психотерапевтическую
ситуацию таким образам, что контроль над ней находится в руках у терапевта. Его
сознание остается (или должно оставаться) предельно ясным, так что в отличие от
пациента он ситуацию отслеживает и меняет. Ясно, что чем сильнее разница в
погружении в ИСС между терапевтом
234
и пациентом, тем сильнее влияние терапевта на ситуацию. Пример с гипнозом как с
“большой” транстерминационной техникой весьма отчетливо проясняет властные
соотношения в ходе процесса. Казалось бы, само собой разумеется, что контролировать
терапевтическую ситуацию должен ясный сознанием терапевт, в здравом уме и твердой
памяти. Однако история психотерапии показывает, что чем дальше, тем больше влиянием,
да и контролем в процессе терапии приходилось делиться. Погружение в ИСС вполне
может иметь место и у психотерапевта в процессе терапевтической работы, да так порой и
происходит. Транстерминационные техники вполне могут осуществляться параллельно,
то есть медитировать, к примеру, могут терапевт и пациент одновременно.
Околопсихотерапевтическая мифология стоит на том, что менять состояние сознания
клиента очень хорошо могут всякие шаманы, колдуны и еще кто-нибудь в этом роде. Как
известно, они сами не прочь оказаться при этом “по ту сторону”. Нетрудно представить
себе обоснование стратегии транстерминации терапевта, который, например, будучи сам в
ИСС, быть может, приобретет лучшие интерпретационные или суггестивные
возможности, чем вне его, да и сам вкусит от радостей транса.
Давно сложившийся в психотерапии миф об ИСС трактует его как однозначное благо.
Характеристики ИСС следует расценивать как крайне неопределенные, но их
привлекательность от этого не уменьшается. В первую очередь пациент, так сказать,
“расслаблен” и даже “спокоен”. Видимо, расслабление мышц гладкой мускулатуры,
расширение просвета сосудов — один из немногих объективно инструментально
фиксируемых показателей успешности транстерминационных процедур. Не расслабив
пациента, не введешь его и в ИСС. Очень непросто, хотя вполне возможно представить
себе ИСС-идеологию, основанную на формировании ощущения напряжения у пациента.
Стратегию транстерминации, основанной на движении в направлении прочь от
релаксации, следует, конечно считать рискованной для автора, сочиняющего новый
метод. Конкурентные гедонистически ориентированные транстерминации запросто
побьют и вытеснят такого автора с рынка. В лучшем случае, наверное, можно осторожно
говорить о чередовании напряжения и релаксации.
Кроме так называемой релаксации к характеристикам ИСС принято относить изменения
в сфере воображения. В трансе мы все — изощренные сновидцы, и видения, которые нам
являются, под влиянием ли терапевта, или без него, характеризуются раскованностью,
доступностью желанных объектов, в любом случае они обладают несомненными
эстетическими преимуществами
235
перед заурядными образами из повседневной реальности. В ИСС образы чаще всего
яркие, выпуклые, а в отдельных случаях даже могут быть расценены как ясновидческие.
Ничего такого в обычном состоянии сознания нам не увидать. Они, эти образы своим
богатством и красочностью явно свидетельствуют в пользу того, что транстерминация
оказывает исключительно благотворное влияние на личность.
Принято считать, что в измененном состоянии сознания работа воображения не скована
ничем и внутреннему взору открывается то, что скрыто от взора обыденного; ему открыт
доступ в миры, недоступные в заурядном состоянии. Кроме того, зачастую речь идет об
активизации возможностей, реализовать которые в обычном состоянии крайне трудно.
Крайне соблазнительные повествования об ученых, совершающих открытия во сне,
композиторах, сочиняющих симфонии, относятся к той же мифологии ИСС, что и
повествования о пациентах, которые в гипнозе обнаруживают способности, те, что им и не
снились в состоянии бодрствования, или вспоминают некие ключевые события, что было
бы невозможно в иных условиях. Порой вспоминаются подробности обстоятельств неких
преступлений, что помогает их таким образом раскрыть, а на этом, в свою очередь, могут
строиться практики юридических дознаний. Причем достижения во всех этих областях
приходят без особых усилий, вовсе не так, как это бывает наяву, когда приходится долго
трудиться или обучаться и напряженно стараться. Ну и в конце концов, пациент в ИСС
всегда в состоянии релаксации, так что представления о трансе нераздельно связаны с
мифом о досуге, праздности, отдохновении. Ясновидческие, творческие и т. д. достижения
в трансе лишены характера напряженного усилия, неизбежного в состоянии
бодрствования. Кроме того, терапевтическое понимание ИСС отчетливо связано с
давними представлениями о “переутомлении” как о главной причине всех болезней и,
соответственно, о целебном значении “отдыха”.
ИСС, ко всему прочему, есть как бы сфера свободы. В ИСС личность освобождается от
условностей, от требований повседневности. Безусловно, подобно невменяемому, человек
в этом состоянии ни за что “не отвечает”, он вне вины, морали, ответственности.
Понимание ИСС как “области свободы” может пролить определенный свет на очевидный
моральный износ такой практики, как классический гипноз. Несомненное противоречие
между гипнотическим трансом как состоянием свободы и директивно-форсированной,
кричаще “несвободной” по своему характеру процедурой бросается в глаза. Очень
нетрудно предположить, что именно такое противоречие в конечном итоге привело к
вытеснению традиционных гипнотических техник либеральными
236
эриксонианскими. Словом, суммируя всю научную житейскую мифологию, связанную с
ИСС, мы убеждаемся, что имеем дело со своеобразными представлениями об
утопическом
мире,
обретаемом
посредством
психотехнических
процедур.
Транстерминация так или иначе обозначает движение в сторону “утерянного рая”.
Без сомнения, транстерминация обладает самостоятельной ценностью, вплоть до того,
что сама по себе в отдельных ситуациях иногда может оказывать терапевтическое
действие и вызывать некий положительный или даже несомненный лечебный эффект.
Даже в тех случаях, когда мы имеем дело с рационалистически настроенным автором, с
подозрением относящимся ко всякого рода гипнотической, трансперсональной и прочей
“мистике”, все равно, присмотревшись пристальнее, видишь, что он тоже не прочь
ввернуть пациенту что-нибудь в этом же роде, хотя и избегает говорить об этом впрямую.
Зачастую проблема состоит как раз не в том, чтобы соблазнить пациента
транстерминационной процедурой, а в том, чтобы его потом избавить от стремления как
можно дольше пребывать в ИСС. Всем хорошо известны случаи “гипномании”,
стремления продлить “райскую ситуацию” анализа, сделать его “бесконечным”, или
болезненные переживания при завершении групповой терапии. Приходится тратить порой
усилия, чтобы вернуть пациента в так называемую “нормальную жизнь”, и совершенно
ясно, что эти трудности связаны не в последнюю очередь с лишением удовольствий от
ИСС, получаемых в процессе терапии. В сущности, если быть до конца честными,
транстерминационная практика реализует в законно приемлемом виде, к тому же
легитимированном необходимостью терапии, те же желания, что, например, и
наркомания. Релаксация плюс работа фантазии (безразлично, суггестивно ли, к примеру,
спровоцированная или проявившаяся спонтанно) роднят наркотический транс и
гипнотический.
Итак, есть практики, где отчетливо и выпукло представленная процедура
транстерминации бросается в глаза. Гипноз, аутотренинг, медитация, пневмокатарсис в
значительной степени соответствуют тому типу игр, который Р. Кайуа обозначил как
иллинкс (головокружение, см. выше). Однако, создатель психоанализа, например
отказавшийся из псевдорационалистических соображений от гипнотической процедуры,
сформировал обстановку сеттинга таким образом, что ее направленность на изменение
состояния сознания не вызывает никаких сомнений. В самом деле, вспомним: положение
пациента — лежа на кушетке, аналитик спиной к нему, зрительный контакт избегается.
Инструкция говорить первое, что приходит в голову, свободные ассоциации,
237
принцип невмешательства и т. д. Даже и думать не приходится, чтобы при всех этих
условиях состояние сознания осталось тем же, что и до начала сессии.
Транстерминационная природа терапевтической ситуации в самых разных видах
групповой терапии также не вызывает сомнения. Само по себе обстоятельство
нахождения в групповом кругу, обилие игровых ситуаций, специальные техники,
направленные на форсирование ощущений “здесь и сейчас”, разговоры о “чувствах”,
“эмоциях”, повышенное внимание к “телесности” — все это, конечно, приводит к ИСС
клиента, вводя его в мир особых ощущений, гарантирующих, как ничто другое, его
симпатию к тем методам терапии, где авторы уделили внимание транстерминационным
практикам.
Разнообразие транстерминации, к сожалению, небесконечно. К тому же дело обстоит
таким образом, что терапевты всех возможных направлений издавна по вполне понятным
соображениям жадно следят за всеми возможностями и новинками в этой области, не
упуская шанса подарить всегда в этих случаях благодарному пациенту что-нибудь новое в
этом роде. Тем важнее для нас основательная инвентаризация различных способов
транстерминации. В сущности, можно говорить о следующих разновидностях
транстерминационных процедур.
1. Дискурсивная транстерминация. Принята, в частности, в большинстве
гипнотических практик. В этой ситуации предполагается, что иное состояние сознания
становится предметом непосредственного обсуждения. Оно так или иначе тематизируется,
описывается, включается в рабочий договор. Чаще всего дискурсивная транстерминация
заключается в развернутом описании состояния, соответствующего, по представлениям,
ИСС. Здесь можно говорить о дискурсивно-дескриптивной процедуре и о дискурсивнометафорической.
Однако не только описание составляет содержание дискурсивной процедуры. В своей
теории речевых актов Дж. Остин (Дж. Остин, 1986) выделил наряду с описательными
также и перформативные (от англ. performance — действие, поступок, исполнение)
глаголы, которые не описывают действие, а сами как бы совершают его. К ним относятся,
к примеру, следующие: назначаю, прощаю, обещаю и т. д. Всякая гипнотическая песня
неизбежно включает в себя порцию речевых актов, построенных на употреблении
перформативных глаголов: я внушаю, вы изменяетесь, вы становитесь таким-то и такимто. Ясно, что перформативные глаголы могут использоваться отнюдь не только в
гипнотической песне, а, с равным успехом, и в других приемах. Однако чаще
проводником осуществляемых изменений являются, как уже сказано, дескриптивные
высказывания: ваши ощущения
238
такие-то, ваши мысли такие-то, вы видите перед своим внутренним взором то-то и т. д.
Дескрипция трансстатуса (так можно поименовать то со стояние, к которому
стремится терапевт, осуществляя процедуру транстерминации) есть один из наиболее
известных способов такой процедуры. Это может касаться (наиболее распространенный
вариант) как описания физиологических параметров (дыхание ровное, сердце бьется
спокойно, мышцы расслаблены, тепло в руках и ногах, а в области лба, натурально,
прохлада, ну и так далее), так и описания изменения переживания пространства и времени
(время течет медленно, комната увеличивается/уменьшается в размерах и т. д.).
Метафорическая транстерминация не сводится к директивному описанию желаемого
состояния, здесь пользуются обычно метафорами, означаемое которых и есть искомый
покой вкупе с вожделенным блаженством, а означающее — соответствующие образы
(моря, ручьи, небеса да, собственно, что угодно).
При этом важно подчеркнуть, что, в сущности, речь никогда не идет о простом
описании. Коктейль внушений для классического гипноза, как известно, готовится с
преобладанием директивных описаний, для эриксонианского — с преобладанием
недирективных метафор. Трансстатус есть то, что терапевт неизбежно восхваляет,
рекламирует, рекомендует в качестве целебного средства. ИСС, достигаемое в результате
процедуры, есть безусловное благо. Тексты гипнотических песен, иллюстрирующих это
очевидное положение у всех на слуху: “Вам очень приятно, испытываете блаженство,
ничто не беспокоит и т. д.”. Восхваление, или юбиляция трансстатуса, — есть самая
общая часть любого индуктивного дискурса. Здесь мы имеем дело с оценивающим,
аксиологическим подходом. Такого рода авторские интенции разделяют состояния на
“дурные” и “хорошие”. Конечно же, ни у кого нет сомнений в соблазняющекоррумпирующем характере всего этого дела.
Таким образом, в транстерминационном дискурсе мы можем выделить три
модальности, иначе говоря, три типа отношения текста к реальности: дескриптивный,
перформативный и аксиологический. Другими словами, текст, в частности, гипнотической
песни складывается из описания статуса, “восхваления” его и перемещения сознания
пациента по направлению к этому состоянию.
Однако терапевтическая результативность такого рода удовольствия, безусловно, не
является чем-то само собой разумеющимся. Всем известно, например, то обстоятельство,
что классическая гипнотическая процедура, максимально ориентированная на
гедонистический фактор, заменяется повсеместно
239
эриксонианской, сопровождающейся, как это принято считать, не столь глубоким
погружением в транс. Ориентируясь на пациентские радости, мы должны всегда иметь в
виду, что различным процессам получения удовольствия как таковым свойствен один и
тот же недостаток, а именно — все они рано или поздно приедаются и приходится думать
об изобретении новых. Очень хорошо это понимал, в частности, М. Арброс, автор метода
кайнэрастии (см. выше раздел “Виртуальные психотерапии”). Это еще один довод в
пользу того очевидного обстоятельства, что новые методы, а на их основе и новые школы
должны так или иначе появляться в полном соответствии с подзаголовком названия
нашего проекта.
Ведь необходимо иметь еще в виду и то, что транстерминационный эффект почти
всегда может ослабляться, истощаться в течение одного терапевтического курса. Нет
сомнений, что длительное повторение одних и тех же процедур, имеющих своей целью
ИСС, в конце концов приводит к истощению их действенности, рутинизации, износу,
моральному утомлению и т. п., о чем всегда надо помнить. Это соображение, кстати,
может послужить основательным доводом в пользу эклектически-синтетических
проектов. Неоднократная смена транстерминационной стратегии в ходе одного
терапевтического курса вполне может его оживить и сделать таким образом более
привлекательным.
Трансстатус, то есть состояние после пересечения барьера, отделяющего “нормальное”
состояние от измененного, может быть вполне естественным образом противопоставлен
цисстатусу, то есть состоянию пациента до начала процедуры. В этом контексте этот
цисстатус, конечно, никуда не годится, ибо именно в нем возникают симптомы и неврозы,
и поэтому вполне справедливо было бы предать его поруганию — диффамации. Такой
ход, разумеется, менее распространен, но имплицитно совершается весьма часто. Порой
говорят, к примеру, о “заботах и тревогах минувшего дня”, которые, конечно же, “уходят
прочь” под влиянием целебного слова, хотя бы на время проведения сеанса. Все же, как
это ни печально, следует помнить, что терапевтический процесс рано или поздно
завершится и пациент вернется обратно в свой мир. Как уже говорилось, этот мир, где
царит забота и напряжение, так или иначе противопоставлен утопическому,
карнавальному миру, открывающемуся “по ту сторону” барьера, отделяющего транс от
повседневного сознания. Трудный, сложный, агрессивный мир за пределами
терапевтического кабинета преподносится в процессе терапии как более дружелюбный,
простой, легкий. Хорошо, когда транстерминационная процедура помогает убедить
пациента именно в этом.
240
Другой дискурсивный путь заключается в дескрипции собственно перехода от
цисстатуса к трансстатусу. Иначе говоря, в фокусе текста, наводящего транс, не
столько описание и восхваление трансстатуса, но сам процесс перехода. Этот текст может
быть дискурсивно-директивным и дискурсивно-метафорическим. Метафоры, которыми
здесь неплохо бы пользоваться, должны не столько описывать новое состояние, сколько
очерчивать желанный переход. Это могут быть метафоры превращений, изменений,
совершающихся в природных условиях (какой-нибудь рассвет-закат, или переход от
ненастья к ведру, например), словом то, что и так легко придет в голову без нашей
подсказки.
Следует также иметь в виду, что не только содержательный аспект речи оказывает
действие, направленное на изменение состояния сознания. Внесодержательные речевые
характеристики, такие, как ритм и темп, а также “мелодика” играют существенную роль,
причем, ясное дело, далеко не только в гипнотических техниках. Психотерапевтическая
речь — это речь иного, потустороннего пространства, замедленная или особым образом
ритмизированная, риторически отделанная, назначение которой — открывать дверь в
иной, отличный от повседневного, мир.
2. Сенсорная транстерминация. Любое воздействие на органы чувств неизбежно
приводит к деформациям состояния сознания. В первую очередь следует говорить о
сенсорно-депривационной транстерминации. Лишая притока внешних импульсов какойнибудь из органов чувств, мы естественным образом вводим пациента в ИСС. Простое
закрывание глаз, принятое во множестве практик, в первую очередь гипнотических,
особенно же в традиционно затемненном помещении, лежит у истока всей
транстерминационной традиции. Изоляция зрительного анализатора, разумеется, не
является единственно возможным действием в этом направлении. Получается, что гипноз
построен на сочетании дискурсивной и сенсорно-депривационной транстерминации.
Однако в рамках того же гипноза мы можем пользоваться вовсе не только
депривационной формой воздействия на зрительный анализатор. Фиксация взора
пациента на блестящих предметах с целью погружения в транс есть тоже форма
сенсорной зрительной транстерминации.
Трудности с изолированием других органов чувств не являются непреодолимым делом.
Вовсе необязательно набивать вату в уши, но договорившись с участниками группы,
например, о речевом воздержании или изолируя пациента от внешнего мира в тихой
комнате в процессе какой-нибудь моритатерапии, мы осуществляем именно аудиальную
сенсорно-депривационную
241
транстерминацию, а вовсе не что-нибудь другое. Так называемые невербальные методы,
безусловно, построены на том, что индукция ИСС осуществляется через один из
сенсорных каналов. Они особенно хороши тем, что помимо изоляции конкретного
анализатора мы перекрываем важнейший канал поступления вербальной информации,
чего не происходит, например, при зрительной депривации. Обонятельная депривация
нам неизвестна, а проприоцептивная потребовала бы очень больших затрат (создание
условий невесомости, например), хотя, ясное дело, тут нет ничего невозможного.
Вовсе необязательно, однако, иметь в виду только депривационно-сенсорный аспект.
Воздействовать на органы чувств можно как угодно, в том числе и “ударно”, и это уже
будет стимуляционно-сенсорная транстерминация. Всяческая музыкотерапия, а также,
например, яркие световые воздействия, когда, например, на пациента воздействуют по
ходу гипнотической процедуры блестящими предметами, все это транстерминационные
ходы. Проприоцепция подвергается обработке различными телесно-ориентированными
приемами, гипнотическими и массажными пассами. Впрочем, здесь могут быть
использованы и танцы, да и просто ходьба.
Важно понимать, что сенсорно-депривационные приемы, особенно гипнотические,
проводят между пациентом и терапевтом невидимую черту. “Зрячий”, с ясным рассудком
терапевт неизбежно противопоставляет себя “слепому” пациенту, опьяненному ИСС.
Психотерапевтическое пространство полностью в его, терапевта, власти, с клиентом же
чаще всего даже не советуются, от него требуется только податливость и
“гипнабельность”. Такая оппозиция неизбежно ведет к появлению энергичного
сопротивления.
3. Абсурдная транстерминация. Этот способ хорошо известен тем, кто строит
терапию на типах поведения, не принятых в обыденной жизни. Здесь можно вспомнить,
например, парадоксальную интенцию В. Франкла. Без сомнения, любое предписание
симптома построено не в последнюю очередь на допущении, что неожиданное поведение
терапевта приведет к своеобразному шоку. С другой стороны, работа в стиле
“терапевтического безумия” К. Витакера (C. Whitaker, 1975), в стиле трикстера, группы,
проводимые с обнажением участников, все это так или иначе связано с изменением
состояния сознания через ситуационный абсурд.
Здесь же можно вспомнить, например, ЭСТ-терапию В. Эрхарда, которая
сопровождается, как известно, употреблением ненормативной лексики, и проводится в
духе агрессивного отношения к клиенту. Фраза вроде: “Переживание, жопы!.. вы
242
столько живете в своих ебаных (так у автора. — А. С.) умах, что вероятно, никогда не
жили в доме за свою жизнь” — без сомнения, может быть расценена как сильный
транстерминационный ход (Л. Рейнхард, 1994, с. 26). Предполагается, конечно, что
отправляющийся на консультацию или тренинг клиент менее всего может ожидать, что с
ним будут обходиться таким образом или в работе с ним будет употребляться подобная
лексика. Ясно, что всякая неожиданность, исходящая от терапевта, есть шаг по
“королевской дороге” в сторону абсурдной транстерминации. Как высказался по этому
поводу Ф. Фарелли: “Выражение терапевтической ненависти и веселого садизма по
отношению к клиенту заметно идет ему на пользу.” (Ф. Фарелли, Дж. Брандсма, 1996, с.
61). Все это взламывает традиционную, так сказать, медицински-филистерскую,
официально регламентированную конвенцию, заключаемую обычно между пациентом и
терапевтом, и выглядит очень действенным и привлекательным.
Ясно, что к абсурдно-транстерминационным процедурам может быть отнесена
известная эриксонианская техника “запутывания”, когда в текст гипнотической песни
включаются отрывки, лишенные логической последовательности, изначально
заимствованные, как известно, из текстов шизофреников.
В гештальттерапии, без сомнения, техника “пустого стула”, равно как и другие техники,
например, те, в которых клиент отождествляет себя с отдельными частями своего тела или
с предметами, приснившимися ему во сне, вполне могут быть отнесены к абсурдным
способам изменения состояния сознания.
Уж если речь зашла о мебели, то, без сомнения, нелишне вспомнить и о
психоаналитической кушетке. Конечно, в повседневной жизни редко долго беседуют,
находясь в таком положении. Прибавить сюда еще и аналитика, сидящего за спиной
клиента, ведущего разговор без прямого зрительного контакта — и, пожалуйста, ситуация
выглядит с точки зрения обыденного сознания достаточно абсурдно. Быть может, в этом
был один из секретов успеха психоанализа — в этом безусловно абсурдном способе
формирования ИСС.
Незаурядность и театральность терапевтической ситуации, вызов привычному образу
мыслей и способу действовать, карнавализация обстановки не могут не изменить сознание
пациента. В сущности, любое нетривиальное поведение терапевта действует в этом
направлении. С другой стороны, совершенно ясно, что любая речевая, поведенческая и
т. д. банальность противопоказана терапевтической работе, и противопоказана именно с
точки зрения транстерминационной необходимости, насущно испытываемой
психотерапией вообще.
243
Необходимо также иметь в виду, что абсурдное поведение имеет отношение вовсе не
только к одним лишь пациентским удовольствиям. “Терапевтическая ненависть” и
“веселый садизм”, о которых пишет Ф. Фарелли, разумеется, служат большим
искушением для терапевтов, которые, конечно, никогда не пройдут мимо возможности
карнавализировать свою терапевтическую работу. Очень трудно противостоять желанию
устроиться так, чтобы еще, ко всему прочему, иметь возможность реализовывать в
процессе терапии свои собственные агрессивные и асоциальные склонности. Невозможно
представить себе доводы, которые ставили бы под сомнение целебность терапевтического
абсурда, точнее говоря, по понятным причинам трудно поверить, что терапевты стали бы
к ним всерьез прислушиваться. Всякому ясно, что рекрутировать себе последователей,
суля им радости абсурда в процессе терапии, будет нетрудно.
4. Эмоциональная транстерминация. Нет сомнений, что любое переживание эмоций
вообще может быть расценено как изменение состояния сознания по сравнению с тем, что
было до возникновения той или иной эмоции. Крайняя неопределенность такой
постановки вопроса не должна ставить нас в тупик. С одной стороны, невозможно не
испытывать эмоций. С другой, каждая терапевтическая ситуация создает контекст для
разговора о конкретных эмоциональных движениях, и как раз работа по продвижению
пациента в этом направлении может быть расценена как транстерминация. Все
существующие терапии уделяют пристальное внимание именно эмоциональному фактору.
Расплывчатость границы между присутствием эмоций и их отсутствием в значительной
степени облегчает наши действия в этом направлении. Эта работа может попросту
свестись к простой фиксации или констатации наличия тех или иных эмоциональных
переживаний. Лучше же, однако, создавать такие ситуации, когда терапевтическая
ситуация целенаправленно приобретает тот или иной эмоциональный окрас, что и
происходит, например, в групповых играх, в психодраме и т. д. Дело не в том, чтобы
“запустить” ту или иную эмоцию в пространство терапевтического процесса, дело порой
заключается в том, чтобы убрать препятствия с ее пути. Во множестве терапий
разработаны специальные техники, вроде тех, что направлены на обострение внимания к
ощущениям “здесь и сейчас”. Много терапевтических ходов построено на
противопоставлении “чувств” и “разума”, и, разумеется, любой толковый терапевт всегда
“адвокат” эмоций и индивидуального опыта, вроде того, как это происходит, например, в
гештальттерапии или как это делает жестко обращающийся к “жопам” уже
упоминавшийся В. Эрхард. “Рационально-разумное” подвергается неизбежной в этом
контексте
244
диффамации, ибо препятствует, по соображениям таких терапевтов, манифестации
эмоций. Любое действие в пользу “чувства” приветствуется, и очень, очень трудно
представить себе такую идеологию, которая была бы построена на противоположных
представлениях. Даже рационалистически ориентированные когнитивно-бихевиористские
терапевты очень стремятся быть “рационально-эмотивными” или вовсю стараются
заключить эклектически-синтетические браки с гуманистическими и глубиннопсихологическими методами. Голая рациональность, как мы хорошо усвоили, неизбежно
ведет любую психотерапию к вырождению и гибели.
5. Комически-смеховая транстерминация. Вполне может рассматриваться в качестве
частного случая как эмоциональной, так и абсурдной. Понятно, что, противопоставленная
повседневной серьезности, любая смеховая ситуация в любом терапевтическом контексте
неизбежно может рассматриваться как имеющая отношение к ИСС. На
противопоставлении карнавально-смеховой культуры культуре обыденно-официальной (в
духе идей М. М. Бахтина) строится в психотерапии очень многое, особенно в работе с
эмоциональными факторами.
6. Физиогенная транстерминация. Сознание пациента можно очень хорошо менять
путем разного рода физиологических воздействий. Это могут быть, например,
фармакологические препараты, влияющие на различные аспекты сознания. Примером
здесь может служить использование психотропных препаратов в наркоанализе или
наркотика ЛСД в терапии по С. Грофу. Сменивший ЛСД пневмокатарсис — способ
перехода в транс путем форсированных дыхательных движений — тоже может быть
записан в разряд физиогенных транстерминационных процедур. Ясно любому, что
многообразие препаратов, которые могут быть использованы в этом смысле, никак не
ограничено.
Здесь важны, без сомнения, соображения относительного комфорта, которые
обеспечивают терапевту физиологически ориентированные транстерминационные
средства. В то время как интенсивное дыхание или фармакологические препараты делают
свое дело, терапевту остается отслеживать ситуацию и присоединяться к процессу,
который идет отчасти без непосредственного приложения его усилий, что само по себе
тоже ценно.
7. Идеологически ориентированная транстерминация. Тематическое наполнение
терапевтического процесса, безусловно, может вызывать изменение сознания у пациента.
Несомненный эффект в этом смысле достигается, например, в экзистенциально
ориентированных терапиях, скажем, в процессе бесед о смыслах и ценностях. Открытие
новых экзистенциальных перспектив,
245
изменение картины мира, включение личности в целое более крупных размеров, да,
собственно любая идеологическая перестройка неизбежно влекут за собой определенное
ИСС. Особенно хороши в этом смысле оккультно-мистические и религиозные
психотерапевтические идеологии, даже если они не сопровождаются соответствующими
ритуалами. Несомненно, такая идеология, открывающая путь для восприятия
“трансцендентного как имманентного” (К. Ясперс) — питательная почва для ИСС.
Понятно, что сопутствующие таким идеологиям аскетические или ритуальные практики
тоже не могут не оказывать серьезного влияния на клиента в том же направлении.
8. Ситуационная транстерминация. Сама мизансцена психотерапевтического
пространства, сам факт пребывания в психотерапевтической ситуации могут оказывать
некое действие в обсуждаемом нами смысле. Определенную роль играет своеобразное
оформление психотерапевтического кабинета, которое, в соответствии с идеологией
терапевта, с образом метода, может быть и мистически-оккультным, и медицинскистерильным, и богемно-небрежным. Да порой можно даже и не стараться с декорациями,
костюмами и бутафорией, ибо сама по себе ситуация попадания клиента в
терапевтический кабинет может оказать на него определенное незаурядное впечатление.
То же самое можно сказать и о ситуации в групповом кругу.
Ситуационная транстерминация связана также с соображениями количества участников
терапии. Принято считать, что при определенных обстоятельствах степень ИСС
возрастает как бы пропорционально количеству участников процесса. Эти представления
связаны так или иначе с распространенными представлениями о “психологии масс” в духе
Г. Ле Бона, Э. Канетти и др. Вкратце эти представления сводятся к тому, что
принадлежность к большой массе ослабляет контроль сознания, индивидуальную
ответственность. Коллективный характер терапии может расцениваться как род
ситуационной транстерминации.
Особенно же явно ситуационная транстерминация проявляется, как уже говорилось, в
терапиях, основанных на изоляции пациента в одиночестве на длительное время.
Например, в условиях морита-терапии предполагается помещение пациента в
изолированное пространство с последующим постепенным возвращением обратно к
заурядному режиму коммуникации и жизнедеятельности (см. Б. Д. Карвасарский, 1985, с.
157—161).
9. Эстетическая транстерминация. Разумные терапевты очень часто прибегают к
испытанному способу ввести в ИСС, такому, как многочисленные виды искусства. Нет
такого вида, жанра и т. д., который не мог бы быть использован для терапевтических
целей. Театр и музыка, танец и живопись, любое эстетическое
246
переживание неизбежно является изменяющим сознание того, кто его переживает.
Собственно, речь вовсе не идет только об арттерапевтических практиках, хотя, конечно,
и о них тоже. Понятно, что любой из видов искусства так или иначе провоцирует ИСС.
Однако любая эстетизация терапевтического процесса или даже материала, сообщаемого
пациентом терапевту, любой разговор на тему о “прекрасном”, “возвышенном”, тоже так
или иначе может оказывать действие все в том же интересующем нас направлении.
Ядром эстетической транстерминации является, безусловно, катартический механизм.
Он включен в сердцевину любой художественной практики. Перемещение всего
“катарсис-содержащего” в сферу психотерапии является делом само собой
разумеющимся.
Здесь также немаловажны те преимущества, которые дают арттерапевтическая практика
и эстетическая идеология терапевту, который благоразумно делает выбор в пользу этого
дела. Он, продолжая заниматься терапией, становится при этом “художником”, обогащая
и расширяя очень существенно свой образ в глазах клиента. Позиция арттерапевта тем
удобнее, чем более он подчеркивает, что не стремится к достижению именно
художественных целей или тем более — к формальным достижениям.
Видимо, даже и не надо говорить о том, что все виды транстерминации можно
сочетать друг с другом как угодно и в каких угодно пропорциях. Здесь, как и во всех
других случаях реализации синтетически-эклектического проекта, следует помнить об
известном, уже не раз приводившемся нами правиле: “Все, что угодно, сочетается со всем,
чем угодно, и применяется, к чему угодно, до тех пор, пока не окажется, что это сочетание
в каком-то случае не годится”. Однако мы очень плохо представляем себе, как можно
выяснить негодность любого сочетания.
Следует также выделить различные аспекты транстерминации, которые не имеют
отчетливых рамок целенаправленных процедур. Они вплетаются в ткань терапевтического
действия сами по себе, они как бы принадлежат этому процессу.
Попустительский аспект (laisser-faire). Совершенно ясно, что трансстатус есть,
безусловно, область внутренней свободы. Личность клиента в измененном состоянии
сознания как бы противопоставлена ей же самой, но находящейся в обыденном рутинном
цисстатусе. С этой точки зрения любая либерализация психотерапевтического процесса
является несомненным благом и соответствует внутренней логике этого процесса.
Естественной с этой точки зрения выглядит смена традиционной гипнотической стратегии
на эриксонианскую. Нельзя вести к свободе через форсированное агрессивное
принуждение, через
247
банальное прямолинейное передвигание по направлению к “по ту сторону”.
Без сомнения, любая попустительская инструкция, вроде уже много раз упоминавшейся
психоаналитической — “говорить, что приходит в голову”, — сама по себе имеет
транстерминационное значение, ибо противостоит стереотипу повседневного речевого
поведения, где как раз первое, что приходит в голову, говорить не приходится.
Консоционный аспект. Без сомнения, само по себе формирование некоей особой связи
между терапевтом и клиентом не может не изменить состояние сознания последнего. В
том же случае, если эта связь имеет эротический оттенок, то есть если речь идет о
переносе или “терапевтической любви” (а речь об этом идет очень часто) то, ясное дело,
транстерминация будет еще более глубокой, чем безо всего этого. Вообще, эротический
аспект ИСС вполне мог бы стать темой отдельного небезынтересного исследования, а
некие ограниченные эротически окрашенные действия (но, конечно, не сексуальные)
могли бы составить основу незаурядной транстерминационной процедуры. Безусловное
положительное отношение, воспетое К. Роджерсом, является, как мы уже говорили,
исключительно выигрышным элементом консоции. Выигрышность его определяется,
видимо, не в последнюю очередь тем, что это явно выраженное транстерминационное
действие.
Харизматический аспект. Конечно, настроенность на исключительные свойства
терапевта, наличие особых, “не от мира сего” черт в его образе неизбежно оказывают
транстерминационное воздействие. Собственно, все харизматическое хозяйство имеет
своей целью не что иное, как формирование ИСС. Это, разумеется, если рассуждать с
точки зрения потребностей пациента. Зачем нужно харизматическое для терапевта, мы
уже подробно обсудили. Никаких сомнений — “королевская дорога” к обретению
влияния в психотерапевтическом мире — через измененное состояние сознания, что не в
последнюю очередь осуществляется благодаря харизме терапевта.
Окидывая мысленным взором психотерапевтический мир в целом, мы не можем не
заметить, сколь многим образ любой школьной психотерапии обязан именно
транстерминационному фактору. На что только не идут терапевты, лишь бы что-нибудь
сделать в этом направлении. Ради приведения пациента в ИСС его усыпляют или
заставляют танцевать. Одни долго пытаются расслабить пациента, завывая
неестественным голосом о том, как ему станет хорошо от этих завываний. Другие заводят
веселые игры с детской возней и беготней. Третьи ведут проникновенные беседы о
“высоком”, “прекрасном” и т. п. Некоторые
248
пытаются любой ценой рассмешить клиента, другие пичкают его наркотиками. Ему дают
слушать невероятную музыку, которую он в другой обстановке не стал бы слушать
никогда, и заставляют под нее усиленно дышать. Его удаляют в некое уединение или
наоборот, вытаскивают на люди. Ради достижения поставленных целей украшают
кабинеты мистической символикой или бьют в бубны, раскрашивая себя под шаманов.
Самые веселые раздевают на группе пациентов донага или осыпают их непечатной
бранью, но, как бы они ни старались, это всего лишь иная, пусть маргинальная, ипостась
самого что ни на есть банального, “филистерского” гипноза.
Видимо, очень сильна потребность терапевтического процесса, как такового, в
транстерминации. Именно она, эта потребность, заставляет авторов методов лезть из кожи
вон. Такое сильное терапевтическое средство, как харизма, совершенно ясно,
предназначено в первую очередь для удовлетворения именно этой потребности. Вся
организация
терапевтической
деятельности
обусловлена
необходимостью
транстерминации, в значительной степени подчинена этой необходимости. Измененное
состояние сознания и процесс, его обеспечивающий, — транстерминация правят
психотерапией.
Помимо всего прочего, потребность в транстерминации связана с вполне очевидным, на
наш взгляд, обстоятельством. Напомним, традиция прицельного формирования ИСС идет
от гипноза. Именно в классическом гипнозе терапевт осуществлял максимальный
контроль над терапевтической ситуацией, в то время как пациент играл исключительно
пассивную роль. Власть терапевта над пациентом осуществлялась не в последнюю
очередь благодаря разнице в их, так сказать, уровнях бодрствования: ясное сознание
терапевта было противопоставлено гипнотическому “опьянению” пациента. Видимо,
существует определенная связь между стремлением терапевта управлять клиентом, с
одной стороны, и проектируемой глубиной трансстатуса, с другой: чем глубже этот
статус, тем прочнее владеет терапевт ситуацией.
Думая о транстерминации, мы должны иметь в виду то, что любому методу надо еще и
обучать терапевтов в процессе разного рода тренингов. Естественно предположить, что
ИСС сознания, которое обучающийся вкусит в процессе обучения, будет одним из
несомненных дополнительных доводов в пользу преподаваемой нами терапии.
Предусмотрев транстерминационные удовольствия, мы таким образом намного вернее
склоним кого угодно в пользу нашей терапии, чем те, кто упрямо пытается обойтись без
этого.
Да, очень многое терапевты сделали для того, чтобы транстерминация считалась
основным элементом психотерапевтической
249
акции, и к этому надо отнестись с пониманием. Всем необходимо измененное состояние
сознания клиента. Все хотят это делать сильно и успешно. В самом деле, очень велико
искушение считать, что важнее этого ничего нет. Глядя на пестрое разнообразие
транстерминационных практик, на их огромный удельный вес в терапевтическом
процессе, поневоле начинаешь считать, будто это самая главная составляющая в
структуре акции, если, в самом деле, столько усилий тратится на все эти вещи.
Так вот нет же. По нашему глубокому убеждению, транстерминация есть только
вспомогательный элемент терапевтической акции. Сама по себе она едва ли окажет
решающее принципиальное терапевтическое действие, разве что в исключительных
случаях. Ее назначение в том, чтобы обеспечивать, облегчать совсем другой элемент
акции. Конечно, можно предположить, что само по себе измененное состояние сознания
является в отдельных случаях терапевтически действенным. Однако именно та, другая
часть, о которой пойдет речь ниже, является основной, результативной, является, в
сущности, терапией как таковой.
КОНВИНКЦИЯ И ДИЗВИНКЦИЯ
В различных терапиях описаны разные варианты одних и тех же, основных, на наш
взгляд, технических процедур. Первая заключается в том, что продукт эксквизиции
увязывается с некими коррелятами и это рассматривается как терапевтический эффект.
Другая операция заключается, наоборот, в разрыве некоторых связей, которые в рамках
концепции данной школы объявляются “патологическими”. Формирование связей —
конвинкция, и разрыв их — дизвинкция — вот две основные собственно терапевтические
операции, которые мы можем выделить в структуре акции независимо от их школьного
происхождения (см. также выше, раздел “Рефекция”). Поскольку они часто присутствуют
одновременно внутри конкретной процедуры, имеет смысл рассматривать их вместе.
В отличие от транстерминации, проект винкционных действий заложен в той части
школьной теории, которую мы обозначили как “рефекция”. Разные школы основаны на
разных представлениях о природе связей между симптомом и факторами, его
вызывающими, равно как и о способах построения этих связей. Имеет смысл
рассматривать рефекционную и процедурную части построения связей синхронно, что мы
и собираемся сделать. Беглый обзор школьных терапий ясно демонстрирует различие в
подходах к построению связей между продуктом эксквизиции и различными коррелятами.
250
Так, психоанализ построен на установлении связи между симптомом и некоей травмой,
коренящейся чаще всего в инфантильно-сексуальной сфере. Технически эта связь
осуществляется через интерпретацию продукта, полученного в результате длительной
эксквизиционной процедуры. Осознание причины есть построение связи между
симптомом и неким его коррелятом. Происходит это, как известно, путем устранения
вытеснения. Технические подробности также широко известны: кушетка, отсутствие
прямого зрительного контакта, правило невмешательства, свободные ассоциации,
интерпретация ассоциаций.
Индивидуальная психология А. Адлера в противовес психоанализу основана на
понимании поведения не как причинно обусловленного, но направленного к некоей цели:
“...очень легко понять разного рода душевные побуждения, признав в качестве самой
общей их предпосылки то, что они имеют перед собой цель достижения превосходства”
(А. Адлер, 1995, с. 27). Речь идет о “...тяготении невротика к внешнему превосходству, а
не к реальному” (там же, с. 61). При этом “раскрытие невротической системы или
жизненного плана является наиболее важной составной частью терапии” (там же, с. 74).
Конечно, формулировка столь важных принципов позволила А. Адлеру не уделять
пристального внимания вопросам техники, о которой нам известно лишь то, что она
проходит в виде “дружеской, непринужденной беседы, в которой всегда рекомендуется
уступать лидерство пациенту” (там же, с. 77).
Амплификация в аналитической психологии К. Г. Юнга противопоставлена
фрейдовской редуктивной процедуре поиска причин и предполагает “расширение и
углубление картины сновидения посредством направленных ассоциаций с параллелями из
символической и духовной истории человечества (мифология, мистика, фольклор,
религия, этнология, искусство и т. д.), благодаря чему смысл сновидения становится
открытым для интерпретации (C. G. Jung, 1982, s. 408). Речь идет, таким образом, о
построении связей между продуктом эксквизиции (картина сновидения) и некими
коррелятами. Подробности технической процедуры при таком сочинительскотеоретическом размахе, свойственном Юнгу, как отмечалось уже и в других случаях, не
имеют существенного значения.
В когнитивной терапии речь идет о коррекции ошибочных умозаключений, иначе
говоря, связей между посылкой и выводом. Поведенческая терапия, например техника
систематической десенсибилизации Дж. Вольпе (J. Wolpe, 1973), построена на
уничтожении условно-рефлекторной связи между симптомом и обстановкой, в которой он
манифестирует.
251
Техники нейролингвистического программирования построены на разрыве связей
нежелательных способов поведения и частей личности и построении связей, которые сам
клиент рассматривает как приемлемые. Например, техника шестишагового рефрейминга
складывается из последовательных винкционных действий. Здесь вначале необходимо
установить коммуникацию с частью, “ответственной” за нежелательное поведение, после
чего отделить этот нежелательный поведенческий стереотип от той цели, которую он
преследует. Затем следует выявить несколько вариантов приемлемого поведения, которые
способствовали бы достижению тех же целей, что и нежелательный стереотип. Той части,
что была ответственна за нежелательное поведение, предлагается взять на себя
ответственность за новые варианты и т. д. (см.: Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, 1995, с. 143—
144). Даже такое приблизительное изложение обнаруживает последовательность
дизвинкций (отделение поведения от намерения) и конвинкций (часть берет на себя
ответственность за новые способы поведения).
Создатель гештальттерапии Ф. Перлз так определяет различие между
психоаналитической конвинкцией и гештальттерапевтической: “...В отличие от
ортодоксальных аналитиков, мы осуществляем челночное движение не между памятью и
ассоциациями, а между переживанием воспоминания, с одной стороны, а с другой —
восприятием реальной ситуации, в которой клиент находится в данный момент” (Ф.
Перлз, 1996, с. 110).
Ясно,
что
не
составляет
никакого
труда
продолжить
перечень
связесозидающих/связеразрушающих операций, принятых в других школах и техниках.
Однако и без этого понятно, что, в сущности, каждая школьная терапевтическая
практика основана на построении или разрушении неких связей, так что концепции
дизвинкций и конвинкций адекватно описывают терапевтическую реальность и вполне
могут расцениваться как структурно неизменный элемент психотерапевтических
методов.
По известному речению М. Хайдеггера, “Denken heisst verbinden” — “Думать — значит
связывать”. Работа со связями, точнее с их построением и разрушением, является
важнейшей частью любого школьного психотерапевтического мифа. Дать возможность
строить терапевтически действенные связи, которые, в свою очередь, разрушают связи
патологические, — вот что, в сущности, надо иметь в виду любому теоретику,
изобретающему новый метод.
Школьный миф формируется таким образам, что винкционным процедурам придается
статус терапевтически действенной практики. Каждая школа, согласно своему мифу,
излечивает
252
в первую очередь именно своими винкциями, а вовсе не измененными состояниями
сознания. Пациенту это тоже втолковывается в рамках рефекционно-акционной легенды,
иначе говоря, при разъяснении смысла и порядка процедуры. Легенда эта может быть
преподнесена, к примеру, в процессе диалога клиент — терапевт. На вопрос, заданный,
скажем, аналитически ориентированному терапевту: “Доктор, неужели, если я осознаю
связь между симптомом и причиной, его вызывающей, болезнь пройдет?” — единственно
правильным ответом всегда будет: “Да, конечно! И никак иначе!”
Если есть терапии, которые обходятся без транстерминации (когнитивная, например),
то безвинкционных терапий нет и не может быть даже в тех случаях, когда на внешнюю
картину, на образ терапевтической акции в большей степени влияет транстерминационная
ее часть (как в гипнозе, например). Серьезная потребность в хорошей винкционной части
школьной акции налицо. Сколько ни возись с измененными состояниями сознания, сами
по себе они, кроме удовольствий, никакого ощутимого результата, скорее всего, не
принесут. Усложнение, обогащение систем винкционных процедур со времен
классического гипноза и рациональной психотерапии до нынешнего уровня, когда они
сконструированы исключительно богато (НЛП, например), налицо. Тот, кто задумывается
о сочинении собственного метода, может пренебречь всем, кроме этого. Что же надо здесь
в первую очередь иметь в виду?
Итак, первым делом мы пытаемся представить результат эксквизиционной
процедуры как нечто такое, что содержит в своей структуре некие связи (или
отсутствие таковых), разорвать которые (или построить недостающие) нам
предстоит. Иначе говоря, результат исследования пациента должен быть скомпонован
как материал, подходящий для винкционных действий.
Собственно, все известные сочинители школьных теорий давно так и поступают.
Повсеместно распространенное в психотерапии понятие комплекса (complexus — лат. —
связь, сочетание) как раз и есть проявление такой тенденции, а именно желания иметь
дело с чем-то сподручным для распутывания-развязывания-разрешения. Исследователи
глубиннопсихологического направления во множестве продуцируют концепции
“комплексов” со вполне понятным рвением. Известны комплексы Антигоны, Гризельды,
деда, Дианы, Иокасты, Каина, кастрационный, Медеи, неполноценности, Ореста, Федры,
Эдипа, Электры (см.: В. М. Блейхер, И. В. Крук, 1995, с. 255—257).
В понятии “комплекс” имплицитно присутствует указание на некую “сложность”, что
определяет известную кропотливость
253
процедуры по “распутыванию”, что, в свою очередь, неизбежно обрекает нас на
проведение долгосрочной терапии. Так что понимание дефекта как комплекса есть в
первую очередь повод для подробной работы.
Есть связи — значит, есть что распутывать. Под стать “комплексу” — “анализ”,
исходная для всей психотерапии винкционная процедура. Сам термин происходит от
древнегреческого analysis (разложение, расчленение, но и освобождение, избавление).
Говоря об исходном значении глагола analyein (развязывать, распутывать, освобождать),
М. Хайдеггер напоминает в ходе своих семинаров в Цолликоне, как этим словом в
гомеровской Одиссее обозначалось то, что Пенелопа делала в ожидании мужа, распутывая
по ночам саван, который плела днем для свекра, оттягивая тем самым срок выбора нового
жениха (M. Heidegger, 1988, р. 79). Деятельность в рамках любого психотерапевтического
анализа, независимо от его принадлежности к какому-либо подходу, исчерпывающе
описывается в представлениях о формировании одних и разрушении других связей, своих
для каждой из школьных парадигм.
Так, концепция патологии в поведенческой терапии основана на представлениях об
условных рефлексах — связях, формирующихся при определенных, подкрепляющих эти
связи, условиях. Терапевтическая стратегия здесь, естественно, направлена на разрушение
условнорефлекторных
патологических
связей,
затухающих
при
отсутствии
“подкрепления” либо при сшибке. С другой стороны “полезные” навыки могут
вырабатываться и закрепляться посредством “оперантного подкрепления”.
Клиническая действительность сама по себе предоставляет в распоряжение терапевтов
вполне реальные связи между симптомом и фактором, его обусловливающим. Страхи при
фобиях связаны с вполне конкретными обстоятельствами, и только с ними. Скажем,
агорафобия — страх открытых пространств. Истерический симптом тоже имеет
различные винкционные аспекты, в первую очередь так называемую условную выгоду, то
есть некую цель, которую истерик преследует, демонстрируя окружающим свое
расстройство. Иначе говоря, мы имеем тут дело с телеологической связью. Основное
расстройство при шизофрении — схизис, расщепленность — может дать повод для
конвинкционных действий, стратегически нацеленных на преодоление этого
расщепления. При различного рода зависимостях, как-то: алкоголизм, наркомания и т. п.
— мы безо всяких дополнительных построений получаем в свое распоряжение готовый
продукт для дизвинкционных процедур, а именно мощную связь между индивидом и тем,
от чего он зависит.
254
Однако не только одни лишь связи привлекают нас в структуре эксквизиционного
продукта, подлежащего терапевтической обработке. Такие патологические реалии, как
экзистенциальная пустота, провал в Я, нарцистический дефицит, указывают на наличие
пустоты, провала в структуре дефекта. Другая подходящая для винкционной процедуры
структура, употребляемая в теории гештальттерапии, — незавершенный гештальт,
мешающий “фигуре” перейти в “фон”. “Незавершенность”, расщепленность, зияние,
провал, дефицит, разброд частей личности и т. д. — все это, понятное дело, нудит
терапевта к совершению воссоединяющих действий, направленных на преодоление
пустоты, ликвидацию дефицита, интеграцию частей и т. п. Таким образом, не только
наличие связей в эксквизиционном продукте, но и разрыв в связях, отсутствие их
являются достойным поводом для сочинения концепций терапевтического вмешательства,
что, собственно, повсюду и происходит. Мы можем тут выделить два типа
эксквизиционного продукта, который годится в дело, а именно: плекса и раптура (лат.
plexus — сплетение, raptura — разрыв). Плекса указывает на наличие в структуре
эксквизиционного продукта неких, подлежащих разрыву, связей (комплексов), а раптура,
соответственно указывает на наличие пустот и разрывов. Соответственно, плекса является
поводом для дизвинкции, а раптура — для конвинкции. Как мы убедимся ниже,
дизвинкция — более распространенная операция, и поэтому с плексой в школьных
теориях встречаются намного чаще, особенно же часто говорят о комплексах.
Итак, осуществив перевод текста, описывающего клиническую реальность, с языка
симптомов и жалоб на язык, репрезентирующий винкционную структуру, мы беремся,
наконец, за дело. Аспектный анализ конвинкционно-дизвинкционных практик должен, на
наш взгляд, полностью прояснить картину того, что же мы, в конце концов, делаем,
занимаясь психотерапией.
Дискурсивный аспект. В отличие от транстерминационного дискурса, винкционный не
является описывающим или предписывающим. Его цель не описание трансстатуса или
процесса перехода к нему, а построение/разрушение связей. Наша стратегия здесь носит
конкретно-реальный, привязанный к ситуации характер. Вводя пациента в измененное
состояние сознания, мы описываем или формируем некий возможный, порой
утопический, мир. Разрушая или строя связи, мы вынуждены отталкиваться от
реальности, картину которой получаем в результате эксквизиционных действий.
Конвинкции, лежащие в основе стратегии аналитической терапии, не являются сами по
себе законченными и самодостаточными действиями. Когда мы пытаемся выстроить связь
между
255
симптомом и травматическим событием, которое детерминировало этот симптом, то
понимаем, что это построение связи не является самоцелью. Оно, в свою очередь,
направлено в конечном итоге на разрыв того, что мы сочли патологической связью.
Например, установленная связь между симптомом и первичной травмой сама по себе
разрушает связь между тем же симптомом и ситуацией, в которой он манифестирует,
скажем, при фобии. Конвинкция, таким образом, выступает как субститут дизвинкции.
Получается, что конвинкция и дизвинкция — операции, несимметричные друг другу. Их
удельный вес в общей структуре акции различен. Пускай даже большая часть времени
терапевтического курса уходит на выяснение и построение связи, главная задача все равно
— разрушение. Именно разрушение патологических связей — всегда и в любой
психотерапии неизбежное и необходимое дело, причем безразлично, каким образом это
делается, путем построения новых или без такого построения. Ведь дело здесь, в
сущности, в том, что пациент приходит чаще не с жалобами на состояние,
характеризующееся отсутствием неких связей, а с жалобами как раз на их наличие. Он,
явившись на прием, еще не знает, что необходимо интегрировать части личности или
преодолеть имеющееся у него расщепление. Он знает только, что у него, например, на
улице (или в лифте, или при виде фиолетовых зонтиков) возникает страх, то есть
существует связь между болезнью и симптомом. В работе, понятное дело, сперва
обнаруживаются эти связи, “комплексы”, с которыми надо разбираться, производя
разрывы. Дизвинкция — как уже сказано, дело более насущное.
Однако, с другой стороны, конвинкционные действия придают образу метода
определенную привлекательность по сравнению с другими техниками, где есть только
“разрывающие” стратегии. Полемические ходы экзистенциально-гуманистически
ориентированных авторов против психоанализа, например, строятся отчасти на видимом
идеологическом преимуществе образа операции “синтеза” перед “анализом”. Синтез,
интеграция — это то, что “строит”, увеличивает экзистенциальное пространство
личности, обогащает его. Анализ, наоборот, уничтожает, редуцирует и разлагает на части,
разрушая некую целостность, не создавая при этом ничего нового. Весьма
распространенные в интеллигентском обиходе мифы об утрате “художником” своей
креативности после прохождения психоаналитического курса коренятся, судя по всему, в
сходных представлениях.
Конструируя терапевтический процесс, следует различать промежуточные винкции и
винкции финальные. Промежуточные имеют место в процессе аналитического
разбирательства по поводу отдельных ситуаций, симптомов, сновидений, оговорок.
256
Однако зачастую терапевт предполагает, что есть некий особенно важный коррелят,
установление связи с которым будет решающим моментом в терапии. Так, психоаналитик
стремится установить связь симптома с первичной травмой. В контексте такого подхода
актуальная ситуация, подвергаемая анализу, пускай она сама по себе достаточно
проблематична, является всего лишь наслоением на травмы более раннего периода.
Промежуточные винкции могут рассматриваться как репетиции винкции финальной.
Анализ отдельного сновидения может подготавливать пациента к анализу связей в его
картине болезни или его жизненной ситуации в целом. Винкционная иерархия вполне
может быть организована и по какому-нибудь другому принципу, а впрочем, может быть
и не организована никак, и все связи, которые так или иначе проявляются в процессе
терапии, могут рассматриваться как равноценные.
Когда в аналитическом или другом терапевтическом процессе мы приводим пациента к
пониманию связи между проблемами и событиями истории его жизни, то важнейшей
проблемой так или иначе будет “верность правде”, эстетическое правдоподобие, иначе
говоря верифицируемость-адекватность-реальность этой связи, которой мы так или иначе
должны придать статус излечивающей. Иллюзия таких достоинств, разумеется в
непростых случаях, создается путем минимального участия терапевта в поиске этой связи.
Принцип невмешательства, введенный в терапевтический обиход психоаналитиками,
создает иллюзию минимального участия терапевта в построении спасительной
конвинкции. Поскольку пациент находит искомое как бы самостоятельно, то для него
самого достоверность обретенного понимания должна выглядеть особенно убедительно.
Разумеется, какое угодно построение, идущее от самого пациента, вызывает наименьшее
сопротивление, и наименьшее сомнение. Таким образом, “верность правде” может
достигаться не столько наличием реальной связи между симптомом и неким его
коррелятом, сколько отсутствием у пациента ощущения навязанности ему такого
объяснения.
По степени активности участия терапевта в формировании связей можно выделить
несколько основных видов конвинкции/дизвинкции. В построении терапевтического
дискурса приходится чаще всего ориентироваться на основные модальности,
располагающиеся в пространстве между полюсами директивности и недирективности.
Во-первых, это будет распорядительная винкция, суть которой в том, что терапевт
своим волевым действием, “открытым текстом” устанавливает связь симптома с неким
другим винкционным полюсом. Скажем, сам объясняет зависимость симптома
257
от “причины” или причину заблуждения с точки зрения формальной логики. Крайняя
степень такой директивной модальности — суггестия, лежащая в основе, например,
дизвинкционного дискурса классического гипноза. Гипнотизер энергично внушает: “Вы
не боитесь больше открытых пространств!”, “Вас больше не тянет к спиртному!”. Так в
гипнозе разрушаются связи, а если же речь идет о конвинкции, то в ход идут увещевания
вроде: “Ваше настроение хорошее, вы бодры, энергичны, уверены в себе!” — или чтонибудь еще в этом духе. В сущности, то же самое имеет место и в аутогенной тренировке.
Такого рода винкционные модальности возможны и в бодрственном состоянии, то есть
без предварительной транстерминационной процедуры. Ясно, что для разрыва
патологических связей директивное действие куда больше подходит, чем для
формирования новых. Разрывать — дело более стремительное, чем строить. Акции,
построенные преимущественно на дизвинкции, чаще всего приняты в школах, не
располагающих в своих теориях концепцией идеала (см. соотв. раздел). Это и понятно:
нельзя работать над идеалом, только разрушая. Ясно, что когнитивно-поведенческое
терапевтическое действие тоже построено на разрыве известных связей, являясь
преимущественно дизвинкционным.
Аллюзивная винкция может заключаться в том, что терапевт намеком, метафорой
продвигает пациента в направлении, которое кажется ему верным. Намеки (фр. allusion),
метафоры, наводящие вопросы как бы направляют процесс в сторону, где есть большая
вероятность обнаружения там некоего коррелята (травмирующего переживания,
например), формирование связи с которым будет терапевтически действенным.
В наименьшей степени активность терапевта будет проявляться при создании
конвинкционной/дизвинкционной ситуации. Создание такой ситуации по замыслу должно
привести к формированию/разрыву патологических связей само по себе. Терапевт как бы
не прибегает к разъяснению или, того хуже, директивному формированию связей, да даже
и к простому намеку, а создает ситуацию, в которой винкции осуществляются как бы сами
собой. Здесь решающую роль могут играть попустительские стратегии, например все тот
же принцип невмешательства в психоанализе. Воздержание от высказываний мы вполне
можем считать видом дискурсивной деятельности, ибо молчание аналитика — это,
разумеется, вид речевой деятельности. Важными обстоятельствами в создании такой
ситуации являются вводная процедура, иначе говоря, изложение пациенту рефекционной
и акционной легенды, а кроме того, измененное состояние сознания.
Примером такого действия может служить известный прием Милтона Эриксона,
предлагавшего ученикам и клиентам взобраться
258
на гору Скво неподалеку от его дома и отчитаться потом в тех изменениях, которые с ним
произошли. Известно, что почти все поднимавшиеся отчитывались потом в том, что на
горе Скво им пришло в голову некое новое понимание их проблем, иначе говоря там
формировались как бы сами по себе новые связи (М. Спаркс, 1991, с. 51). Таким образом
создавалась конвинкционная ситуация, а именно физиогенная транстерминация (усилия
по восхождению) плюс заранее заданная конвинкционная установка (в результате этого
придет какое-то понимание). Такую процедуру можно назвать “плацебо-конвинкцией”. В
сущности, для достижения определенных целей здесь можно иметь дело с любым другим
посредником.
Разумеется, терапевт лучше всего чувствует себя в том случае, если его
непосредственное участие в формировании связи является предельно пассивным.
Повсеместно терапевтическим искусством считается умение подвести пациента к
осознанию так, чтобы у того сложилась иллюзия, будто это он сделал как бы сам. Образ
терапевта, предпочитающего прямые интервенции, существенно уступает тому, кто от
этого воздерживается.
Другим путем создания конвинкционной ситуации может быть стратегия воздействия
на факторы, препятствующие формированию связи. Такой подход может быть основан
на тех соображениях, что искомая связь каким-то образом уже присутствует в психике
пациента, и дело только в том, чтобы убрать нечто такое, что мешает сделать эти связи
ясными и понятными. Как пишет по этому поводу Ф. Перлз: “В терапии следует
заниматься не материалом, подвергшимся цензуре, а самой цензурой, той формой,
которую принимает прерывание себя” (Ф. Перлз, 1996, с. 90).
Собственно, здесь становится наиболее понятным, зачем нужна транстерминация. В
измененном состоянии сознания легко построить те связи, которые не строятся в так
называемом “обычном” состоянии сознания. Измененное состояние — результат
проникновения “за” некий барьер, “за” некую границу (транстерминация, переход за
границу), туда, где эти связи уже присутствуют. В то же время сознание, сложившееся в
мире “по эту сторону”, отягощенное повседневно-дидактически-моральным грузом,
недостаточно свободно, недостаточно податливо (страдает постоянной готовностью к
сопротивлению). Транстерминация, таким образом, позволяет осуществить прорыв за
некий барьер, обнаружить там искомую связь и победно вернуться обратно, держа в руках
вожделенную добычу. Часто пациент сам облегчает эту охоту — мы имеем в виду
ситуацию изложения и анализа сновидения, когда транс-путешествие осуществляет сам
клиент, а терапевту остается лишь завершить достойной интерпретацией проделанную без
него работу.
259
Есть еще один заслуживающий внимания способ формирования/разрушения связей —
парадоксальная конвинкция. Она соответствует абсурдной транстерминации (см. выше).
Примеры такого метода — парадоксальная интенция В. Франкла, когда предлагают
произвольно усиливать, например, фобические страхи или во всяком случае переставать
подавлять и избегать их. Терапевтическое сумасшествие, используемое в терапии
психотических больных, заключается в том, что врач сам демонстрирует психотическое
поведение вместо ожидаемого официально-профессионально-дидактического. В таких
случаях предполагается, что утрированное пародирование нелепости психотического
поведения и мышления приведет к разрушению бредовых построений. Здесь важно
подчеркнуть, что один и тот же ход ведет как к изменению состояния сознания, так и к
разрушению связей — дизвинкции.
Репетиционно-миметический аспект. Во множестве терапий очень важное место
занимает практика воспроизведения некоей ситуации, которая оказала решающее
воздействие на возникновение и развитие патологии. Речь, как известно, может здесь
идти, например, о некоей исходной сцене, первичной травме, например когда ребенок
подглядел процесс родительского соития специально для того, чтобы рассказать об этом
потом своему психоаналитику, после длительного периода упорного сопротивления, к
большой радости последнего. Это может быть воспоминание о моменте рождения, о чем
пациент поведает своему аналитику ранкианского толка (а тот, конечно, опишет это в
истории болезни) или воспроизведет то же самое, подышав усиленно под музыку, для
своего трансперсонального терапевта. Воспроизведение каких угодно других, не столь
экзотических ситуаций, которые так или иначе оказываются привязанными к актуальным
проблемам клиента, практикуется во множестве известных методов.
Эта вспоминающаяся ситуация может воспроизводиться вербально, в виде
пациентского нарратива, как это принято в аналитических практиках. Она может
разыгрываться в наглядном театрализованном действии, например как в психодраме или
других групповых техниках. Она может быть оживлена при помощи целенаправленных
транстерминационных, например гипнотически-суггестивных, манипуляций, как это
принято в многочисленных катартических методах. Так что репетиционно-миметический
аспект конвинкции является важнейшим делом для большинства терапий.
Воспроизведение и/или “подражание” сцене или ситуации, которая, согласно положениям
той или иной школьной теории, “запустила” патологический процесс, по определению
может быть только конвинкционными.
260
Построение связи с патогенной ситуацией призвано вытеснить актуальную
патологическую связь. Конвинкция осуществляется как бы в преддверии неизбежно
следующей за ней дизвинкции, когда разрушаются связи, которые рассматриваются как
патологические. Как это уже описывалось выше, одна, построенная связь становится на
место другой, разрушенной.
Винкции могут строиться в разных направлениях. Иначе говоря, мы можем
осуществлять наши терапевтические действия по различным винкционным маршрутам.
Так, например, разные симптомы или поведенческие стереотипы могут быть связаны с
разными же инстанциями. Иначе говоря, за симптомом, который нам потребен для
работы, мы можем отправляться в путь по различным частям личности, по разным частям
тела. Кроме того, симптом можно “протаскивать” по разным каналам, перемещая из одной
инстанции в другую. Симптом, которым страдает пациент, могут “брать на себя”, к
примеру, в процессе групповой игры другие участники процесса, в том числе и терапевт.
Известно, как обстоит дело в уже упоминавшейся НЛП-стской технике шестишагового
рефрейминга, когда симптомы вначале увязываются с некими частями личности
(пациента просят: “Вступите в контакт с частью, ответственной за данный симптом! ”),
после чего эти части личности освобождаются от ответственности за старые,
нежелательные способы поведения, а снабжаются новыми, которые, преследуя те же цели,
что и старые, при этом вполне приемлемы в смысле способа осуществления этих целей.
Или же часть, ответственная за нежелательный симптом, может, скажем, изыматься из
оборота, а новая часть, которая возьмет на себя ответственность за приемлемый способ
поведения, наоборот, будет создана и при этом не вызовет протеста со стороны других
частей. Словом, все элементы школьной теории, описанные в синхроническом разделе,
годятся для построения винкционного маршрута. Для этого они, в сущности, и
предназначены.
Другая проблема, связанная с рациональной частью психотерапевтического
воздействия, — сокрытие от пациента винкционных действий. Прямолинейное лобовое
разъяснение сущности связей чаще всего, как известно, наталкивается на сопротивление
со стороны пациента. Собственно, все метаморфозы истории акции сводились к
изменениям в сторону снижения директивности винкционных действий, к тому, чтобы
сделать их как можно более латентными. Попустительская стратегия аналитической
терапии приводит к тому, что значительный путь к обретению понимания решающих
связей он проделывает без какого бы то ни было давления извне. Групповая терапия, в
рамках которой терапевт часто как бы самоустраняется, также предоставляет пациенту
большой простор для “самостояния”. В
261
эриксонианском гипнозе текст внушения содержит в себе скрытые грамматические
конструкции, которые должны повлиять в нужном направлении, а кроме того,
используются разного рода терапевтические метафоры. Список рецептов,
рекомендующих, как скрыть от клиента технические намерения, сделать невидимыми
винкционные “белые нитки”, можно продолжить.
Строя и разрушая связи, мы занимаемся клиентом, как ни в какой другой части
психотерапевтического метода. Но, разумеется, и здесь толковый и разумный терапевт
всегда найдет то, что на пользу ему самому, его влиянию, его образу, его харизме.
Распутывая связи, он выступает как хитроумно-проницательный отгадчик ребусов,
загадок, хитросплетений, которыми клиент его озадачил, будучи, конечно, не в силах сам
разобраться в том, что он в своей жизни наплел. Винкционные процедуры дают терапевту
неограниченные возможности для демонстрации причастности к некоей “мудрости”. Это
относится особенно к тем случаям, когда к обнаружению связей, оказывающихся
действенными, пациент приходит как бы сам, незаметно подталкиваемый терапевтом. Это
превосходство может увеличиваться также и в силу транстерминационного “опьянения”
клиента. Он, всегда немного расслабленный (ведь все терапии так или иначе предлагают
релаксацию, почти нигде не услышишь: “Напрягитесь! ”), благодарно готов принять
любое подсказывающее действие терапевта за интеллектуальный прорыв в головоломную
сложность хитросплетений своих проблем.
Итак, приглядываясь к паре терапевт — пациент, как она вырисовывается в
представлениях об акции в большинстве школьных мифов, мы видим, что искусный,
проницательный терапевт очень незаурядно выглядит на фоне простеца пациента. Тот,
обманутый иллюзией собственного влияния на терапевтический процесс, в хорошем
случае организованного по принципу laisser-faire, тем не менее находится полностью под
влиянием харизмы и интеллектуальной компетентности терапевта. Разве что изредка у
клиента появляется желание сопротивлением продемонстрировать собственную
автономность, да и оно в хороших случаях быстро проходит, оттесняемое прочь
консоционной симпатией.
Ясно, что своеобразие школьной акции, да и эклектической тоже, определяется именно
способом сочетания винкции и транстерминации. Они могут находиться в различных
временных соотношениях друг с другом. Во много раз уже упомянутом классическом
гипнозе терапевтическая процедура отчетливо разделена на два последовательных этапа.
Вначале транстерминация, сопровождаемая формированием консоции: “Погружаетесь
глубже, руки тяжелые, ощущения приятные. Слышите только
262
мой голос”. Затем диз- и конвинкция, чаще всего — крайне незатейливая: “Страхи
исчезают, появляется уверенность в себе”, после чего — вывод из транса: “Сонливость
уходит прочь, просыпаетесь бодрыми”. Винкционная процедура следует здесь строго за
транстерминационной, причем этот переход может быть даже фиксирован фразой
гипнотической песни, вроде: “Теперь, когда ваш мозг подготовлен к восприятию
внушения, я внушаю” и т. д. Эриксонианский гипноз, напротив, никоим образом не
проводит строгой черты между двумя составными частями акции, чередуя ходы,
направленные на изменение состояния сознания, с ходами, направленными на
разрыв/формирование связей. Конечно, такая стратегия несравненно более выигрышная,
так как позволяет решить одну из ключевых проблем акции — проблему смягчения
давящей директивности терапевтического действия. Таким образом, каждое из
производимых действий становится отчасти латентным.
В большинстве школьных практик дело обстоит таким образом, что транстерминация и
винкции не отделены друг от друга, смешаны в спонтанности течения процесса, и
зачастую терапевт не отдает себе строгого отчета в том, какую же именно цель — из тех,
что мы разбираем, — преследует тот или иной его ход. Идеология многих школьных
практик, особенно же тех, что построены на попустительской идеологии, разработана так,
что терапевт гибко реагирует на изменения процесса и приспосабливается к ним так или
иначе. При таких обстоятельствах как изменения состояния сознания, так и прозрения
будут происходить спонтанно. Все же было бы очень хорошо, если бы терапевт понимал,
какую именно цель преследует он, совершая новый ход, хотя бы отдавал себе отчет в том,
приближает ли его очередная произнесенная фраза пациента к некоему пониманию, или
углубляет транс, или же делает и то и другое.
Однако отнюдь не обязательно транстерминация предшествует винкциям. Особым
случаем сочетания винкций и транстерминации можно считать поствинкционную
транстерминацию. В тех случаях, когда, например, в ходе анализа удается найти решение
“ребуса”, который, как известно, лежит в основе любого комплекса, пациент, безусловно,
впадает в некий новый статус, иначе говоря, транстерминирует. Это поствинкционное
ИСС следует считать индикатором удавшейся процедуры формирования или разрушения
связей. При таком положении дел может возникнуть искушение приурочить к моменту
обнаружения связи другой транстерминационный ход. Это сделает результат винкций еще
более убедительным.
Предлагаемое нами разделение терапевтического процесса на транстерминацию и
винкции позволяет лучше понять, например,
263
структуру двух понятий, весьма распространенных в разных подходах. Речь идет о
катарсисе и инсайте.
Под инсайтом (в клиническом контексте) понимают, как известно, внезапное обретение
понимания непонятных ранее связей между проблемой и ее предпосылками, а также
схватывание ситуации в целом. Катарсис же понимается как некое очищающее
освобождение от неких аффектов, так или иначе связанных с патологией. Важно, что оба
состояния являются так или иначе целью терапевтических усилий, их всегда расценивают
как моменты, обозначающие достижение терапевтического успеха или, по меньшей мере,
приближение к нему вплотную. Определения, даваемые этим терминам в различных
словарях и энциклопедиях, не оставляют сомнений в том, что речь идет о вещах крайне
неопределенных, что, собственно, позволяет говорить о них как скорее о неких
мифологемах, чем как о четко дефинируемых феноменах.
В обоих случаях речь идет о сочетании двух составных, а именно эмоционального
переживания и некоего нового отношения к своей ситуации. Если, однако, в случае
инсайта мы говорим о новом понимании, о формировании новой связи, то в случае
катарсиса, наоборот, о некоем разрыве. Само по себе понятие “катарсис” — очищение
предполагает удаление прочь некоего эмоционально значимого образования. Инсайт есть
некое приобретение, катарсис — некая потеря. Иначе говоря, рассуждая в предложенных
нами терминах, инсайт представляет собой сочетание транстерминация плюс
конвинкция, катарсис же — сочетание транстерминация плюс дизвинкция. Важно
подчеркнуть, что в обоих случаях мы имеем дело с одновременностью винкции и
транстерминации.
Таким образом, важные мифологемы, играющие большую роль в истории разных
психотерапевтических школ, становятся, безусловно, более понятными. Мы все же
исходим из того, что, несмотря на максимальную идеологию попустительства, отдельные
действия, предпринимаемые терапевтом, все же являются осмысленными. Говоря о
катарсисе и инсайте, мы, разумеется, одновременно имеем в виду как терапевтический
результат, так и процедуру, направленную на его достижение. Дело, однако, обстоит
таким образом, что они очень часто встречаются одновременно и для очищения
(дизвинкции) необходимо понимание, например, через припоминание (конвинкция).
Собственно, психокатарсис как терапевтическая практика предполагает так называемое
отреагирование через повторное переживание травмирующей ситуации. Термин,
отражающий известную полноту картины удачного терапевтического действия, должен
звучать приблизительно так: “катарсайт” или “инсис”. Осталось только разобраться с
ударениями.
264
Реальность психотерапевтической акции такова, что все описанные нами составные
существуют в постоянно перемешанном состоянии. Если анализировать удачно
сконструированные психотерапевтические действия, то мы увидим, что консоция,
эксквизиция, транстерминация, конвинкция и дизвинкция мелькают здесь и там, причем
как сами по себе, так и в виде синтетически-эклектических образований. Ориентация
различных методов на “отслеживание процесса”, “присоединение к процессу” приводит к
тому, что многое происходит зачастую как бы само собой.
Консоция, как мы знаем, создает предпосылки для всего прочего, особенно же
способствует наведению ИСС, то есть транстерминации. Эксквизиция может быть
особенно эффективной, если она осуществляется в измененном состоянии сознания, то
есть после транстерминации. Ну и без хорошей консоции, конечно, об удачной
эксквизиции и думать не приходится. А транстерминация к тому же особенно подходит
для совершения дизвинкции, как, впрочем, и конвинкции. При этом, однако, наилучшая
дизвинкция — та, что появилась как следствие удавшейся конвинкции. Но сколько бы
конвинкций с транстерминациями мы ни устроили, мы постоянно продолжаем
отслеживать ситуацию, не забывая таким образом об эксквизиционных действиях, тем
более что промежуточные конвинкции помогают пациенту оживить воспоминания, до
того выключенные из оборота терапевтической процедуры. Все это дело в свою очередь
укрепляет консоцию. Вот такие у нас, читатель, получаются хороводы.
Однако при всем при том наш коктейль-салат получился бы грубо лапидарным и
удручающе однообразным, если бы мы не помнили, что консоция, эксквизиция,
транстерминация, конвинкция и дизвинкция бывают разных родов и видов, что,
собственно, и было описано выше. Коктейльно-салатное богатство терапевтического
действия увеличивается путем учета этих соображений просто невероятным образом.
Интегративно-эклектический проект обретает на наших глазах размеры, приближающиеся
к бесконечности. Мы также помним, что основное свойство элементов правильной общей
теории психотерапии — это их бесконечная сочетаемость друг с другом. Напоминаем
правило: все, что угодно, сочетается со всем, чем угодно, каким угодно образом. Так что
мы предоставляем в распоряжение читателя ощутимое богатство. Ему, читателю, остается
только просмотреть все возможные сочетания всех упомянутых нами видов различных
частей терапевтической акции и выбрать по своему вкусу то, что понравится.
Но и это еще не все. Помимо всех возможных сочетаний мы располагаем еще и
возможностью опосредования всех составных
265
частей акции, да и акции самой целиком. При этом посредники могут быть самыми
разными, так что богатства нашего читателя прирастут еще больше.
МЕСИТАЦИЯ
Меситация (греч. meciteia — посредничество), или опосредование всегда играла
существенную роль в конструировании психотерапевтического действия. Целые
направления получали наименования по тем меситаторам, посредникам, которые
использовались для построения терапевтической процедуры. Меситатором в
психотерапевтическом контексте следует считать материальный объект или же
некую
культурную
практику,
изначально
существующую
за
пределами
психотерапевтического пространства. Как объекты, так и практики переносятся в
пространство психотерапевтической акции и используются для ее конструирования.
В качестве меситаторов могут выступать самые разные виды деятельности,
которые своей структурой, способами своего функционирования, системой правил и
запретов, сложившейся в рамках своей традиции, так или иначе могут оказаться
сподручными для терапевтических целей. Что именно может быть сподручным и как
именно это может сгодиться в терапии, всегда решать терапевту.
В первую очередь здесь следует упомянуть психодраму. Использование ее основано на
том, что театральное искусство опосредует целый ряд выделенных нами составных частей
психотерапевтической акции. Эффект сценического воздействия основан, как всем
известно, на так называемом катарсисе или, если быть более точными, на том, что мы
обозначили как “катарсайт”. Проще говоря, репетиционно-миметическая конвинкция
вкупе с эстетической транстерминацией приводит к дизвинкции как в зрительном зале
театра, так и в психотерапевтическом кабинете. Совершенно ясно, что широкое
использование психодрамы, как метода в целом, так и отдельных его элементов по частям,
в различных видах групповой терапии связано с несомненной изоморфностью эффекта
театрального воздействия и воздействия психотерапевтического в целом, как такового.
Психодрама наглядно демонстрирует механизм, действующий так или иначе в любой
психотерапии.
В сущности, меситационным является любой вид арттерапии. Трудно сказать, какие
именно части терапевтической акции опосредуют в каждом отдельном случае
прочитанная пациентом книга, нарисованная картина, сочиненное стихотворение. Любое
обращение с меситатором позднее подвергается интерпретации или же становятся
предметом так называемого шеринга.
266
Именно таким образом меситатор включается в структуру процедуры. Само по себе
чтение или музицирование, которое может оказывать известное спонтанное целебное
действие, вне психотерапевтического пространства не может считаться тем не менее
психотерапией. Собственно психотерапевтический статус они приобретают только после
того, как включаются состав некоего метода.
Крайне интересное само по себе соображение заключается в том, что вряд ли найдется
где-либо еще такой род деятельности, который способен поглощать целые системы
культурной практики, такие, как театральное искусство, запросто переваривать их и
надежно усваивать. Размеры пространства психотерапии как рода деятельности, от этого
только увеличиваются. Именно возможность такого поглощения обнаруживает скрытую
природу психотерапии, как практики, изначально таящей в себе возможности тотального
господства. Возвращаясь к теме первой главы, а именно к разговору об экспансиях, мы
можем сказать о еще одном направлении экспансии, а именно о меситационной
экспансии. Включая в себя все новые роды деятельности и находя употребление для
различных предметов, психотерапия разрастается во все стороны.
Включенная в психотерапию практика превращается в придаток к школьной теории и
акции и в какой-то степени теряет свои исходные черты, которые отличают ее вне
психотерапии. К ней неприменимы, в частности, требования, которые принято
предъявлять в условиях ее обычного функционирования. Так, психодраму нелепо
рассматривать с точки зрения достоинств актерской игры ее участников, стихотворение,
написанное пациентом в процессе терапии, не подлежит эстетически-критической оценке.
Клиент психотерапевта заранее исключен из вечного “состязания поэтов”,
художественные достоинства текста не являются фактором, определяющим наш интерес к
нему. Продукты терапевтического творчества могут подвергаться обсуждению в рамках
определенной школьной теории и конкретной школьной процедуры, что собственно и
превращает их из самостоятельных практик в терапевтические меситаторы. Арттерапии
поставляют материал не для критической экспертизы, а для психологического анализа или
дальнейшей технической обработки.
Опосредование может быть тотальным и парциальным. Тотальное опосредует всю
целостность терапевтического процесса, парциальное — соответственно отдельные
элементы его структуры. Любой из видов арттерапии представляет собой сложное
многоуровневое законченное образование и уже тем самым может претендовать на то,
чтобы опосредовать целое
267
пациента и терапевтического процесса. Отдельные предметы, которые используются в
игровой терапии, могут быть использованы для обозначения реалий жизненного мира
клиента. Скажем, в психоаналитически ориентированной игровой терапии предмет вроде
дамской сумочки вполне может интерпретироваться как утерино-вагинальпый символ.
Персонажи кукольного театра, что нетрудно себе представить, могли бы изображать как
протагониста актантной модели, так и всех остальных актантов.
Посредник терапевтического действия обладает известной самостоятельностью.
Кроме того, психотерапевт получает в свое распоряжение уже почти готовую технику, а
это, надо сказать, щедрый подарок. Не надо ничего изобретать, в худшем случае
приходится немного модифицировать. Модификация меситатора — в сущности,
неизбежное действие. В случаях, скажем, арттерапии, что крайне удобно, пациент
проделывает большую часть работы сам и терапевту остается только включить
меситационную часть акции в общий контекст. Почти всегда традиции и закономерности
уже сложившейся культурной практики будут оказывать влияние на терапию,
позаимствовавшую себе для меситационных целей тот или иной предмет или процесс.
Меситатор в процессе терапии неизбежно устанавливает свой диктат, становится
самодовлеющим.
Меситация, как уже понятно, может быть предметной или процессуальной. Психодрама
— пример процессуального опосредования. Здесь в качестве посредника представлен
определенный процесс — театральное действие. Если речь идет, например, о так
называемой музыкотерапии, то здесь мы также имеем дело с процессуальным
меситатором, будь то терапевтическое слушание музыки, исполнение или сочинение.
Предметное опосредование может осуществляться в терапевтическом процессе
спонтанно, причем в дело может идти все, что попадется под руку. Наглядность
меситационных техник может быть особенно привлекательной для психотерапевтов,
работающих с детьми, где игра с предметами — куклами, кубиками, мягкими игрушками,
может опосредовать что угодно. В случае же, например, взрослых детская игрушка,
включенная в психотерапевтический процесс, может быть увязана с возрастной
регрессией. Так что, если сочинять метод, включающий в себя работу с игрушками, то они
будут опосредованно включаться в эвольвенцию и нормативную хроногию.
В рамках конкретной процедуры мы можем различать меситацию основную и
вспомогательную. Если, например, мы занимаемся музыкотерапией, то музыкальное
занятие, будь то слушание музыки, исполнение ее или даже сочинение, является
основным
268
меситатором, формирующим терапевтическую акцию почти целиком. Во всяком случае
транстерминационные проблемы оказываются решены полностью. В случае же
трансперсональной терапии, когда в структуре пневмокатартической процедуры
форсированное дыхание сопровождается психоделической музыкой, эта музыка будет,
разумеется, вспомогательным меситатором.
Повторимся, что опосредование следует рассматривать как крайне выгодное дело.
Подражая некоему виду деятельности, мы сразу получаем в руки готовый
терапевтический метод или по меньшей мере иллюзию того, что мы его получили. Кстати,
название этого вида деятельности запросто может быть использовано для обозначения
нового метода (например, библиотерапия). Не составляет никакого труда соединить такую
посредническую практику со школьной теорией, уже существующей или той, которую мы
придумаем (а для того, кто внимательно ознакомится с нашим исследованием, придумать
— сущие пустяки). Так, например, существуют различные виды психодрамы, в
зависимости от того, к какой теоретической основе присовокуплен психодраматический
метод. На самом деле, меситационные методы — это не более чем иллюзия, и во всяком
случае их шансы на самостоятельное развитие достаточно призрачны. Большие школы
чаще всего создаются вокруг метапсихологий, а не вокруг техник, и поэтому любое
проектирование метода на основе меситатора неизбежно приведет к тому, что он будет
поглощен иной, доктринально и патографически продвинутой школой. Так, психодрама
может быть фрейдистской и юнгианской, экзистенциально и трансактно
ориентированной. Нетрудно представить себе и другое поглощение меситатора школой с
развитой идеологией. Эти “машины желания” хищно проглотят все, что, так сказать,
плохо лежит. Как раз “плохо лежать” будет некий “просто метод”, лишенный
охранительного сопровождения в виде развернутой метапсихологии. Сметливый читатель,
безусловно, еще раз отметил про себя, как важно первым делом сформировать толковую
теорию, прежде чем думать о чем-нибудь другом.
Опосредование чаще всего делает терапевтический процесс наглядным, занимательным
и динамичным. Операции с предметами-меситаторами могут служить весьма
сподручными метафорами для любого рефекционного действия. Можно нарисовать на
ватмане любого негативного персонажа семейной истории (как мы понимаем, это —
обстанционный агент) и побить его пластмассовыми кубиками (договорившись
предварительно, что это — кирпичи). Можно сфотографировать некий гротескный объект,
допустим куст, который будет опосредовать симптом, а
269
потом эту фотографию как-нибудь сжечь. Или обозначить различные инстанции
разноцветными кусками пластилина, а потом эти куски слепить, обозначив таким образом
процесс интеграции. Продолжение следует...
Исследование не использованных доселе возможностей в деле меситации (или уже
использованных, но неизвестных нам) открывает перед честолюбивым читателем
необозримую перспективу. Терапевтический процесс могут так или иначе опосредовать
симфоническое дирижирование и пинг-понговые шары, приготовление салатов и
поджигание домов, полет на воздушных шарах и помоечный мусор, разрушение сараев и
водяной душ, склеивание картонных коробок и фехтование на рапирах, алхимические
опыты и анатомическое препарирование животных. Тут, ясное дело, все позволено и
ограничений не может быть никаких. Невыполнимо трудной задачей будет составление
списка предметов и действий, которые не могут быть употреблены здесь в дело.
Не составит никакого труда также разобраться, какие именно части школьной теории
или акции какому меситатору соответствуют наилучшим образом. Так, глубокие колодцы,
реальные или нарисованные, могут пригодиться для того, чтобы служить метафорой
архиниции. Часы, пускай даже песочные или солнечные, могут обозначить эвольвенцию.
Изображения гротескных кукол или чертей — обстанция. Ну и так далее. Все это так или
иначе можно привнести в пространство психотерапевтической процедуры.
В том же, что касается психотерапевтической акции, ясно, что соединение однородных
предметов в одном пространстве, скажем двух пирогов на блюде, может обозначать
конвинкцию, а разрыв платяной ткани, реальный или воображаемый, — наоборот,
дизвинкцию. Транстерминацию широко принято опосредовать исполнением музыкальных
произведений. Ну и так далее. Сообразительному читателю не составит труда продолжить
список подобных соответствий. Понятно, что теперь подбор терапевтами меситаторов
будет осмысленным, то есть в первую очередь терапевт, заимствующий посредник для
своих нужд, задумается, какой именно элемент структуры психотерапевтического
действия он опосредует.
Ясно любому, нет и не может быть такого рода деятельности, который не годился бы
так или иначе, целиком или по частям, для психотерапевтических нужд. Воспроизводя
стилистическую конструкцию, которой мы не раз уже пользовались, скажем, что для
опосредования в психотерапии может пригодиться любой вид человеческой
деятельности, до тех пор, пока не будет доказано, что он для этих целей не подходит.
Все эти соображения,
270
равно как и другие, изложенные в нашем исследовании, дают нам возможность надеяться
на то, что возможности создания новых методов далеко не исчерпаны и конец истории
психотерапии еще не так близок, как это может показаться на первые взгляд.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Говоря о сопротивлении, мы ставим перед собой задачу рассмотреть эту проблему не
только в контексте конкретной терапевтической ситуации, но и в исторической
перспективе. Ясно, что сопротивление, которое пациент оказывает терапии, —
важнейший двигатель истории психотерапии, изменяющий формы и методы
психотерапевтического воздействия, как ничто другое. Другой важнейший двигатель
истории психотерапии, как мы знаем, — отсутствие надежной технологии контроля за
эффективностью терапии.
В психоанализе сопротивлением считаются “все те слова и поступки анализируемого,
которые мешают ему проникнуть в собственное бессознательное” (Ж. Лапланш, Ж.-Б.
Понталис, 1996, с. 491). В частности, считается, что “в сущности, Фрейд отказался от
гипноза и внушения из-за сильного сопротивления некоторых пациентов” (там же, с. 491).
Совершенно ясно, однако, что сопротивление не является достоянием одного только
психоанализа, оно составляет проблему для терапевтов всех направлений. Более того,
сопротивление не есть достояние только лишь психотерапевтических практик, его следует
рассматривать в более широком контексте.
Вот что пишет по этому поводу К. Ясперс: “Человеку свойственно три типа
сопротивления. Во-первых — это абсолютное сопротивление чего-то такого, что
неизменно по природе своей, так что здесь речь может идти только об изменении внешней
формы. Во-вторых — это сопротивление чего-то такого, что сформировано внутри
человека, и в-третьих — это сопротивление, исходящее от собственно бытия как такового.
Для преодоления сопротивления первого типа можно пустить в ход нечто такое, что
аналогично дрессировке животных, второй тип поддается воздействию воспитания и
дисциплины, работа с третьим типом — это экзистенциальная коммуникация. Когда
человек вступает в контакт с другим, тот может быть для него всего лишь объектом в духе
первого типа воздействия (дрессировки); второй тип воздействия предполагает
относительно открытую коммуникацию, но с сохранением при этом определенной
дистанции, что дает возможность воспитывать пациента и планировать его будущее; в
третьем случае он предстает перед другим таким, каков он есть, полностью открытый ему,
доверяя ему свою
271
судьбу, полностью раскрываясь, как равный перед равным” (K. Jaspers, 1973, s. 669). И
далее: «Человеку, несмотря на его потребность в помощи, свойственно не только
негативное отношение к психотерапии, но и к любому врачебному вмешательству. В
человеке есть что-то такое, что предпочло бы, чтобы он помог себе сам. Он стремится к
тому, чтобы быть хозяином тех сопротивлений, которые в нем живут. По этому поводу
Ницше сказал: “Тот, кто дает советы больному, тот обретает чувство превосходства над
ним, независимо от того, принимаются ли его советы или нет. Поэтому ранимые и гордые
больные ненавидят таких советчиков больше, чем саму болезнь”» (ibid., s. 669).
Это высказывание — ясный довод в пользу потестарной (напоминаем: potestas — лат.
— власть) природы сопротивления. Пространство психотерапевтической интеракции —
это поле борьбы за власть между терапевтом и пациентом. Положение пациента и
терапевта несимметрично, ни о каком изначальном равенстве говорить нельзя, и это
неравенство является исходной точкой сопротивления. Для того чтобы терапевтический
процесс приобрел импульс, необходимы серьезные уступки со стороны терапевта, фора
здесь причитается клиенту. Такой уступкой в психоанализе может считаться принцип
невмешательства. Предупреждение сопротивления со времен психоанализа связано с
предоставлением пациенту большей части общего речевого объема терапевтической
сессии.
Кроме того, надо понимать, что сопротивление пациента формируется у него задолго
до начала терапевтической работы. Дотерапевтический опыт так или иначе связан с тем,
что личность испытывает на себе директивно-дидактическое давление, которое неизбежно
в мире повседневного, разрегламентированного существования, о чем мы уже говорили
выше. Практики воспитания, обучения, трудового принуждения, запреты и нормы,
существующие в культуре, создают, разогревают, подкармливают сопротивление.
Попустительская традиция психотерапии формируется как бы в противовес этому
давлению цивилизации.
Феномен сопротивления был бы малоинтересен, если бы он был однороден, одномерен.
Сочиняющий новый метод автор обязательно должен предусмотреть перспективу работы
с сопротивлением. Безусловно, порой встречаются случаи “бессопротивленческой”
терапии, но они, конечно, не заслуживают упоминания. Ведь в сущности главное для
терапевта — не столько терапевтическая результативность, дело, как мы знаем,
сомнительное, сколько успех в преодолении сопротивления. Сопротивление — это то,
что придает терапии интригу, создает напряжение. Без обстоятельного разговора о нем
любая школьная
272
теория будет выглядеть пресной, как бы голой и, соответственно, малопривлекательной.
Если в допсихоаналитические времена гипнотизер мог высокомерно делать вид, что не
замечает помех, затрудняющих действие его суггестии и пассов, то позднее авторы более
востребованных методов благоразумно не отворачивались от этого, вполне очевидного
обстоятельства. Наоборот, они всячески пытались обратить его себе на пользу, особенно в
тех случаях, когда требовалось обосновать свой неуспех или по меньшей мере
затруднения на пути его достижения. Сообразительный сочинитель, без сомнения, должен
понимать, что сама по себе констатация наличия у клиента сопротивления как бы
оберегает нарциссизм терапевта, приписывая затруднения в работе сложностям
рабочего материала, а не просчетам работающего с ним. Кроме того, он заинтересован в
том, чтобы привлечь публику к своему теоретическому продукту, сделав его более
внутренне драматичным и тем самым интересным.
Сопротивление трактуется всегда на основе школьных представлений в целом. Нет
сопротивления вообще. Сопротивление, как концепт, существует только как часть
школьной
теории
и
является,
в
сущности,
констатацией
обстоятельств
психотерапевтической реальности. Следует, однако, обратить внимание на то, что
присуще структуре сопротивления как такового, вне школьных рамок. Описанные нами
выше элементы общей структуры помогут нам представить суть этого феномена подробно
и ясно.
Сопротивление, целое, инстанции, границы, каналы. Как известно, Фрейд выделял типы
сопротивления, исходящие от Я, Оно или Сверх-Я (Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис, 1996, с.
492). Понятно, что нет и не может быть никаких соображений, которые помешали бы нам
продолжить этот список, включив в него инстанции, описанные авторами других теорий,
причем все они будут равноправны. Как уже говорилось выше, каждая инстанция
максимально стремится к собственному самоутверждению, влиянию и росту за счет всех
других, и понятно, что любая из инстанций в рамках школьной теории может
рассматриваться как инициатор сопротивления. Инстанция-инициатор может “подбивать”
на это дело другие или не делать этого — это уж как понравится автору возможной
теории. Нетрудно представить себе некую концепцию в духе метафоры “цепной реакции”,
когда возмущение, исходящее от одной части, подхватывается какой-нибудь другой и т. д.
Понимание сопротивления как чего-то такого, что исходит от целого, могло бы быть в
центре теории, сочиненной в экзистенциалистском духе. Целое, как ему и полагается, в
контексте достойной школьной концепции должно так или иначе стремиться
273
к сохранению своей целостности, а тем более — автономии. Многие терапии, как это ни
досадно для терапевта, вполне соответствуют по многим признакам практике, способной
нарушить как целостность, так и автономию, что, собственно, и должно вызывать
стремление сопротивляться. В сущности, границы, как те, что отделяют инстанции друг от
друга, так и те, что отделяют целое от окружающего мира, есть порождения
сопротивления, сложившегося как до начала терапии, так и в ее процессе. Сопротивление
сперва формирует границы, а затем на их же охрану как бы заступает дозором.
Границы же в свою очередь, как известно, могут иметь определенную историю и быть
связаны с этапами эвольвенции, закрепленными в школьной нормативной хронологии.
Чаще всего дело здесь обстоит так, что с течением времени под влиянием персонального
опыта “иррациональные” инстанции вытесняются “рациональными”, между ними
формируются границы, создающие впоследствии помехи при терапии.
Понятно, что для преодоления сопротивления не худо наметить в теории и поискать на
практике какие-нибудь каналы. Канал, как мы помним, — это то место границы целого,
где противодействие терапевтическому влиянию на клиента выглядит относительно более
слабым, а то и вовсе никак не проявляет себя. Собственно, описание каналов не может
иметь никакого другого смысла, кроме того, что так или иначе связан с
сопротивленческой проблематикой.
Идя далее, нетрудно понять, что купидо в этом контексте вполне может выступать в
роли фактора, который как бы “подкармливает” сопротивление. Не исключено, что
влечение или желание, вокруг которого часто сочиняются школьные теории, будет
“обеспокоено” своей судьбой, которая может оказаться под угрозой в результате
терапевтических манипуляций. Терапевтическая стратегия порой строится в расчете на
изменение взаимоотношений купидо с его объектами, иначе говоря, на переделку
купидинозных интенций. Понятно, что никакое купидо, даже самое ущербное, не придет в
восторг от вмешательства в его жизнь и, без сомнений, охотно заварит
сопротивленческую свару или деятельно поддержит любую сопротивленческую выходку.
Купидо придает сопротивлению напор и динамику, делает его мощным и напряженным.
Одним словом, в этом контексте купидо можно рассматривать как “горючее”
сопротивления.
Ему, купидо, однако, придется выбирать между двух зол. С одной стороны, терапия
может его, как уже сказано, несколько окоротить в смысле ортопедического
вмешательства в его интенции, а с другой — серьезно ослабить обстанцию, которая стоит
274
на его пути и мешает ему достичь того, к чему оно стремится. Обстанция, как мы помним,
всегда стремится к тому, чтобы интериоризироваться. Интериоризованная, она
перерастает аутоагрессивную инстанцию, которая тоже может усиливать сопротивление.
Это становится понятнее, если вспомнить о каком-нибудь фрейдовском Сверх-Я или
берновском Родителе. Проще говоря, препятствием на пути купидо может быть как
обстанция, так и терапия, и в зависимости от того, чему какую роль отводит возможная
теория, и как надо вести себя терапевту, предварительно обосновав это, разумеется,
убедительно и достойно.
Структура дефекта, безусловно, может накладывать свой отпечаток на характер
сопротивления. В наибольшей степени это относится к представлениям о “скованном
движении”, которое успешно используется многими авторами. Образ сопротивления
характеризуется в первую очередь статической неподвижностью, враждебностью всякому
движению как таковому.
Понимание сущности дефекта, а оно, как мы говорили выше, разное в разных школах,
тоже может сослужить хорошую службу в деле работы с сопротивлением. Это особенно
ясно, если речь идет о расстройствах шизофренического круга. Значение такого
клинического феномена, как аутизм, в психотерапии заключается в его
сопротивленческой силе. Аутизм — это сопротивление per se. Более того, любое
сопротивление — всегда немного аутизм. Если аутизм определяет силу сопротивления, то
его “неуловимость”, изощренность будет обусловлена, скорее всего, феноменом
расщепления, схизисом. Аутизм, “помноженный” на схизис, создает исключительное
богатство и разнообразие сопротивленческого поведения. Так, Х. Сиэлз в своей работе,
выразительно озаглавленной “Стремление свести с ума другого человека — как часть
этиологии и психотерапии шизофрении”, описывает техники такого “сведения с ума”.
Среди них, в частности, поведение в стиле стимуляция — фрустрация, контакт с другим
одновременно на двух различных уровнях отношений (официальный и интимный,
например), неожиданные переключения с одной эмоциональной длины волны на другую и
перескакивание с одной темы разговора на другую и т. д. (H. F. Searles, 1965, pp. 257—
260). Конечно, такие незаурядные виды сопротивленческого поведения не заказаны и
непсихотическим пациентам. Однако, именно работа с шизофреническими проблемами
останется для психотерапевтов хотя и трудным, но все же очень привлекательным делом в
смысле возможности демонстрации своей терапевтической силы, которая может
преодолеть даже такое сопротивление. Вызов клинического материала как такового здесь
настолько силен, что, разумеется,
275
только самые сноровистые способны дать достойный ответ на него.
Лучше всего суть сопротивления могут прояснить те элементы, что представлены нами
в разделе “Акция”. Именно они могут лечь в основу его классификации и описания его
внутренней структуры. В самом деле, выяснить, чему в конце концов сопротивляется
клиент — установлению ли контакта с терапевтом, желанию ли того же терапевта
разузнать о нем все, что ему якобы пригодится, изменению ли его состояния сознания,
или же тому, чтобы определенные связи между симптомами и неизвестно чем были
расценены как что-то, что безусловно его излечит, или же всему вместе сразу, — так вот,
понять все это, согласитесь, уже не так сложно, а все потому, что в нашем распоряжении
есть готовая структура для уяснения этого дела.
Итак, мы можем иметь дело с консоционным сопротивлением, иначе говоря с тем, что
пациент противится установлению контакта с терапевтом, причем безразлично, идет ли
речь о раппорте, переносе или о чем-нибудь еще. Заметим, что, однако, почти невозможно
представить себе, как можно сопротивляться такой консоции, как безусловное принятие,
введенной в обиход К. Роджерсом. Привлекательность такой консоции, как безусловное
принятие, заключается в том, что она безо всяких дополнительных ухищрений унимает
вполне естественную в других случаях пациентскую строптивость. Это немаловажно, ибо
сопротивление, оказываемое установлению контакта, не может не восприниматься
терапевтом иначе, чем как исключительно унизительное для его нарциссизма дело. В
связи с этим вполне естественно припомнить знаменитое высказывание З. Фрейда о
переносе как форме сопротивления. С точки зрения терапевта перенос — это очень
хорошая форма сопротивления, ибо может создать только временные трудности и уж
точно никак не ущемляет нарциссизм аналитика, а даже наоборот — подкрепляет.
Вообще же получается, что терапевтический контакт в этом смысле определенным
образом амбивалентен. И перенос как вид консоции, и сопротивление выглядят как
внутренне сложные образования. Понятно, что сопротивление само по себе является
феноменом внутренне противоречивым. С одной стороны, терапия необходима, с другой
— сама по себе (самим фактом проведения) наносит определенную нарцистическую
травму всем участникам терапевтического диалога.
Не только одна перспектива установления интимного эмоционального контакта с
терапевтом может вызывать у клиента справедливое чувство раздражения. Настойчивое
стремление пронырливо выведать все то, что человеку обычно приходится
276
скрывать от других, создает почву для эксквизиционного сопротивления. Этот
сопротивленческий мотив, без сомнения особенно интенсивно выражен в аналитически
ориентированных методах.
Разузнав все, что ему якобы нужно, терапевт, естественно часто стремится подвергнуть
испытанию чувство собственного достоинства клиента, вводя его в ИСС, сам же оставаясь
при этом спокойным и трезвым. Однако транстерминационное сопротивление, судя по
всему, дело достаточно редкое. Оно может быть связано с чрезмерным директивным
усилием терапевта, что мы наблюдаем на примере классической гипнотической
процедуры. Транстерминация — процесс, замешенный на гедонистическом факторе, сам
по себе должен способствовать ослаблению сопротивленческой активности клиента в
целом. В самом деле, транстерминация, как уже говорилось, обязана своей
востребованностью именно фактору сопротивления. Однако совсем лишать пациента
такой возможности нет оснований, и поэтому при сочинении нового метода, равно как и
при проведении какой-нибудь уже изобретенной терапии, следует учитывать и такую
возможность.
Ну и, наконец, винкционное сопротивление. Самыми разными причинами могут быть
объяснены трудности в решении основного ребуса терапевтического процесса, и нет,
видимо, нужды напоминать, что традиция такого объяснения всегда приписывает “вину”
пациенту. Это он сопротивляется, в частности, по причине того, что, быть может, не
удастся совместить спасительное объяснение с окружающей его системой ценностей, с
собственными представлениями об образе своей личности. Сильным ударом по
терапевтическому нарциссизму было бы признание того, что это именно он, терапевт,
вызвал в пациенте желание противиться своим неуместным поведением или неудачной
конструкцией процедуры, которой он пользуется. Разработка темы сопротивления, таким
образом, крайне желанна в любой школьной теории, ибо помогает терапевту создать себе
алиби, свалив собственные просчеты на упрямца пациента и подкрепив таким образом
свой нарциссизм.
Разумеется, нельзя забывать о том, что чаще всего мы не можем выделить в чистом виде
один из вышеперечисленных типов сопротивления. Они могут встречаться вместе в
любом сочетании, так что сопротивляться пациент может всему что захочет, а кроме того,
он это свое сопротивление может проявлять как пожелает.
Свобода клиента в выборе способа сопротивленческого поведения диктует
формулировку очень простого правила на этот счет. Нет такой разновидности
пациентского поведения, которое
277
мы не могли бы счесть проявлением сопротивления. Очень наивно было бы ограничивать
сопротивленчески-поведенческий репертуар клиента бросающейся в глаза упорной
неподатливостью. В разных ситуационных контекстах даже самое благожелательнокроткое поведение клиента может быть расценено как сопротивление, в тех, например,
случаях, когда он особенно охотно соглашается работать с явно второстепенными
проблемами, оставляя вне терапевтического поля что-то явно более серьезное.
Сопротивление может проявляться демонстративной готовностью к сотрудничеству и
даже вполне похвальной активностью, когда, например, на-гора выдаются большие
количества анамнестической продукции, без того чтобы это сопровождалось
необходимыми изменениями поведения и т. п. Словом, диагностика сопротивления
является наиболее интересной именно в тех случаях, когда его, сопротивления, как бы и
нет. При более подробном рассмотрении проблемы можно выделять демонстративное
сопротивление и латентное, неосознанное и осознанное, активное и пассивное.
Отношение терапевта к сопротивлению может, однако, исходить из его “виртуозногероической” позиции. Суть ее в том, что, как предполагается, сопротивление терапии
сформировано отнюдь не внутренними установками или предрассудками клиента, а есть
результат собственных терапевтических просчетов технического характера. Наиболее
отчетливо такую позицию демонстрируют создатели НЛП Дж. Гриндер и Р. Бэндлер,
утверждая, что сопротивление есть результат неверной диагностики ведущей
репрезентативной системы и, как следствие, неправильной коммуникации с пациентом по
причине неверного присоединения.
С одной стороны, сопротивление, как мы установили, формируется у клиента до начала
терапевтического действия, с другой стороны, не заканчивается с прекращением терапии.
Собственно, подобно анализу, который, как мы знаем, может быть “конечным и
бесконечным”, сопротивление может не начинаться вовсе, а может и не кончаться
никогда. Постфактум-сопротивление — это одна из проблем процедуры расставания, но
совершенно ясно, что готовиться к ней надо в течение всего терапевтического курса,
постоянно возвращаясь к тому, что же, собственно, будет, когда терапевт и пациент — его
добровольная жертва — распрощаются.
Умел вызвать сопротивление — умей и работать с ним. Диагностика характера и типа
сопротивления определяет стратегии и техники его преодоления. Пациент
сопротивляется именно тому, что с ним делают, и тому, что о нем думают, и ничему
другому. Получается, что чем меньше терапевт будет “делать сам”,
278
тем больше у нас оснований ожидать, что и пациент не будет особенно досаждать
сопротивленческими выходками и капризами. Основная, испытанная множеством школ,
стратегия, как известно, заключается в том, чтобы предоставить клиенту широкие
возможности как бы самому направлять терапевтический процесс, проявлять какую
угодно инициативу в любом объеме. Речь, понятное дело, идет о таких вещах, как
попустительство, невмешательство, нестеснение, недеяние в духе даоистского “у-вэй”,
терапевтическое (харизматическое) самоуничижение (см. раздел “Харизматическая
личность”) и т. п., о чем уже сказано здесь вполне достаточно. Иллюзия собственного
существенного влияния на процесс лишает пациента желания идти наперекор.
Одна из возможных здесь тактик — предикция сопротивления и предварительное
обсуждение с клиентом как мотивов, побуждающих клиента к этому, так и разнообразных
типов сопротивленческого поведения. Мы говорим, например, что он, пациент, неизбежно
будет сопротивляться тому, что мы с ним собираемся делать, ибо это задевает его
жизненные интересы, идет вразрез с морально-нравственными представлениями,
ущемляет его автономию и т. д. Если же мы не только обсуждаем это дело, но еще и
предписываем пациенту в парадоксальном духе сопротивляться нашей терапии, то,
несомненно, это очень хороший способ предохраниться от сопротивленческих
неожиданностей. То же самое относится и к постфактум-сопротивлению. Предсказывать и
предписывать можно и его.
Другой, уже обсуждавшийся стратегический путь — транстерминационный. Любое
измененное состояние сознания, гедонистическое по своей природе, примиряет пациента с
печальной необходимостью стать добычей терапевта. Непротивление клиента как бы
отчасти покупается взамен на предоставленные ему в пользование на время сессии
удовольствия, связанные с ИСС. Здесь могут быть задействованы все известные нам виды
транстерминации, как вместе, так и порознь. Так что все богатство и разнообразие
транстерминационных практик сформировалось, без сомнения, в расчете на
контрсопротивленческие потребности всего психотерапевтического сообщества.
Как уже говорилось в разделе, посвященном структуре школьных теорий, очень важен в
смысле формирования сопротивления образ терапии, преподносимый пациенту. Является
ли этот образ рационально-схоластическим или мистически-трансцендентным, построен
ли он на обращении к жизненно-смысловым сферам или инфантильно-сексуальным — все
это не может не оказывать влияния на сопротивление клиента, но исчисление такого
влияния возможно только в конкретной ситуации. Акциональная часть “образа метода”
связана не в последнюю очередь
279
с транстерминационной процедурой. Именно она, как уже говорилось, определяет
привлекательность этого образа.
Итак, расписываем ли мы клиенту радости трансстатуса, подвергаем ли его сенсорной
депривации, влияем ли мы так или иначе на его эмоции, озадачиваем ли
неконвенциональным поведением или же пользуемся какими-нибудь особыми
физиологическими процедурами и т. д. — все это в первую очередь для того, чтобы
сопротивление было не таким интенсивным, каким оно, к сожалению, иногда бывает.
Хотя, с другой стороны, к счастью, его порой мы не встретим ни в каком виде, но эта
ситуация, как уже говорилось, не представляет никакого интереса. В сущности, без
существования феномена сопротивления мы не имели бы сегодня ту психотерапию,
которую имеем. Нам жилось бы намного скучнее и беднее. Пациенты, конечно,
вылечивались бы намного проще, но удовольствия от этого не испытывал бы никто.
Концепции, не учитывающие фактора сопротивления, не представляют никакого
интереса. Они скучны, как скучна всякая утопия, о чем, впрочем, уже шла речь.
Мы убеждены, что прочитавший эти правдивые страницы разумный читатель уже
прекрасно понимает, что ему делать, когда, наконец, дочитав книгу до конца, он без помех
отдастся процессу сочинения новых методов. Дело в том, что перед ним неизбежно
встанет проблема создания текста, который бы легитимировал его несомненно
справедливые желания сконструировать новую терапию. Мы и это предусмотрели и
попытаемся в следующей главе облегчить читателю его задачу.
280
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
Из существующих способов распространения школьных идей сочинение текстов является
одним из самых распространенных. Задача рекрутирования, соблазнения новых
последователей для отдельных школ, которая стоит перед таким текстом, является
главной. Психотерапевтический текст должен быть в первую очередь привлекательным, в
противном случае его не стоит писать вообще, ибо он не будет отвечать своему
назначению. К сожалению, простой привлекательностью не обойдешься, зачастую
приходится еще и объяснять, как, собственно, надо помогать пациентам, но это,
малозначительное само по себе, обстоятельство ни в коем случае не должно отвлекать нас
от главных целей, известно каких.
Исключительное разнообразие жанров психотерапевтических текстов не может не
броситься в глаза. Одни являют собой полноценные философские трактаты. К сферам
приложения исследовательских усилий психотерапевтов относятся этнология и
социология, история религии и литературы. С другой стороны, распространены тексты,
направленные на крайне ограниченный клинический материал. Тексты, описывавшие
какое-нибудь “Лечение гипнозом заболеваний органов дыхания у детей в возрасте 10—15
лет в санаторно-курортных условиях Западного побережья Крыма” или что-нибудь еще в
этом духе, еще недавно, в советский период, составляли основной корпус сочинений
российских терапевтов. Из всех жанров психотерапевтической литературы, о которых
речь пойдет ниже, при тоталитарном режиме неизбежно будут преобладать именно такого
рода банальные узкотехнические инструкции, совершенно лишенные перспектив
доктринального расширения. Отсюда ясно, что жанровая структура психотерапевтической
литературы не в последнюю очередь зависит порой от вненаучных факторов. Ну и
конечно, проект, озаглавленный, к примеру, “Как создать свою школу в психотерапии...”,
в условиях тоталитарного общества — дело совершенно несбыточное.
Благотворное же отсутствие цензурных ограничений приводит к исключительному
жанровому разнообразию. Так, например, под обложкой одного и того же журнала,
руководства или сборника можно прочитать тексты посвященные, к примеру, с одной
стороны — “психотерапевтическому облегчению зубной
281
боли”, с другой — “таинству человеческой личности, созданной по образцу живого Бога”
(Московский психотерапевтический журнал, 1997, № 1).
Целям, которые преследуют пишущие терапевты, служит такая немаловажная часть
школьного текста (точнее, всего корпуса школьных текстов), как название метода, школы,
направления. Всегда следует серьезно позаботиться о том, чтобы оградить то
пространство, в котором ты будешь работать, место, которое придется защищать от
участников вечного состязания терапий. В нынешние времена, когда множество
терапевтических практик носит синтетически-эклектический характер, порой
единственное, что остается от какого-либо метода, это его название. Как говорил М.
Хайдеггер, “…имя мыслителя стоит в качестве заглавия к делу его мысли” (М. Heidegger,
1961, s. 9). В психотерапии это заглавие неизбежно дополняется подзаголовком —
названием метода.
Те, кто понимает, о чем идет речь, никогда не принижают значение этого дела, как,
например, создатель провокационной терапии Ф. Фарелли, которому разумный коллега
настойчиво советовал: “Если ты дашь ей (новой терапии — А. С.) название, то она обретет
собственную жизнь. Это — твое дитя, Фрэнк, а каждому ребенку нужно имя” (Ф.
Фарелли, Дж. Брандсма, 1996, с. 44). Брошенное семя попало на благодатную почву: “Мы
начали придумывать разные названия, составили целый список таких названий.... В
конечном счете мы начали обалдевать и пополнили список такими названиями, как
отвратительная терапия, терапия греха, атаки и т. д. ” (там же, с. 44). Однако все
окончилось благополучно, и искомое название — “провокационная терапия” — было
найдено. Мы с полным пониманием относимся к хлопотам счастливого изобретателя,
который, разумеется, не напрасно “начал обалдевать”. Без сомнения, Ф. Фарелли
прекрасно понимал, зачем так старается.
Безусловно, терапевт дает название своему методу с тем, чтобы очертить
определенное идеологическое пространство. Именно эта причина присвоения названия
той или иной школе не вызывает никаких сомнений. Названия отражают потребность в
сооружении некоего тотема для собирания вокруг него тех, кто пожелает собраться. Они
далеко не всегда транслируют смыслы, заложенные в основание школьных теорий и
практик. В самом деле, название юнгианского направления — аналитическая психология
имеет смысл только как противовес фрейдизму — психоанализу. То же самое можно
сказать и о психосинтезе Е. Ассаджоли, который, однако, поработал над названием не в
пример основательнее, чем Юнг. Тот всего лишь поменял местами “анализ” и
“психологию”, а этот как-никак — “анализ” на “синтез”.
282
Список недоразумений, касающихся школьных названий можно продолжить.
Индивидуальная психология А. Адлера, без сомнения, не менее “коллективная”, чем
психоанализ, которому она себя так же противопоставляет. Что касается, например,
метода К. Роджерса, то ясно, что не “центрированной на клиенте” терапии быть не может,
точно так же как вряд ли кто-нибудь решится сказать, что его психология не
“гуманистическая”. Есть, конечно, и примеры относительного соответствия названия
смыслу метода. Но поскольку это соответствие имеет место далеко не всегда, надо думать
не столько о нем, сколько о том, чтобы хоть что-нибудь обозначало конкретный проект.
Озаглавив же наконец то, что авторам хотелось озаглавить, они начинают это
описывать. Психотерапевтические дискурсы, как уже сказано, умещаются в рамки
различных жанров. Сразу надо оговориться, что эти жанры почти не встречаются в чистом
виде, чаще всего мы их наблюдаем в различных смешениях. В контексте нашего
повествования мы рассматриваем их как различные способы эффективного воздействия
на читателя с определенными целями, известно какими именно.
Первый жанр, о котором пойдет речь, не является самым распространенным, более того,
в чистом виде он встречается крайне редко. Мы обозначили его как манифест. Цель
манифеста — провозглашение существования и описание принципов нового метода.
Главное здесь — это обоснование и оправдание того, совершенно нелепого на первый
взгляд, обстоятельства, что при обилии существующих подходов и методов возникла
острая потребность еще в одном. Разумеется, это обоснование должно носить
имперсональный характер, то есть новый метод должен, по возможности, подаваться как
необходимый и единственно возможный ответ на очевидно насущный вызов,
обусловленный именно объективными, имперсональными обстоятельствами, но никак не
произволом или желаниями терапевта.
Собственно, манифест формируется в пространстве поля напряжения, возникающего
между вызовом и ответом. Как уже говорилось, автор всегда свободен как в выборе
вызова, так и в сочинении ответа. Единственное, в чем он стеснен, так это в способе
изложения вызывающе-ответных обстоятельств. Здесь необходимо делать ссылку на
длительные клинические наблюдения, на очевидность существенного прироста
эффективности от употребления новых приемов. Следует избегать указаний на то, что
именно такая организация психотерапевтической ситуации призвана в первую очередь
транслировать в профессиональное пространство авторские преференции и желания.
Главное здесь — сокрытие того, что само по себе признание права на новый метод есть
цена, которую автор вправе требовать
283
за наличие у себя доброй воли занимаешься психотерапией. Манифест в наибольшей
степени отвечает именно харизматическим притязаниям автора. В нем отражается его
бойцовская позиция и находит выход агрессия против экзистенциального врага.
Неизбежные в манифесте явные или скрытые инвективы направлены против образа
метода иных школ.
Существенной частью описываемого вызова, на который дается ответ, является,
разумеется, неадекватность теорий и негодность техник других школ. Поскольку
большинство известных нам методов сформировалось, отталкиваясь от психоанализа, то
очень часто можно встретить стилистические конструкции вроде “Психоаналитики
считают, что это z, мы же полагаем что это x”. Или: “Представители школы h поступают в
таких случаях так, мы же делаем следующее”. Диффамация, пускай латентная, чаще же
явная, других направлений — обязательная часть любого манифеста. Не имеет смысла
приводить примеры таких высказываний, они, разумеется, на памяти у любого читателя.
Невидимый критик-супервизор, принадлежащий другому направлению, является,
собственно, музой сочинителей всех психотерапий. Сам факт наличия “негодных” школ
обосновывает необходимость существования нашей, как ничто другое.
Чаще всего манифест растворен в других жанрах, речь о которых пойдет ниже. Кроме
того, мы редко имеем дело с созданием манифестов в начальный период существования
той или иной школы. Порой речь идет о “постманифесте”, иначе говоря, “школьное
оформление” новых принципов происходит не сразу с началом практики в новом стиле.
Жанр психотерапевтического текста, который чаще всего поглощает манифест, мы
обозначили как трактат. Как уже говорилось, история психотерапии сложилась так, что
большинство направлений выходит в освоении своего теоретического пространства за
пределы собственно терапевтических интересов. Метапсихологическая потребность
неизбежно выводит автора за пределы, необходимые и достаточные для конструирования
объекта, с которым придется иметь дело в терапии. Именно поэтому корпус текстовтрактатов превосходит по своему объему все остальные жанры.
Как уже говорилось, если сравнивать типографские объемы психоаналитической
литературы, начиная с сочинений Фрейда, то бросается в глаза обстоятельство, что
метапсихологические сочинения занимают намного больше места, чем сочинения по
технике. Не нужно предаваться кропотливым подсчетам, чтобы убедиться в том, что это
типично для всех глубиннопсихологических или экзистенциалистски ориентированных
школ. Описание реальности, в которой существует личность, получается,
284
всегда считалось делом безусловно более важным, чем методика воздействия на эту
реальность. Последнее время нарастающая технологизация терапевтического процесса
немного снизила удельный вес жанра трактата в общей массе.
Трактат формируется в пространстве между полюсами редукция — генерализация.
Основные структурные элементы трактата описаны в обоих теоретических разделах
нашего исследования — синхроническом и диахроническом. Формируя концептуальный
аппарат, необходимый для описания закономерностей клинического этиопатогенеза,
автор, сперва сводя к нему все наблюдаемые феномены, впоследствии неизбежно выносит
эти механизмы далеко за пределы исходного терапевтического обихода. Такая
идеологическая трансгрессия осуществляется по клинически-проблемному и
патографическому направлениям, о чем уже шла речь. Основные текстами по изучению
истории психотерапии будут в первую очередь творения этого жанра. Речь идет о таких
трактатах, как “Толкование сновидений” З. Фрейда, “Психологические типы” К. Г. Юнга,
“Игры, в которые играют люди” Э. Берна, “Функция и поле речи и языка в психоанализе”
Ж. Лакана, “Психоанализ и дазайнанализ” М. Босса и т. д.
Разумный терапевт, сочиняющий текст, разумеется, подумает о изобретении
оригинальной терминологии. Любой термин, помимо того что он очерчивает сферу
влияния автора, имеет, безусловно, суггестивное воздействие на возможного читателя.
Терминологический гипноз — это одна из важнейших составных любого текста,
психотерапевтического в особенности. Динамика любого психотерапевтического
дискурса направлена в первую очередь на преодоление сопротивления читателя, подобно
тому как работа психоаналитика направлена на преодоление сопротивления клиента.
Если пишущий тексты стремится так или иначе привлечь читателя, то читателю важно
так или иначе суметь противостоять наведению транса. Было бы очень хорошо, если бы
существовала возможность взглянуть на предлагаемое нам с расстояния определенной
дистанции, которая так или иначе обеспечивала нашу независимость. Здесь существенную
помощь мог бы оказать понятийный аппарат, описывающий несущие основы, как
содержательные, так и формальные, любого текста по психотерапии. Тогда не составляло
бы большого труда разгипнотизировать читателя от состояния концептуального и
терминологического гипноза, который так или иначе присутствует в любам школьном
психотерапевтическом тексте.
Следующий жанр или, если угодно, элемент терапевтического текста — патент. Речь
идет об описании технического изобретения и особенностях его применения.
Обоснование патента
285
тоже может начинаться с попытки ответить на некий вызов, причем эта, “манифестовая”
часть патента имеет дело с вызовом “неэффективности”, в то время как вызов, на который
отвечает трактат, это, понятно, есть вызов “неадекватности” школьных метапсихологий
предшественников.
Если основная модальность (тип отношения текста к реальности) трактата —
дескриптивная, иначе говоря, в нем описывается картина развития личности и патологии,
то модальность патента — скорее деонтическая (греч. deon — должное). В этой
модальности излагается то, что разрешено, и то, что запрещено делать терапевту с
пациентом. Патент построен на системе предписаний и запретов. На самом деле
продуктивной является в основном предписывающая часть. Чаще всего запреты
обусловлены соображениями необходимости фиксации школьных рамок и зачастую легко
преодолеваются в практиках новых методов. Примеры тому мы уже приводили. Так,
запрет на “нелогическое” построение гипнотической песни в классическом гипнозе был
преодолен М. Эриксоном, предложившим технику запутывания. Фрейдовским принципом
невмешательства (а это тоже, в сущности, запрет) продуктивно пренебрег Ш. Ференци,
предложив так называемый активный психоанализ. Собственно, такой же может быть
судьба любого из устанавливаемых запретов. Исторически получается так, что чаще всего
технический запрет обозначает место, где совершается прорыв в новую технику. Во
всяком случае, именно так следовало бы относиться к этому делу разумному автору.
Патент имеет очевидно коррумпирующий характер, ибо предлагает просто следовать
определенным предписаниям, в результате чего гарантируется ощутимый успех. Степень
свободы рекрутируемого читателя определяется подробностью изложения технической
процедуры. Видимо, в случае подробного изложения читатель чувствует себя более
скованным в смысле собственной активности, зато процедура выглядит готовой к
употреблению и не вызывающей дополнительных вопросов. Если же техническое
описание носит приблизительный характер, это, разумеется, освобождает от навязчивых
забот по отслеживанию точности применения метода, как бы освобождает от
превращения супервизора в некую внутреннюю инстанцию психотерапевта. К счастью,
принцип laisser-faire, господствующий, как мы неоднократно убеждались, в большинстве
психотерапий, предполагает максимальный либерализм в применении техник. Очень
часто можно слышать об “отслеживании” процесса, о присоединении к нему и т. д.
Подробно, шаг за шагом расписанные процедуры, вроде того, как это принято, например,
в НЛП, встречаются не так уж часто. Ясно, что никого не следует отпугивать
286
слишком подробно прописанным регламентом технической процедуры, ущемляя
нарциссизм читателя скрупулезным разъяснением каждого шага. Нельзя забывать, что
сопротивление имеет место далеко не только в ходе терапии, оно имеет место и при
чтении текстов, равно как и в процессе обучающих тренингов, анализов и т. д. Сочиняя
патент, необходимо помнить, что мы даем не только описание, но одновременно в том же
типографском пространстве осуществляем вербовку. Трудность излагаемой инструкции
может быть смягчена только обещаниями безусловной результативности, как это,
собственно, мы видим в текстах по НЛП.
В основном возможная структура содержания текста, относящегося к жанру “патент”,
изложена нами в разделе “Акция”. Нет нужды, видимо, разъяснять, что все технические
предписания должны выглядеть так, как если бы делать предлагаемое было бы нетрудно,
доступно каждому, а кроме того, доставляло бы удовольствие как пациенту, так и,
разумеется, терапевту. Об интересах терапевта достаточно написано в нашем
исследовании, об интересах пациента — во всех остальных.
Другой, весьма распространенный жанр, близкий жанру патента, может быть обозначен
как инструкция. Он структурируется между полюсами показаний и противопоказаний.
Тут просто описывается, как же именно надо применять уже известные терапии к новым
реалиям психотерапевтической ситуации. Инструкция — это текст, связанный с
процессом проблемно-клинической экспансии. Каждая инструкция включает в орбиту
метода (или школы) новый клинический феномен или новый тип проблем. Жанр этот
(или, если угодно, элемент текста) весьма распространен, но исключительно банален.
Определенная тривиальность всегда будет уделом этого жанра, разумеется, кроме тех
случаев, когда речь идет об инструкции, обучающей читателя “Как создать свою школу в
психотерапии...”.
Заранее известно, что все методы стремятся к бесконечному расширению и поэтому
могут быть приложены к любой из возможных проблем. Инструкции, излагающие какой
угодно метод, можно легко предусмотреть, указав в заключение исходного текста-патента
все возможные сферы приложения. Чаще всего они требуют незначительных
модификаций. Модификация метода в случае приложения его к новой нозологии или
новому типу проблем — это неизбежная жертва за расширение поля влияния.
Психоанализ, например, претерпевает изменения в случае применения его при
шизофрении, как это происходит с прямым анализом Дж. Розена (J. Rosen, 1962). Однако
он остается при этом психоанализом, как и был, в то время как границы своего
применения расширяет.
287
Перечисление противопоказаний к данному методу будет делом заведомо более легким,
чем составление списка показаний, ибо ясно, что последних всегда будет существенно
больше. Как уже говорилось, противопоказания для каждого из терапевтических
методов совпадают чаще всего с противопоказаниями для психотерапии вообще.
Противопоказаны обычно данному методу случаи, совершенно безнадежные в плане
прогноза, но и здесь, конечно, разумный автор, знающий, чего он хочет, не остановится.
Пример А. Минделла, работавшего, как известно, с людьми в состоянии предсмертной
комы, очень показателен в этом смысле (A. Mindell, 1989). Своеобразие инструкции в
том, что она центрирована не на школьном методе, а на проблеме, к которой он
приложен. В инструкции автор приближается к интересам пациента, так близко, как ни в
каком другом жанре.
Следует также заметить, что жанр инструкции весьма годится для употребления в
текстах эклектически-синтетического проекта, когда мы размышляем над тем, какие
методы или их фрагменты годятся в сочетании или порознь для данного типа проблем или
болезней. Критерии оптимальности такого сочетания, как уже говорилось, трудно
сформулировать. Понятно, однако, что акция в целом становится более богатой, более
разнообразной, что, как мы знаем, особенно важно с точки зрения необходимости
обновления со временем приедающейся пациенту транстерминационной процедуры.
Жанр инструкции — самый свободный от школьного идеологического пресса — может
быть также и интерактивным. Судя по всему, из всех жанров именно инструкция может
быть обращена непосредственно к пациенту. Пример такого текста — книга Дж.
Рейнуотер “Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом” (Дж. Рейнуотер,
1992). Там можно встретить “Упражнение на возрастную регрессию”, упражнение
“Похвальное слово самому себе” и даже “Упражнение на безусловную любовь”.
Все названные жанры являются продуктом психотерапевтического сочинительства. Все
это, так сказать, fiction. Степень доверия к ним — чаще всего вопрос школьной
принадлежности. Для преодоления этого, вполне естественного в ситуации школьного
состязания, скепсиса последнее время стал распространяться новый документальный, так
сказать, жанр — протокол. Протоколы представляют собой расшифровки магнитных или
видеозаписей как терапевтических сессий, так и тренингов, проводимых для обучающихся
терапевтов. Их безусловное преимущество в том, что они исключительно наглядны, а
кроме того, их документальная достоверность ставит эти тексты очень высоко в
жанровой иерархии и сулит достойную перспективу.
288
В этом смысле исключительно убедительными и вообще очень верными по замыслу
являются протоколы тренингов, новейших направлений, таких, как НЛП, эриксонианская
терапия. Среди действующих лиц, “выведенных” на страницах этих текстов встречаем
новую фигуру, а именно — обучающегося терапевта. Он предстает перед нами как бы в
пациентской позиции и как бы сам подвергается терапевтическим процедурам. Обучение
выглядит как помесь терапевтического процесса и сценического действа. Судя по всему,
расчет здесь на то, что читатель идентифицирует себя с обучающимся участником
тренинга. Наивный, хотя и сомневающийся в чем-то, обучающийся терапевт олицетворяет
собой преодолеваемое тренером сопротивление методу, на который его, обучающегося,
энергично натаскивают. Он задает вопросы, которые, скорее всего, возникли бы у
читателя, окажись он в подобной ситуации, но ответы уже наготове, так что читатель в
подобной — сопротивляющейся — позиции уже не окажется. Читатель, отождествляя
себя с участником процесса, зафиксированного в “протоколе”, неизбежно теряет часть
своего сопротивления тексту. Протоколирование процедур “ответов на вопросы” еще
более успешно помогает авторам справиться со своими задачами рекрутирования
последователей, чем любой другой жанр.
Однако самый интересный жанр психотерапевтической литературы — случай. Случаи,
описываемые в психотерапевтических текстах, существенно отличаются от тех, что
приводятся, например, в клинической психиатрической литературе. Они несут на себе
совершенно иную смысловую нагрузку, преследуют иные цели. Эти цели в значительной
степени определены своеобразием взаимоотношений психотерапевта со своим методом.
Такие тексты также детерминированы своеобразным самосознанием психотерапевта,
стремящегося к максимальной харизматизации своего образа, к тому, чтобы убедить
читателя, что его доктринально расширенный, технически безупречный метод является
безусловно действенным. Именно в силу этих причин мы почти совсем не отмечаем в
психотерапевтической литературе публикаций историй болезни с неудачным исходом.
Наоборот, в клинической психиатрической литературе мы часто можем встретить
описания катастрофического течения болезни. В подобных историях болезни,
посвященных описанию течения шизофрении, например, все может начинаться с
состояния спутанности и ощущений преследования, после чего постепенно складывается
картина негативизма с кататоническими застываниями, симптомом воздушной подушки и
многочасовым неподвижным лежанием в эмбриональной позе. Завершается это все
конечным кахектическим состоянием, с окончательным
289
отказом от пищи и, несмотря на парентеральное питание, — смертью при явлениях
общего истощения (кратко изложен случай из учебника, см. Г. К. Ушаков, 1973, с. 292).
Ничего такого мы никогда не найдем в психотерапевтической литературе. Какой бы ни
была тяжесть исходного состояния, в этих текстах терапевтический случай кончается
неизменным успехом. Так, фрейдовские паралитичные барышни, явившиеся на прием,
едва волоча ноги, в конце концов получают полную свободу передвижения. Разбирая
случай Элизабет фон Р., Фрейд не может отказать себе в удовольствии посетить бал, где
должна танцевать и героиня описанной им истории болезни: “Я не хотел упустить случая
посмотреть, как моя бывшая пациентка промелькнет мимо меня в быстром танце” (З.
Фрейд, 1992, с. 63).
По поводу того, как вообще у него выходит описание клинической истории болезни, З.
Фрейд, немного удивляясь себе самому, не без некоторой, столь присущей ему,
добросовестной наивности, пишет так: “Психотерапевтом я был не всю свою жизнь,
будучи воспитан, как и другие невропатологи, на диагнозах, связанных с определенной
локализацией, и прогнозах, построенных с помощью электроприборов, и поэтому мне
самому кажется странным, что истории болезни, которые я пишу, читаются как новеллы
и что они не поддаются оценке с точки зрения строгой научности” (курсив наш, — А. С.)
(там же, с. 63). На самом деле, совершив такой литературный поворот, Фрейд, помимо
прочего, покончил с отчуждением терапевта от того метода, которым он пользуется, и,
кроме того, сделал терапевта полноценным, если не главным, героем истории болезни как
жанра.
Такое же развитие событий мы найдем почти в любой другой истории болезни,
написанной психотерапевтом. Обостренно-нарцистическая природа самосознания
психотерапевта, а кроме того, ситуация постоянного состязания школ неизбежно нудит
автора истории болезни выглядеть перед лицом вечного оппонента-супервизора,
принадлежащего к другой парадигме, безусловно успешным целителем, не дающим
осечек, безотказно потентным, за что бы ни взялся. История болезни — это наглядное,
зримое доказательство такой силы, предъявляемое недоброжелательному критику.
“Бессознательное терапевта” в ситуации множественности школ и направлений включает
в себя и “школьные потребности”. Без сомнения, борьба идет не только с сопротивлением
пациента, но и с конкурентным давлением других школ. Поединок на психоаналитической
кушетке идет и с психодраматической сценой, с кругом группы и мн. др. Случай —
достояние школы, довод в пользу достоинств метода. В ситуации
290
множественности школ в процессе терапии как бы незримо присутствует другой. Этот
другой — терапевт из иной школы. Успешный терапевтический случай — это всегда еще
и довод в пользу того метода, которым ты пользуешься. Психотерапевт работает с
клиентом в том числе и для него, для супервизора другой школы.
В тех случаях, когда серьезно помочь невозможно в силу коренной сущности болезни,
психотерапевт может вознаградить пациента чем-то большим, чем просто здоровье. Вот
какой случай описывает В. Франкл:
“Нам известен человек, у которого в результате предродового поражения мозга были
частично парализованы все четыре конечности. Его ноги были настолько атрофированы,
что всю жизнь он был прикован к каталке. Вплоть до позднего отрочества он вообще
считался умственно отсталым и оставался безграмотным. В конце концов какой-то ученый
заинтересовался им и организовал для него минимальное начальное обучение. В
поразительно короткий срок наш пациент научился не только читать, писать и тому
подобное, но и приобрел знания на уровне университетского образования в тех вопросах,
которые вызывали его особый интерес. Теперь уже многие известные ученые и
профессора стали соперничать друг с другом за право стать его частным преподавателем.
Он создал в своем доме литературный салон, в котором сам стал наиболее интересной и
привлекательной фигурой. Лучшие красавицы боролись за его любовь, за место в его
постели, настолько теряя головы, что случались целые скандалы и даже попытки
самоубийства (завистливый курсив наш, — А. С.). А этот мужчина не мог даже говорить
нормально! Его артикуляция была резко затруднена тяжелой болезнью; каждое слово он
произносил с неимоверными усилиями и перекошенным лицом” (В. Франкл, 1990, с. 212).
Почему именно этот пациент В. Франкла удостоился таких наград (особенно, конечно,
красавиц), понятно. С одной стороны, он неизлечимо болен, а жанр
психотерапевтического случая никак не допускает дурного финала, так что эта его
неизлечимость обязательно должна быть компенсирована каким-нибудь особо
выдающимся призом. С другой, получается, что он, сделав такую карьеру, сам, без
подсказки доктора (создателя школы, между прочим), продемонстрировал на примере
своего, исключительно тяжелого случая колоссальную целительную силу логотерапии и,
таким образом, выступил как бы в роли независимого эксперта, исключив все возможные
сомнения относительно действенности метода. Без упоминания о борьбе за место в
постели протагониста у этого случая, боимся, было бы совсем немного шансов на
публикацию.
291
Главный сюжет психотерапевтического случая как жанра сжато сформулирован Д.
Гриндером и Р. Бэндлером в названии их известной книги: “Из лягушек в принцы”.
Изначальная безнадежность состояния пациента, которую он предъявляет при первой
встрече, неизбежно сменяется победным великолепием терапевтического результата.
Это правило носит очень жесткий характер, исключения из него почти не встречаются.
Зачастую (немаловажная деталь!) пациент, герой истории болезни, является к терапевту,
автору сюжета, побывав до него у множества других психотерапевтов (или врачейинтернистов в случае психосоматической болезни), которые, конечно, не смогли сделать
ничего путного, пользуясь не тем методом, каким надо было бы, а именно методом автора
истории. Нет тому примера, чтобы автор случая оказался в числе тех, кого наш пациент
посещал бы до того, как попал к эффективному аналитику или гипнотизеру.
Опубликованная история болезни — это всегда история последней терапии данного
пациента. Она последняя, потому что обязательно удачная. “Предыдущие” — это всегда
другие доктора, которые, понятно, от описания данного случая скорее воздержатся, ибо не
достигли в нем успеха. Не подвергая сомнению каждый отдельный случай из
терапевтической литературы, мы тем не менее не сомневаемся, что в тексты попадают
далеко не все истории из тех, которыми занимаются.
Порой сюжет “принцелягушки” соединяется с мотивом “обращение Фомы
неверующего”. Иначе говоря, тяжесть состояния клиента, явившегося к автору случая,
определяется не только самой клинической картиной, но и пессимистическим
скептицизмом в отношении реальной эффективности терапевтического метода,
практикуемого повествователем. Здесь, конечно, по сюжету, дурную роль могли сыграть
предыдущие, малоэффективные, нехаризматические, пользующиеся бездарными
техниками доктора. Это обстоятельство, разумеется, придает всей истории
дополнительный драматический эффект, но, конечно, вызов, брошенный автору случая, не
остается без ответа. Пациент, подвергнутый правильному лечению, излечивается не
только от своих симптомов, но и от своего, оказавшегося на поверку совершенно
нелепым, скептицизма, после чего начинает, естественно, повсеместно прославлять
превосходный во всех отношениях метод, принесший такое облегчение в его, очень
непростом, случае. Такие сюжеты особенно часто встречаются у авторов-гипнотизеров.
Миф об их магической силе всегда наталкивался на определенный скептицизм.
Разумеется, это скептицизм, судя по этим историям, неизменно победно преодолевался.
Жанровый эквивалент подобных историй болезни — это житейски-анекдотическое
повествование хвастуна-охотника или рыболова
292
о размерах убитого зверя или пойманной рыбы. С другой стороны, такое дискурсивное
поведение является следствием агрессивного отношения к гипнозу, психоанализу со
стороны так называемой медицинской общественности.
Порою как удачные в психотерапии расцениваются случаи совершенно особого рода.
Ни в какой другой терапевтической практике их не то чтобы даже не взялись описывать,
а, скорее всего, попросту не стали бы и упоминать. Вот А. Минделл, например, так
завершает описание подобного случая: “После этого я часто навещал своего пациента, и
каждый раз, когда я был рядом, он “взрывался”. Он издавал разные звуки, плакал, кричал
— и все это безо всякого понуждения с моей стороны. Его проблема стала понятна ему;
сами телесные ощущения заставляли его остро осознавать, что ему следует делать. Он
прожил еще два или три года и умер, научившись лучше себя выражать” (курсив наш, —
А. С.) (A. Mindell, 1985, р. 7). Критерий терапевтического успеха здесь, понятно “лучше
себя выражать”, а “умер” в смысле оценки успеха как бы даже не берется в расчет. Тот же
А. Минделл, как уже упоминалось, описывает случаи психотерапии с пациентами,
находящимися в состоянии предсмертной комы. Случаи эти рассматриваются им как
вполне успешные, во всяком случае достойные терапевтических усилий. Это несмотря на
то, что они благополучно кончаются смертью пациентов, причем смерть наступает вскоре
после завершения психотерапевтических действий, которые, по мнению автора, были, по
меньшей мере небесполезными.
Главным героем психотерапевтического случая как жанра всегда является не пациент,
но терапевт. Жанр случая формируется под влиянием нарциссизма терапевта, а вовсе не
так называемого научного интереса. Это он, терапевт, упорно ищет первопричины
проблем клиента, он отгадывает загадки, которые ставит перед ним случай, он
преодолевает упорное сопротивление, он возбуждает в пациенте “переносное” чувство и
мужественно, ответственно сдерживает собственный контрперенос, это он одерживает в
конце концов победу. Отдельным случаям свойственна даже некоторая исповедальная
авторская интонация, когда повествование о поиске выхода из сложившейся ситуации
построено как рассказ от первого лица и явно написано в жанровых традициях
психологической прозы. Сопротивляющийся пациент выступает в относительно
пассивной роли, позволяя, однако, терапевту показать себя героем, побеждающим
препятствия. В сущности, любой текст, порожденный психотерапевтической школой,
носит рекрутирующий характер, и текст истории болезни (лучше сказать — истории
терапии) здесь не только не исключение, но даже наоборот — крайняя степень
293
проявления этой тенденции. Это понятно, ибо интересы школы смыкаются здесь с
персональным нарциссизмом терапевта.
Противопоставление жанров клинической психиатрической истории болезни
психотерапевтическому случаю вполне закономерно. Оно связано с коренным различием
самосознания клинических психиатров и психотерапевтов. Это нашло свое отражение в
двух научно-мировоззренческих парадигмах, сложившихся к началу нынешнего столетия,
а именно клинической и психотерапевтической.
Клинический психиатр формировался в специфических условиях закрытого
учреждения, где задачи врача в основном сводились к тому, чтобы “изолировать и
наблюдать” (М. Фуко, 1998). Клинический психиатр не стремился к терапевтическому
успеху в той же степени, как его коллега, занятый частной практикой вне стен
психиатрической клиники. Терапевтический нигилизм, который, в частности,
приписывали создателю клинической психиатрической парадигмы Э. Крепелину, был
неизбежным порождением существования исследователя в среде Anstalt-Psychiatrie
(психиатрии закрытых лечебных учреждений). В противоположность ему психотерапевт
(изначально — психоаналитик), как уже сказано, формировался как исследователь в
ситуации частной практики, где терапевтический успех неизбежно был залогом
выживания.
Ясно, что именно такая ситуация требовала создания соответствующего языка, языка, в
котором клиническая реальность была бы представлена как некое поле препятствий,
которое необходимо преодолеть. Так что, как было уже сказано выше, клиническая
реальность должна была неизбежно быть переписана с языка, в котором доминируют
жалобы, симптомы и синдромы, на язык желаний, конфликтов, препятствий, где будет
место инстанциям и границам, купидо и обстанциям и т. д. Такой язык создает условия
для последующего описания совершения психотерапевтических действий.
Основное различие между клиническим психиатром и психотерапевтом носит в первую
очередь семиотический характер. Симптом как знак для клинического психиатра — это
знак-индекс. Иначе говоря, речь идет об определенном признаке, который может
совпадать или нет с описанием симптома в уже существующей классификации. Если его в
этой классификационной схеме нет, то его описывают и там размещают.
Для психотерапевта симптом — это знак-символ, подлежащий расшифровке. Здесь не
так важны феноменологические подробности, сколько возможность выявить реальность,
скрывающуюся за внешней картиной симптома. Такой подход предполагал, что симптом
сам по себе значим вне включенности в
294
клинические классификации, а кроме того, с тем, что стоит за симптомом, можно что-то
сделать, исходя из его собственной структуры. Безусловно такой подход был порожден
идеологией терапевтического оптимизма, необходимым условием работы в ситуации
частной практики.
Тут надо заметить, что далеко не все полезные возможности психотерапевтической
литературы использованы. В частности, большинство авторов исходят из традиций
построения текстов, принятой в научной литературе, и немало не заботится ни о
риторических, ни о художественно-стилистических достоинствах своих текстов, об
“удовольствии от текста” (Р. Барт) их возможного читателя. Отчасти это и понятно —
большая часть рекрутирующей деятельности осуществляется в рамках непосредственного
контакта, в ситуации обучающего тренинга или анализа. В любом случае автору следует
позаботиться о беллетризации текста, насколько это в его силах.
Не вызывающая интереса научная проза имеет право на существование только в тех
случаях, когда автор способен экспериментально обосновать адекватность своего
теоретического построения и эффективность основанной на нем практики. Отсутствие
такой возможности должно, понятное дело, сглаживаться соображениями иной
привлекательности. “Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная
изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна проза Пушкина” (М. М.
Зощенко, 1960, с. 607). Собственно, тем же самым нас должен заинтересовывать и
достойный психотерапевтический текст. Критический анализ этих текстов должен
осуществляться приблизительно с той же точки зрения, с которой мы оцениваем
художественное творение. Подспудная беллетризация психотерапевтической литературы,
примеры чему может привести любой читатель, отражает вполне естественную политику
школ. Потребитель теоретического продукта не должен скучать ни в каком случае.
Следует, однако, оговориться, что форма научного построения дискурса все же
необходима
для
сокрытия
неоднократно
обсуждавшихся
нарцистическиэкспансионистских склонностей психотерапевтов как класса. Несмотря на процесс
постоянного бегства из медицины, психотерапия относится к разряду терапевтических
практик и подспудно неизбежно ориентируется на медицинскую модель. Так что любой
текст, имеющий отношение к психотерапии, несет на себе отпечаток того же
противоречия, которым отмечена вся эта область знания, а именно: необходимость быть
“наукой о духе” в форме, однако, естественнонаучной дисциплины.
295
ВИРТУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Как уже говорилось, терапевты различных направлений отдают дань жанру клинического
случая в силу того, что он дает им возможность наглядно и отчетливо
продемонстрировать достоинства их школьного метода. Разумеется, автор этих строк
испытывает сходное искушение, а именно — явить читателю нарцистические
свидетельства своей терапевтической силы. К сожалению, рамки данного исследования не
оставляют никакой возможности для публикации случаев удачных исцелений из
собственной практики. В тексте, описывающем порождающие структуры
психотерапевтического метода, в качестве “историй болезни” могут приводиться только
истории сочинения психотерапий и построения вокруг них организационных образований
— собственно школ.
Здесь следует сделать еще одну оговорку. Дело заключается в том, что один и тот же
человек не может быть автором терапевтического метода как такового и одновременно —
инструкции, разъясняющей, как, собственно, создается метод вообще. Если кому-либо и
случается сконструировать некий метод, то, конечно, он ни при каких обстоятельствах не
будет обучать кого-либо чему-либо другому, кроме того, что сам изобрел и продвинул.
Сочинение психотерапии и формирование вокруг нее школы — это не только техническая
задача, это еще и определенный способ социального поведения. Набор поведенческих
стратегий и жестов, присущих создателю школы, хорошо известен: идеологическая
изоляция внутри собственной школы, жестко состязательное отношение к другим
терапиям, диффамация и вытеснение других методов и т. д. Так что автором данного
текста никак не может быть человек, который сам создал что-то в этом роде, а теперь
делится с другими своим изобретением. Это в лучшем случае может быть человек,
который “подсмотрел”, как это делают другие, и поведал потом о своих наблюдениях.
Дорожный указатель сам никак не может двигаться в направлении, которое он
указывает.
Само собой разумеется, что сочинение психотерапевтического метода и наращивание
вокруг него школы — исключительно долгосрочное и кропотливое дело. Нет тому
примера, чтобы один человек в ходе своей профессиональной карьеры создал более
одного терапевтического подхода. Речь может, конечно,
296
идти о нескольких разных техниках одного и того же автора, но радикальная смена
парадигмы автором метода и успешная деятельность в новом идеологическом
пространстве — дело невиданное и немыслимое. Конечно, здесь задействованы не в
последнюю очередь соображения харизматического порядка, которые серьезно
затрудняют переход на позиции иной идеологии. В данной ситуации это выглядит как бы
аналогом конфессионального отступничества. Однако сочинение метода вовсе не является
чем-то само собой разумеющимся, даже в том случае если читатель основательно изучит
данный труд. Как показывает опыт, новые методы возникают вовсе не в результате
изучения текстов неких авторов, мнящих разъяснить другим, “как создать свою школу”.
Они вырастают в первую очередь из желаний и возможностей самого автора. Сочинение
метода — это сложная часть жизненного пути, а вовсе не результат ознакомления с
определенным текстом, как бы хорош он ни был.
Мы понимаем, что находимся в долгу перед читателем, чей запрос мы сформировали
(или прояснили) подзаголовком названия нашего исследования. С одной стороны, мы
вполне ответили на этот запрос, перечислив и описав то, из чего, собственно, состоит
метод в психотерапии. Мы обсудили различные аспекты этих составных частей, в том
числе отчасти неиспользованные возможности их существования в новых “превращенных
формах” и употребления в возможных методиках. Так вот, чтобы придать этой линии
наших рассуждений законченный вид, нам осталось показать, как эти части могут
составлять некое целое, то есть попытаться продумать, как бы могли выглядеть эти
возможные методики. Нам представляется разумным завершить этот разговор описаниями
именно таких проектов. Иначе говоря, речь пойдет о психотерапевтических методах,
которые вполне могли бы существовать в истории науки, однако, по не зависящим от нас
причинам, до сих пор никем не были сочинены и употреблены в дело. Собственно,
описания этих методов и будут в рамках нашего исследования соответствовать жанру
клинического случая, жанру истории болезни, призванному иллюстрировать
преимущества школьных подходов в рутинной психотерапевтической литературе.
Критерием отбора возможных методов (поначалу их было существенно больше, чем
осталось в итоге) было их максимальное правдоподобие, а также определенная
привлекательность.
Присовокупление к описанию метода краткой, конспективно-сжатой биографии его
автора сделано с вполне определенной целью. Нам важно подчеркнуть то обстоятельство,
что в психотерапии, как ни в какой другой терапевтической практике, создаваемый метод
вбирает в себя следы конкретной исторической,
297
культурной и персональной авторской ситуации, в контексте которой он создается.
Конечно, к этим историям разумнее всего было бы относиться, как к пародиям и, уж,
конечно, понимать, что они не предназначены для так называемого практического
применения. Тем не менее, мы не исключаем возможности использования
изобретательным читателем части тех идей, что легли в основу описанных ниже
школьных теорий и техник. Смысл же пародии, как известно, отчасти состоит в том,
чтобы сформировать определенную дистанцию по отношению к пародируемому
предмету, в данном случае — к психотерапевтическому методу вообще. Формирование же
такой дистанции — одна из задач нашего исследования. Только расстояние может нам
помочь разобраться в структуре того или иного метода. Именно избежать разглядывания
со стороны есть то, к чему стремятся все известные нам психотерапевтические школы.
Имеется еще одно обстоятельство, подтолкнувшее нас к работе над этой частью
исследования. В новейшей истории психотерапии мы сталкиваемся с прецедентами, когда
метатеоретические исследования приводили к тому, что исследователь, будучи не в силах
противостоять известному искушению, сам в конце концов создавал собственный метод
или по меньшей мере обнаруживал отчетливое желание сделать это. Всем известна,
например, история увлекательных похождений Р. Бэндлера и Дж. Гриндера, которые от
исследований метаструктуры различных психотерапий перешли к созданию собственного
проекта — нейролингвистического программирования, после чего на его основе стала
стремительно создаваться и наращиваться новая школа. Кроме того, здесь можно
привести известный пример К. Граве, которого метаисследования эффективности
различных психотерапевтических методов навели на небезынтересную мысль соорудить
некую “всеобщую психотерапию” (K. Grawe, 1995). Совершенно ясно, что участие в таких
исследованиях неизбежно раздувает и так достаточно интенсивные желания создавать
методы. Неудивительно, что как у Дж. Гриндера и Р. Бэндлера, так и у К. Граве, мы
отчетливо наблюдаем несомненные претензии на некую “сверхтерапию”.
Получается, что сам по себе характер таких метаисследований таит в себе значительный
соблазн. В самом деле, любому их автору легко может показаться, что в ходе работы он
обретает понимание неких универсальных механизмов психотерапевтического
воздействия, ранее неизвестных. Так вот, чтобы нам самим избежать такого рода
искушений, мы предпочли для самоуспокоения ограничиться проектами нескольких
виртуальных методов. А то еще, чего доброго, вдруг захочется последовать приведенным
выше примерам и объявить о создании собственной
298
“сверхтерапии“, что, конечно же, для какого-нибудь недобросовестного автора, который
оказался бы на нашем месте, не составило бы ни малейшего труда. Вот, значит, эти
виртуальные проекты.
1. Кайнотерапия (kainos — др.-греч. — новый).
Этот широко известный метод создан французским исследователем Марком Арбросом
(1909—1989) вскоре после завершения второй мировой войны. М. Арброс, получив
основательное клиническое и психоаналитическое образование, практиковал в начале
своей профессиональной карьеры классический анализ. Учебный анализ прошел у
Раймона де Соссюра. В годы нацистской оккупации был вынужден эмигрировать в США,
где продолжал заниматься психоанализом. Этот период своей жизни он впоследствии
обозначил как “годы слепоты”. Отход от психоанализа произошел “под давлением ясного
убеждения в своей правоте”. Как он писал впоследствии: “Для моих открытий мне не
пришлось, как Перлзу, например, выслушивать от Фрейда обидные вещи. (Имеется в виду
известная история о том, как Ф. Перлз, рассказав на психоаналитическом конгрессе
боготворимому им Фрейду, что он приехал аж из Южной Африки, услыхал в ответ
невежливое: “И когда же вы едете обратно?”) Не было даже отдельного конкретного
клинического случая, который навел бы меня на верную мысль. Просто вся моя практика,
равно как и анализ внеклинического опыта наглядно и отчетливо продемонстрировала мне
очевидное, так что оставалось только зафиксировать все это на бумаге”.
Если одним из достоинств психоанализа было то, что он привлек внимание
исследователей к влечениям, то основным недостатком — то, что он его привлек всего
лишь к одному из них. На самом деле, поведение человека так же мало объясняется
сексуальным влечением, как, к примеру, стремлением к власти. Существует более
фундаментальное влечение, которое находится внутри любого другого, а именно —
стремление к новизне, или кайнэрастия.
Кайнэрастия (kainos — др.-греч. новый, erastes — др.-греч. любящий, почитатель)
составляет коренную сущность любого влечения. Всем известные обстоятельства
форсированного стремления к перемене объектов любых влечений ясно говорят в пользу
необходимости введения в обиход новой концепции влечений. В основе ее должно
находиться понятие, обозначающее это самое стремление к новизне, присущее всем
сферам человеческих интересов и всем областям деятельности. В самом деле, трудно
представить себе реальное сексуальное влечение, навеки привязанное к одномуединственному объекту. Трудно представить
299
себе власть, не стремящуюся к своему расширению, к завоеванию нового,
ограничивающуюся достигнутым безо всякого к тому принуждения. В отличие от либидо,
стремления к власти кайнэрастия является безусловно коренным влечением, не сводимым
более ни к чему.
Безусловно нелепыми кажутся психоаналитические объяснения так называемого
донжуанизма. Сам по себе этот феномен несправедливо рассматривается как
невротически-патологический, в то время как именно его следует, по М. Арбросу
трактовать как в высшей степени нормальное явление. Вовсе не поисками образа матери
занимается Дон Жуан, как это утверждают психоаналитики, а реализацией абсолютно
естественной потребности стремления к новому. “Правда заключается в том, что
кайнэрастия управляет судьбами человека и мира, — писал М. Арброс в своей книге
“Божество новизны”, многократно издававшейся во многих странах мира. Именно она, а
не какие-то иные влечения формируют историю человечества и любую из возможных
биографий. Влекомые именно ею, а не либидо, люди отправляются в путешествия, делают
открытия, влюбляются и расходятся”.
Проблема, например, несостоятельности моногамии непонятна, если ее объяснять
исключительно сексуальными причинами, но всегда очевидна при рассмотрении с
кайнэрастической точки зрения. Всегда и для всех дурное новое лучше, чем доброе
старое. Кайнэрастический инстинкт ведет вперед при любых обстоятельствах.
Невозможность прорыва в новое есть корень всех бед и сущность практически всех
душевных расстройств. Одно из подтверждений своих воззрений М. Арброс видит в том,
что в XX веке — этом золотом веке кайнэрастии — практически исчезла большая истерия,
сопровождавшаяся параличами и измененными состояниями сознания. Разнообразие
жизни, возможность приобщения к новизне в самых различных сферах делала
многочисленные беды (любовные и карьерные катастрофы, к примеру) не такими
невыносимыми, как раньше. Превращение мира в “большую деревню” открывает
возможности для бесконечных кайнэрастических радостей. Уже не может быть такого,
что кто-то живет на краю мира и годами ждет весточки извне. Изоляция приводит к
появлению истерических симптомов, как ничто другое, по вполне понятным причинам.
По М. Арбросу, идеальное время, кайнэрастический рай, относится к детскому
возрасту. “Так называемая детская невинность, восхищающая всех, на самом деле никак
не связана с сексуальной непросвещенностью, — писал он. — Ребенок открыт всему
новому, неисчерпаемому богатству возможностей, и объясняющий ему что-то взрослый
сам отождествляется с ребенком,
300
приобщающимся к новому”. Любая просветительская, педагогическая, информирующая
деятельность связана с переживанием кайнэрастического оргазма, ощущения очень
сильного в детском возрасте, и взрослый все время стремится к его воспроизведению,
особенно тогда, когда что-то узнает, сообщает, передает, в частности слухи, сплетни и
т. п. Детство, отрочество является временем полной открытости всему в полном объеме.
Необходимость делать потом ограничивающий кайнэрастию выбор нарастает с возрастом.
В любом случае любое нормальное воспитание должно включать в себя кайнэрастическое
просвещение. Всем детям должна быть разъяснена сущность и неизбежность проявлений
этого влечения и пагубность результатов его подавления.
Самое тяжелое последствие ущемления кайнэрастии — так называемый фастидиумсиндром (fastidium — лат. скука, отвращение). Фастидиум-синдром — это больше, чем
просто усталое раздражение вследствие пресыщенности. Это почти космическое чувство,
страх перед которым (фастидиофобия) не идет ни в какое сравнение с какими угодно
другими страхами. В статье М. Арброса “Все, что угодно, только не это” мы читаем: “В
отличие от других страхов мы именно здесь сталкиваемся со страхом, без сомнения,
смертным. Смертным он является в том смысле, что человек, его подавляющий, обрекает
себя на смерть при жизни. С другой стороны, фастидиофобия — это, безусловно, самая
творческая из всех фобий. В отличие от фобий-синдромов (к примеру, клаустрофобии или
мизофобии) фастидиофобия может играть роль некоей несущей основы для личностного
роста. Совершенно несостоятельными кажутся объяснения пустоты и депрессий
отсутствием смысла, экзистенциальным вакуумом и пр. Нет такого смысла, который бы
со временем не приедался. Новизна — вот главный смысл всего. Страх того, что в жизни
ничего нового больше не будет, — самый невыносимый”.
Исторический аспект кайнэрастии является несомненным и всем очевидным. Все новые
социальные группы, поначалу подавляемые устоявшимся общественным порядком,
выходят потом на первый план, причем старая власть, “власть утомленной
кайнэрастии” всегда ведет себя в такие минуты растерянно, медлительно и беспомощно,
что видно из истории всех революций. Никогда не следует ставить заслоны на пути
обновления. В этом смысле XX век есть век реализации кайнэрастии в невиданных до сих
пор размерах. “Жалко только, что до сих пор не было мыслителя, который осознал бы это,
крайне отрадное обстоятельство, но теперь и эта беда позади”.
“Нет ничего удивительного в том — писал М. Арброс, — что миром, так сказать,
“правит мода”. Ни в чем другом человеческая
301
сущность не проявляется так отчетливо и сильно. Проклятия философов, стремящихся
уничтожить вполне естественное стремление человека к новому, слышны в общественном
хоре не более отчетливо, чем писк десятка муравьев на фоне духового оркестра. Гораздо
полезнее было бы разработать теорию, которая позволяла бы принять все эти вещи, а не
отвергала бы их (что, собственно, он и сделал, — А. С.)”. Особое его раздражение вызывал
в этом смысле М. Хайдеггер, считавший модусами “падшего бытия” (verfallendes Dasein)
любопытство, толки и двусмысленность (Neugier, Gerede, Zwiedeutigkeit). “Любопытство
и сплетня служат удовлетворению самой сильной, насущной, вечной естественной
потребности человека в новизне. По-настоящему падшее бытие как раз начинается за их
пределами”.
Противовес хайдеггеровским построениям должны были составить рассуждения М.
Арброса о снобизме (работа “Утешение снобизмом”). “Снобизм есть кайнэрастический
нарциссизм. Сноб высокомерно третирует другого, не приобщившегося, в отличие от
него, к новизне и не испытавшего, таким образом, кайнэрастический оргазм. Снобизм есть
величайший кайнэрастический двигатель. Поэтому — да здравствует снобизм!” Помимо
всего прочего, вся история искусств объясняется только кайнэрастическими мотивами.
Никаких других реальных причин для смены господствующих стилей, форм и т. д. нет и
быть не может. Появление таких культурных феноменов, как авангард и модернизм, иначе
чем кайнэрастическими причинами не объяснишь. “Наше время, — писал он, — бросает
художнику постоянный кайнэрастический вызов. Обновление искусства в “эпоху
технической воспроизводимости произведений искусства” (В.-Беньямин) совершается
исключительно быстрыми темпами. Ясно, что именно техническая воспроизводимость
подстегивает кайнэрастические ресурсы, как ничто другое”.
Тем не менее общество в значительной степени построено на подавлении
кайнэрастических проявлений. Испокон веков общественная идеология формировалась
людьми зрелого и преклонного возраста, людьми с истощенной, или по меньшей мере,
ослабленной кайнэрастией. Особенно отчетливо это проявилось в монотеистических
религиозных системах. Мировая цивилизация приобретала таким образом
кайнофобический, геронтократический характер. М. Арброс считал несправедливым
обозначать
термином
“геронтократия”
правление
в
современных
ему
восточноевропейских коммунистических режимах. Геронтократически-кайнофобические
черты лежат в основе любого тоталитарного господства. Кайнэрастические взрывы —
революции проходили в таких условиях крайне болезненно. Важнейший политический
урок всей истории заключается в том,
302
чтобы каждый раз незамедлительно открывать путь всякому возможному обновлению,
давать голос всякой маргинальной социальной группе, которая является носителем
перемен.
Кайнэрастическая концепция, в сущности, дает толчок правильному пониманию
прогресса, ибо без нее вообще непонятно, зачем необходимо историческое движение.
“Маразматические консервативно-охранительные теории получат благодаря нам удар, от
которого они вряд ли оправятся”. Кайнэрастия есть подлинный двигатель истории, а не
что-нибудь другое. Настоящий герой истории есть всегда пионер, первооткрыватель,
человек, реализовавший свою кайнэрастию. В этом смысле кайнэрастическим идеалом
является, безусловно, Фауст: “Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет
за них на бой!” Дон Жуан как пример, конечно, тоже важен, но в его случае речь идет
только о пассивной гедонистической кайнэрастии, в то время как Фауст олицетворяет
активное, деятельное стремление к новому. Кроме того, безусловными прототипами
кайнэрастического идеала следует считать героев романа Г. Флобера “Бувар и Пекюше”.
Эти персонажи за время повествования занимались почти всеми возможными видами
деятельности. “Эти парни, — читаем мы в книге “Божество новизны”, — не остановились
ни на минуту, пока не перепробовали буквально все. Если они терпели поражение в одном
месте, то немедленно устремлялись в другое. Оба — настоящие подвижники кайнэрастии,
не в меньшей степени, чем такие, как Фауст или Дон Жуан”. Кайнэрастия — это, в
отличие от фрейдовского либидо, влечение, которое реально отличает человека от
животного. “Правильность и действенность нашей теории, — писал Арброс, — связана с
тем, что кайнэрастия сохраняет в себе силу и мощь животного инстинкта и в то же время
является специфически человеческим свойством. Животное, как известно, не стремится к
новизне и не страдает от тоски по новому”.
Психоанализ, положивший в свою основу Эдипов комплекс, тоже основан, по М.
Арбросу, на геронтократической модели. Психоаналитик выступает в роли проводника
геронтократического мировоззрения, в то время как бунтующий невротик осознает свой
комплекс вовсе не для того, чтобы реализовать его, а для того, чтобы с ним смириться.
Кроме того, основным недостатком психоанализа следует считать гомеостатическую
модель психической деятельности, основное в которой — принцип сохранения
психической энергии. Из стремления к сохранению status quo невозможно адекватно
понять стремление к новому. Из всех психоаналитических трудов М. Арброс придавал
наибольшее значение книге “Травма рождения” Отто Ранка, утверждая, что из
мыслителей фрейдовского круга Ранк в наибольшей
303
степени приблизился к пониманию кайнэрастической природы человека. Появление на
свет следует, разумеется, считать не травмой, но великим прорывом к новому. В силу этих
соображений тема появления на свет постоянно актуализируется впоследствии при
переживании ключевых событий жизни. По М. Арбросу, появление на свет есть
универсальное означаемое любого нового значительного экзистенциального сдвига или
творческого деяния, метафора чего-то такого, что происходит в первый раз. По этому
поводу М. Арброс вспоминает о том значении, которое психотерапевты различных
направлений придают первым впечатлениям, стремясь воспроизвести с пациентом по
ходу анализа воспоминания раннего детства, а то и воспоминания о событиях, имевших
место до рождения или даже имеющих отношение к прошлой жизни человека.
С другой стороны, положения принципиально не исправили и позднейшие теории
гуманистического направления, построенные, в частности, на идеях самоактуализации
личности. “Все, что касается самоактуализации, разумеется, совершенно правильно, но, к
сожалению, не точно и не выпукло. Нет понимания первичности кайнэрастии по
отношению к любой самоактуализации”, — писал М. Арброс в работе “Кайнотерапия и
психоанализ. Ответ на критику”.
Структуру психики человека следует пересмотреть с новых позиций. Не Эрос и Танатос
ведут на самом деле борьбу между собой, а Кайнэрос и его антагонист — консервативноохранительная инстанция — Кайнэкстрос (extros — др.-греч. враг). Кайнэкстрос есть
интериоризованная кайнофобическая реальность.
М. Арброс выделяет два типа кайнэрастии — активный и пассивный. Новые
впечатления, новые ощущения являются очень привлекательным делом. Однако по
настоящему личность реализует свои кайнэрастические стремления только в творчестве,
то есть активным образом. Кайнэрастическая гратификация новыми впечатлениями,
путешествиями, приобретениями, по М. Арбросу есть кайнотерапия, к которой врачи
пришли сами спонтанно и достаточно давно, ибо всякому была очевидна несомненная
целительная сила кайнэрастических ресурсов. “Дело в том, чтобы кайнэрастическая
гратификация не была по ту сторону ситуации, в которой живет человек. Перед нами
стоит задача найти новое в себе, в пределах своего мира”. Известный феномен утомления
и разочарования после проделанной большой работы, часто сопровождающийся
отвращением к результатам этого длительного труда, объясняется только
кайнэрастическими причинами.
Но настоящая кайнэрастическая пытка — это индустриальный конвейер. Генри Форд,
считал М. Арброс, изобрел настоящую
304
“дыбу человечества”. Всем известные нервные расстройства у конвейерных рабочих (а
они имеют место абсолютно у всех, кто работает на конвейере) совершенно непонятны с
какой-либо другой точки зрения, кроме как теории, построенной на признании приоритета
кайнэрастии. Именно в контексте этих положений настоящий кайнэрастический гений —
это Том Сойер из романа Марка Твена, сумевший убедить других мальчиков, что
рутинная работа, покраска забора, на самом деле — новое творческое приключение (“Не
каждый день мальчикам доверяют красить заборы!”). Хороший психотерапевт обязан
уметь наделить кайнэрастическим смыслом любое занятие.
Поначалу М. Арброс работал в геронтопсихиатрическом отделении госпиталя Святой
Анны в Париже, где, собственно, и зародились его идеи: “К счастью, я очень быстро
осознал, что именно кайнэрастическая патология и, соответственно, кайнотерапия
являются краеугольными камнями в геронтопсихиатрической клинике”. Понятно, что
Кайнэкстрос особенно мощно развивается к старости, вытесняя Кайнэрос из структуры
личности, что выражается в так называемых экклезиастических настроениях (“Ничего
нового под солнцем”). Ностальгия становится актуальной только в периоды преобладания
Кайнэкстроса над Кайнэросом. Когда жизнь не открывает перед тобой больше никаких
новых возможностей и перспектив, ты неизбежно начинаешь обожествлять свое прошлое.
М. Арброс с большим сочувствием следил за трудами своего коллеги из
Великобритании Дж. Серфа, создателя известной системы волапюк-терапии.
Психотерапия при помощи новых языков, в сущности, использовала кайнэрастические
механизмы. Переписка между двумя авторами, деятельность которых существенно
повлияла на сегодняшнее состояние психотерапевтического знания, была опубликована
отдельным изданием (“Новизна слова и слово о новизне”).
Кайнэрастическая патология является всеохватной и встроена в корневую систему
любого психопатологического феномена. “Нет клиники без ущемленной кайнэрастии”.
Так, депрессии и обсессии, безусловно связаны с затруднением обретения нового в любом
виде, будь то новые любовные связи или новые творческие перспективы.
Известные учения об основном расстройстве при шизофрении М. Арброс переосмыслил
по-новому. Концепты, объясняющие основное расстройство, такие, как “слабость
интенциональной дуги” К. Берингера, “потеря витального контакта с реальностью” Э.
Минковского, “интрапсихическая атаксия” Э. Штранского, “аутизм” и “схизис” О.
Блейлера, на самом деле есть нечто иное, как различные варианты концептуализации
коренного
305
дефекта, а именно, кайнэрастической астении. Никакое другое влечение не претерпевает
при психозах таких изменений, как кайнэрастия. Мир шизофреника — инфантильное
царство новизны, что воплощается в особых переживаниях. Речь полна неологизмов и
неожиданных словоупотреблений. Если при эндогенных депрессиях речь идет о феномене
“редукции антиципации”, иначе говоря, о невозможности приобщения к новизне, то при
шизофрении кайнэрастия претерпевает сложные и неоднозначные изменения. “Мы имеем
сложные взаимопереплетающиеся усиления и ослабления то в сфере пассивной
кайнэрастии, то в активной, — писал М. Арброс в работе “Прикосновение наития”. — К
этому коктейлю примешивается еще и кайнофобия. Кайнэрастия же становится хрупкой и
очень избирательной. Именно поэтому наблюдается очень много шизофренических
состояний с повышенной способностью к творческой деятельности. Основание
шизофренического расщепления покоится на самом кончике жала кайнэрастического
вектора”.
С другой стороны, кайнэрастическая патология практически полностью исчерпывает
содержание алкогольных и наркоманических переживаний. Алкоголь, особенно же
наркотики снимают кайнэрастические барьеры. Величина кайнэрастического сдвига,
привносимая в жизнь ЛСД и кокаином, не сравнима ни с чем. То же самое относится и к
шизофрении. Разница лишь в том, является ли симптомообразующим феноменом
внутренний Кайнэкстрос или же внешние кайнофобические факторы. Как комическинелепое рассматривал М. Арброс учение З. Фрейда об анально-эротической стадии
развития ребенка как о причине “задержек”, депрессий, консерватизма. “В природе и
обществе вполне достаточно консервативно-охранительного, чтобы обойтись при
объяснении понятных патологических механизмов без ануса, который сам по себе не
имеет никакого отношения к преградам, встающим на пути стремления к новизне
(кайнокинезиса)”.
Истоки кайнэкстратических явлений заключаются в гипертрофированной регуляции
проявлений кайнэрастии в семье и обществе. В книге “Освобождаясь от балласта” мы
читаем: “К сожалению, необходимо так или иначе сдерживать объемы потребления
новизны как в жизни отдельного человека, так и в обществе. Сдерживание и отставление
во времени кайнокинезиса делает впоследствии кайнэрастический сдвиг более
существенным и значительным, чем если бы этого откладывания не было. Ведь человека
интересует не только новизна сама по себе, его интересует в высшей степени глубина и
качество этого сдвига. Честолюбие ориентировано именно на большой объем новизны”.
Кроме того, следует различать интенсивный и экстенсивный
306
кайнокинезис. Если последний заключается в освоении новых пространств, приобретении
новых впечатлений, то первый есть проявление творческой фаустовской, идеальной
кайнэрастии. Но лучше экстенсивный кайнокинезис, чем вовсе никакого. Интенсивный
кайнокинезис — это всегда глубинное внутреннее движение к обновлению. Внешняя
поверхностная новизна не в состоянии осуществить длительную и устойчивую
кайнэрастическую гратификацию.
С другой стороны, если кайнэрастию вовсе не стреноживать, то мы вскоре окажемся
просто не в состоянии фиксировать те изменения, которые претерпевает или творит
беспокойный человеческий дух, и тогда будет непонятно, каковы же ориентиры нового.
Информационная коммуникация в обществе построена именно на фиксации
кайнэрастических вех и отметок, и поэтому всегда необходимо подождать с закреплением
нового, его оформлением в сподручной для распространения форме. Ориентир может
появиться только по прошествии какого-то времени, ибо новизна все же нуждается в чемто “устаревшем”. Однако тенденция задерживать движение, подстегиваемое
кайнэрастией, приобрела в ходе развития человечества гипертрофированные формы,
произошло отщепление от ее первоначального смысла. К сожалению, следствием этого
явилось превращение целенаправленного, осмысленного сдерживания в консервативноохранительную паранойю.
Изложение своих взглядов на сущность сексуальных расстройств (книга “Тупик
постоянства”) М. Арброс начинает парадоксальным утверждением, что никакой
сексопатологии как таковой нет и быть не может. “Попробуйте заставить человека жить с
одним и тем же партнером, лишив его при этом возможностей реализации своих
кайнэрастических устремлений в какой-нибудь другой сфере, — и вы получите весь букет
расстройств, описанных в сексологических разделах учебников. Поселив пару
сексуальных партнеров в замкнутом пространстве, например в пещере, вы через месяц
сможете в лучшем виде пронаблюдать весь сексопатологический спектр от импотенции до
страха перед соитием, хотя никаких запретов на близость этим людям не ставилось.
Однообразие моногамного брака вызывает намного больше расстройств, чем самая
беспорядочная промискуитетная разнузданность, которая на самом деле является
универсальным лекарством. Если брак невозможно разрушить, то пускай он, по меньшей
мере, будет максимально открытым”. И далее: “Плохо как раз не то, что перверсии
вытесняются обществом за границы области так называемой нормальной сексуальности.
На самом деле гораздо хуже то, что люди ограничиваются каким-то одним видом
сексуального поведения, объявляя себя, к примеру,
307
зоофилами или, скажем, гомосексуалистами и, соответственно, жестко связывая себя
одним каким-нибудь типом сексуальной ориентации. Нормальный человек должен быть
всегда открыт любым возможностям, ибо только так можно реализовать
кайнэрастические устремления во всей полноте”. Злые языки говорили, что Арброс сам
открывался таким новым возможностям почти каждый день, однако люди, знавшие его
близко, утверждали, что это все не так и что он, подобно Фрейду, ведет однообразный,
филистерский, строго моногамный образ жизни.
Отношение создателя кайнотерапии к семейным проблемам формировалось в общем
контексте его теории. “Кайнэрастия находит свою самую полную гратификацию,
разумеется, в детях. Нет ничего, что полнее бы удовлетворяло кайнэрастические
потребности, чем производство на свет детей, воспитание их, наблюдение за их
развитием. С другой стороны, нет ничего такого, что вредило бы воспитанию больше,
чем моногамная семья”. Агрессия против родителей связана не столько с тем, что они
подавляют влечение ребенка к удовлетворению в семье определенных позывов, сколько с
тем, что они несменяемы. Угнетение женщины в семье связано в первую очередь с
подавлением ее кайнэрастии. Привязанная к дому, она формировалась для пассивноконсервативной роли и, к сожалению, в какой-то степени интериоризовала эту свою
позицию. В так называемом женском вопросе М. Арброс занимал радикальные
профеминистские позиции. Идеальная модель семьи может быть сформулирована так:
как можно больше детей от как можно большего количества отцов и как можно больше
разных родителей — одному ребенку. Преимущества такой модели семьи перед
традиционной настолько очевидны, что их даже не стоит и обсуждать.
Именно эта часть его учения вызвала большой и шумный общественный резонанс.
Лидер консервативной католической общественности, известный традиционалист
архиепископ М.-Лефевр осудил в 1969 году новую психотерапевтическую доктрину,
посвятив ей даже специальную проповедь. Он заявил, что со времен создания
психоанализа темные силы не наносили столь ощутимый удар по традиционным
ценностям. “Ясно, что это только инородец, — говорил он, — но никак не истинный
француз в состоянии создать такое вызывающе отвратительное, циничное и безбожное
учение”. М.-Лефевр запретил своим прихожанам обращаться к кому-либо из уже
многочисленных к тому времени кайнотерапевтов.
В целом обновленческие инстинкты меняют наши отношения с миром. Восприятие
пространства и времени определяется возможностью их обновления. Завоевание новых
пространств, как
308
таковых бессмысленно, если они идентичны уже обжитому. Бессмысленная пагубность
обретения уже пережитого нашла свое воплощение в двух известных
психопатологических феноменах уже виденного и никогда не виденного — deja vu и
jamais vu. Их вовсе не приходится считать равноценными или даже изоморфными друг
другу. Если deja vu говорит о кайнэрастической пресыщенности и является
исключительно грозным симптомом, то jamais vu является указанием на кайнэрастические
ресурсы. Если тебе кажется, что ты никогда не видел вещи, виденные уже тобой на самом
деле множество раз, это значит, что ты небезнадежен в том смысле, что можешь поглядеть
на мир неутомленным взором.
Кайнэрастическая теория придает новое измерение понятию свободы. Свобода — это
всегда свобода-к-новому. Консервативно ориентированная концепция свободы
немыслима. Реальность такова, что всегда свобода требуется для нового, старое выступает
в виде необходимости. Возврат к старому не может быть желателен для истинно
свободной личности. Погребение себя заживо в мире рутины, невозможность выбора
означает сдачу “на милость” кайнофобического мира и всегда ведет к появлению
патологических явлений. Помимо прочего, тесты на наличие кайнэрастических ресурсов,
проводившиеся М. Арбросом и его последователями в различных психосоматических
клиниках, обнаружили самые высокие кайнофобические и кайнэкстратические показатели
у онкологических больных. В книге “Наши внутренние тормоза” мы читаем: “Это были
люди, лишенные инициативы, разнообразия и перспективы, причем все это было
выражено у них в значительной степени более явно, чем в любых других группах. Разницу
в показателях следует считать безусловно репрезентативной, и это обстоятельство дает
нам в руки надежный ключ для лечения и профилактики этой страшной болезни.
Совершенно ясно, что кайнэрастия напрямую связана с самой глубинной энергетикой
человека. Она является внешним проявлением игры коренных сущностей”.
Кайнотерапия осуществляется в несколько этапов. Первым делом мы собираем анамнез,
причем упор делается на рассказ о переживаниях событий, которые имели место первый
раз в жизни. Далее следует то, что М. Арброс называл “лекцией”, иными словами
популярное введение в кайнэрастическую тематику. По этому поводу он писал:
“Психоаналитиков, избегающих излагать пациенту основы теории и полагающихся только
на спасительную силу процесса, я совершенно не понимаю или, лучше сказать, понимаю
очень хорошо. Если теория верна и красива, то ничего, кроме немедленного и
разительного положительно эффекта, от ее изложения ожидать не приходится. Так что
исследователи
309
с нечистой совестью, естественно, избегают излагать пациенту свои рабочие концепции
основательно и правдиво, так, как это делаю я и мои последователи. Нет лучшего
лекарства, чем большая очищающая правда”.
После “лекции” в течение нескольких встреч происходит “пролонгированный
катарсис”. “Поняв наконец, что к чему в этой жизни, человек исторгает из себя поток
воспоминаний, ассоциаций, исповедей. Пациента буквально “несет”, как человека,
несколько лет страдавшего запором, после приема мощного слабительного”.
Воспоминания, встраивающиеся в кайнэрастический контекст, обладают особой
целительной силой, так что разительный терапевтический эффект наблюдается сразу
после “лекции”. Важнейшими моментами воспоминаний являются переживания, имевшие
место в первый раз. «Первый раз — ключевой момент всей кайнэрастической доктрины,
— писал М. Арброс в своей работе “Экстаз премьеры”. — Как всем хорошо известно,
первое переживание чего угодно является исключительно волнующим. Все происходящее
в первый раз оказывается таким значительным только в силу кайнэрастических причин.
Все значительные фиксации, будь то увлечения, склонности даже перверсии, обусловлены
именно обстоятельствами “первого раза”».
Далее процесс плавно переходит в фазу кайнэрастического веерного анализа. В этом
совпадении финала первичного катарсиса с дебютом анализа М. Арброс видел большое
преимущество кайнотерапии перед другими техниками. Веерный анализ отличается от
обычного психоанализа несомненно большей активностью терапевта, а кроме того,
своеобразной техникой постоянного тематического переключения. “Каждый третий
вопрос — писал создатель кайнотерапии, — или по меньшей мере каждое пятое
замечание должно переносить пациента в новую тематически-содержательную сферу.
Если мы в процессе анализа не обращаем внимания на постоянное форсированное
обновление тематического материала, то пациент неизбежно утомляется. Следствием
этого может быть возникновение так называемого сопротивления, природа которого в
нашем контексте более чем понятна. Сопротивление чаще всего обусловлено
неудовлетворенной или фрустрированной в процессе терапии кайнэрастией. Другой
важной стратегией преодоления сопротивления следует считать варьирование
технических приемов. Своим открытием подлинной природы сопротивления М. Арброс,
как известно, очень гордился.
Хороший терапевтический процесс протекает только при наличии постоянных
изменений в содержательной части. Переходы от одной содержательной сферы к другой
осуществляется посредством вопросов-переключателей или коммутаторов
310
(commuter — франц. переключать). Если, например пациент рассказывает о своих
интимных переживаниях, то коммутатором будет вопрос: “Ведь нечто подобное
происходит с вами при чтении книг (игре в футбол, занятиях музыкой, покупке костюма и
т. д.), не так ли?” Или можно спросить: “Ведь не только в этой ситуации вы сталкиваетесь
с трудностями такого рода?”. Кроме вопросов-коммутаторов, существуют наводкикоммутаторы: “А теперь поговорим о трудностях в ваших взаимоотношениях с дальними
родственниками” или “С этим все ясно, непонятно только, как вы ведете себя в подобных
случаях на экзамене...”. Коммутация осуществляется тогда, когда мы чувствуем
необходимость сменить тему, причем такая необходимость существует всегда. Здесь
важно также понимать, что это полезно в том смысле, что пациент не видит выхода из
трудной ситуации, а иная ситуация со сходной структурой может ему помочь в решении
его проблем. “Никогда не следует дожидаться окончания повествования о какой-то
истории, или событии, или переживании. Все искусство заключается в том, чтобы как
можно скорее переключить пациента на что-нибудь новое”.
Смысл переключения не только в постоянном обновлении содержательной части
процесса. Переключая его, мы ориентируемся на спасительный принцип эквивалентности
новизны в различных содержательных сферах. Если что-то не клеится в одном месте, то
надо попытаться перейти в другое, ибо, скорее всего, место, где не клеится, — не твое.
Одна ситуация служит метафорой для другой, и, обсуждая проблемы одной
содержательной сферы, ты так или иначе касаешься трудностей другой, не утомляя при
этом пациента однообразием.
Веерный анализ является только первой стадией кайнотерапии. “Несмотря на то, что
для полного избавления от симптомов бывает вполне достаточно аналитической
процедуры, мы не ограничиваемся работой с прошлым и намечаем кайнокинетический
сценарий, включающий в себя проекты динамики коммуникации, динамики смены
занятий и т. д. Это не простые предписания, расписанные по годам, — читаем мы в
“Стратегии кайнокинезиса”, последней книге Арброса, — а подробные тексты,
описывающие новые перспективы, причем речь идет о предвкушении ощущений, отчасти
сфабрикованных по подобию старых, отчасти же спроектированных вновь”.
Одна из важнейших целей кайнотерапии заключается в создании так называемого
“кайнэрастического ока”. Зоркое кайнэрастическое око характеризует полную остроту
экзистенциального зрения, помогающую отличать именно новое во всем, что видит или
переживает человек. Диагностика новизны помогает ею наслаждаться. В работе “Опять и
вдруг” мы читаем: “Здоровый
311
взгляд обнаруживает в сходном различие, в то время как патологическому взору
открывается только сходство. Журнальные интеллектуальные игры-головоломки в духе
“найди десять отличий” являются, если к ним правильно относиться, хорошим
кайнэрастическим тренингом. “Целенаправленное движение в сторону “де-deja-vu-зации”
может придавать глубинное измерение любому терапевтическому процессу, вне
зависимости от школьной ориентации”.
Идеология и практика кайнотерапии исключают трудности, досаждавшие
психоаналитикам, а именно проблему конечного/бесконечного анализа. Устремленность к
новизне сама собой приводит психотерапевтический процесс к естественному и
безболезненному завершению. За несколько сессий вполне можно обеспечить пациента
новыми приемами. Кайнотерапевты стремятся как можно скорее выпустить пациента в
самостоятельную жизнь, открытую новизне, и редко когда терапевтический цикл занимает
более 50 сессий.
Региональные отделения Ассоциации кайнотерапии существуют более чем в 35 странах.
М. Арброс, в течение долгого времени возглавлявший ассоциацию кайнотерапии, всегда
был желанным гостем в университетских клиниках и аудиториях по всему миру. С 1958
по 1959 год он являлся вице-президентом Всемирной психотерапевтической ассоциации.
В 1964 году American Psychological Association наградила его премией Great
Psychotherapists Award.
Комментарий
Хотя некоторые авторы опрометчиво полагают, что в наши дни довольно трудно
построить школьную теорию вокруг некоего влечения, — реальная жизнь опровергает их
предположения. Заслуга М. Арброса, помимо всего прочего, заключается в том, что он
сконструировал крайне удачную конфигурацию этого влечения, что сделало возможным
исчерпывающее толкование множества патологических состояний. Совершенно
убедительно выглядит и трактовка обстанции, ибо ведь и на самом деле существует
общественная потребность в сдерживании всевозможных непрерывных обновлений. В
разделе, посвященному так называемому “кайнэрастическому оку”, мы не можем не
видеть наброска некоего идеала, к которому устремлен терапевтический процесс.
Интериоризация как влечения, так и препятствия на его пути создает хороший повод
для введения в пространство теории воюющих друг с другом инстанций. Конфигурация
кайнотерапии аналогична конфигурации многих глубиннопсихологических методов.
Нетрудно заметить, что достоинства теории и метода
312
богато дополнены патографическими выкладками, причем кайнэрастическая патография
распространяется как на искусствоведческое, так и на историко-политическое
пространство.
Очень редко бывает так, что наряду с достойной теорией автор предлагает серьезные
технические нововведения. В этом смысле кайнотерапия в общем-то не представляет
собой
большого
исключения.
Технические
нововведения
нельзя
считать
революционными, хотя определенная новизна им все же свойственна. Во всяком случае
они не идут в сравнение с такой, например, радикально новой техникой, как
странгуляционный танатоэкстаз Джана Рао.
2. Танатоаналитическая экстатическая терапия (Рао-терапия)
Она была создана (да и продолжает практиковаться в наши дни) английским автором,
родившимся в 1920 году в Индии, сыном английского колониального офицера и материиндуски. Впоследствии он взял псевдоним Джана Рао. По своему первому образованию —
этнограф. В 50-е годы выступил с оригинальной концепцией, обозначив ее первоначально
как экстатическая психотерапия и затем — как танатоаналитическая экстатическая
терапия.
Главные положения, из которых Рао исходил, были следующие: “Человечество, —
писал он, — совершенно забыло о том, что такое экстаз. В то время как в жизни древних
экстатические переживания были частыми, естественными и повседневными, у
современного задавленного индустриальным обществом человека эта абсолютно
необходимая часть витального трансцендирования находится под спудом, она подавлена.
Последствия этого — тотальная невротизация общества, тяга к спиртному, наркотикам“.
Уже в 40-х годах он предсказал экстатическое направление эволюции массовой культуры,
предвидя, скажем, те танцевальные практики, которые появились в молодежной культуре
в 60—70-х годах, а особенно в 90-х (вроде так называемых рейва и техно). “Психотерапия,
— писал он, — искусство и религия, ранее объединенные между собой экстатическим
переживанием, в последнее время распались, отделились одно от другого и не выполняют
своих функций. Задача терапии и лозунг, которым следует руководствоваться: назад к
синкретике, назад в экстаз!”
В своих построениях Рао опирался на исследования известного русского культуролога
А. Н. Веселовского. Согласно его теории, в традиционных обществах сакральное действие
являлось синкретическим, то есть одновременно культовым (религиозным), театральным,
то есть имевшим отношение к зрелищным представлениям, и в то же время
терапевтическим.
313
Отправление ритуала шаманом соединяло в себе все эти три составные. “Задача
психотерапевта, — писал Рао, — восстановить утраченное единство религии (или
культового действия), терапии и искусства. Самое главное в психотерапии — это не
пребывание в здесь и сейчас, как нам твердят представители многочисленных школ, а
бегство из здесь и сейчас. Бегство “отсюда” есть одновременно подлинный путь к себе. Я
не имею ничего общего с так называемыми эзотериками. Для меня важен человек в своей
сути, к которой мы не можем прийти иначе, чем через экстаз”.
Исключительно важным моментом танатоанализа Рао считал присутствие смерти в
рамках терапии, близость к ней: “Самое важное для нас — это переживание смерти без
действительного умирания. Такой опыт помогает приручить смерть. В этой жизни мы
умираем множество раз, то быстро и резко, то медленно, не замечая этого. Если мы
сделаем это один раз почти по-настоящему, то избавимся от всех смертей сразу. Мы
спугнем смерть и будем жить долго”. В другом месте он писал: “Мы никак не можем
согласиться с позицией Хайдеггера, что наше бытие — это бытие-к-смерти. На самом деле
наше бытие это бытие-в-смерти. Танатоэкстатическая процедура заставляет пациента
принять это обстоятельство, но также и преодолеть его”.
Психотерапия в рамках танатоаналитической терапии осуществляется по
определенному порядку (это отражало и исторический путь развития техники
танатоаналитической терапии).
Групповая сессия обычно начиналась с карнавально-танцевального действия,
сопровождавшегося экзотической музыкой, вроде той, что позднее стали использовать
терапевты другого известного направления, с мощной секцией ударных инструментов.
Под курение благовоний, при нарастании темпа музыки все участники группы приходили
в особое экстатическое состояние. Все это доходило до массовой пляски с выкриками
(наподобие тех, что происходят при радении пятидесятников и хлыстов), с так
называемыми глоссолалиями и т. п. Все это составляло только подготовительную часть
танатотерапии.
Самая важная процедура в рамках метода была обнаружена Джана Рао неожиданно,
эмпирическим, так сказать, путем прямо во время одной из экстатических сессий. Один из
пациентов, придя в исступленное состояние, принялся душить другого участника группы.
Поскольку все остальные были заняты своим собственным экстазом, поначалу на это
никто не обратил внимания. Когда же все опомнились, то бедняга был уже без дыхания. В
себя он пришел только после интенсивных реанимационных процедур. Придя в себя, он
сообщил — и этот эффект оказался впоследствии устойчивым — о разительных
положительных изменениях
314
в своем состоянии. Поначалу ставя эксперименты на себе самом и своих сотрудниках, а
потом все дальше и шире вводя это в практику, Джана Рао стал осуществлять процедуру,
которую он обозначил как “техника летального экстаза”.
Итак, летальный экстаз осуществлялся посредством длительного удушения, вводящего
пациента в состояние клинической смерти, с интенсивными реанимационными
процедурами после него. Разумеется, у танатотерапевтов первоначально возникли
большие осложнения с законом, и для того, чтобы от них избавиться и получить
разрешение на танатоанализ, Джана Рао обязался держать в соседней комнате
высококвалифицированную
реанимационную
бригаду,
оснащенную
новейшей
аппаратурой. Все, кто изъявлял желание взять курс, должны были предварительно пройти
основательное медицинское обследование. Разумеется, пациенты с хроническими
формами сердечных, желудочных, легочных, эндокринных и т. д. заболеваний до
танатотерапии не допускались. За все время существования танатотерапии был
зафиксирован только один летальный случай, причем этот единственный, действительно
умерший, попал на Рао-терапию посредством обмана. Он так хотел пройти это
популярнейшее лечение, что скрыл от обследовавших его докторов тяжелую
декомпенсированную форму сахарного диабета, фальсифицировав результаты анализа. За
все время существования Рао-терапии иных случаев осложнений, не говоря уже о
летальных исходах, не отмечалось. Наоборот, исключительная терапевтическая
эффективность Рао-терапии засвидетельствована всеми возможными экспертизами.
Сам Рао, прошедший ни много ни мало через 400 летальных экстазов строго запрещает
повторять кому бы то ни было свой опыт только количества ради. Также он предостерегал
от так называемой “экстатомании”, хотя, к сожалению, все же были описаны случаи
болезненного пристрастия к процедуре. В отдельных случаях были зафиксированы
группы, создаваемые бывшими пациентами Рао и его учеников, которые сами
практиковали странгуляционный экстаз вне контроля терапевтов.
В ходе исследовательских работ Рао описал технику и
странгуляционного экстаза.
стадии летального
Первую стадию он обозначил как эйдетический ментизм (ментизм — скачка мыслей).
Речь идет обо всем известном, многократно описанном в художественной литературе
феномене, когда, например, в момент казни перед жертвой быстро проносится вся жизнь в
наглядных образах. “Вся жизнь пронеслась перед ним в один миг”, — пишут обычно в
таких случаях беллетристы. Однако Джана Рао, по отчетам участников своей терапии,
утверждал, что эйдетический ментизм встречается только у одного
315
из пяти пациентов. Впоследствии он стал расценивать это дело как крайне благоприятный
прогностический признак.
Вторая стадия — физиологическая. Как хорошо известно, в момент казни через
повешение часто происходит или мочеиспускание, или дефекация, или оргастические
явления как у мужчин, так и у женщин. В некоторых культурах задержка дыхания
используется как сексуально стимулирующий фактор: удушение подушкой, длительное
стягивание горла петлей.
Тип физиологических проявлений в этой стадии также является прогностическим
критерием, что и продемонстрировал Джана Рао на солидном клиническом материале,
оцененном в том числе многими независимыми группами экспертов. Оргастические
переживания и явления, как выяснилось, относятся к числу крайне благоприятных
прогностических признаков. Мочеиспускание и дефекация считались соответственно
признаками менее благоприятными. Нет нужды говорить, что именно “оргастики”
составляли костяк вышеупомянутых групп, практиковавших странгуляционный экстаз
отдельно. Впоследствии как-то сама собой сложилась традиция, что в ходе группового
процесса “оргастики” объединялись в некую “группу в группе”, своего рода клан,
высокомерно третируя при этом “писунов” и “засранцев”. Те же пытались всеми правдами
и неправдами попасть на повторную процедуру, чтобы в итоге “достойно и приятно
экстатироваться” и быть, таким образом, “не хуже других”. Рао с ассистентами
решительно пытался пресечь такое развитие событий, когда пациенты делились на группы
в зависимости от таких результатов процесса, но, к сожалению, безуспешно.
Третья стадия — имагинативная, или стадия переживания визуальных образов, или
онейроидный театр. Она возникает на фоне полной потери сознания и заключается в том,
что пациенту перед внутренним взором являются различные картины. Содержание и
сюжеты этих картин могут вызывать у него различные оценки и эмоции, и это является
решающим. Это могут быть живые люди, с которыми он вступает в диалог. Встречаются
как близкие, так и случайные, а то и вовсе незнакомые. Взаимоотношения с этими
персонажами могут быть самые разные. В качестве наиболее распространенных Рао
выделял два типа. Первый — апейлетический (apeile — др.-греч. угроза) тип
взаимоотношений с воображаемыми персонажами, когда встретившиеся по ходу видений
экстатику люди ему угрожали или его преследовали, он же был вынужден скрываться.
Второй тип — актиноболический (aktinobolia — др.-греч. лучеиспускание), когда экстатик
и персонажи “излучают” друг на друга разного рода флюиды, чаще всего экстатического
или гедонистического характера. Например, встреченный по ходу видения незнакомый
старец с
316
отчетливыми харизматическими признаками (нимб, сияние) передает свое сияние
экстатику, причем эта передача сопровождается подобающими случаю речениями. Эти
манипуляции часто сопровождаются гедонистическими переживаниями. Экстатические
удовольствия, как известно, привели к тому, что многие пациенты были готовы на все,
чтобы любой ценой опять попасть на эту терапию. Актиноболические сюжеты видений,
как выяснилось впоследствии, предшествуют чаще всего трансперсональным сдвигам (см.
ниже). Однако видения могут ограничиваться картиной пустого пространства, всего лишь
слегка просветленного. Ясно, что актиноболический вариант расценивается как
относительно более благоприятный, по сравнению с апейлетическим.
Именно имагинативная стадия дает впоследствии основной материал для
интерпретации. Помимо всего прочего, интерпретируется цвет переживаний. Как
известно, часто картина окрашена в розово-фиолетовые тона, что свидетельствует о
завершенном экстазе. Холодные цвета — голубой, синий, зеленый, чаще всего
свидетельствуют о недостаточной глубине погружения. Особый тип видений заключается
в том, что человек видит картины своего прошлого. “Сюжеты из прошлого, возникающие
в танатоэкстатических видениях, — моменты неосознанных малых смертей. То ли это
некая потеря, то ли поражение, то ли неудавшаяся любовь. Здесь важно понимать, что
далеко не всякая беда привидится в рамках процедуры. Мы встречаемся только с теми
несчастьями, которые на самом деле ведут к частичной смерти”.
В последующем анализе интерпретируется диалог пациента с теми, кого он встречает в
имагинативной фазе. Безусловно, сам факт наличия диалога в структуре видения является
интерпретационно очень значимым. В том случае, если по ходу видения сам
переживающий экстаз не произносит ни слова, а партнеры разговаривают с ним долго и
на экзистенциально важные темы, прогноз неблагоприятен. Интерпретация носила
выраженный экзистенциальный характер. “Это вам не просто банальный анализ
сновидения — говорил по этому поводу Рао. — Охотники за фаллическими символами
могут не беспокоиться”.
Четвертая стадия — просветление. Все образы исчезают, и перед внутренним взором
пациента оказывается только светлое пустое пространство. Классификация Рао выделяет в
этой стадии два типа — эфирный и туннельный. Если просветление охватывает все
пространство, открывающееся перед внутренним взором, то это эфирный. Если же
наблюдается некий светлый туннель, окруженный более темной частью, то речь,
соответственно, идет о туннельном типе просветления. Эфирный тип
317
свидетельствует о просто хорошем качестве странгуляционного экстаза, сулящем
избавление от соматических страданий, например. Туннельный же тип просветления
указывает на обретение новых духовных перспектив, открывающих новый путь, который
в просветленном видении и выглядит как туннель. По Джана Рао, четвертая стадия
никогда не сопровождается ощущениями паники, дискомфорта. У всех состояние
спокойное, светлое, что всегда можно безошибочно определить по внешнему виду
клиента. Эта стадия — безусловное показание к незамедлительному началу интенсивных
реанимационных мероприятий.
Клинический опыт Джана Рао и его сотрудников говорит о том, что если достигнута
только вторая стадия — физиологических изменений и после пробуждения пациент не
рассказывает ни о каких видениях, встречах и диалогах, то процедуру следует еще раз
повторить. Если опять безрезультатно, то надо повторять до тех пор, пока не будет
достигнут результат. Все это осуществляется, разумеется, при наблюдении остальных
участников группы, которые сидят тут же в помещении, и по “возвращении оттуда”
очередного экстатика они все устраивают повторное музыкально-танцевальное действо,
после которого переходят к групповой интерпретации и последующему шерингу. В
интерпретации и в обмене опытом участвует вся группа. Правила процедуры строго
воспрещают употребление наркотиков и алкоголя как для подвергающегося
странгуляционному экстазу, так и для всех других участников группы. Как утверждал Рао:
“Этого никому и не надо, ибо, как известно, нет лучшего наркотика, чем удавка”.
Обычно одно занятие ограничивается летально-экстатической процедурой только для
одного человека, который, пройдя процедуру странгуляции, должен тем не менее
оставаться, если, конечно, позволяет состояние, в группе и принимать участие в
последующих групповых занятиях, рассказывая о своих ощущениях и делясь своим
опытом с теми, кто только готовится “совершить путешествие” (этим эвфемизмом
обозначалась странгуляционная процедура).
На своем крайне богатом экспериментальном материале Джана Рао выделил четыре
типа изменений, которые происходят с пациентами в результате летально-экстатической
терапии.
Первый тип изменений — психосоматический. “Что и говорить, — писал он, — в тех
случаях, когда психосоматическая болезнь не носит ярко выраженного, запущенного
характера, нет лучше лекарства, чем летально-экстатический процесс. Практически все
симптомы неотягощенных психосоматических хронических, равно как и психических
заболеваний после процедуры исчезают прочь”. Многочисленные статистические
исследования
318
убедительно подтвердили это положение. “Мы, — писал Джана Рао, — собственно, и не
преследуем цель просто избавить от болезни — это происходит в любом случае само
собой — перед нами цели более важные”. Что же касается психотических заболеваний, то
здесь часто наблюдался исключительный эффект при самых запущенных случаях
прогредиентной шизофрении. “Предоставим академическим и больничным психиатрам
инсулин и коразол. Шок, который осуществляется в ходе летального экстаза, намного
более мощный и действенный, чем даже электрошок”.
Второй тип изменений — психологический. Пациенты после процедуры становились
намного более спокойными и уравновешенными. Они переоценивали свое отношение к
жизни и свой жизненный путь, пересматривали свои взаимоотношения со многими
значимыми для них людьми. Тексты, слышанные в имагинативной фазе, воспринимались
ими как откровения. «Побывав “там”, обретаешь совсем новый ракурс обзора», — писал
Рао. — “После этого все уже не такое, как до того. Надо иметь в виду, что по возвращении
ты уже не тот человек, хочешь ты того или нет”.
К нему примыкает третий тип изменений экзистенциальный. У подавляющего числа
пациентов после этой терапии складывался совершенно иной тип отношения к миру,
новое мировоззрение. У многих происходила серьезная переоценка ценностей. Все поновому воспринимали мир, “но при этом никто и никогда после путешествия не менял
своего отношения к нему в дурную сторону”. Это изменение Рао обозначал как
метафизическое просветление.
Четвертый тип — трансперсональный, самый немногочисленный, что тоже вполне
понятно. Здесь речь о том, что у людей появлялись ясновидческие и телекинетические
способности, как то: умение читать через барьеры, предсказывать будущее, передвигать в
пространстве предметы и так далее.
Несмотря на определенную дороговизну метода, что было связано с необходимостью
содержать
реанимационную
бригаду
с
соответствующей
аппаратурой,
танатоаналитическая терапия является исключительно востребованным методом.
Комментарий
Осведомленному читателю не составит труда догадаться, какой именно из известных в
психотерапии методов напоминает танатоэкстаз Джана Рао. Исключительная заслуга Рао
состоит в том, что он сумел исследовать стадии измененного состояния сознания (в нашей
терминологии — транстерминационные стадии). После того как в классическом гипнозе
были описаны фазы
319
сомноленции, каталепсии и сомнамбулизма, очень мало кто занимался глубинными
стадиальными описаниями трансстатуса. Собственно, весь метод танатоаналитической
терапии строится вокруг транстерминационной процедуры.
Достаточно убедительным выглядит культурологическое обоснование метода. Критику
основ современной “антиэкстатической” цивилизации следует считать крайне уместной.
При этом Рао сразу получает возможность демонстрации бойцовской позиции, столь
необходимой, как мы знаем, для харизмы. Вообще же созданию сильной харизмы здесь
служит все: маргинальная теоретическая концепция, элементы “садизма” в технике, а
кроме того, экзотическое происхождение Дж. Рао.
Используемая в танатоэкстатической терапии физиогенная техника транстерминации
определенно может быть расценена как безусловный вклад в этот раздел практики. При
этом каких-то особых новшеств в области винкционных процедур не отмечалось.
Винкции осуществляются как бы сами собой в происходящем после танатоэкстаза
групповом обсуждении.
На примере танатоаналитической терапии мы можем видеть серьезные преимущества
построения метода вокруг транстерминационной процедуры. Эта часть техники может
стать настолько убедительной и самодовлеющей, что необходимость в подробной
теоретической проработке отпадет как бы сама собой. Этим обстоятельством, собственно,
объясняется отсутствие в структуре теории таких безусловно выигрышных элементов, как
купидо или инстанция.
Кроме того, можно отметить наличие в структуре теории танатотерапии своеобразной
“превращенной формы” идеала. Приведенные Рао различные виды исхода летального
экстаза в зависимости от благоприобретенных изменений создают своеобразную
иерархию состояний, являющихся целью терапии. Несмотря на все это, отсутствие
глубокой, подробно фундированной теории бросается в глаза, что, как уже сказано,
обусловлено своеобразием формирования метода.
3. Плероматерапия
Плероматерапия (pleroma — др.-греч. полнота, завершение) — метод, созданный
швейцарско-немецким психологом Валерией Роштадт (1938 г. р.). Получив образование в
области социологии и психологии, в начале своей профессиональной карьеры занималась
проблемами семьи и женщин, принимала участие в целом ряде гендерных исследований.
В различных городах Германии и Швейцарии создавала консультации для женщин,
подвергшихся насилию в семье, на службе, на улице. В начале 60-х годов увлеклась
политикой и одно время работала во многих
320
радикальных феминистских организациях. Принимала участие в различных политических
акциях 60-х годов, в том числе в противостоянии радикального студенчества и полиции в
Париже в мае 1968 года. После этого поняла, что общественными действиями добьешься
немногого, и целиком посвятила себя психотерапевтической и консультационной, а также
научной работе. В то время В. Роштадт много времени уделяла занятиям философией.
Посещала, помимо прочего, семинары и лекции Ж.-Деррида, М. Фуко. В 1976 году вышла
в свет книга “Универсальность фемининного”, а в 1980 — “Лечение женским”. Обе книги
были переведены на многие языки и выдержали по нескольку изданий каждая и не раз
возглавляли списки non-fiction-бестселлеров в Германии, Франции, США. В. Роштадт
является сопредседателем ряда международных женских организаций.
Занимаясь феминистской политической деятельностью, а кроме того, и социальной
работой по женским проблемам, В.-Роштадт пришла к выводу, что фемининное не
является специфическим только в смысле половой принадлежности, а, наоборот, далеко
выходит за пределы собственно женского. Фемининное — это особого рода отношение к
пространству и времени, к жизненным проблемам, в корне отличающееся от
маскулинного, которое и находится в основе происхождения всех проблем. В. Роштадт
сконструировала свой подход, ограничив полюсами этой оппозиции.
Маскулинное экзистенциальное движение всегда носит характер некоего напора,
мужское находится в постоянном резком движении, направленном на преодоление
барьеров, которые тоже, по природе своей, носят маскулинный характер. Маскулинное
направлено на динамичное продвижение вперед, нацелено на прорыв на некоем узком
участке, и в этом проявляется его фаллоцентризм. Необходимость агрессивного освоения
мира диктует неизбежность его разрыва на отдельные куски. Мужскому взгляду на мир не
хватает целостности, он страдает незавершенностью, отсутствие фундаментального
ощущения плеромы (полноты) является главным пороком этого мировоззрения.
Концентрированный
давящий
напор
порождает
ответное
сопротивление,
“фаллофобическое” сопротивление. Этот динамический конфликт является структурной
основой любого невротического конфликта. Фемининное, напротив, в своей
фундаментальной структуре противостоит маскулинному, фаллоцентрическому.
Фемининное по своей этиологии является маммацентрическим и вагиноцентрическим, и
это обусловливает совершенно другие взаимоотношения личности и мира.
Европейский философско-мировоззренческий дискурс складывался в новейшее время
под исключительно сильным влиянием
321
фаллоцентрического мировоззрения, каковое находит свое выражение в декартовском
противопоставлении субъекта объекту, в фихтеанском активном Я, в трансцендентальной
воле А. Шопенгауэра, в воле к власти Ф. Ницше, в их психологических последователях,
таких, как З. Фрейд и А. Адлер и т. д. Крушение системы европейских ценностей после
двух мировых войн есть на самом деле крушение фаллоцентрического мировоззрения. Нет
никаких сомнений в преемственности по линии Р. Декарт — А. Шопенгауэр — Р. Вагнер
— О. Вейнингер — Гитлер (Освенцим). Как известно, катастрофа произошла при
движении европейской культуры по этому пути. Известное высказывание Т. Адорно о
невозможности существования культуры после Освенцима следует перетолковать, а
именно как констатацию немыслимости именно маскулинноориентированной культуры.
Подавление фемининного, как условие существования культуры, неизбежно должно уйти
в прошлое. Безусловно, это не должно быть связано с приходом так называемого
матриархата как общественной формации. Самое главное — это внутренние перемены в
правильном направлении у представителей обоего пола.
Вагино- и маммацентрическое мировоззрение предполагает картину мира с отсутствием
границ, препятствий, натуги. “Если фаллоцентрическое по своей природе ограничено,
напряжено и порывисто, то фемининное — упруго и плавно” (“Универсальность
фемининного”). Маскулинное, согласно В. Роштадт, создает надрывы и судороги, отсюда
и все невротические конфликты. Мужское экзистенциальное движение направлено на
разрыв ткани существования. Результат этого движения — пустоты и разрушения,
порождающие потребность заполнять их, чинить, восстанавливать.
Наоборот, фемининное смягчает надрывы, сшивает разрывы, сглаживает швы и вводит
их в русло плавного, спокойного, естественного, ненатужного движения. Женское и так
несет в себе весь мир в его целостности, в то время как мужское концентрируется на
парциальном. Эта парциальность компенсируется беспокойством, порождающим
экзистенциально-двигательную активность. Она призвана компенсировать невозможность
относиться к миру как к изначально целому. Маскулинное движение по-фаустовски и донжуански направлено в сторону гегелевской дурной бесконечности. В присутствии
фемининного это бесплодное натужно-жадное фаллоцентрическое стремление выглядит
кричаще нелепым и откровенно бессмысленным. Смысл путешествиям Одиссея придает
только многолетнее ожидание Пенелопы.
Фемининное рассматривает окружение как заведомо, аксиоматически дружественное
пространство. В отличие от фаллоцентрической
322
“хищной бдительности” маммацентрическое мировоззрение предполагает “доверие к
бытию”, отсутствие желания его покорять, разрывать на куски. Женское неизменно готово
принять в себя, поделиться частью своей экзистенции.
Фемининный поворот в мировоззрении связан с феноменологическим и
экзистенциалистским движением в философии. Феноменологический, а в особенности
фундаментально-онтологический
дискурс
М.
Хайдеггера
покончил
с
противопоставлением мира и индивида, и бытие предстало в нем как лишенное
внутреннего противопоставления единство. Именно маскулинно обусловленное
положение дел имел в виду М. Хайдеггер, когда описывал такие модусы “мирности” мира,
как заметность, навязчивость и назойливость (Auffaelligkeit, Aufdringlichkeit,
Aufsaessigkeit).
Фемининное по природе своей консервативно. Оно коренится в приверженности
основам, очагу, почве. Если к природным мужским стихиям относятся огонь и воздух, то
к женским — твердь и вода, как стихии вечности, медленной флюидности. Подлинным
движением является то, что совершается медленно.
Как крайнюю степень маскулинного мировоззрения В. Роштадт расценила теорию
кайнотерапии известного французского психотерапевта М. Арброса. Никогда еще, по ее
словам, фаллоцентрический подход, устремленный в дурную бесконечность пустой
новизны, не получал столь радикального выражения. В. Роштадт утверждала, что
подобное бессубстанциональное учение могло произрасти только на культурной почве,
“деградировавшей до последней степени вероятия”. Она писала: “Так называемая
кайнотерапия сама по себе — тяжелый симптом болезни общества. Те, кто ее практикуют,
во главе с ее создателем нуждаются в терапии намного больше, чем их пациенты”.
Одна из проблем новейшей истории — диффамация и форсированная депримация всего
фемининного. Обустроенная “под мужчину” культурная среда унижает женщину,
пытается всячески ее принизить, лишить достоинства и свободы. Философская женофобия
новейшего времени началась, как известно, с радикально маскулинного дискурса А.
Шопенгауэра. Начиная с рецептов обращения с женщинами в духе ницшевского “когда
идешь к женщине, не забудь взять с собой плетку”, кончая скудоумно-презрительными
мифами о неспособности женщин к наукам и искусствам (название книги известного
невропатолога конца XIX века П. Мебиуса “О физиологическом слабоумии женщины”
говорит само за себя) все маскулинноориентированные идеологи пытались оправдать
фаллоцентрическое господство. Крайнюю степень такого мировоззрения воплотил в своей
книге “Пол и характер” несомненно душевнобольной мыслитель Отто Вейнингер.
323
Фаллоцентрический социум всегда пытался подчинить женщину диктату собственного
судорожно-беспокойного существования.
Различие в мировоззрениях дает основания для создания концепции невроза как
патологии, возникающей на стыке маскулинного и фемининного. Судорожное
экзистенциальное движение, натыкающееся на неподатливые преграды, — вот корень
невротической
этиологии.
Напротив,
плавное,
нескованное,
принимающее,
обволакивающее движение — прообраз любой терапевтической стратегии.
Самый радикальный поворот от мужского, фаллоцентрического мировоззрения
совершил знаменитый немецкий социолог Фердинанд Теннис. В своей книге “Община и
общество” (“Gemeinschaft und Gesellschaft”) он описал два способа организации
человеческого сосуществования, основанные на различных силах. Прообразом общины
является традиционная организация жизни в деревнях, прообразом общества —
современная городская жизнь. Община основана на кровных, близких, сущностных
связях, в то время как общество — на связях несущностных, фиктивных. В основе
общины лежит так называемая сущностная воля (Wesenswille), которая является
“психологическим эквивалентом телесности”. Она воплощается в формах склонностей,
привычки и памяти. В основе “общества” лежит “воля интереса” (Kurwille),
выражающаяся в формах умышленности, произвола и понятий. Община основана на
сущностной воле, самости (Selbst), обладании (Besitz), основе и почве, семейном праве.
Общество основано на “воле интереса”, личине (Person), состоянии, деньгах и
обязательственном праве. Если “сущностная воля” проявляется в наслаждении и счастье,
то “воля интереса” — в корысти, тщеславии, жадности, честолюбии. Если “самость”
является естественным органическим единством, то личина проявляет себя внешними
необязательными свойствами (выступает как юридическое лицо, например).
Ф. Теннис ясно подчеркивает, что по природе своей женщина ближе к индивиду,
ведомому “сущностной волей”, в то время как мужчина — к ведомому “волей интереса”.
Маскулинизированная женщина, управляемая “волей интереса”, это, безусловно,
“позднейший феномен”. Женщину определяет настроение, нрав, совесть (Gesinnung,
Gemuet, Gewissen), в то время как мужчину — старание, обоснованность, сознательность
(Bestrebung, Berechtigung, Bewusstheit). Женское определяет сферу “теплого, мягкого и
влажного” и безусловно естественного.
Социология Ф. Тенниса, подчеркивает В. Роштадт, является на самом деле теорией,
исключительно сподручной для психотерапевтического употребления. В самой
постановке вопроса
324
(“сущностная воля” против “воли интереса”, фемининное против маскулинного)
помещается готовая терапевтическая стратегия. Маскулинная невротизация общества
должна быть скорректирована феминизацией. Если мужское предполагает изначальную
разорванность, незавершенность, то женское исходно существует в изначальной полноте.
Фемининная целостность может и должна победить какие угодно разрывы и барьеры. Не
имеет смысла разбираться с конкретными клиническими обстоятельствами. Все равно
никто и никогда не сможет сказать, почему именно один пациент заболевает обсессивным
неврозом, а другой — язвенной болезнью. Выбор пациентом симптома или синдрома не
поддается терапевтическому анализу, его следует принимать как данность. Самое главное
— помещение симптома в рамки некоего крупного контекста, расширение мира личности,
включение пациента с его проблемами в плерому.
С этой точки зрения следует пересмотреть весь объем психотерапевтического знания. К
примеру, релаксация, используемая так или иначе во многих известных методах, по своей
природе — фемининная практика. К сожалению, авторы-мужчины полностью извратили
ее исконную сущность, придав ей характер канализированного действия. Релаксация по
природе своей наделена недифференцированными, аморфными, космоподобными, короче,
специфически женскими чертами, присущими ей от природы. Не ставя перед собой задач
освоения тотального психического пространства, авторы аутотренинга или разнообразных
систем саморегуляции строят ее по парциально-туннельным принципам, направляя
психическое движение по определенным, узким каналам. Например, рекомендуется
концентрироваться на отдельных группах мышц, вызывать в воображении конкретные
образные представления. Гипноз в этом смысле тоже представляет фаллоцентрированную
практику. Вообще вся психотерапия развивается в сторону вытеснения маскулинных
ударно-форсированных практик (вроде классического гипноза, протрептики Э. Кречмера
и т. д.) фемининными попустительскими.
Психотерапия должна тем или иным путем двигаться в сторону плероматизации. Одним
из важных двигателей в этом направлении может стать метафора. Метафора
осуществляет расширение психического пространства, и в этом ее главное достоинство.
Однако просто использование метафор не является достаточным. Отдельная метафора
производит терапевтический прорыв только на узком участке. Действительно важным
делом, осевым моментом терапии может стать только особое состояние сознания. В.
Роштадт обозначила его как метафорическое сознание. Оно является плероматическим,
расширяющим
духовное,
интеллектуальное,
экзистенциальное
пространство.
Метафорическое
325
сознание — фемининно. Выработке этого сознания В. Роштадт посвятила специальную
технику.
Рабочая инструкция такова: в небольшом пространстве, скажем, в кабинете, здесь и там
разбросаны разные предметы: детские игрушки, предметы утвари, очень подходят всякие
альбомы для детей, в частности детские учебники иностранных языков, где все предметы
изображены крупно, наглядно и ярко. Инструкция, которая ставится перед пациентом, —
это как можно быстрее спонтанно выработать какую-либо метафору по отношению к тому
или иному предмету или рисунку или группе предметов. По ходу дела терапевт поощряет
пациента, давая оценки его метафорам с точки зрения их адекватности, меткости,
“художественности”. При этом всячески подчеркивается творчески-игровой характер
работы.
Оптимальным считается такое состояние сознания, когда в ответ на предлагаемый ему
стимул пациент быстро “выстреливает” зрелой красивой метафорой, причем эта метафора
отличается, так сказать, “высоким качеством”, то есть она адекватна, спонтанна и, так
сказать, “высокохудожественна”. Это состояние сопровождается некоей творческой
эйфорией, раскованностью и т. п. В. Роштадт утверждает, что метафорическое сознание
вырабатывается у 74—86% пациентов, причем обычно на это дело уходит три — пять
трехчасовых сессий.
После того как достигнуто зрелое состояние метафорического сознания, пациент
подготовлен к тому, чтобы работать со своими проблемами. Теперь, собственно, и
начинается психотерапевтическая работа. Вначале идет метафорическое интервью,
которое занимает чаще всего две-три сессии. Пациент описывает свое состояние, свои
проблемы с помощью быстро творимых спонтанных метафор. Вопросы, задаваемые
терапевтом, тоже “метафорогенные”. Задаются вопросы не столько по ходу дела, сколько
вопросы, продиктованные метафорической логикой. Например: “На что это, по-вашему
похоже?”, “Чему это можно уподобить?” или “Подыщите, пожалуйста, сравнение”.
Причем метафорическое внимание уделяется как состояниям, которые переживал когдалибо пациент, так и персонажам его истории.
После выработки метафорического сознания и интервью начинается основная
процедура — метафорический диалогический нарратив. Эта техника заключается в
совместном придумывании метафор-историй. Одна из историй описывает исходное
(проблемное или патологическое) состояние пациента, вторая — желаемое (построение
метафорической утопии). Клиент и терапевт ведут диалог, постоянно используя
метафоры. Построение повествования происходит строго в очередь: фраза, от силы
326
две от одного, потом от другого. Очень хорошо, когда сюжет отстоит как можно дальше
по времени и географической дистанции, выглядит экзотически отстраненно. Очень часто
диалог строился так, что фразы, подаваемые клиентом, обрисовывают проблему, в то
время как фразы терапевта эту проблему пытаются разрешить. В. Роштадт считала, что
такой подход очень наивен. Например:
Пациент: Джон потерял в тот день все свои рыболовные снасти и боялся выйти из своей
хижины на рыбалку, зная, что ждать ему нечего.
Терапевт: Но он быстро сообразил, что может наделать удилищ из кольев, окружавших
хижину, леску — из телеграфных проводов, поплавки из щепок, и к вечеру снова ловил
рыбу, как ни в чем не бывало, зная, что за проданные излишки он сможет накупить снасть
лучше прежней.
Зрелый плероматерапевт никогда не должен сразу подавать спасительную метафору.
Наоборот, поначалу лучше развить “мазохистский” сюжет пациента, довести историю до
катастрофы, после чего подсказать пациенту выход. Так, в приведенном примере Джону
следовало бы сначала дойти почти до голодной смерти, прежде чем начать мастерить
снасть.
По инструкции любые комментарии, вообще высказывания, не имеющие отношения к
сочиняемой истории, строго воспрещены. Они откладываются “на потом” и становятся
предметом последующего шеринга. Типы поведения пациента в процессе сочинения
историй в рамках метафорического нарратива могут быть различными. В. Роштадт
выделяла три типа нарративного поведения пациента: творческое развитие истории,
торможение развития и уход, когда пациент пытается дать сюжету нарочито нелепое
продолжение. Если первые два типа поведения следует расценивать как благоприятные,
то в третьем случае следует различать внешний уход и внутренний. В первом случае
пациент пытается придать сюжету внешне абсурдный, подспудно же явно связанный с его
проблематикой характер. Во втором случае меняется глубинная структура. У терапевта
есть только одно орудие коррекции — собственные метафоры. Он сам отслеживает
развитие событий и корректирует рассказ клиента. В том случае, если пациент постоянно
пытается изменить сюжет, время, действия и т. д., эту игру следует принимать, порой
даже усугубляя абсурдность нарратива. Всячески следует противиться попыткам пациента
ускорить ход событий, скомкать рассказываемую историю. В данном случае терапевт
следует принципу литературного письма “отсрочка событий”.
Говоря об отличии своего подхода от использования метафор Милтоном Эриксоном и
создателями НЛП Дж. Гриндером и Р.-Бэндлером,
327
В. Роштадт подчеркивала, что плероматерапия исходит из необходимости создания
пациентом собственных метафор, которые, не в пример навязанным извне, намного более
действенны.
Она подчеркивала, что изменение состояния сознания в метафорическом нарративе не
требует использования других приемов для наведения транса. Не требуются даже
релаксационные инструкции. Клиент расслабляется без каких-либо дополнительных
усилий. “Метафорическое сознание, — писала она, — это своего рода карнавальное
сознание; ни навязчивости, ни депрессии, ни расщепления в карнавале не существовало и
существовать не может.”
В. Роштадт описывает в общем проекте плероматерапии, помимо “выработки
метафорического сознания”, также и вторую основную технику — флюидотерапию. Она
основана на совсем других принципах и приемах. В. Роштадт считает, что до сих пор “в
забвении находилось самое действенное средство для изменения состояния сознания, а
именно эротика”. Здесь приходилось сразу оговариваться: “Мы проводим жесткую черту,
отделяющую эротическое от сексуального. Это разделение полностью находится в русле
идеологии нашего метода. Всякому ясно, что эротическое в большей степени женское,
сексуальное же в большей степени мужское. Собственно сексуальное, как процедура,
изменяющая состояние сознания, по вполне понятным причинам, не годится никуда. Это
сексуальное — генитально-коитальное — является самодовлеющим делом, не
оставляющим никакого пространства ни для чего другого”.
Разрабатывая флюидотерапию, В. Роштадт обращается к самым началам психотерапии,
к приемам Ф. А. Месмера, а именно к его известному “ушату здоровья”. Это
приспособление представляло собой углубление в полу, похожее на небольшой бассейн,
где располагались пациенты. “Интенсивный телесный контакт сразу всех участников
процедуры друг с другом одновременно может быть достигнут только таким образом.
Именно так все ощущают наиболее тесную причастность к происходящему”. Флюидом
следует считать метафору, которая определяет общее состояние клиента. Его трудно
уловить, оно повсюду в поле личности. Оно в словах и движениях, в жалобах и
разговорах. Флюид — это нечто такое, что мы определяем по выражению глаз и тембру
голоса. Он может быть разреженным и упругим, он может подходить данному человеку
или восприниматься как нечто чуждое.
По инструкции флюидотерапии все участники групповой сессии, одетые только в
тонкие прозрачные балахоны, укладываются все вместе в так называемый “флюидный
чан”, причем укладываются
328
кучей, так чтобы было тесно, сразу вступая в телесный контакт. Инструкция
предписывает “медленные взаимные прикосновения, объятия с одновременным строгим
запретом попыток открытого сексуального контакта и откровенных ласк”. “После — все
что угодно, во время сессии — абсолютно ничего”. Сессия строится вокруг работы с
проблемами отдельного пациента, который излагает их всем участникам группы. Терапевт
сидит на краю чана и, направляя процесс, постоянно отслеживает “перетекание флюидов”.
К числу главных рабочих задач относится адекватное распределение флюида в
пространстве как одного пациента, так и всей группы.
На эту терапию следует отводить как можно больше времени. Если выработка
метафорического сознания и построение метафорического нарратива не требуют больших
временных затрат, то флюидотерапия обычно проходит в режиме марафона. Помимо
разговоров, касающихся проблем каждого из участников группы, одновременно
происходит определение состояния флюида. По замыслу В. Роштадт, флюид есть некая
тонкая телесно-духовная ткань, вроде ауры, интуитивно улавливаемая всеми
участниками действия. Ее общие характеристики — плотность, прозрачность,
интенсивность. Отрицательные патологические характеристики — колкость,
угловатость, истончение, обглоданность, дырявость, окаменение. Положительными же
характеристиками следует считать пушистость, мягкость, упругость, плавность, блеск и
т. д. Отдельные положительные, равно как и отрицательные характеристики могут
улавливаться и формулироваться в зависимости от групповой реальности. Флюид — это
не только то, что улавливается, но также и то, чем можно обмениваться.
Во флюидном чану происходит “ортопедия флюида”. Это происходит по-разному.
Пациенту, рассказывающему о своих проблемах, другие рассказывают что-нибудь о своих
же, причем так, что этот рассказ выглядит “проясняющей метафорой” или подсказкой
выхода, что оговаривается в специальной вводной инструкции. При этом важен телесный
контакт — поглаживания (но никак не маскулинный силовой массаж), объятия.
Участниками
определяются
телесные
корреляты
симптомов,
описываемых
протагонистом. Эти корреляты могут не соответствовать тем жалобам, которые он
предъявляет.
Флюидноориентированные действия, производимые в чану, начинаются, как уже
сказано, с диагностики состояния флюида. Отслеживая рассказ и флюидные изменения по
ходу повествования, другие участники процесса, по мере необходимости, производят
такие действия, как заглаживание, продувание, впрыск, уплотнение, умягчение ила чтонибудь такое, что изобретается
329
по ходу работы, причем сообразуясь с определенными качествами (как позитивными, так
и негативными). Теория плероматерапии предполагает, что патологические процессы
всегда приводят к возникновению определенного рода пробелов, дыр, пустот во
флюидной материи. Психотерапия призвана заполнять эту пустоту. Флюиду могут
придавать свойства упругости, пушистости и т. д.
Нахождение в чану, в телесной куче придает всей ситуации характер “поля
интенсивности”. Изменение потоков этого поля и определяет в значительной степени
действенность метода. Флюидотерапия в чану объединяет вербальное и невербальное,
телесное и духовное. Все происходит, по замыслу В. Роштадт, на интимных, мягких
обертонах. Основное настроение — эротическая фемининная томность. Никаких
маскулинных резкостей, натужности, грубости не допускается под страхом отстранения
от работы. Сообразуясь с определенными качествами (как позитивными, так и
негативными), флюидотерапия следует всегда после выработки метафорического
сознания, и поэтому всегда все понимают, что речь идет о метафорических действиях.
Завершается все это пребывание в чану игрой в “кучу малу“, после чего, как и полагается,
традиционный шеринг.
Проект В. Роштадт следует рассматривать как в высшей степени синтетический. Он, по
замыслу его автора, объединяет в себе множество принципов других терапий. Как
известно, плероматерапия получила большое распространение, причем известно, что
пациенты-мужчины предпочитали технику метафорического сознания, а пациентыженщины — флюидотерапию. Центр ассоциации плероматерапии в Цюрихе издает
журнал “Плерома” и проводит пользующиеся большим спросом обучающие тренинги.
Комментарий
Первое, что бросается в глаза, это противоречие между радикальным левацким
феминизмом и консервативной социологией Ф. Тенниса, используемой для построения
теоретического остова плероматерапии. Казалось бы несовместимые идеологии
сочетаются без особого противоречия. Что касается доктрины Ф. Тенниса, В. Роштадт
дает хороший пример того, как находящиеся вне психотерапевтического обихода
теоретические конструкции могут быть употреблены в дело. Тем самым она подает
прекрасный пример работы терапевта, адаптирующего гуманитарное знание для
терапевтических нужд. Такого рода деятельность человек с развитым метафорическим
сознанием мог бы уподобить экскаватору, зачерпывающему ковшом нечто за пределами
психотерапии и переносящему потом это зачерпнутое внутрь психотерапевтического
пространства.
330
Привлекательность теории Ф. Тенниса заключается еще и в том, что она поставляет для
психотерапевтических нужд готовую концепцию купидо. Более того, у Ф. Тенниса мы
отмечаем сразу два различных, противоположных друг другу влечения. Без сомнения,
какой-нибудь более ушлый автор легко сформировал бы на основе теннисовских
Wesenswille и Kurwille две инстанции и беспечно производил бы с ними какие-нибудь
ловкие манипуляции, то сталкивая их, то спаривая друг с другом. Уж конечно, тут было
бы на чем отвести душу. Честно говоря, мы не понимаем, что удержало В. Роштадт от
такого, вполне естественного шага.
В динамике формирования концепции плероматерапии мы отчетливо видим
доктринальное расширение. Феминистский взгляд на мир расширен здесь до размеров
глобального мировоззрения. Плероматерапия, как никакая другая, показывает нам, что в
школьной теории могут быть записаны собственные желания автора. Такого рода запись
мы можем обнаружить в построениях любого направления. Для изобретательного автора
не составило бы ни малейшего труда соорудить антифеминистскую школьную теорию,
которая выглядела бы не менее убедительно.
Эклектизму теории плероматерапии соответствует эклектизм акции. Характер обеих
процедур таков, как будто они принадлежат различным авторам. Несмотря на это, можно
предположить, что со временем обе техники проявят тенденцию к конвергенции и, может
быть, даже сольются в одну и ту же. К слову сказать, в реальном психотерапевтическом
мире сочетание, казалось бы, несовместимых идеологий и техник в рамках одной школы
— дело вполне обычное. К примеру, экзистенциалистская идеология логотерапии В.
Франкла мирно уживается с вполне бихевиористской техникой парадоксальной интенции.
Так что, если даже в рамках определенной школы мы легко сталкиваемся с сочетанием
различных парадигм, то в контексте индивидуального метода мы тем более вольны
сочетать, как уже было сказано, все, что угодно, со всем, чем угодно. Без сомнения, мы
можем говорить о том, что психотерапевтический метод чаще всего представляет собой
некий конструктор, собранный из деталей, которые могут заменять друг друга.
Объединяющую функцию в этой сборке играет чаще всего именно идеология. Она же
проводит пограничную линию, которой помечены границы метода.
4. Волапюк-терапия
Автор волапюк-терапии — английский лингвист и психотерапевт Джордж Серф
(1883—1979) — создатель более 30 искусственных языков. Термин “волапюк” (от
английского world speak — мир говорит) был в свое время предложен немецким
лингвистом
331
А. Шлейхером для обозначения изобретенного им искусственного языка.
История создания волапюк-терапии берет свое начало именно с интерлингвистических
занятий Дж. Серфа. Составляя свои языки, как он писал впоследствии в своей
автобиографии “Путь к целительному слову”, Серф с юных лет испытывал удовольствие,
которое больше ни от каких занятий получить не мог. По окончании университета и
защиты диссертации на тему “История концепций лингвопроектирования” он вел в
Оксфорде семинары по интерлингвистике. Семинары пользовались большим успехом у
студентов. О расширении поля применения своих лингвистических знаний он задумался
после одной многозначительной истории.
Одна из его студенток, Джейн Ф. (случай с Джейн Ф. впоследствии был детально
описан и подробно комментировался) была вынуждена прервать свое обучение в
Оксфорде, прекратить посещение лекций и семинаров Джорджа, потому что вышла замуж
и, по настоянию мужа, оставила университет. Через некоторое время она попала в
психиатрическую больницу с картиной острого психотического приступа. В клинической
картине наряду с развернутым синдромом психического автоматизма существенное место
занимали непонятные для врачей словесные новообразования, которые были расценены
ими как типичные для шизофренического процесса неологизмы. Все современные методы
лечения не дали почти никакого результата. Спустя какое-то время после того, как ее
госпитализировали, Серф навестил ее в клинике, где попытался завести с ней разговор,
используя при этом несколько искусственных языков, употреблявшихся им в ходе
семинара, который постоянно посещала Джейн. Терапевтический эффект от этого
посещения оказался неожиданным и поразительным. Лечащие врачи заметили ощутимые
положительные изменения в картине ее болезни и попросили Серфа навещать ее дальше.
Чем больше было встреч, тем лучше становилось ее состояние. Во всяком случае, визиты
Джорджа и положительная динамика ее болезни были несомненно связаны друг с другом.
Через некоторое время Джейн стало настолько лучше, что ее выписали из клиники. Она
отказалась, однако, вернуться домой и подала на развод, чем ее муж был крайне
обрадован. Вернувшись обратно в Оксфорд, она продолжала, как и раньше, принимать
активное участие в интерлингвистических семинарах Дж. Серфа.
Джейн и Джордж сформировали группу студентов, которые оставались после
семинаров в аудитории, болтая на изобретенных ими языках. Вскоре стало понятно, что
участие в этих семинарах, разговор на непонятных, только что изобретенных языках
332
приносит им, помимо чувства радостного удовольствия, существенную психологическую
помощь. Студенты становились веселей, контактней. Исчезала замкнутость. Вскоре
случай студентки Мэри Ферриер, излечившейся на семинарах от застарелой, тяжелой,
резистентной к другим терапиям агорафобии, привлек внимание медицинской
общественности. Почти ни у кого не оставалось сомнений в том, что “интерлингвистика”
серьезно помогает людям в решении их проблем.
Джордж постепенно оставил преподавание и понемногу завел частную практику в
основном среди университетской публики, причем имел большой успех. Успех этот
сопровождался скептическими отзывами коллег, с упреками в шарлатанстве и
недоуменными вопросами о том, куда, дескать, смотрят власти, позволяя практиковать
“учителю словесности”. Естественно, вскоре он столкнулся с бюрократическими
запретами, согласно которым ему, филологу по образованию, возбранялось заниматься
психотерапевтической практикой. Пришлось окончить курсы медсестер, что
естественным образом сняло все проблемы такого рода. Работая быстро и энергично,
причем, как он уверял, на основании большого эмпирического материала, он создал
теорию и практику новой психотерапии и недолго думая назвал ее волапюк-терапией.
По Серфу, родной язык — язык обыденный, повседневный, рутинный. Все беды и все
несчастья происходят на именно обыденном родном языке. Постоянная тенденция,
которую психиатры всех времен отмечали у душевнобольных, — это тенденция к
образованию так называемых неологизмов. “Болезнь, — писал Дж. Серф, — сама
проделывает над языкам ту работу, которую каждому следовало бы проделывать в
норме. Мы передаем наши компенсаторные языковые возможности болезни, в то время
как задача заключается в том, чтобы этими возможностями овладеть”. Словесные
окрошки (как эти феномены определяют клинические психиатры), неологизмы — все это
встречается в любой работе по феноменологии, клинике и семиотике шизофренических
расстройств. Он обратил внимание на богатство неологизмов, на разнообразие
лингвистического спонтанного творчества у маленьких детей. Серф отстаивает тот взгляд,
что это может быть расценено как проявление вполне естественного, не только
познавательного детского порыва, но и спонтанной аутопсихотерапии.
На каждой вводной лекции Дж. Серф читал вслух и подробно комментировал известное
стихотворение русского поэта Е. Баратынского: “Своенравное прозванье / Дал я милой в
ласку ей, / Безотчетное созданье / Детской нежности моей; / Чуждо явного значенья, / Для
меня оно символ / Чувств, которых выраженья /
333
В языке я не нашел... ” “Основы теории волапюк-терапии изложены Баратынским в
прекрасной поэтической форме исчерпывающе и очень глубоко, — писал Серф. —
Словесные новообразования на самом деле создаются под давлением чувств, ищущих
выхода наружу”.
Цитируя впоследствии известное изречение Мартина Хайдеггера — “Язык есть дом
бытия” — Дж. Серф, однако, уточнял, что хорошо можно жить только в том доме,
который построил ты сам, в крайнем случае вместе с товарищами, и далее прибавлял
“Печальная судьба человечества распорядилась так, что все живут всю жизнь в домах,
построенных не ими, часто даже не имея возможности подогнать их под себя”.
На общепринятом языке, писал он, возможно только поверхностное условное общение,
отчужденное, болезненное. Языковой карнавал творчества в языке — вот что, по его
мнению, может быть по-настоящему терапевтическим. На серфовских группах всегда
царила непринужденная атмосфера карнавала, даже в тех случаях, когда полемика между
больными доходила до ожесточенных перепалок.
Основные моменты волапюк-терапии сводятся к следующему. Инструкция, которую
получают все участники группы после краткого теоретического введения, предписывает
всем говорить на языке, которого в природе не существовало, это не может быть ни их
родной язык, ни любой, известный к этому моменту иностранный. Свои чувства, свои
ощущения следует выражать только посредством слов, которых нет в природе. Каждый
из участников излагает свою проблему, после чего ему задают вопросы. На родном языке
может говорить только терапевт, ведущий группу. Он, однако, время от времени
переходит на волапюк, включаясь во внутригрупповую дискуссию. Котерапевт может
говорить только на волапюке, оживляя и провоцируя всячески участников группы. Всем
предлагается обсуждать свою собственную проблематику, а также складывающуюся
ситуацию. В процессе исследований по волапюк-терапии Серф пришел к выводу, что
структура формирующегося волапюка может служить в качестве проективного теста. Он,
в частности, выделил четыре основных типа пациентов:
Первый тип он назвал глагольщиками, так как в порождаемом ими тексте преобладали
глаголы, обозначающие действия. Среди описанных им типов имеются субстантивисты,
предпочитавшие, соответственно, существительные. Далее шли наречники, встречались
также и междометники.
Субстантивистам, как отмечал Серф, свойственны обстоятельность, медлительность,
они тяжелее, чем глагольщики переключаются на обсуждение групповой динамики.
Наречники переживают
334
свои состояния как нечто, с одной стороны, неподвижное, с другой — лишенное какихлибо основ. Они относятся к своему времени и к своим переживаниям как к процессу
“здесь и сейчас”, особенно остро переживая процессы, происходящие в группе. Наиболее
благоприятны в прогностическом смысле глаголыцики. Это самые динамичные участники
групп, в наибольшей степени ориентированные на изменения. Междометники — люди,
которые чаще всего не знают, чего хотят. В мире их эмоций преобладают легко
возбуждаемые, быстро преходящие, неглубокие чувства. Среди тех, кто покидает группы,
прерывая психотерапевтический процесс, преобладают именно эти междометники. Есть
серьезные подозрения, что многие из них вряд ли получили бы высокие оценки при
интеллектуальном тестировании, но специально этим вопросом никто не занимался.
В группе разрешены разного рода экспрессивные жесты. Разумеется, не возбраняется
при помощи мимики и жестов выражать свои эмоции. При этом строго запрещено
посредством мимики и жестов пытаться разъяснить смысл того, что говоришь. Правило,
сформулированное Дж. Серфом, гласило: “Жесты нужны для того, чтобы усиливать, но
не для того, чтобы заменять”. Все разъяснения должны формулироваться на языке,
который создает группа. Переход на родной (или иностранный) язык строго воспрещался,
даже в тех случаях, когда участнику группы казалось, что его не понимают, и очень
хотелось объясниться. Менее строгая инструкция рекомендовала переход на новый
волапюк, если уже употреблявшийся клиентом не давал ожидаемого результата.
Групповая динамика заключается в первую очередь в формировании и поиске общего
языка для группы. Главный момент здесь — это конфронтация, борьба за свое слово, за то
слово, которое будет потом введено в общий язык каждого из участников группы. При
этом очень важна роль котерапевта, который всячески провоцирует участников группы,
всячески способствует тому, что одни слова задерживаются в групповом лексиконе,
другие нет. Терапевт, в отличие от котерапевта (котерапевт провоцирует, возбуждает),
должен всячески демонстрировать свой скепсис в отношении новых слов, причем он
находится в преимущественной позиции: он может говорить на обыденном языке.
Очень важный момент терапевтического процесса — это объяснение слова. Один из
главных этапов терапии — это объяснение нового слова посредством слов опять-таки
этого новояза (это один из главных этапов терапии). Слово, которое ты вводишь, ты
должен объяснить посредством опять-таки новых слов. Положительная групповая
динамика заключается в том, что группа помогает участнику найти объясняющие слова
для этого слова, которым он объясняет свое состояние.
335
Особенность формирования групп заключается в том, что число активных участников
должно превышать число пассивных, ибо они задают тон в групповой динамике. Опыт
показывает, что примерно 20% из тех, кто начинает работу в группе, не доходит до конца;
те же, кто доходит, сообщают потом о разительном изменении в своем состоянии. Вот
несколько слов из самоотчета одного из участников группы, описывающего свои
переживания по поводу группового процесса: “В самом начале непонятно, что
происходит, несмотря на то, что даны исчерпывающие инструкции. Сперва создается
такое ощущение, что ты просто попал в клинику для душевнобольных, потом все
понемногу привыкают. Я, например, полностью вошел в процесс где-то на третьем
занятии, когда стали обсуждаться мои проблемы. Далее замечаешь, что в группе есть
несколько наиболее активных участников, ты начинаешь им завидовать. На своем диком
языке они шпарят как по-писаному. Ты видишь, как ловко они пользуются своими
словечками и навязывают тебе то, что интересует в первую очередь их, но никак не тебя.
Чаще всего это разбитные смазливые девицы с хорошо подвешенным языком. Что их
приводит на эти занятия, непонятно. Вначале ты идешь на поводу у какой-нибудь такой
дряни, особенно если очень красивая, но потом уже хочешь как-то ее унять. А
прикрикнуть, тем более просто стукнуть ее раз-другой хорошенько запрещено
инструкцией. Однако вскоре понимаешь, что ее можно заткнуть только при помощи
своего собственного волапюка, только энергично продуцируя свой собственный текст.
Когда я такую стерву в первый раз заболтал, почувствовал невыразимое облегчение.
Дальше уже все пошло как по маслу”.
Отрывок из отчета другого клиента: “Преимущество этих групп заключается в том, что
на волапюке всегда можно сказать что-то такое, чего ты не выразишь обычными словами,
или описать особое состояние, или как-то отругать того, кого ты хочешь отругать, но не
решаешься это сделать. Интересно наблюдать за участниками группы, с которых как
рукой снимается вся их так называемая английская чопорность. Некоторые дамы, хотя и
говорят на групповом волапюке, но совершенно ясно, что они пользуются такими
выражениями, которые на обычном языке они бы, конечно, никогда не рискнули
употребить на людях. При этом они зачастую выглядят счастливыми, как дети. Через
некоторое время становится ясно, что только в этой группе ты чувствуешь себя самим
собой, ты сживаешься с теми словами, которые ты изобрел, и чувствуешь особое
удовлетворение от того, что мог какие-то особые слова навязать группе в обмен на то, что
согласился принять какие-то слова других членов группы. И на этом языке где-то с
десятого-двенадцатого занятия ты можешь
336
объяснить свои проблемы так, что это уже понятно всем, а они могут объяснить свои
проблемы так, что это понятно тебе. И мы превосходно друг друга понимаем. Когда потом
уходишь в обычный мир, честное слово, поначалу от обычной речи прямо-таки воротит.
Все вокруг кажутся дураками и сумасшедшими”.
Особая форма занятий сводилась к тому, что три или четыре участника, то есть
половина обычной группы, отправлялась куда-то в город, где, располагаясь в баре или в
ресторане, непринужденно болтали между собой на групповом волапюке, нарочито
громко, привлекая к себе внимание окружающих. Общаться разрешалось только между
собой. Задевать посторонних строго воспрещалось. Хотя, как писал Серф, в этих случаях
очень трудно проконтролировать, выполняют ли они все требования и предписания
психотерапевтического ритуала, однако то удовлетворение, которое они получали от
такого своего поведения, с лихвой перевешивало все недостатки отсутствия контроля.
Через некоторое время стало ясно, что подавляющее большинство пациентов,
дошедших до конца терапии, не собирались расставаться с этими группами, и создание
групп поддержки стало настоятельной необходимостью. Очень скоро все это дело
превратилось в широкое психологическое движение. К двадцатым годам относится
попытка Джорджа вступить в контакт с З. Фрейдом. На свое письмо Серф, однако, не
получил никакого ответа, даже вежливой отписки. Объяснение этому можно найти в
четвертом томе книги “Life & work of S. Freud” Э. Джонса, где тот приводит такую фразу
из одного письма к нему Фрейда: “Недавно я получил письмо от одного вашего
компатриота, который лечит невротиков при помощи неких новых языков. Напрасно я
искал в его пространном письме и прилагавшемся к нему оттиске статьи хотя бы
малейшие попытки объяснить эффект от его терапии через инфантильную сексуальность
и оральные фиксации, хотя ясно, что такое объяснение здесь выглядит более чем
естественным. У меня сложилось впечатление, что он уделяет внимание инфантильной
сексуальности еще меньшее, чем Юнг или Адлер. На какой же ответ от меня он
рассчитывал?!” (E. Jones, v. 4, p. 542).
Волапюк-терапия Джорджа Серфа, как известно, получила очень широкое
распространение в Великобритании, равно как и в других странах. В “Psychoterapeutical
Guide to London” (“Психотерапевтическом путеводителе по Лондону”) нетрудно найти
адреса офиса и телефоны Ассоциации волапюк-терапии.
Комментарий
Попытаемся проанализировать волапюк-терапию в рамках предложенных нами
концептов. Новый язык, который вводит
337
клиента в иное измерение, в иное состояние сознания, является в данном случае
несомненно эффективной транстерминационной процедурой. Однако было бы ошибкой
считать разговор на волапюке только лишь одной транстерминацией. Здесь открываются
богатые возможности для совершения винкционных действий, причем они
осуществляются в заведомо недирективном поле.
Этот случай, помимо всего прочего, демонстрирует динамику формирования метода.
Когда уже сформирован один главный элемент психотерапии, то все остальные к нему как
бы сами присоединяются, он как бы ведет их за собой. К групповому новоязу, как к
элементу, образующему метод, пристраивается, например, система классификации
клиентов (глагольщики, субстантивисты и т. д.).
Дж. Серф воспользовался одним из широко распространенных способов построения
психотерапевтического метода, а именно — строить вокруг транстерминации. Точно так
же был создан когда-то гипноз, равно как и — уже в наши дни — трансперсональная
пневмокатартическая терапия. Надо полагать, что в истории становления каждого из
известных методов можно выделить некое исходное ядро, к которому все остальное как
бы пристраивается. В этом смысле можно припомнить свидетельства многих писателей,
утверждавших, что не они пишут свои романы, а роман как бы ведет их за собой. Без
сомнения, что-то вроде этого происходит и с авторами психотерапий.
Что же касается доктринального расширения, то этот путь является закономерным и
неизбежным для любого сочинителя метода. Рассуждения о том, что, мол, надо жить в
своем собственном доме бытия, а тем более что обыденный язык, дескать, вреден для
психического здоровья и т. п., не должны, разумеется, приниматься всерьез. Однако эти
идеи крайне важны для самого Дж. Серфа как для создателя метода.
Хорошей находкой при изложении основных принципов метода была идея привести
многочисленные самоотчеты клиентов. Что и говорить, на первый взгляд волапюктерапия кажется весьма экзотической и такого рода отчеты действуют на читателя весьма
убедительно.
5. Деиксотерапия
Деиксотерапия (deixos — др.-греч. показ, указание) представляет собой относительно
новый психотерапевтический метод, делающий в настоящее время только свои первые
шаги. Его автор Алина Феликсова (1966 г. р.) окончила в 1989 году психологический
факультет МГУ, а в 1991-м — Высшие театральные курсы при Российском союзе
театральных деятелей. До поступления в университет, а также во время и после учебы
служила некоторое
338
которое время актрисой, а позднее работала помощником режиссера и заведующей
литературной частью в ряде московских театральных студий. Кроме того, преподавала
психологию в различных театральных училищах, как психолог консультировала
студентов этих училищ и преподавателей театрального мастерства, сценической
режиссуры и т. д.
В 1994 году прослушала курс лекций А. Сосланда “Как создать свою школу в
психотерапии...”. Особое внимание, по собственному признанию, она уделила
заключительной части семинара, где излагались проекты виртуальных психотерапий.
После этого вскоре появились ее многочисленные публикации, в которых она подробно
изложила новый метод, деиксотерапию, основанную на разработанной ею оригинальной
теории. В ноябре 1998 года вышла в свет ее книга “Это бросается в глаза”. За это время по
ее инициативе была создана система консультирования и психологической помощи при
системе театральных и художественных учебных заведений. Предложенная ею
психотерапевтическая система уже сейчас пользуется большой известностью, в том числе
и за рубежом. На октябрь 1999 года намечено проведение первого семинара по
деиксотерапии в подмосковном Голицыне с широким международным участием.
Знаменитая фраза шекспировского персонажа из “Как вам это понравится”: “Весь мир
— театр. В нем женщины, мужчины — все актеры...” — до сих пор не осмыслена
достаточно глубоко и адекватно. Никогда раньше театральному инстинкту,
прирожденному и глубинно укорененному в человеке стремлению что-то представлять, не
придавалось самостоятельного значения. Исследователи говорили обо всем этом как о
придатке к неким основным влечениям.
Та же самая исследовательская традиция придавала демонстративным стремлениям
вторично-прикладное значение, говоря о них как о способе адаптации к требованиям
окружающей социальной среды. О самостоятельном значении спектакля в жизни человека
никто никогда не говорил. Действительное же положение дел таково, что само по себе
стремление демонстрировать все, что угодно, — безразлично, достоинства или
недостатки, — является самодовлеющей фундаментальной потребностью человека. Эта
потребность лежит в основе многих феноменов его поведения, в то время как ущемление
этой потребности является основной причиной самых разнообразных психических
расстройств и жизненных проблем.
Демонстративность всегда во всех культурах подвергалась подавлению.
Интеллектуальное общественное мнение всегда осуждало “истеричек”, и психиатры
пошли у него на поводу. Известно определение К. Ясперса: “Истерическая личность имеет
339
потребность казаться себе и другим чем-то большим, чем является на самом деле, и делать
вид, что испытывает переживания в большей мере, чем она способна их испытывать”. На
самом деле, однако, такая демонстративность носит абсолютно неспецифический
характер. Это определение в той или иной степени относится к каждому. “Даже самый
скромный и незаметный человек отчетливо и энергично демонстрирует свою скромность
и отлично знает, какое впечатление производит на других это его представление.
Незаметность, так называемая подлинность — это то, что в культуре, репрессирующей
демонстративность, ценится выше всего. Демонстративное сокрытие стремления
демонстрировать себя свойственно почти всем европейским культурам. При этом
агрессивная, вызывающая демонстративность, есть признак принадлежности к
маргинальным слоям общества” (Спектакли в плавильном тигле. Социологические
исследования, 1996, № 19).
Театр во все времена играл в обществе роль отдушины, оставлявшей пространство
для реализации демонстративных желаний. Привлекательность актерской профессии
связана именно с этим. “Не случайно, — писала Феликсова в статье “Палач актера”
(Ежегодник Ad Marginem, 1996), — люди театра, наряду с проститутками, преступниками,
еретиками служили мишенью агрессии и инвектив со стороны христианского
духовенства, ибо они беспрепятственно предавались страсти, которая так или иначе
присуща всем. Сценическая практика является легитимной формой реализации влечения
к демонстрации себя”.
Тотальность
демонстративного
влечения
охватывает
практически
все
психопатологические феномены. Психологи и психиатры имеют дело не с теми, кто на
самом деле болен или имеет проблемы, а с теми, кто демонстрирует, что у него есть
проблемы или болезнь. Проблемы или патология — это всегда то, что так или иначе
продемонстрировано тому, кто в состоянии это воспринять. Симптом, согласно К.
Ясперсу, — это “понятный зов о помощи”. Симптом одновременно предъявлен
внутреннему и внешнему зрителю. Обсессия с этой точки зрения — такая же
демонстрация, как и истерическая дуга, например. Анализ направленности демонстрации
(внутреннему или внешнему зрителю) заключается в выяснении того, кто же зритель, для
которого затеяна игра, какова пьеса и антураж.
Огромное большинство методов в психотерапии построены на том, что проблема или
симптом так или иначе демонстрируются терапевту. Сам по себе рассказ пациента о
болезни или проблеме, подробная исповедь есть не что иное, как развернутая
демонстрация. Исследователи, занимавшиеся так называемыми “неспецифическими
факторами” в психотерапии, ясно указывали
340
на то, что само по себе повествование о пациентских проблемах приносит серьезное
облегчение. Никакими другими факторами, кроме удовольствия от демонстрации, этот
феномен не объяснишь. Счастье возможности просто продемонстрировать себя
внимательному заинтересованному благожелательному зрителю не сравнимо ни с чем.
Любая терапия всегда так или иначе — немного психодрама, и, с другой стороны, не
случайно психодрама стала первой неиндивидуальной и недирективной психотерапией,
получившей широкое распространение, после глубиннопсихологических школ.
Вообще же групповая терапия своим распространением обязана вполне понятному
обстоятельству — удовольствие от демонстрации усиливается пропорционально
количеству зрителей (Деиксотерапия // Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.
Д. Карвасарского, СПб.: Питер, 1998, с. 130—133). Нарцистические удовольствия
измеряются количеством созерцающих Нарцисса. В этой связи, А. Феликсова пускается в
рассуждения о том, как, например, некие, внешне незаметные авторы заумных текстов
или радикальной музыки презрительно третируют популярных, но “поверхностных”
коллег, пишущих “на потребу толпы”. Разумеется, они исходят при этом из расчетов, что
их творения, рассчитанные на “вечность”, со временем, пройдя через несколько
поколений, соберут в итоге намного более массовую публику. “Деиксоманическая
арифметика”, конечно, заботливо скрываемая от чужого взора, не чужда, тем не менее
самому высоколобому “яйцеголовому” интеллектуалу.
Согласно взглядам А. Феликсовой, демонстративность составляет основу любой
патологии и любой проблемы. Структура психики такова, что мы не можем говорить о Я,
Оно, Сверх-Я и т. п. Такие части личности, как Актер, Зритель и Критик, намного более
адекватно описывают психическую реальность, чем любая другая модель “Ни перед кем
другим человек не играет столько ролей, как перед самим собой. Внутренний Критик
поощряет или наказывает индивида не за то, что он на самом деле “хорошо” или
“дурно” себя ведет, а за то, “хорошо” или “дурно” он выглядит” (Что такое
деиксотерапия // Психология в человеческом обличье. Под ред. Д. Е. Леонтюка, М.:
Значение, 1997, с. 65—93).
По мнению А. Феликсовой, вся религия построена на демонстрации перед взором
некоего абсолютного, вечного зрителя, которого якобы невозможно обмануть и тем не
менее все обманывают. Самая развернутая естественная театральная система заключается
в системе религиозной жизни. Именно то, что в Боге сочетается некий вечный
абсолютный Режиссер, Зритель и Критик делает религиозное сознание неистребимым и
привлекательным. “Фатальная обреченность атеистической идеологии
341
обусловлена тем, что ничего лучше в смысле организации внутреннего театра, чем
религиозное сознание, никто никогда не придумает”, — писала искренне, как известно,
верующая и исключительно благочестивая А. Феликсова в своей программной статье
“Рампа и алтарь” (Архетип, № 8, 1997).
Наше сознание, равно как и бессознательное, в высшей степени демонстративно.
Особенно ярко оно проявляется в те моменты, когда мы, казалось бы, остаемся одни.
Поток сознания есть поток спектакля плюс критические комментарии к нему. К слову
сказать, известная прозаическая техника письма, а именно “поток сознания”, у Дж.
Джойса, например, в высшей степени обнаруживает демонстративную природу личности.
Развитие личности — в первую очередь вживание в свою роль, создание предлагаемых
обстоятельств и сценографии. На самом деле люди взаимодействуют друг с другом
своими образами, межличностные отношения — это, скорее всего, “межимиджевые”
отношения, и происходит это отнюдь не с какой-то утилитарной целью, лучше сказать —
не только ее ради. Одна из важнейших целей всяческой эволюции личности — сбор как
можно большего количества публики на твой спектакль, обретение так называемой славы.
Престиж любого занятия определяется именно этим, исключительная привлекательность
так называемых художественных профессий несомненно объясняется деиксоманическими
резонами.
Для создания концепции, которая бы адекватно и систематически объясняла все
демонстративно-созерцательные феномены, А. Феликсова сочла необходимым ввести в
обиход понятие стремления к демонстрации — деиксомании. Не будет большим
преувеличением предположить, что деиксомания развилась в процессе эволюции
человечества как реакция на недостаточность просто коммуникации. Чтобы быть
замеченным, надо было так или иначе усиливать свои сообщения вовне. Если трагедия
изоляции — в том, что тебя “никто не слышит”, то демонстрация как раз помогает это
преодолеть. Хороший спектакль (необязательно шумно-пестрый) всегда есть средство
эффективной коммуникации, выход из одиночества. Выходом из реальности не может
быть просто коммуникация, а только коммуникация привлекательная.
Развитие деиксомании в онтогенезе мы начинаем отслеживать с так называемой “стадии
зеркала”, описанной Ж. Лаканом. Эта фаза, которую младенец проходит в период от
полугода до года, связана с тем, что он идентифицирует себя в зеркале, причем это
сопровождается проявлением положительных эмоций. Ж. Лакан, как известно, особо
подчеркивал “восторженное принятие ребенком своего образа, сопровождающееся
ликующей мимикой
342
и игрой в самотождественность своего образа и контроль за ним”. “Из этой фразы
становится, собственно, все понятно, — писала А. Феликсова в статье “Что же Лакан
сказал на самом деле” (Вопросы психологии, № 21, 1996). — Разумеется, здесь речь идет о
пробуждении деиксомании, хотя вещи, к сожалению, не названы своими именами.
Именно одновременное сочетание восторга и контроля присутствует в деиксомании, как
ни в каком другом влечении. Нет никакой нужды объяснять сущность стадии зеркала с
точки зрения концепции формирования Я или еще чего-либо в этом роде”.
После же стадии зеркала деиксомания развивается по-разному в зависимости от
конституциональных особенностей и складывающейся жизненной ситуации. Особенности
этого развития могут и должны стать предметом эффективного анализа. В
деиксотерапевтическом анализе всегда очень важно выяснить, у кого именно из людей,
встреченных на жизненном пути, анализируемый позаимствовал тот или иной жест, то
или иное словечко, одним словом, элемент имиджа.
Для того чтобы иметь дело непосредственно с деиксоманическими тенденциями, можно
было бы пойти путем традиционной психологии, а именно — отделить демонстрацию
от субстрата. Но дело обстоит таким образом, что найти границу между субстратом
переживания ли, стремления ли, и его внешним образом невозможно. Самые
поверхностные вещи оказываются самыми глубокими “Следует считать явно
несостоятельными попытки некоторых философов отделить бытие от видимости (Sein и
Schein), как это делает, например, М. Хайдеггер, во “Введении в метафизику”, — читаем
мы в статье “Маски глубин” (Логос, 1995, № 18). — Не может быть никакого бытия за
пределами видимости. Целостность экзистенции может быть нам явлена только через
внешнее. Бытие может быть искажено видимостью, и задача аналитика в том, чтобы
разобраться в искажениях. Внешнее не может быть искажено”.
Одно из основных проявлений деиксомании — соревнование имиджей. Внутренний
Критик занят постоянной компаративистикой демонстраций, наблюдая за участниками
деиксоманической состязательной группы (она формируется у каждого человека в
процессе становления и представляет собой аналог так называемой референтной группы).
Люди, согласно деиксотерапевтической доктрине, взаимодействуют своими имиджами, а
никак не реальностью своих достоинств и достижений. Перфекционизация,
усовершенствование имиджа — основная движущая сила эволюции личности.
То, что мы называем личностным ростом, заканчивается тогда, когда человек перестает
обращать внимание на то, какое впечатление
343
он производит. Не следует, однако, считать, что отсутствие проявлений явного внимания
к своей внешности, небрежный вид или, к примеру, отсутствие макияжа у женщины
является следствием ослабленной или полностью истощенной деиксомании. Наоборот,
если украшательство отсутствует там, где ему следовало бы быть, мы имеем дело с
особо ярким, бросающимся в глаза спектаклем.
Идея А. Феликсовой в том, чтобы с этой точки зрения — с точки зрения деиксомании
следует пересмотреть все известные психологические концепции. Так, нарциссизм
немыслим без демонстративности, любовь к себе заключается в первую очередь в
созерцании и демонстрации себя себе же, после чего, естественно, и другим. В мифе о
Нарциссе оба процесса сливаются неразрывно.
“Очень важно, — писала А. Феликсова в статье “Theatrum psychologicum” (Московский
психотерапевтический журнал, 1995, № 26), — перестать относиться к так называемому
эксгибиционизму как к некоему извращению. Эксгибиционист просто делает то, о чем так
или иначе мечтают все люди с так называемой нормальной сексуальностью. Он обнажает
не столько себя, сколько скрытые, вытесненные, но при этом достаточно мощные желания
демонстрировать себя. Эксгибиционизм являет собой метафору одной из важнейших
составных динамики личности”.
Структура любой значимой демонстрации состоит из трех элементов: 1) Ревеляция
(revelatio — лат. обнажение); 2) Элоквенция (eloquentia — лат. придание
выразительности); 3) Декорация (decoro — лат. украшать). Первая составляющая
сводится к тому, что на поверхность выносится что-то ранее скрывавшееся, что-то такое,
для демонстрации чего требуется определенное усилие, преодоление неких преград.
Знаменитая максима “все тайное становится явным” (аналог — пословица “шила в мешке
не утаишь”) становится закономерностью исключительно в результате деиксоманических
наклонностей, живущих в любом человеке. Достоинство скрываемого (чаще всего чеголибо неприемлемого обществом) в его демонстрационной ценности. Элоквенция —
придание демонстрации выразительности — главное место приложения терапевтических
усилий, о чем речь пойдет ниже. Декорация же зачастую неотличима от элоквенции. А.
Феликсова считает необходимым говорить именно о демонстрации, а не просто о
коммуникации, как это пытаются сделать многие психологи. “Нет и в принципе не может
быть такой коммуникации, где бы человек не пытался всячески приукрасить то, что он
сообщает, не стремился бы выглядеть лучше, не ожидал бы от аудитории не просто
ответа, а именно одобрения.
344
Всякая коммуникация сопровождается продумыванием предлагаемых обстоятельств,
постановкой мизансцены, сооружением декораций, разработкой сценического рисунка, то
есть всем тем, чем занимаются люди, которые ставят театральное представление”.
Идеальный психотерапевт — это внешний благодарный Зритель, который никогда не
выступит в роли Критика, в лучшем случае в роли благожелательного режиссера. Именно
противопоставление критики режиссуре, как специфических видов деятельности, является
решающим для понимания сущности психотерапевтической работы. Очень важный
момент в деиксотерапии — аналитическое противодействие интериоризованным
критикам.
Особая, интимная связь существует у деиксомании с сексуальностью. Не случайно в
тех ситуациях, когда участники сексуальной встречи ничем не скованы, они никогда не
ограничиваются простым соитием, а непременно устраивают представления. Ситуация так
называемого нормального секса характеризуется постоянным разглядыванием партнерами
друг друга. Глаза, руки, губы, уши, гениталии в этом контексте превращаются в
“сплошные глаза”, а партнеры выступают и как актеры и как зрители. Однако для
удовлетворения деиксомании в сексе необходимы особые условия. Бордельный, вообще
покупной секс, как известно, представляет собой далеко не только фрикционногенитальные действия. Все хорошо знают, что номера публичного дома почти всегда
служат своеобразными театральными подмостками. Здесь, как известно, покупается
зритель, но при этом одновременно сексуальный и сценический партнер. Клиент в свою
очередь выступает как драматург, режиссер и актер, достигая при этом почти чаплинской
художественной универсальности. Ну и заодно напряжение сбрасывает, что, конечно, не
является самоцелью ни в данном случае, ни в каком другом.
Тем же самым объясняется привлекательность групповых соитий. Число совокуплений
и оргазмов при этом чаще всего не меняется по сравнению с парным сексом, число же
зрителей — существенно, что в конечном итоге играет решающую роль. Неистребимость
покупной любви связана, разумеется не с желаниями усмирить похоть, а с театральными
инстинктами людей. Вывод: сексуальность не должна вытеснять деиксоманию. Либидо
может и должно служить кормом для демонстративных желаний. Вообще же надо
иметь в виду, что деиксомания — очень сильная страсть. То, что она, по словам поэта, “не
читки требует с актера, а полной гибели, всерьез”, должно быть понятно каждому. Очень
часто человек проявляет величайшую самоотверженность, идет на любые жертвы только
ради того, чтобы сохранить
345
величественную позу, красивый жест, даже в том случае, если за ними ничего не стоит.
Психиатры всех времен недоумевали, когда пытались проникнуть в логику поведения
некоторых пациентов, чье поведение было явно демонстративным, причем демонстрация
выходила явно за пределы рентного поведения и никак не окупалась получаемыми в
результате преимуществами. Причина этого непонимания — отсутствие деиксомании в
перечне влечений, объясняющих поведение человека. Правда заключается в том, что
деиксомания в высшей степени самодостаточна, замкнута на себе самой и в себе же
самой находит награду. В статье «Сильнее “основного” инстинкта» (Комментарии, 1996,
№ 24) мы читаем: «А. Шопенгауэр в “Афоризмах житейской мудрости” описывает весьма
достойный спектакль, разыгранный неким преступником перед казнью прямо на эшафоте,
после чего разражается брюзжанием о том, как, дескать, человек тщеславен и даже перед
лицом смерти и вечности думает только о мнении других. Он вообще приводит
множество рассуждений в этом же духе, не понимая, разумеется, что пренебрежение
мнением чужих на самом деле обозначает самую сильную зависимость от него. Что же
касается эшафота, то лучшей сцены, пригодной для спектакля, человечество не создавало
никогда. Как гласит народная мудрость, “на миру и смерть красна”».
Демонстративность сопровождает и так называемую волю к власти. Властный
спектакль, состоящий из жестов распоряжения и подчинения, властный антураж,
состоящий из скипетров, держав, корон; властное поведение — все это является
несомненной целью для тех, кто борется за власть. В статье “Власть игры” (Российский
психоаналитический вестник, 1996, № 7) мы читаем: “Как и сексуальность, властность без
демонстрации — ничто. Это проявляется в малейших жестах, позах, взглядах. Бытие как
таковое является тотально театрализованным, как это убедительно показал в своей
известной книге “Театр в нашей жизни” знаменитый русский театральный деятель Н.
Евреинов, которого по праву следует считать одним из отцов деиксотерапии. Все это было
бы немыслимо без реального существования особого влечения, которое обеспечивает
такого рода деятельность”.
В экзистенциальной театрализации следует, однако, отличать спектакль от
маскарада. Спектакль происходит на фоне неизмененной идентичности. Личность,
сохраняя свою аутентичность заботится только о средствах выразительности для ее
преподнесения. Особенность же маскарада в том, что происходит идентификационный
сдвиг. Порой сдвиг носит тотальный характер, так что человек в состоянии носить только
маски в зависимости от среды, в которую он попадает. В таких случаях
346
можно говорить о синдроме Зелига, обозначенном так по имени героя знаменитой
киноленты Вуди Аллена Зелиг, как известно, менял свою внешность в зависимости от
того, в какую среду или какую компанию он попадал. Так, с китайцами он превращался в
китайца, с психиатрами — в психиатра, с нацистами — в нациста. Чаще всего маскарад
требуется там, где оказываются недостаточными средства выразительности,
подчеркивающие естественную личину индивида (образ, с которым человек
идентифицируется всегда и без дискомфорта). Задача терапевта заключается в том, чтобы
заменить патологическую (маскарадную) демонстрацию нормальной.
Учение о средствах выразительности А. Феликсова заимствует у известных российских
семиотиков, создателей генеративной поэтики А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова.
Способы элоквенции, которыми пользуется человек в процессе житейской демонстрации,
приблизительно те же самые, что и приемы выразительности, описанные этими авторами.
Итак, это контраст, варьирование, увеличение, повторение, развертывание, сокращение,
конкретизация. Всеми этими приемами личность пользуется для удовлетворения своих
деиксоманических потребностей, не прибегая к маскараду.
Контрастом следует считать систему противопоставлений, формирующуюся в
процессе создания образа. Сочетание противоположных, порой на первый взгляд
несовместимых свойств (агрессивности и мягкости, например) необходимо для установки
рамок образа личности. Если контрасты предполагают синхронную представленность
противоположностей, то, соответственно, варьирование дает человеку возможность
разворачивать противоположности в диахронической перспективе, переходя от одной к
другой. Затемнение проявляется в сокрытии неких обстоятельств, портящих чей-то
имидж. Затемнение в деиксотерапевтической теории как бы аналогично вытеснению в
психоанализе. Увеличение заключается в гиперболизации значения того, что человек
делает, что с ним происходит, в преувеличенном преподнесении своих возможностей
окружающим. Сокращение, наоборот, предполагает некое мнимое самоуничижение,
самоумаление, бросающее, однако, вызов окружающим и представляющее собой
хорошую исходную позицию для динамики межимиджевых отношений. Развертывание и
конкретизация создают пространство образа во всем его богатстве и подробностях,
придают ему объем и пространство.
Все эти приемы выразительности имеют и свои патопсихологические и клинические
корреляты. Прием контраста имеет отношение к внутренним конфликтам, внутренней
борьбе. Он имеет место там, где речь идет о неврозах, связанных с трудностью
347
выбора, причем может проявляться как истерическими, так и обсессивнопсихастеническими симптомами. Варьирование определяет всякого рода изменчивость,
неустойчивость жестов, поз, реплик и т. д. и имеет место при всяком ослаблении
идентичности. Такой прием, как увеличение, проявляется в придании своему имиджу
заметности, яркой выпуклости, гиперболизированных пафосных черт, жестов, движений.
Его мы наблюдаем при больших истериях, а также эксплозивных, агрессивных,
демонстративных способах поведения. Затемнение, оно же выключение, умалчивание
призваны как бы спасти привлекательность образа личности. Сокращение проявляется в
придании своему имиджу и своей социальной роли черт незаметности, тусклости и пр. и
связано с кругом астенических, психастенических расстройств, а также с патологической
застенчивостью, демонстрацией чувства неполноценности и т. п.
По замыслу А. Феликсовой, вся психопатология должна быть переписана с этой точки
зрения. Любой симптом — это не более чем то, что рассказано (продемонстрировано)
пациентом. Любой такой рассказ неизбежно будет искажен деиксоманией, любой
симптом описывается пациентом неадекватно из внутренних деиксоманических
склонностей. В этой связи предлагается новое толкование известной фразы: “Не потому
плачут, что обидно, а потому обидно, что плачут”. Конечно, это всем известное
положение должно быть перетолковано с позиций деиксотерапевтической доктрины, а
именно: “Чем больше мы показываем наши слезы другим, тем сильней они льются. Ясно
также, что если в тот момент, когда мы плачем, рядом никого нет, то мы все равно их
показываем, причем даже более ярко, чем когда нас кто-то видит”.
После анамнестических прелиминариев терапевтическая работа в деиксотерапии
начинается с анализа спектакля, который играет в жизни каждый человек. “Оптимальной
психотерапевтической стратегией может быть только приспособление спектакля
терапевтического действия к индивидуальному спектаклю, играемому человеком на
протяжении всей его жизни, — читаем мы в статье “Не психодрамы нет” (Журнал
практического психолога, 1996, № 9). — Идея Дж. Морено заключалась в том, чтобы
представить психотерапию как театр, наша же идея заключается в том, чтобы
представить всю жизнь в ее целостности как театр, ибо она ими является в своем
глубинном измерении. Самое поверхностное — оно же на самом деле и есть самое
глубокое. Именно для прояснения этого обстоятельства мы предложили идею
деиксомании”. И далее: “Проникая сквозь явленную нам видимость, мы всюду
наталкиваемся именно на театр. Это происходит приблизительно так же, как в известной
сказке
348
А. Н. Толстого “Приключения Буратино”, когда за разрисованным холстом
обнаруживается подземелье, а в нем — кукольный театр. Театр на самом деле — это не то
или по меньшей мере не только то, что мы видим снаружи. Театр — это то, что
помещается также и глубоко внутри, причем на самой сокровенной глубине. Нет ничего
глубже демонстративного”. Одну из своих теоретических задач А. Феликсова видит в
том, чтобы деконструировать традиционную для всей философской мысли Запада
тенденцию исследовательского движения “вглубь”.
Психотерапевтическая традиция может быть исследована как своего рода театральная, в
том смысле, что условности и правила каждого метода являются элементами мизансцены.
Исключительно грубым, топорным спектаклем в стиле высокопарного античного театра
является классический гипноз. Эта игра в величие гипнотизера и подчинение ему
пациента возможна только в том случае, если такая труднопереносимая условность будет
принята. Хорошо известно, что по-настоящему классический гипноз если и действует, то
только в больших группах, что как раз обусловлено его сугубо театральной природой.
Психоанализ, с другой стороны, являет собой некую психологическую драму, где
взаимоотношения пациента и терапевта воскрешают ситуацию семейной мелодрамы.
Психоанализ сменил гипноз подобно тому, как театральная система К. Станиславского
сменила предшествующие грубо-условные театральные стили. Групповые методы, в том
числе и психодрама, безусловно построены на деиксоманических принципах, то есть
условная театральность вернулась в психотерапию, причем не случайно это началось
именно с психодрамы.
Стратегия терапии направлена на преодоление разрыва между демонстративными
желаниями клиента и их деформированной явленностью. Среди задач, которые должен
ставить перед собой терапевт, на первом месте стоит объяснение смысла поведения и
проблем клиента с точки зрения теории деиксотерапии. Проблемы условно делятся на две
группы: первая — отделение маски от спектакля, вторая — прочтение симптомов как
элементов роли. Настоящая деиксотерапия должна проходить как в группе, так и
индивидуально. Следующая задача — поддержка нарцистического основания
деиксомании, вслед за этим главной целью становится преодоление отчужденной
демонстративности (маски) демонстративностыо естественной. Анализируется система
предлагаемых обстоятельств, мизансцены, сценография. Предметом анализа является
также “театр, играемый наедине с самим собой”. Здесь, помимо сюжета, очень важно
решить, кого именно и почему пациент выбрал зрителем. На группе, равно как и в
индивидуальной беседе, постоянно происходит
349
разбор театральности внутренней коммуникации. Обсуждаются спектаклевые фантазии
относительно реальности.
Очень важная часть терапевтической стратегии — отделение субстрата переживания от
игры. Очень часто при разборе театральной части симптома или проблемы, после
элиминации спектакля от субстрата почти ничего не остается. Множество проблем на
самом деле не то чтобы выдуманы клиентами, а как бы наиграны или, лучше сказать,
придуманы для житейски-театральной игры.
Здесь следует упомянуть об описанном А. Феликсовой “фантазме тотального
спектакля” (International Journal of Psychotherapy, 1997, № 5). Этот феномен заключается в
том, что рано или поздно всякий человек, эпизодически или в более или менее длительные
временные промежутки, строит и, порой весьма интенсивно, переживает фантазии о том,
что все люди вокруг как-то договорились играть для него некий спектакль. Жизнь, его
окружающая, вовсе не реальна, это все — одно большое представление. Причем
представление это играется окружающими вовсе не с конкретной целью например каклибо подчинить его, пациента, своей воле или уничтожить. Таких мыслей, которые
типичны для психотических расстройств, нет и в помине. Своеобразие этого фантазма
заключается в том, что реальность, которая окружает фантазирующего, и люди в ней есть
не что иное, как некий договор, “чтобы просто играть спектакль”. Такие представления,
обнаруживаемые почти у каждого пациента, не являются паранойяльным феноменом, они
вообще не относятся к феноменологии большой психиатрии. Эти фантазмы являются
проекцией собственной деиксоманической природы человеческой личности. Собственно,
само понятие “личность” (ср. лицо, личина) указывает на то, что подлинная, сокровенная
сущность человека так или иначе связана с внешним, демонстративным.
Противопоставление глубинной сущности и внешней явленности следует считать
нелепостью.
Важная часть групповых занятий — “примерка” имиджа и естественного спектакля.
“Особых технических нововведений, — читаем мы в книге “Это бросается в глаза”, —
нам, собственно и не требовалось. Правильное понимание клиентом закономерностей
деиксомании придает всему обсуждению движение и пафос. Главное — это утоление
деиксоманического голода. Разумеется, все психотерапии в той или иной степени
пытались это сделать. Преимущество групповых методов перед индивидуальными,
отмеченное многими, связано как раз с этими обстоятельствами. Ясно, что их
эффективность зависела от того, насколько при этом делался упор на
деиксотерапевтическую проблематику. К сожалению, другие терапии большую часть
времени уделяли другим, явно второстепенным проблемам”.
350
Итак, деиксотерапия начинается с диагностики экзистенциального спектакля клиента, в
первую очередь “спектакля наедине с самим собой”. Далее следует разбор “мизансцен”,
декораций и зрителей. Особая часть аналитической процедуры посвящена анализу
приемов выразительности. После этого мы разбираем возможности проектирования
нового спектакля. “Спектакль есть понятие синтетическое. В спектакле, которым
человек заполняет свою жизнь, заключено в сжатом виде абсолютно все, что вообще
может интересовать терапевта. Разрыв между духовным и душевным, рациональным и
иррациональным, психическим и телесным, субъективным и объективным уничтожается
сразу, причем не посредством инструкции или разъяснений терапевта, а посредством
приобщения клиента к идеологии метода”. Описанные А. Феликсовой техники, в
сущности, коренным образом не отличаются от общепринятых групповых методик с
элементами психодрамы. К психодраме же как таковой автор деиксотерапии до сих пор не
обращалась, высказываясь по этому вопросу в том духе, что, мол, зачем нам лишний
театр, когда все и так спектакль.
Комментарий
Несмотря на очевидные заимствования из других известных теорий (причем без ссылок
на авторов), концепция А. Феликсовой носит вполне оригинальный и законченный
характер. На примере деиксотерапии мы отчетливо видим основную закономерность в
формировании психотерапевтических школ — разворачивание в своеобразном режиме
динамики паранойяльного дискурса. Движение происходит в замкнутом пространстве,
определяемом концептуальным и терминологическим трансом, который воздействует в
первую очередь на автора метода, и только потом — на пользователей его. Паранойяльная
риторика, поддерживающая самое себя, тем не менее может на первый взгляд показаться
убедительной и создавать ощущение, что ею дается ответ на некий вызов. Весьма
убедительным может показаться культурологическое обоснование. На этом примере
становится особенно ясно, что школьные модели служат несущими основами, созданными
для поддержки собственной структуры. Описание этого метода, как ни в каком другом
случае, дает нам основание утверждать, что, по правде говоря, психотерапия есть лечение
терапевтом душевной болезни пациента посредством своей собственной. Кроме того, А.
Феликсова позаботилась о том, чтобы сочиненная ею школьная идеология служила
защитой от возможной критики.
Тем не менее мы видим в структуре доктрины деиксотерапии вполне законченную,
органически целостную концепцию как
351
целого (спектакль), так и инстанций (Актер, Зритель, Критик). Вполне законченный
характер носит и теория купидо (деиксомании). Сразу видно, что посещение некоего
семинара не прошло для А. Феликсовой бесследно и она поняла, как именно следует
конструировать психотерапевтический метод.
С другой стороны, совершенно ясно, что для сочинения метода недостаточно просто
располагать сведениями о структуре школьного метода как такового. Как мы видим в
случае создательницы деиксотерапии, необходимы еще и поиски психотерапевтической
реальности, действительно обеспечивающей проработку механизмов терапии. Несмотря
на неоднократные убедительные указания А. Феликсовой на исключительную
эффективность ее практики, возникает ощущение, что все это, видимо, не совсем так.
Путь создания этого метода отличает, на наш взгляд, некая торопливость, а кроме того,
более чем очевидная неприкрытая детерминация существенных черт теории и метода
основными занятиями автора. В истории создания метода (к слову сказать, чрезмерно
короткой) отчетливо наблюдается желание осуществить запись собственного опыта,
ввести в психотерапевтическое пространство мир собственных склонностей в ущерб
действительному положению дел. С другой стороны, специфика теории деиксотерапии
такова, что ее автору удалось без всяких видимых усилий обзавестись достойной
патографией.
Если отвлечься от всех этих, более чем явных, пороков, история создания метода
деиксотерапии представляет большой, хотя, конечно, и небескорыстный, интерес для
автора этого правдивого повествования. На сегодняшний день это — единственный
случай, когда посещение семинара, из которого, собственно, выросла эта книга, принесло
ожидаемые плоды. Так что история психотерапии продолжается...
***
Итак, перед нами пять историй. К сожалению, не удалось избежать некоего однообразия в
этих повествованиях. Это вполне понятно, ибо все же источник у них у всех один и тот
же. Кроме того, на первый взгляд может показаться, что они получились не вполне и не во
всем пародийными. Всякий раз при сочинении школы автору казалось, что отдельные
элементы вполне могут сгодиться в дело и за пределами данного проекта. Другое
печальное обстоятельство заключается в том, что ограниченный типографский объем не
позволяет нам подробно рассказать здесь о таких интересных и востребованных методах,
как камбиотаксис, опуленттерапия, пивотанализ, дезалиенационная терапия,
фильтранализ и многие другие.
352
Не исключена возможность проанализировать описанные методы, как некие авторские
проекции. Допустим, юнгиански ориентированные авторы усмотрят, в М. Арбросе
Анимуса автора, в В. Роштадт — Аниму, в Джана-Рао — Тень, а в А. Феликсовой —
Персону. Любая интерпретационная стратегия по отношению к этому тексту заранее
приветствуется.
Но так или иначе, психотерапии, о которых мы здесь рассказали, выглядят, получается,
вполне привлекательными, и всякий раз не вызывает удивления то обстоятельство, что
создателю метода удавалось сконструировать вокруг него организационные школьные
структуры. С другой стороны, конечно, этого могло и не произойти. Нам только отчасти
могут быть понятны причины, по которым одна терапевтическая система оказывается
востребованной, а другая — нет. Что же, “удача кисти и резца необъяснима до конца... ”.
353
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возвращаясь к замыслу нашего исследования, мы хотели бы уточнить, что в фокусе его —
не рутинная психотерапевтическая деятельность, а достаточно специфическая практика —
сочинение метода. Однако ясно, что именно такая практика оказывает огромное, порой
решающее влияние как на повседневную деятельность, так и на ситуацию в
профессиональном сообществе.
Как уже было сказано, наше сочинение было задумано как один из возможных ответов
на всем известный вызов. Речь шла об отсутствии у определенной области научного
знания фундаментальной методологической структуры. Теперь мы располагаем
относительно целостным и систематическим понятийным аппаратом, который
описывает отдельно взятый метод. Можно утверждать, что здесь предложена некая
нотная грамота, по которой могут писаться школьные теории и техники. На наш взгляд,
нет никаких трудностей в том, чтобы при помощи этих нот создавались новые методы.
Полагаем также, что нам удалось также предвосхитить возможные возражения, которые
помешали бы кому бы то ни было решиться на что-нибудь в этом роде, если он этого
пожелает.
Одна из сверхзадач нашего текста — расширение перспективы психотерапевтического
пространства в целом. Ни один из гештальтов, намеченных в нашем тексте, нельзя считать
замкнутым. Мы убеждены, что находимся только в начале пути исследования
фундаментальных несущих основ психотерапевтического знания.
Не составит никакого труда приблизительно набросать хотя бы отдельные темы для
возможных будущих исследований в русле идей нашего текста. Из большого
виртуального списка можно присмотреться хотя бы к некоторым темам, например, таким:
— Соотношения динамики доктринальной и институционально-организационной
экспансии в развитии психотерапевтической школы.
— Патографическая экспансия как возможность реактуализации метода, находящегося в
стадии инфляции.
— Влияние размеров и типа харизмы создателя школы на длительность харизматического
цикла.
— Сравнительная характеристика харизматических свойств и динамика влияния Ф.
Перлза и К. Роджерса.
354
— Эманативный и эремитический тип основателей школ в психотерапии.
— Соотношение теории и образа основателя в формировании харизмы К. Г. Юнга (Ф.
Перлза, Дж. Морено и т. д.).
— Способствует ли психоаналитическое правило невмешательства усилению харизмы
терапевта, и если да, то как?
— Взаимоотношение инстанций психики у харизматической личности.
— Тема экзистенциального врага у Р. Лэинга.
— Деградация теорий архиниции и эвольвенции в процессе исторического развития
психотерапевтического знания.
— Каким образом отличаются друг от друга аналитические стратегии, в случае если
эвольвенция школьной теории содержит нормативную хронологию, в случае, когда
обходится без оной.
— Влияние конфигурации метода на его образ и наоборот.
— К теории позитивного и негативного идеалов.
— Типы соотношений структуры дефекта и проектов рефекции.
— Пределы влияния рефекции на акцию.
— К проблеме границы, отделяющей эксквизицию от конвинкции.
— К вопросу об использовании эксквизиционной провокации как дизвинкционной
процедуры.
Сочинение виртуальных психотерапий, подобно тому как это делается в
соответствующей главе нашей книги, может стать предметом отдельной
исследовательско-дидактической практики. В качестве дипломных тем для обучающихся
психотерапевтов можно было бы рассмотреть, к примеру, следующие:
— Виртуальные психотерапии с преимущественно транстерминационной акцией.
— Архиниционно-эвольвентные теории виртуальных методов.
Такие экзерсисы для учащихся могли бы носить и парциальный характер. Вовсе не
обязательно для тех, кто проходит обучение, придумывать сразу целый метод вкупе с
обосновывающей его теорией. На первых порах вполне можно обойтись изобретением
отдельного приема или локуса виртуальной школьной теории. Очень хорошо также было
бы “досочинять” недостающие части к уже известным методам. Все это, конечно, будет
весьма действенным дидактическим инструментом.
Исключительно выигрышным делом было бы, например, проведение открытого
состязания на лучшую виртуальную психотерапию. Подобно тому как обучение
живописца предполагает копирование художественных творений различных эпох,
сочинение возможных терапий помогло бы их авторам обрести свой индивидуальный
стиль. Работы, представленные на конкурс, оценивались
355
бы с точки зрения своеобразия, богатства метода, эстетических его достоинств, ну и как
итог их привлекательности для возможных последователей. Другим проектом в этом же
русле могло бы стать существование некоей контролирующей организации, некоей,
скажем, даже комиссии, в которую мог бы обратиться автор со своими новыми идеями и
получить соответствующую рецензию и оценку.
Другим важным сквозным аспектом нашей работы является разговор о
бессознательном терапевта как терапевта. Как уже сказано, это бессознательное
проявляется не в контрпереносной сексуальной устремленности в сторону клиенток(-ов),
но в том, как формируется психотерапевтическая теория и практика под воздействием
желаний автора метода. Внутренняя инстанция профессиональной психики, некий
аналог инстанций, относящихся к кругу Оно-Тень-Ребенок, проявляет себя также в
ощущении связи с породившей терапевта “машиной желания” родительской школы. Ведь
если раньше исследовались “страсти” психотерапевтов, то это делалось в процессе
учебного анализа или тренинга. При этом речь шла о терапевте, как о пациенте. Другой
аспект бессознательного, а именно стремление соблазнять и доминировать над клиентом
в пространстве психотерапевтического процесса и над коллегой — в идеологическом
пространстве психотерапевтической школы, оставалось, к сожалению, насколько мы
можем проследить, за пределами интересов исследователей. Психология занятий
психологией, психоанализ психоаналитиков как терапевтов — области знания,
заслуживающие пристального внимания. Мы многократно указывали на то, какие именно
потребности обслуживаются теми или иными элементами общей структуры. Мы отдаем
себе отчет в том, что помимо интересов терапевта, сочиняющего и практикующего метод,
неизбежно принимаются во внимание и интересы клиента. Проблема, однако, в том, что
все предыдущие психотерапевтические тексты были основаны на молчаливом
соглашении, что психотерапия создается пациента ради. Это соображение всегда было
чем-то само собой разумеющимся, хотя, насколько нам известно, подробно и
систематически раньше не обсуждалось. Совершенно ясно, что очень важно исправить
такое очевидное искажение действительного положения дел, что мы и попытались
сделать.
Однако есть определенное опасение, что у психологов вполне может появиться желание
проанализировать “в ответ” психологию тех, кто анализирует их психологию. Как
нетрудно предположить, особенно сильно результаты такого анализа будут вытесняться
как раз теми, кто всерьез вознамерился явить миру некую новую систему
психотерапевтического вмешательства.
356
Раздражающим может показаться само по себе рассмотрение структуры
психотерапевтической теории как своеобразного языка желаний терапевтов, сочиняющих
методы. Разумеется, у читателя нашего текста есть множество причин для сопротивления
тексту, что помешает процессу чтения, внеся в него определенные искажения. Однако,
если читатель даст себе откровенный и исчерпывающий отчет в причинах своего
сопротивления изложенным здесь соображениям, то все сразу станет на свои места.
“Наслаждение от текста”, как сказал бы Р. Барт, станет, после успешного самоанализа и
последующего устранения такого сопротивления, интенсивным и полным.
Как уже не раз указывалось, большинство проблем, которые мы здесь обсуждаем,
отчетливо и наглядно могут быть проиллюстрированы, как правило, в первую очередь
примерами из классического психоанализа. Это не значит, разумеется, что другие школы
не дают нам материала по обсуждаемым аспектам. Речь скорее идет о том, что фрейдизм
как учение и как движение является образованием, наиболее структурно богатым среди
психотерапевтических школ. Неудивительно, что в большинстве случаев, когда мы
разбираем тот или иной элемент структуры психотерапевтического знания, мы,
естественно, обращаемся к методу, где этот элемент появился впервые, и это в
большинстве случаев именно психоанализ. Мы уверены, что теперь располагаем ключом
к пониманию истинного значения психоанализа, причем вовсе не как самостоятельного
метода. Как уже отмечалось, в этом, самостоятельном своем качестве психоанализ
испытывает давний и глубокий кризис. Основная историческая заслуга З. Фрейда
заключается именно в создании базисной опорной структуры для всего корпуса
психотерапевтического знания.
По этому поводу М. Фуко заметил: “Сказать, что Фрейд основал психоанализ, не значит
сказать — не значит просто сказать, — что понятие либидо или техника анализа
сновидений встречаются и у Абрахама или у Мелани Клейн, — это значит сказать, что
Фрейд сделал возможным также и ряд различий по отношению к его текстам, его
понятиям, к его гипотезам, — различий, которые все, однако, релевантны самому
психоаналитическому дискурсу” (М. Фуко, 1996. с. 32). Собственно история
психотерапии — история построения “ряда различий” по отношению к текстам Фрейда.
Как уже говорилось, важнейший момент нашего исследования — это попытка создания
генеративной модели психотерапевтического метода. Этот проект перекликается с
основной идеей генеративной лингвистики Н. Хомского (Н. Хомский, 1962), который
описал конструкцию порождения языкового
357
высказывания. В этой же связи можно указать на труды создателей генеративной поэтики
(см.: А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов, 1996). Эти авторы, как известно, занимались
структурами порождения художественного текста. Сопоставление с этими обеими
концепциями может в еще большей степени прояснить наш собственный замысел.
Нам представляется очень важным, что описанный нами концептуальный (он же
категориальный) аппарат годится не только для генеративных потребностей, но также (а
может быть, и в первую очередь) и для анализа уже существующих методов. Без
сомнения, критический анализ психотерапевтических методов вполне имеет право на
существование в качестве самостоятельного проекта, да, собственно и самостоятельного
рода деятельности. Ясно, что понятийный аппарат, позволяющий описать отдельный
метод в его целостности, здесь может сыграть решающую роль. Мы можем прицельно
спросить у автора нового метода, а как, собственно, обстоят у него дела с
оригинальностью предложенной им транстерминационной процедуры, а также с тем,
строится ли его теория вокруг нового оригинального купидо или чего-нибудь другого.
Теперь мы очень легко можем представить себе разговоры о том, есть ли в структуре того
или иного метода конвинкция или меситация и если есть, то каков ее тип. Одним словом,
нас ждут все преимущества, какие наука получает при переходе от фрагментарного,
разобщенного существования к определенной систематической целостности. Кроме
того, мы всерьез полагаем, что предложенные нами понятия пригодны для анализа
дискурсивных практик, находящихся за пределами психотерапии. Но это — тема
отдельного исследования.
При ретроспективном обзоре всех категорий, предложенных нами, может возникнуть
ощущение некоторого разочарования. Весь объем психотерапевтического знания при
таком подходе к делу неожиданно как бы съежился и стал очень компактным.
Впечатляющий на первый взгляд индекс понятий, концептов, феноменов, существующих
в различных школах, как выяснилось, умещается на сравнительно узком типографском
пространстве. Действительно, “наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни... ”,
причем порой довольно существенно.
Дидактический выигрыш здесь тоже несомненный. Любое преподавание психотерапии
теперь можно будет начинать с общеструктурной (и седуктологической) пропедевтики и
вслед за тем излагать все методы, которым будем обучать народ, как если бы они являли
собой некие видоизменения исходной структуры. Изменения в экзаменационных
процедурах также будут
358
весьма отрадными. Так, например, нетрудно будет представить себе такой диалог на
экзамене:
Профессор: Скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, заключается привлекательность
таких методов, как парадоксальная интенция В. Франкла, терапевтическое
сумасшествие К. Витакера, провокативная терапия Ф. Фарелли?
Студент (без запинки): Синхронным сочетанием винкций и транстерминации.
Профессор: Отлично.
Когда-нибудь мы не удивимся, подслушав и такой, к примеру, разговор:
— Я практикую, знаете ли, совершенно новый метод — резистотерапию.
— И что же это представляет собой в техническом плане?
— У нас, чтобы вам было понятно, такая смешанная дискурсивно-физиогенная
транстерминация с элементами абсурда, а в качестве винкционного провокатора
выступают парадоксальные аллюзии. Конвинкционный маршрут у нас очень сложный.
Он включает в себя телесность, космос и даже, представьте себе, некое воображаемое
подземное пространство.
— Что вы говорите! Это очень, очень интересно. А что же, теория у вас сконструирована
вокруг влечений или как-нибудь иначе?
— В общем, да. У нас все довольно серьезно. Мы считаем, что самое главное — это не
либидо, а резистинклинация.
— И что же это такое?
— Так сразу, знаете ли, трудно объяснить. Приходите, если желаете, к нам на семинар, все
и узнаете.
— Пожалуй что и приду. Богатый, судя по всему, метод.
— Конечно, и очень, очень привлекательный. Так что ждем.
Но в любом случае структурный анализ сам по себе, не исчерпывает наших интересов.
Одной из других наших задач было обретение понимания того, каким именно образом
составные этих порождающих структур могут быть привлекательными для возможных
потребителей школьных теорий. Как уже не раз говорилось, нам представлялось очень
важным понять, чем именно обусловлена востребованность каждой из описанных нами
структурных составных, каким образом школьная теория, как в целом, так и по частям,
осуществляет соблазн (в духе Ж. Бодрийяра). Фундаментальная и прикладная
седуктология — наука о соблазнении посредством любого дискурса — это существенные
сквозные темы внутри нашего текста. Достоинства любого метода
359
реально проверяются в первую очередь тем, насколько он является привлекательным, а не
чем-нибудь другим.
Нетрудно заметить внутри нашего текста наличие своеобразного двойного узла. Мы не
только преподносим определенный способ теоретического поведения как
привлекательный и выигрышный, мы его одновременно деконструируем. Мы не просто
описываем опорные пункты процесса порождения метода, но и формируем методологию
его критического анализа. Кто бы что ни говорил — нам такой метод изложения
представляется весьма достойным, хотя бы потому, что одновременно достигаются
различные, пускай даже явно противоположные, цели. Развязка этого двойного узла
заключается в том, что мы постоянно имеем в виду читателей с различными интенциями.
Кроме того, мы исходим из вполне очевидного соображения, что в конечном итоге все
— полемика и политика. Деконструкция тотального психотерапевтического дискурса в
нашем тексте имеет двойную направленность. Одна из них нарцистическипотестарная, другая — дискуссионно-интертекстуальная. Школы в психотерапии
создаются как полемические плацдармы, и поэтому структура метода, как уже не раз
говорилось, формируется не столько под влиянием опыта, обусловленного ситуацией
терапевт — клиент, сколько опыта, вытекающего из полемики между терапевтами. Мы
совершенно не склонны высказывать здесь какие-то оценочные или тем более
рекомендательные суждения, кроме тех, которые сами по себе вытекают из нашего
повествования. Однако было бы очень интересно пронаблюдать за тем, как дальше будут
развиваться события.
Следует также оговориться, что частое обращение к возможному “сочинителю” новой
психотерапии для нас в первую очередь “занимательная форма” для структурноаналитического дискурса. Мы исходим здесь из интересов читателя. Нам очень не
хотелось бы играть роль терминологического и концептуального гипнотизера, как это
обычно принято у других сочинителей психотерапевтических текстов. Несмотря на
исключительную выигрышность такой роли, мы считаем, что тексты пишутся все же не
ради автора, а ради читателя. Читатель сам выбирает, о чем идет речь в данной книге, —
о том, чтобы ему самому построить свой метод или чтобы установить критическую
дистанцию по отношению к какому-нибудь другому или же ко всем сразу.
Но самое главное, к чему должен стремиться автор, это чтобы по прочтении книги
читатель обрел состояние комфорта. Это состояние может быть достоинством только
такой книги, которая не оставляет после себя вопросов. Тогда даже после того, как
читатель ее закроет, не будет никакого чувства раздражения, независимо
360
от того, где этот читатель будет находиться. Закрыв книгу, посидев немного с закрытыми
глазами, он вполне сможет выйти, например, прогуляться, с тем чтобы вдруг оказаться,
скажем, где-нибудь на природе, где так удобно и спокойно можно развалиться на траве и,
подложив руки под голову, спокойно созерцать плывущие в небе облака. Они, проносясь в
беспорядке, время от времени будут принимать, как это бывает, знакомые формы, быть
может даже что-то похожее на буквы. Не исключено даже, что из этих букв что-нибудь
вдруг на секунду на небе напишется, что-то вроде “Да, на самом деле все так оно и есть”.
Но это расположение облаков можно будет наблюдать не более чем секунду, после чего
надпись исчезнет, но ощущение того, что произошло какое-то важное внутреннее
событие, останется и уже не денется никуда.
361
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры
силы. Пер. с нем. — СПб.: Образование, 1913.
2.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Пер. с нем. — М., 1995.
3.
Барт Р. Избранные работы: Пер. с франц. — М.: Прогресс, 1994.
4.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература,
1975.
5.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
6.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Пер. с англ. —
М.: Прогресс, 1988.
7.
Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. —
Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1995.
8.
Блюм Г. Психоаналитические теории личности: Пер. с англ. — М.: КСП, 1996.
9.
Бодрийяр Ж. О совращении. Пер. с франц. // Ежегодник Ad Marginem, 1993. — М.:
Ad Marginem, 1994, с. 324—353.
10. Бодрийяр Ж. Главы из книги “О соблазне”. Пер. с франц. // Комментарии. М. — СПб.,
1995. — № 4, с. 43—66.
11. Бубер М. Я и Ты. Пер. с нем. — М.: Высшая школа, 1993.
12. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
13. Бурно М. Е. О пациентах-психотерапевтах в терапии творческим самовыражением //
Московский психотерапевтический журнал, 1992, № 2, с. 89—104.
14. Валери П. Об искусстве: Пер. с франц. М.: Искусство, 1976.
15. Василюк Ф. Е. Психология переживания. — Изд. МГУ, 1984 г.
16. Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования, 1988, № 5,
с. 139—147.
17. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. Пер с нем. — М.: Гнозис, 1994.
18. Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа. — Л.: Эго, 1991.
19. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и
веберовский ренессанс. — М.: Политиздат, 1991.
362
20. Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий. — М.: Север, 1933.
21. Гриндер Дж., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы. Пер с англ. — Воронеж НПО
“МОДЭК”, 1993.
22. Гроф С. Области человеческого бессознательного. Пер с англ. — М.: МТМ, 1994.
23. Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. Пер с франц. — М.:
ИНИОН АН СССР, 1990.
24. Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Пер. с англ. — М.: Гуманитарий, 1996.
25. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты
— Тема — Приемы — Текст. — М.: Прогресс, 1996.
26. Зощенко М. М. Рассказы и повести. — Л.: Советский писатель, 1960.
27. Каннабих Ю. В. История психиатрии. — Б. м.: Государственное медицинское
издательство, б. г.
28. Карвасарский Б. Д. Психотерапия. — М.: Медицина, 1985.
29. Кречмер Э. Строение тела и характер. Пер. с нем. — М.: Педагогика-Пресс, 1995.
30. Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1977.
31. Лапланш Ж., Понталис Ж. Б. Словарь по психоанализу. Пер. с франц. — М.: Высш.
школа, 1996.
32. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? Пер. с франц. // Ежегодник Ad
Marginem, 1993. — М.: Ad Marginem, 1994, с. 303—323.
33. Лиотар Ж.-Ф. Интеллектуальная мода. Пер. с франц. // Комментарии, М. — СПб.,
1997, № 11, с. 10—12.
34. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. с франц. — М., СПб.: Алетейя, 1998.
35. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. Пер. с англ. — М.: Компания
Пани, 1996.
36. Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и современность: две
эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. — М.:
Наука, 1972, с. 28—94.
37. Мандельштам О. Э. Слово и культура: Статьи. — М.: Советский писатель, 1987.
38. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. — М.: Рефл-бук, 1997.
39. Набоков В. Лолита. — М.: Анион, 1990.
40. Остин Дж. Слово как действие: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
17. Теория речевых актов. — М.: 1986.
41. Пави П. Словарь театра. Пер. с франц. — М.: Прогресс, 1991.
363
42. Перлз Ф. Гештальт-подход и свидетель терапии. Пер. с англ. — М.: Либрис, 1996.
43 Пропп В. Морфология сказки. Ленинград.: Academia, 1928.
44 Райх В. Функция оргазма. Пер. с нем. — СПб. — М.: Университетская книга, 1997.
45. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. Пер. с
англ. — М.: Прогресс, 1992.
46. Рейнхард Л. Трансформация. — М.: Казимир, 1994.
47. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. — СПб.: Наука, 1993.
48. Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза. — Новосибирск: Имиджконтакт, 1991.
49. Тарле Е. В. Наполеон. — М.: Наука, 1991.
50. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1991.
51. Ушаков Г. К. Детская психиатрия. — М.: Медицина, 1973.
52. Фарелли Ф., Брандсма Дж. Провокационная терапия. Пер. с англ. — Екатеринбург:
Екатеринбург, 1996.
53. Фенько А. Б. Психология ностальгии // Московский психотерапеватический журнал,
1993, № 3, с. 93—116.
54. Франкл В. Человек в поисках смысла. Пер. с англ. и нем. — М.: Прогресс, 1990.
55. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. Пер. с нем. — М.: Наука, 1989.
56. Фрейд З. Психоаналитические этюды. Пер. с нем. — Мн.: Беларусь, 1991.
57. Фрейд З. Тотем и табу // “Я” и “Оно”. Труды разных лет. Кн. 1. Пер. с нем. —
Тбилиси, Мерани, 1991, с. 193—350.
58. Фрейд З. Случай фрейлейн Элизабет фон Р. Пер. с нем. // Московский
психотерапевтический журнал, 1992, № 2, с. 59—88.
59. Фрейд З. О типах невротических заболеваний. Пер. с нем. // Российский
психоаналитический вестник, 1994, № 3—4, с. 131—135.
60. Фромм Э. Психоанализ и этика. Пер. с англ. — М.: Республика, 1993.
61. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Пер. с франц.
— М.: Касталь, 1996.
62. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб: Университетская книга,
1997.
63. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. Пер. с нем. — М.: Гнозис, 1993.
64. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с нидерл. — М.: ПрогрессАкадемия, 1992. — 464 с.
65. Холмогорова А. Б. Психотерапия шизофрении за рубежом // Московский
психотерапевтический журнал, 1993, № 1, с. 77—112.
364
66. Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. — Вып. 2. М., 1962.
67. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. Пер. с англ. — М.:
Прогресс-Универс, 1993.
68. Цапкин В. Н. Семиотический подход к проблеме бессознательного
Бессознательное. Т. 4 — Тбилиси.: Мецниереба, 1985, с. 265—276.
//
69. Цапкин В. Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта // Московский
психотерапевтический журнал, 1992, № 2, с. 5—40.
70. Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Беккер-Эдди. Фрейд. Пер. с нем. — М.:
Политиздат, 1992.
71. Шопенгауэр А. Об интересном. Пер. с нем. — М.: Олимп, 1997.
72. Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна //
Философия эпохи постмодерна. — Мн.: Красико-принт, 1996, с. 48—73.
73. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1996.
74. Юнг К. Г. Психология бессознательного. Пер. с нем. — М.: Канон,1994.
75. Якоби М. Встреча с аналитиком. Пер. с англ. — М.: Институт общегуманитарных
исследований. — 1996.
76. Ammon G. Der Narzystische Defizit, als Problem der psychoanalytischen
psychotherapeutischen Technik // Dynamische Psychiatrie, 1974, 27(4).
77. Binswanger L. Schizophrenie. Neske, Pfullingen, 1957.
78. Caillois R. Les Jeux et les hommes. Gallimard, Paris, 1958.
79. Condrau G. Sigmund Freud und Martin Heidegger: daseinsanalytische Neurosenlehre und
Psychotherapie. Bern, Hans Huber, 1992.
80. Ferenczi S. Contributions to Psychoanalysis. Badger, Boston, 1916.
81. Ferenszi S. Weiterer Ausbau der aktiven Technik in der Psychoanalyse. — Int. Z.
Psychoanal (7) 233, 1921.
82. Fromm E. The Crisis of Psychoanalysis, N. Y., 1970.
83. Grawe K., Donati R., Bernauer F. Psychotherapie im Wandel — Von der Konfession zur
Profession. Hogrefe, Goettingen, 1994.
84. Grawe K. Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 1995, 40: 129—
145.
85. Heidegger M. Nietzsche, Pfullingen, 1961, Bd. 1.
86. Heidegger M. Sein und Zeit, Max Niemeier Verlag, Tübigen, 1986.
87. Heidegger M. On Adequate Understanding of Daseinanalysis // Psychotherapy for
Freedom, The Daseinanalytic Way in Psychology and Psychoanalysis. A Special Issue of
The Humanist Psychologist, Vol. 16, № 1, 1988, 75—94.
365
88. Janov A. The Primal Scream. N. Y.: Putnams, 1970.
89. Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen, 2 Aufl., Springer, Berlin, 1922.
90. Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie, 9 Aufl., Springer, Berlin, 1973.
91. Jung C. G. Errinerungen, Traeume, Gedanken. Walter-Verlag, Olten, 1982.
92. Kohut H. The Restoration of the Self. International Universities Press, N. Y., 1977.
93. Laing R. D. Das geteilte Selbst, Rowohlt, Hamburg, 1976.
94. Lange-Eichbaum W. Genie und Irresein und Ruhm. Muenchen, 1928.
95. Liebert R. Radical and Militant Youth: A Psychoanalytical Inquiry, N. Y., 1979.
96. Lids R. & Lids T. Loslösung aus Symbiotischer Elternbeziehung // Psychotherapie
Schizophrener Psychosen. —Hamburg, 1976, s. 96—104.
97. MaslowA. H. Motivation and Personality, N. Y., 1954.
98. Mindell A. Working with the dreaming body, Arkana, London, 1985.
99. Mindell A. Coma, Shambhala, Boston & London, 1989.
100. Norcross J. C. Eclectic Psychotherapy: An introduction and overview. In: J. C. Norcross
(ed.) Handbook of Eclectic Psychotherapy, Brunner & Mazel, 1986, 3—24.
101. K. Obholzer. The Wolf-Man Sixty Years Later. London, Routledge, 1980.
102. Omer H. & London P. Methamorphosis in psychotherapy: end of the systems era.
Psychotherapy, vol. 25 / Summer 1988, № 2, p. 171—180.
103. Palazzoli M. S., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. Paradox and counterparadox. 1985, Jason
Aranson, p. 139—147.
104. Perls F. Gestalt therapy verbatim, Bentam Books, N. Y., 1969.
105. Rank O. Das Trauma des Geburts. Wien, 1924.
106. Riebel L. A. Homeopathic Model of Psychotherapy // Journal of Humanistic Psychology,
1984, vol. 24, № 1, 9—48.
107. Rosen J. Psychotherapie der Psychosen. — Stuttgart, 1962.
108. Schiffer l. Charisma. University of Toronto Press, 1973.
109. Schultz-Hencke H. Der gehemmte Mensch. Leipzig, 1940.
110. Searles H. F. Collected papers on schizophrenia. N. Y., 1965.
111. Stone H. & Winkelmann S. Embracing Our Selves. — Marina del Rey, CA: Devorss & C°,
1985.
112. Sullivan H. S. The collected works. — W. W. Norton & Co. N. Y., 1953.
366
113. Szondi L. Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. — Hans Huber, Bern, 1995.
114. Whitaker C. Psychotherapy of the Absurd // Family Process, 1975, 14, 1—16.
115. Wolpe J. The practice of behavior therapy. Pergamon press, N. Y., 1973.
116. Wyss D. Die Tiefenpsychologischen Schulen von den Anfaengen bis zur Gegenwart.
Goettingen, 1970.
367
Summary
A. Sosland
The fundamental structure
of psychotherapeutic method
or how to create your own school in psychotherapy
In this book:
— fundamental structure of psychotherapeutic method is described and
investigated;
— the language giving an opportunity to describe any
psychotherapeutic method completely and in the most adequate way is
offered;
— psychotherapeutic knowledge is represented for the first time not as a
conglomerate of different conceptions, but as a single unit;
— opportunities to construct new psychotherapies are shown what is
confirmed by distinct examples;
— essence and pecularity of attitude of psychotherapists to methods
they use is discussed.
368
Научное издание
Сосланд Александр Иосифович
Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою
школу в психотерапии
Художник — Евгений Поликашин
Корректор — Т. Э. Гасанова
Редактура — А. И. Сосланд
Техническая обработка — С. П. Пономарев, С. К. Путилина
Московский городской психолого-педагогический университет
127051 г. Москва, ул. Сретенка, д.29
© 2007—2013 Московский городской психолого-педагогический
университет.
Москва, ул.
Сретенка,